Литературно-художественный альманах «Дружба», № 3
В. Азаров Улица Маяковского
Рис. И. Сидикова
Здесь жил двадцатилетний Маяковский. Январской ночью, вглядываясь в тьму, стоял он на безлюдном перекрестке Жуковской и Надеждинской. Ему хотелось отыскать такое слово, чтобы оно своею простотой, призывом, болью, правдою суровой боролось с вековою немотой. Как горьковский отважный буревестник, Он бурю ждал. Ее он торопил, чтобы в могучий лад Октябрьских песен войти всей полнотой душевных сил! Чтоб на века в его строке остался ветер вольный И ленинская речь с броневика, И осененный красным флагом Смольный! … В военный год я шел по Маяковской. Темнели доски деревянных штор. Шагал пустынной улицей матросский, наш город охраняющий дозор. Обугленная синяя дощечка Стучала по обломкам косяка. За Невским грохотал обстрел зловещий… Но ты сильней смертельного врага, Товарищ фронтовой, строка живая! Я услыхал, на радиоволне Гремело слово, залп опережая. Был Маяковский с нами на войне. …С тобою мы идем по Маяковской, У дома, где когда-то жил поэт, Здесь веет краскою, известкой, лежит на свежей кладке солнца свет. Идут ученики из новой школы. Шумят листвой прозрачной деревца. В распахнутые окна новоселов лип молодая падает пыльца. Мы слышим стройку славящее слово, Стократно повторенное кругом, И кажется, что Маяковский снова В водовороте движется людском. Ступает широченными шагами По обновленной улице своей, И пристальными добрыми глазами Глядит на нас, на школу, на детей!Мих. Жестев Оленька
Повесть
Рис. В. Фирсовой
1
Оленька спрыгнула с высокого школьного крыльца, обогнала шумную ватагу ребят и помчалась через березовую рощу в поле. Размахивая туго набитой клеенчатой сумкой, прыгая через лужи, еще не просохшие после первого весеннего дождя, она бежала по извилистой тропинке и что-то весело напевала высоким, чистым голосом. Она всегда что-нибудь пела, — то веселое, то грустное, но часто даже грустная песня не могла потушить озорные огоньки в ее темных глазах.
В небе светило майское солнце, плыли редкие белые облака. Оленька миновала рощу, добежала до парников и, сорвав с головы белую вязаную шапочку, высоко подкинула ее над поблескивающими на солнце стеклянными рамами.
— Анна Ивановна, здрасте! Тетя Маруся, добрый день! А где моя бабушка? Бабушка Савельевна! Ага, вот ты где спряталась! — Она еще раз подкинула шапочку и бросилась к сидящей на парниковом срубе маленькой седой женщине.
— Легче, легче, внученька! Не разбей раму, не упади в котлован. Да постай ты, белка-непоседка!
Но Оленька уже на другом конце парника. Хорошо ли растет в торфяных горшочках рассада?
— И черной ножки нет, видишь, бабушка! А почему еще не вся высажена ранняя капуста? Ну разве так можно? Ведь совсем тепло! Ой, бабушка, бабушка! — Но почему бабушка молчит? Какая она грустная. Смотрит так, словно вот-вот заплачет!
— Бабушка, что с тобой? Ты не больна? Давай, я всё сделаю, а ты иди домой.
— И без тебя обойдется, — бабушка обняла Оленьку и повела ее с парника. — Ступай, пообедай, ведь с утра не ела…
— Хорошо, хорошо, — уступила Оленька. — А знаешь, бабушка, я приду домой поздно. Юннатовский кружок будет и спевка… И еще придется ноты переписывать… Ну разве можно, бабушка, нотами горячее молоко покрывать?
И не успела бабушка Савельевна оправдаться перед внучкой, — та уже скрылась в роще. Лишь изредка из-за кустов вдруг появлялась ее белая шапочка.
В Ладоге было известно, что Оленька не родная внучка Савельевны. Это знала и сама Оленька. Она помнила детский дом, в котором жила во время войны, помнила, как оттуда ее взяла к себе бабушка Савельевна. Но где девочка жила до детдома, никто сказать не мог. И может быть, вскоре забыли бы даже, где ее подобрали, не назови ее воспитательница детдома степнячкой. И это прозвище всё время напоминало, что девочка откуда-то из степи и что, только потеряв отца и мать, она могла оказаться далеко на севере, в обильной лесами и озерами Ладоге.
Детский дом находился на окраине деревни, в бывшей помещичьей усадьбе, и Савельевна, возвращаясь с работы, часто видела в роще перед домом бойкую смуглую малышку, которая махала ей рукой и однажды даже увязалась за ней на парники. После этого уже сама Савельевна искала случая увидеть свою новую знакомую и вскоре так привязалась к девочке, что взяла ее к себе на воспитание. Савельевна никогда своей семьи не имела и всю свою неистраченную любовь к детям обратила на приемную внучку. Она брала с собой девочку в поле и на парники, в лес за грибами и даже на заседания правления колхоза. Оленька еще не ходила в школу, а уже умела высаживать капусту, ухаживать за помидорами и даже высказывала некоторые критические замечания по адресу ладожских правленцев. К ее неудовольствию, они часто затягивали свои заседания до полуночи, и ей из-за этого приходилось иногда засыпать у бабушки на коленях.
А когда Оленька подросла и вслед за букварем на ее столе появились книги по истории, географии и ботанике, Савельевна обрела в ней помощницу. Зимними вечерами Оленька читала бабушке книжки по овощеводству, и бабушка шутя, но не без тайной гордости называла ее звеньевым агрономом. Она и на самом деле была весьма полезна звену. Бабушка не раз прибегала к ее помощи, когда требовалось развести в воде удобрения, быстро подсчитать норму высева семян или проверить, сколько звено заработало трудодней. А Оленька вскоре привыкла считать эту работу своей обязанностью. Ведь ей скоро четырнадцать, и она переходит в седьмой класс!
Савельевна, выпроводив внучку, вернулась к парнику и снова принялась выбирать капустную рассаду. Но ее худые, сморщенные руки, всегда такие быстрые и проворные, плохо подчинялись ей. Они отяжелели, двигались медленно и всё время роняли нежные зеленые растения.
— Да ты, и верно, больна, Савельевна! Иди-ка домой!
Она не стала спорить с овощеводками. Молча поднялась и побрела в деревню. Вдоль улицы тянулась вереница телег — это везли на ее поле навоз; у овощехранилища грузили в машину свежие кочаны капусты — это она их сохранила с осени; в низине, на реке, плотники тесали балки для нового моста — это и она хлопотала, чтобы построили мост. Но ничего не замечала Савельевна. А кто встречал ее, думал, — что с Савельевной? Не беда ли какая на парниках? Не случилось ли что с Оленькой? Да нет, девочка только-только бежала из дому в школу.
Дома Савельевна опустилась на скамейку, протянувшуюся вдоль всей стены, и, достав из кармана широкой юбки письмо, положила его перед собой на стол. Это письмо она не раз уже читала и всё же снова и снова перечитывала каждую строчку, словно не веря тому, что там написано. Письмо было откуда-то из далекой Шереметевки, от какой-то неведомой Анисьи Петровны Олейниковой, которая называла себя матерью Оленьки, а Оленьку, ее Оленьку, своей дочерью! Десять лет она растила девочку, вся ее жизнь в ней, и вдруг объявилась какая-то Олейникова!
Савельевна достала чернила, бумагу, ручку и принялась за ответное письмо. Она напишет этой Олейниковой и даже карточку девочки вложит. Но это еще не значит, что она отдаст Оленьку. Она еще посмотрит, что за мать у Оленьки. Ишь ты, десять лет ни слуху ни духу не было, а тут вдруг объявилась. Значит, не искала, не нужна была дочь. А теперь вот спохватилась! Да и Оленька сама никуда от нее не уйдет. Конечно, не уйдет! Ну что ей какая-то Анисья Олейникова! Даже фамилия другая, не такая, как у Оленьки. Не Дегтярева. Может быть, даже не мать, а мачеха!
Савельевна написала совсем короткое письмо, потом взяла с комода Оленькину карточку и вложила ее в конверт. У нее было такое чувство, что вместе с карточкой она отдает навсегда Оленьку. А может быть, не посылать ответа? С почты Савельевна зашла в школу. Она миновала коридор, заглянула в класс, где шла спевка, и сразу увидела Оленьку. Ей даже показалось, что среди многих детских голосов она различает ее высокий, звонкий голос. Савельевна постояла, послушала и, согнувшись, словно еще больше постарев, медленно побрела обратно.
Дома она открыла сундук, выложила Оленькины платья, вышитые полотенца — всё ее немудреное богатство. И вдруг с испугом захлопнула крышку. Уж не собралась ли она расставаться с внучкой?
Поздно вечером за ужином она с грустью сказала Оленьке:
— Вот скоро станешь ты совсем большой и бросишь меня.
— Никогда, бабушка! Ни за что на свете!
— Уедешь учиться…
— Выучусь и обратно вернусь.
— Мало ли куда могут послать.
— А я тебя с собой возьму.
— Значит, любишь свою бабушку? Не бросишь ее?
— Никогда! — И, словно боясь потерять бабушку, Оленька крепко прижалась к ней и тихо спросила: — Ты ничего от меня не скрываешь?
— А чего скрывать, Оленька?
— Не знаю, только ты какая-то непохожая. Как будто чего-то боишься.
2
В жизни Савельевны как будто ничто не изменилось. Как всегда, она вставала чуть свет, топила печь, потом шла на парники. Но каждый раз, когда письмоносец приносил газеты, она с тревогой смотрела, нет ли среди них письма из Шереметевки. А когда по каким-нибудь делам ее вызывали в правление колхоза, ей казалось, что вот уже приехала Олейникова отнять у нее Оленьку. Но прошла неделя, другая, а ответ из Шереметевки не приходил. У Савельевны появилась надежда: а может быть, совсем не ее Оленьку искали? Взглянули на карточку, увидели — девочка ни в отца, ни в мать, вот и не ответили. Ясно — чужие люди!
Весна незаметно перешла в лето. Начались белые ночи, наполненные запахами трав, сосны и нагретой за день земли. В поле досаживали местами побитую майскими утренниками капустную рассаду, рыхлили раннюю картошку, пололи морковь. И трудовой день начинался с того, что из колхозного радиоузла на всю Ладогу разносился голос:
— Доброе утро, товарищи! Через полчаса начинается наряд.
У Оленьки уже закончились экзамены, она перешла в седьмой класс, и теперь каждое утро вместе с Савельевной она отправлялась на прополку овощей. Но пока бабушка завязывала в узел завтрак, а потом искала под скамейкой свои старые сапоги, в которых она всегда ходила в поле, Оленька выбегала на улицу и, захватив по пути подружек, уже заводила песню далеко от дома, чуть ли не на краю деревни.
Так было и в это утро. Савельевна собиралась не спеша. Всё равно ей Оленьку не догнать. Она завязала в холстинку горшок молока, кусок хлеба, соль, яйца, потом полезла под лавку за сапогами, и в это время ей показалось, что за окном промелькнула Оленька. Только девочка уходила в косынке, а вернулась в цветном платке. И не в легком платьице, а в жакетке. Ох, озорница! В чужое вырядилась, устроила святки посеред лета!
Но когда в сенях стукнула щеколда и следом раскрылась на кухне дверь, Савельевна увидела перед собой не Оленьку, а совершенно чужую женщину. Чужую и в то же время очень знакомую. Где она ее видела? Чернявую, ладную, легкую, видно, на ногу! И вдруг отшатнулась, побледнела, бессильная опустилась на скамью. Да ведь это же Оленькина мать, Анисья Олейникова! Сначала дочь не уберегла, а теперь хочет осиротить ее, Савельевну. «Нет, не выйдет по-твоему!» И, почувствовав себя снова сильной, решительно поднялась со скамьи и смело шагнула навстречу гостье.
— За Ольгой приехала?
— Где она? — Олейникова смотрела на нее умоляюще. — Жива, здорова доченька моя?
— Ты сначала расскажи про себя.
— Вот документы… справки…
— Документы в сельсовете покажешь. Ты расскажи, что так долго ехала?
— Дальняя дорога…
— Да уж видно, дальняя: десять лет ехала, насилу доехала…
Олейникова, словно оправдываясь, стала сбивчиво рассказывать.
Она потеряла Оленьку в войну. Уходили от немцев и попали в степи за Староречьем под бомбежку. Ее без сознания, контуженную увезли в госпиталь, а дочь пропала. Сколько ни искала, не могла найти. Думала, — погибла Оленька. А тут этой весной приехал новый учитель, Алексей Константинович Дегтярев. Узнал случайно про Оленьку и вспомнил: он под Староречьем ехал на фронт и девочку какую-то подобрал, подобрал и отправил со своей запиской на попутной машине в детский дом. И Анисья снова стала искать Оленьку. Но не Олейникову, а Дегтяреву. И не Матвеевну по отцу, а Алексеевну, по Дегтяреву… Савельевна внимательно слушала. Ее нахмуренные брови, сердитое выражение лица, глаза, суровые, подозрительные и враждебные — всё выражало недоверие, как бы говорило: меня, матушка, не так легко обмануть. И когда Олейникова, чувствуя недоверие, снова стала рассказывать, как была найдена Оленька, Савельевна перебила:
— Отец-то у Оленьки жив?
— Убит на фронте.
— За второго вышла?
— Нет…
— А еще дети есть?
— Никого у меня нет, — едва слышно ответила Олейникова.
Из сеней донесся Оленькин голос.
— Бабушка, ты почему не идешь?
Оленька появилась на пороге и, увидев незнакомую женщину, остановилась. Незнакомая женщина шла ей навстречу, протянув руки и не спуская с нее умоляющих глаз.
— Оленька, это ты?
— Кто это, бабушка?
— Твоя мать…
— Мама?
И бросилась, словно ища защиты, к бабушке. Савельевна подвела ее к матери. Чужая женщина обнимала, целовала ее. А Оленька, непривычная к материнской ласке, стояла, опустив руки и не зная, что ей делать.
Савельевна накормила с дороги гостью, постелила ей постель и сказала:
— Ты с дочкой поговори, отдохни, а мне надо в поле.
Она взяла мотыгу, прислоненную к стене, и, забыв про узелок с едой, вышла из дома. Оленька отодвинулась от матери, вскочила и побежала вслед за бабушкой.
3
Лес с трех сторон огибал большое поле. Два трактора тянули за собой культиваторы. Культиваторы выпалывали сорняки, рыхлили землю. Только вокруг недавно посаженной капусты оставались маленькие зеленые островки. Там, в непосредственной близости к растению, надо было уничтожать сорняки и разбивать земляную корку мотыгой.
Оленька работала, стараясь, как всегда, не отставать от Савельевны. Они шли рядом, каждая своей бороздой, и внучка засыпала бабушку бесчисленными вопросами:
— Бабушка, а ты рада, что мама нашла меня?
— Конечно рада, — не совсем откровенно отвечала Савельевна.
— Бабушка, а мама кто? Колхозница?
— Не знаю, еще не успела спросить.
— А кто мне родней, ты или мама?
— Обе родные.
— Нет, ты родней, бабушка!
Когда солнце поднялось высоко над лесом, Савельевна сказала:
— Оленька, ты иди самовар поставь, маму чаем напои. Она, наверное, уже отдохнула.
И, отправив внучку, продолжала думать всё о том же, — как же теперь быть ей дальше — остаться одной или сделать всё, чтобы отстоять свои права на Оленьку? Савельевна хорошо понимала, что Анисья Олейникова оказалась не такой, какой она представляла себе ее раньше. Мать не бросила девочку, она искала ее и счастлива, что нашла. Такой матери нельзя не отдать дочь. Но ведь надо еще спросить Оленьку. И тут Савельевна чувствовала всё свое преимущество перед Анисьей. Любовь девочки на ее стороне. И эта любовь рассудит ее с матерью.
В полдень Савельевна вскинула на плечо мотыгу и вышла на дорогу Ее окружили идущие на обед колхозницы. Все уже знали о том, что приехала Оленькина мать, и каждую интересовала судьба девочки. Савельевна сдержанно отвечала:
— Сама Оленька решит…
— Верно, — соглашались с ней, — надо Ольгу спросить.
В березовой роще на повороте аллеи она увидела Оленьку. Вся в слезах, взволнованная, она подбежала к Савельевне и, уткнувшись ей в плечо, громко заплакала.
— Мама сказала, что она меня увезет отсюда. А я не хочу, не хочу, бабушка.
— Не хочешь и не надо, — успокоила ее Савельевна. — Никто тебя неволить не будет.
Дома Савельевне пришлось утешать мать:
— Ты не тужи, Анисья. Ведь не знает она тебя. А привыкнет — полюбит… Давай-ка лучше чай пить да друг с дружкой знакомиться. Ты как, в колхозе или сама по себе живешь?
Они сели за стол, и Анисья, пододвигая стакан, ответила:
— В колхозе…
— И дом свой?
— Дом ладный, огород, сад. Село наше большое, хорошее, как город, дворов пятьсот, не меньше. И кино есть. А про школу что и говорить каменная, двухэтажная, после войны построили. Тут кругом леса да леса, а у нас степь да степь. И земля другая. Не песок, — чернозем. И лето давным-давно. Вы, видно, только отсеялись, а у нас уже хлеба наливаются.
Анисья рассказывала о Шереметевке, о степи, Савельевна знакомила ее с Ладогой, с тем, как жила эти годы Оленька, но о самом главном не говорили, как бы ожидая, что этот сложный вопрос решится сам собой.
В репродукторе послышался басовитый голос:
— Товарищи, обеденный перерыв окончился!
Оленька, словно боясь остаться наедине с матерью, поспешно схватила свою мотыжку.
— Идем с нами, Анисья, — сказала Савельевна. — Одна семья!
После степи с ее нестерпимой жарой Анисье было легко и приятно работать в поле, у леса. Ее обдувал легкий, пахнущий сосной ветерок, земля, разбороненная трактором, чуть-чуть холодила ноги. Она старалась держаться ближе к дочери, изредка спрашивала ее о чем-нибудь, но больше наблюдала за ней, за ее сильными руками, уверенно орудующими мотыгой, за каждым движением ее худенькой, но, словно у мальчишки, крепко сбитой фигурки и особенно за ее лицом, на котором ей так хотелось увидеть пробуждающуюся к матери любовь.
Савельевна послала Оленьку полоть на другой конец участка, а сама, позвав Анисью, пошла на опушку леса. Они присели под сосной.
— Так вот, Анисья, не легкую нам надо решить задачу. Не пойдет Ольга от меня к тебе. А захочешь силой заставить — совсем не взлюбит…
— Господи, что же делать? Не могу я без нее…
— А мне, думаешь, легко будет без Ольги? Ты молодая, у тебя еще вся жизнь впереди, а что у меня?
— Как же быть? — с тоской проговорила Анисья. И вдруг, вся просветлев от новой, пришедшей ей в голову мысли, радостно потянулась к Савельевне. — Переезжайте с Оленькой в Шереметевку. Втроем будем жить! У меня дом большой, всем места хватит. Солнца-то сколько у нас! А яблок, арбузов, дынь!
Савельевна ничего не ответила. Ей солнца хватало и в Ладоге. А самая лучшая земля была та, где она прожила всю свою жизнь, — ладожская.
Ночью Анисья долго сидела у кровати Оленьки и рассказывала ей об отце, погибшем на фронте, о том, как эти годы она жила одна в большом пустом доме, как бросила все свои дела, всё свое хозяйство, чтобы поскорее добраться до Ладоги. Оленька заснула, чувствуя у себя на голове ласковую материнскую руку и впервые в жизни подумав о том, что вот и у нее есть мать, которая ее, наверное, очень любит.
Анисья легла рядом на полу. От туго набитого сенника пахло степью. Сквозь дремоту она увидела дочь совсем маленькой, трехлетней, какой та была в войну. Анисья встрепенулась. Ой, не раскрылась ли Оленька? Она поднялась, поправила Оленькино одеяло и снова легла. Война, потеря Оленьки, ее поиски, — да не привиделось ли это ей в долгом тяжком сне? С этим ощущением она снова заснула.
4
С улицы ворвался утренний холодок. Савельевна открыла глаза и увидела Анисью. Гостья уже встала, затопила плиту и теперь убирала свою постель. Она вынесла на крыльцо сенник и, вернувшись, поставила на плиту чугун, потом накрыла на стол и присела к окну чинить Оленькино платье. Всё она делала ловко, быстро, проворно, и это не могло не вызвать одобрения Савельевны. И, наблюдая за Анисьей, Савельевна с горечью подумала: вот какая опора в жизни нужна Оленьке. Молодая, красивая, сильная мать. А ты, старая, думаешь о себе. Привыкла к тебе девчонка, привязалась, может и верно, дороже матери ты ей. Но что с того! Долго ли еще по земле ходить тебе? Хочешь чтобы опять осиротела Ольга? Верни ее матери. Отдай, забудь о себе!
Савельевна поднялась и, спустив на пол босые ноги, подошла к Оленькиной кровати:
— Вставай, внученька.
— Пусть поспит! — Анисье было жалко девочку.
— Надо лошадь запрячь, с утра удобрения возить.
— Я сама схожу. Далеко конюшня?
— Пока ты, матушка, конюшню найдешь да объяснишь, кто ты да откуда, много времени пройдет. Да и так уж приучены у нас ребята: когда надо, с нами вместе встают и, что требуется, делают…
— Еще зашибет ее лошадь.
— Не зашибет. Ей только дай самой запрячь да проехать по деревне.
Когда Оленька, накинув платьице, побежала на конюшню, Савельевна не спеша умылась и сказала, вешая на гвоздь расшитое узорами полотенце:
— Так вот, Анисья, думала я, как нам быть с Ольгой, и решила…
— Не разлучай ты нас. Я мать. Не жизнь мне без Оленьки. — Анисья бросилась к Савельевне.
— Ты слушай, — строго сказала Савельевна: — Ольга твоя и с тобой будет. Понятно?
— Со мной! — А не ослышалась ли она? Так ли поняла? — А она пойдет?
— С матерью да не пойти!
И всё же Анисье еще не верилось, что Савельевна уступила ем Оленьку, и, полная смущения, не зная, как ей отблагодарить старую женщину, отдающую ей самое дорогое в жизни, растерянно спросила:
— А вы? Как же вы без Оленьки? Поедем с нами…
— Пустое, — решительно отказалась Савельевна. — Мне промежду вас становиться нельзя. Пойдут ссоры, споры. Только девчонку измучаем. — И деловито спросила: — Тебя надолго колхоз отпустил?
— Время летнее, горячее… На огороде всё поспевает, да и дом без присмотра.
— Стало быть, пора в дорогу! И хозяйству польза, и расстройства будет меньше.
К дому на шустрой серой лошаденке лихо подкатила Оленька, спрыгнула с телеги и крикнула еще с крыльца:
— Бабушка, куда ехать за удобрениями?
— Никуда, сама поеду.
— Тогда я пойду сено грести. Вчера на пойме уже начали косить.
— Ты постой. Тебе не до сена теперь будет. В дорогу собирайся. Поедешь с матерью домой…
Оленька удивлена. Домой? Как же так? Разве можно из дома ехать домой? Скажет же бабушка! И вдруг всё поняла. Мать забирает ее из Ладоги, разлучает с бабушкой, хочет увезти в Шереметевку. Нет, не уедет она от бабушки. А бабушка подходит к ней совсем близко, улыбается, гладит руки и говорит, целуя в лоб:
— И я приеду. Вырастим, уберем овощи, к зиме и заявлюсь.
— Я уж бабушку к нам звала, — поспешила сказать Анисья.
— Вот видишь! Как не приехать?
Оленька вздохнула, с благодарностью взглянула на мать и, не подозревая, какую боль она причиняет ей, сокровенно сказала:
— Хорошо, бабушка, если ты обещаешь приехать, я поеду с мамой. — И тут же, забыв все свои недавние тревоги, весело проговорила: — Я ведь никогда еще не ездила в поезде…
— А как же тебя сюда с детским домом привезли?
— Это не считается. Я была тогда совсем маленькой и ничего не помню. Нет, помню… Помню, как ты, бабушка, приходила в детдом. У тебя были большие карманы, и в них всегда что-нибудь было для меня.
5
Шли сборы в дорогу. Савельевна стояла на коленях перед раскрытой корзиной и помогала Анисье и Оленьке укладывать вещи.
— Ты, Анисьюшка, положи-ка на низ эти шерстяные варежки и носочки. Они новые, ни разу не ношеные и зимой вот как пригодятся. И это платьице в цветочках возьми. Оно хоть и не новенькое, а памятное Оленьке. На общем собрании мне шаль дали, а ей от звена — это платьице. Вместе честь принимали. — И, отвернувшись, неожиданно сурово сказала Оленьке: — А ты в школу сходи за документами.
Дома готовились к отъезду, а Оленька, одетая по-дорожному, в новое темное платье, привезенное матерью, в белой панаме, из-под которой виднелся неизменный красный бант, туго перехвативший ее черную косу, в последний раз шла в школу. Школа встретила ее необычной тишиной. В пустом, гулком коридоре пахло известью и краской и откуда-то сверху, сквозь потолок доносился приглушенный стук. Это кровельщики чинили крышу. Оленька заглянула в свой класс, там было тихо и безлюдно, как всюду в школе. Словно боясь, что ее кто-нибудь увидит, она прикрыла за собой дверь и присела за парту. Больше она не увидит этот, знакомый ей класс. И подруг своих не увидит. Несколько дней назад они уехали на дальние покосы. Она даже не успела с ними попрощаться. Но они вспомнят ее! И, поднявшись с парты, она подошла к доске и маленьким кусочком мела, сохранившимся с последнего экзамена, написала крупно, через всю доску: «Прощайте, девочки! Оля».
Получив в канцелярии документы, Оленька вышла из школы. С высокого школьного крыльца, с которого обычно сбегала, она спустилась медленно, не спеша. По знакомой березовой аллее она направилась к парникам, куда так часто заходила после уроков к бабушке, а потом к крутому берегу реки. Как бы прощаясь с местами, где прошло ее детство, Оленька побрела вдоль реки, на минуту заглянула в колхозную контору и, обойдя кругом чуть ли не всю Ладогу, вернулась домой, где шли последние приготовления к отъезду.
Наконец всё было готово. На станцию поехали в автобусе, который останавливался у колхозной конторы. В окне промелькнула деревенская улица, осталась позади березовая роща, и вот уже потянулся лес. И хоть Оленька ехала еще по ладожской земле, всеми своими мыслями она была от нее далеко, далеко. Ее манили к себе неведомые дали, и всё отступило перед той неизвестностью, что ожидала ее впереди: Шереметевка, дом матери, новые друзья.
И уже совсем близко, за лесом, протяжно гудел паровоз, — подъезжали к станции. Они едва успели взять билеты, как показался поезд. Оленька бросилась к бабушке. Савельевна обняла внучку, ласково погладила по плечу, шутя сказала:
— Была ты лесной, а станешь степной…
Ей хотелось вот так весело проводить Оленьку и скрыть от нее свое горе. Она заставила себя смириться с тем одиночеством, что ждало ее впереди, но не в ее силах было унять тревогу за судьбу девочки. В эти минуты прощанья ей хотелось сказать Оленьке что-то особенно важное, что могло бы пригодиться ей в жизни. А что сказать? Слушайся, Оленька, маму? Учись хорошо, девочка? Нет, всего этого еще мало, чтобы уберечь Оленьку от жизненных бед. А хочется сказать такое, чтобы сердце успокоилось, тревога улеглась. И когда уже подошел поезд, в последнюю минуту расставания Савельевна прижала к себе Оленьку и сказала, как бы завещая ей самое важное, что должна она знать в жизни:
— Держись, Оленька, за колхоз! Слышишь? Крепче держись!
И сама подтолкнула ее к вагону.
Оленька крикнула уже из окна:
— Бабушка, приезжай! Скорей приезжай!
Савельевна махнула рукой:
— Приеду!..
Но сама подумала: «Буду жива, — может быть, и свидимся когда-нибудь, а вместе уже не жить нам с тобой».
— Прощай, бабушка!
— Прощай, Оленька!
6
Поезд шел на юг. Вокруг мелькали, кружились, расступались в сторону леса. Боры, чащобы, буреломы. Плечом к плечу стояли могучие сосны и ели, между ними пробивались к солнцу осина и береза. Словно потеряв дорогу, путались в ногах великанов кусты ивняка и орешника. Лишь изредка лес уступал место полям, лугам, пастбищам. Они казались узенькой каймой в лесной одежде земли.
Но чем дальше поезд уходил от Ладоги, тем реже становился лес, хвойные боры сменялись лиственными рощами, больше попадались клены и дубы, и вскоре сам лес стал зеленой каймой. Поля, луга, простор!
Наконец ранним утром Оленька увидела степь. Ее разбудила мать:
— Смотри, доченька, приволье-то какое!
За окном вагона голубело небо, ярко светило солнце, и волновалось море созревающей пшеницы. Так вот она какая, эта степь!
А степь, необозримая, вся в золоте хлебов и сверкающая утренней росой, кружилась перед глазами, бежала навстречу, проносилась мимо. Казалось, что не солнце освещает ее своими лучами, а сама она горит и светится.
Оленька прижалась к матери и проговорила радостно:
— Как красиво, мама!
И хоть вскоре эта ранняя утренняя степь исчезла и сменилась другой — выжженной, блеклой, душной, — для Оленьки она попрежнему была необычная и интересная. На бескрайнем степном просторе ни холмика, ни деревца, ни тени. Лишь изредка в знойном небе появится облачко, заслонит собой поникшую траву и спешит в сторону, подальше от солнца. А поезд, чтобы вырваться из жаркого степного пекла, как будто ускоряет ход. Где там! Степь всё шире и шире, а солнце всё жарче и жарче.
Неожиданно совсем близко Оленька увидела огромный клен. Кряжистый, широколистый, он словно спешил навстречу поезду и, промелькнув мимо окна вагона, вдруг рванулся куда-то в сторону и исчез в хвосте состава. Но через несколько минут клен снова возник перед ее глазами. Он то приближался, то удалялся, то казался огромным, то совсем маленьким и долго еще, словно потеряв дорогу, блуждал по просторам широкой степи.
В купе кроме Анисьи и Оленьки ехали пожилой мужчина с ребенком и женщина, лицо которой было такое красное и так лоснилось, как будто она только что сытно пообедала. Эта женщина знала не только названия всех станций, но и что на каждой станции можно дешево купить.
— Сейчас будут огурцы, — говорила она, — а потом цыплята, а через две остановки земляника.
И, едва поезд замедлял ход, Оленька, весело смеясь, спрашивала:
— Сейчас какая станция? Цыплята или Огурцы?
Чего только нельзя было купить на остановках! Степь была обильна. Она как будто встречала Оленьку своим богатством.
И всё же одного не хватало Оленьке в этой степи. На это бы приволье да ладожский лес!
Для Анисьи всё это было знакомо — степь, жаркое солнце, щедрая земля. Но сейчас она смотрела на всё глазами Оленьки и вместе с ней радовалась, как будто впервые видела из окна вагона расстилающийся перед глазами простор, утопающие в садах степные села и белые домики маленьких станций. Она была счастлива близостью дочери, ни о чем другом не думала, ничего другого не желала. И Оленька чувствовала в каждом слове, в каждом взгляде горячую, порывистую любовь матери. Эта любовь покоряла Оленьку, сближала ее с матерью, вызывала большое ответное чувство. Она уже любила мать. Но не одну, а как-то вместе с бабушкой.
Поезд остановился на большой станции. Оленька услышала, как мать крикнула в окно:
— Катенька, ты куда? Садись к нам!
В дверях вагона показалась рыжеволосая, в соломенной шляпке, девушка, обвешанная связкой каких-то непонятных изогнутых воротцами жестяных трубок, которые громыхали, как ведра на спине странствующего жестяника. Она сбросила шляпку, засунула под скамейку свою неудобную поклажу и, не скрывая любопытства, протянула обе руки Оленьке.
— Так вот ты какая? Нашлась всё-таки!
— Это Катя, доченька. Она привела ко мне Алексея Константиновича. Все вместе искали тебя… А ты, Катя, что тут делала?
— На областном совещании пионервожатых была. Ну и по пути и взяла заказанные Алексеем Константиновичем сифоны. Оленька, ты знаешь, для чего эти трубки?
— Нет.
— У нас при школе есть опытный орошаемый участок, так вот, с помощью этих трубок-сифонов будут вести полив. Ты в Ладоге юннаткой была?
— Да…
— Тогда приходи на наш школьный участок. Там узнаешь, как поливать этими трубками. А сейчас помоги мне одолеть вот это… — И Катя выложила на столик большие красные помидоры.
А через час они уже стояли у окна, как две подруги. Пионерка и пионервожатая. Оленька рассказывала Кате о Ладоге, о том, как она вместе с бабушкой работала в колхозе, как училась в школе. А Катя слушала Оленьку и представляла затерянную среди лесов деревню, школу в бывшей помещичьей усадьбе и ласковую бабушку. И она сразу поняла, что Оленька, живя среди чужих, никогда не чувствовала себя сиротой. Чужие оберегали ее, как свою. Не имея родни, девочка в каждом приветливом с ней человеке видела родного и совсем не походила на несчастную девочку, наконец-то нашедшую свою мать. Только в одном чувствовалось, что она росла без отца и матери: она рассуждала взрослей своих лет и была не по-детски самостоятельна. Для нее работа в колхозе была так же естественна, как жизнь в своем доме, как земля, по которой она ходила, как воздух, которым она дышала. Но не Оленька, а скорее бабушка Савельевна вызывала удивление Кати. Ведь бабушка — малограмотная крестьянка, — она читала ее письмо; так откуда же у нее взялось умение так воспитать Оленьку? Значит, умение дается не только образованием, а еще каким-то особенным, жизненным опытом и, видимо, настоящим чутким сердцем!
Поезд пришел на станцию поздно вечером. Оленька вышла на платформу. Вдоль платформы горели электрические фонари; на них из темноты летели похожие на снежинки бабочки. Станция была небольшая, но ее окружали длинные пакгаузы. На путях то там, то здесь мерцали огни стрелок, и где-то в тупике покрикивал маневровый паровоз. Казалось, он торопил поезд дальнего следования освободить для маневровой работы станционные пути. И тут Оленька увидела спешившего им навстречу высокого мужчину. Катя, громыхая связкой сифонов, громко крикнула:
— Алексей Константинович, принимайте свой багаж!
Оленька невольно остановилась. Так это и есть тот самый Дегтярев, который подобрал ее на дороге? Она только успела заметить его белую косоворотку, подпоясанную черным шнуром, а он уже взял ее под локти, слегка оторвал от земли и, взглянув ей в глаза, весело проговорил:
— Нет, Анисья Петровна, это не она! Вы ошиблись! Та была маленькая, щеки помидорами, глаза-горошки, а это какая-то незнакомая барышня.
— Вам виднее, Алексей Константинович, вы нашли, я взяла!
— А мы сейчас проверим. Фамилия?
Она взглянула на его немного скуластое лицо и смеясь ответила:
— Дегтярева.
— Звать Ольга? По отчеству Алексеевна? Нет, не ваша она, Анисья Петровна, а моя. Дегтярева Ольга Алексеевна! Какие же еще нужны доказательства?
И, смеясь, все двинулись к стоящей у подъезда станции автомашине.
Оленьку усадили в кабину и повезли куда-то в ночь. Она сидела рядом с шофером и смотрела в ветровое стекло. Там было видно звездное небо, далекие огни, да поблескивал глянцевитый козырек шоферской фуражки. Свет автомобильных фар падал на дорожную колею, выхватывал с обочин серебристые кусты и врезывался в темноту, прощупывая путь автомашине.
— Где мы?
— В степи, — ответил шофер.
— Всё степь да степь. А скоро она кончится?
Шофер ничего не ответил. Он только искоса взглянул на свою спутницу, перевел скорость и погнал машину еще быстрее, навстречу показавшимся вдалеке огням Шереметевки.
7
В щель между ставнями пробивался луч света. Он падал на подоконник, с подоконника на табуретку, и там с ним играл маленький черный котенок. Оленька вскочила с постели и подошла к окну. Она никогда не видела, чтобы окна заставляли досками. Нет, какая она недогадливая! В Ладоге, когда надолго уезжают, всегда забивают окна досками. Ну и мама забила, когда поехала за ней. Но когда она слегка толкнула створку окна, доски неожиданно распахнулись, как двери. Так это ставни! В Ладоге ставни были сделаны в окнах колхозной кладовой и в магазине сельпо. Это чтобы ночью не залезли воры. Но зачем ставни в доме? И вспомнила: мама говорила, чтобы днем не забралось солнце. Оленька отошла от окна, нагнулась, чтобы достать туфли, и тут только заметила, что в комнате нет пола. Вернее есть, но не деревянный, а земляной. Как в Ладоге на току, где молотят хлеб. А в кухне ее ждала новая неожиданность. Какая же это кухня без русской печки? Вместо нее была сложена плита.
Двор был отгорожен от улицы камышовым плетнем, у плетня росла белая акация, а под акацией стоял круглый стол, совсем такой, как в детском доме, маленький и низенький, за которым обедали малыши. К удивлению Оленьки, мать подала завтрак на этот стол.
— Мама, а как же мы сядем?
— Возьмем скамеечки и сядем.
— Чай пить неудобно.
— У нас самовары не водятся.
— Вот странно! — Тут всё было не так, как в Ладоге. Как можно жить без самовара? Особенно зимним вечером, когда за окном мороз, вьюга?
После завтрака Оленька побежала в сад. Она сорвала кисть смородины, попробовала сливу, подняла упавшее на землю яблоко и, вся раскрасневшаяся, легла в траву. Она лежала, смотрела на голубое небо и плыла вместе с легкими облачками. Как хорошо здесь! И вот она уже снова бежит к матери. Может быть, надо убрать посуду, сходить за водой? Ей хочется что-то делать, двигаться! Она с мамой, дома, у себя дома!
Анисья не знала, за что ей взяться. Поставить на времянку, что посреди двора, обед или снять на огороде созревшие огурцы? Она то бралась за ведра, чтобы направиться к колодцу, то принималась подметать, не известно зачем, дорожку к калитке. Наконец она присела на крыльцо, опустила руки и только тогда поняла, что ничем сегодня она заняться не сможет. Всё ее существо было заполнено Оленькой. Она была счастлива, радостна и ни о чем другом, кроме дочери, не могла думать. Оленька рядом с ней, в Шереметевке, в родном доме! Вон она бежит из сада, маленькая потерянная дочка. Радостная, веселая, бойкая! Сразу видно, что любит свою мать! И уже не вспоминает Савельевну. Что и говорить, мать — не чужая бабка!
Оленька подбежала к крыльцу.
— Мама, мы сегодня будем одни, вдвоем, хорошо? Ведь можно один денек не работать? Можно?
— Пойдем огород посмотрим.
Они прошли на огород, расположенный позади дома, и Оленька остановилась около капустных гряд.
— Тут в прошлом году тоже капуста была, и капуста плохая, верно?
— Как угадала?
— По капусте вижу…
— Болеет всё…
— Проволочник завелся, надо было весной его отогнать. Но и сейчас еще не поздно, мама. У тебя в плите есть котел?
— А ты что хочешь делать?
— Золу кипятить.
Оленька собрала в печке золу, высыпала в котел и, налив туда воды, затопила плиту.
— Понимаешь, мама; образуется щелочь! Мы ее разбавляем водой, поливаем около корня, и проволочник уходит.
— А вдруг капусту пожжешь?
— Не беспокойся, мама. Бабушка Савельевна так часто делала.
Анисью неприятно кольнуло. Но тут же она ласково взглянула на дочь. Девочка сердечная, добрая и, видно, домовитая. Только приехала, а уже огородом заинтересовалась. Ишь, колдует с золой! И пусть себе позабавится.
А Оленька стояла у котла, мешала палкой золу и думала: мама не овощеводка — на поздней капусте проволочник, на редиске крестоцвет и тля. Она смотрела на всё глазами прочитанных ею вместе с бабушкой книжек и считала, что если бабушке они были не бесполезны, то маме будут нужны и подавно. Зимой они с мамой почитают.
Неожиданно Оленька заметила, что мать, еще недавно такая радостная, стала грустной, невеселой. Оленька подошла к ней и ласково дотронулась до плеча:
— Мама, что с тобой?
— Ничего, доченька, ничего, всё будет хорошо. — Анисья решительно поднялась, отряхнула платье и пошла к калитке. Зачем, — не сказала. И только с улицы крикнула: — Смотри не пожги капусту!
8
В степной ли Шереметевке, или в лесной Ладоге — колхозные конторы всюду похожи друг на друга. Их не трудно узнать по доске показателей, висящей у крыльца, по телефонным проводам под карнизом крыши и еще по тому, что во дворе колхозной конторы стоит разобранная, давно выслужившая свой срок автомашина.
Анисья поднялась на крыльцо конторы и зашла в бухгалтерию. Там, как всегда, было шумно. Стучала пишущая машинка, стрекотал арифмометр, и, как синицы, щебетали девчата-учетчицы, ухитряющиеся одновременно выводить в табелях какие-то цифры и обсуждать новую кинокартину.
Анисью сразу обступили. Всем было интересно узнать, привезла ли она дочку. Анисье не без труда удалось пройти к дверям председательской комнаты.
— К Семену Ивановичу можно?
— Копылов на огородах! А зачем он тебе?
— Надо, — уклончиво ответила Анисья.
В Шереметевке помнили черноокую, с длинными косами, веселую Анисью. Она умела пахать, косить, не хуже любого парня держалась в седле. В мужья она выбрала себе тракториста Матвея Олейникова. Он не щеголял заправленными в сапоги шароварами и надетой набекрень фуражкой и был известен в Шереметевке трудолюбием, тихим и спокойным характером. У Анисьи уже была Оленька, а она всё носила косы с вплетенными в них широкими лентами и ходила с Матвеем по улице так, как девушка с парнем, держа его за руку и при этом смущаясь при встрече со знакомыми. А в те дни, когда он возвращался из степи, она брала с собой Оленьку и шла встречать его на околицу Шереметевки.
Война всё разрушила. Анисья потеряла мужа и дочь и одиноком вернулась из эвакуации в свой осиротевший дом.
Однажды к ней пришла Пелагея Юхова, или, проще, бабка Юха. Высокая, вся в черном, словно монашенка, она оглядела кухню, заглянула в горницу и спросила сурово:
— Долго будешь во вдовах ходить?
Юха жила в Шереметевке с сыном Павлом. Он недавно откуда-то приехал и работал в колхозе шофером. В противоположность матери, Павел Юхов был маленького роста, и в Шереметевке с детства его звали просто Юшкой. Юшке было уже за тридцать.
Старой Юхе тяжело было гнуть спину на огороде, возиться с коровой, поросенком, овцами. Хотелось переложить все эти заботы на другие плечи. Но переложить так, чтобы остаться в доме главой, — командовать, распоряжаться, понукать. И она подумала об Анисье Олейниковой. Трудно было найти более подходящую для Юшки жену. Одна как перст, как будто тихая, обидь ее — ничего не скажет. Но сразу посватать сына Юха не решалась. Только намекнула Анисье на ее вдовье житье и позвала с собой на базар.
Анисья всё утро просидела под торговым навесом. Она взвешивала огурцы и помидоры, получала деньги, давала сдачу. Ей было неважно, как идет у нее торговля. Она была даже довольна, когда ее не тревожили покупатели. Базар отвлекал ее на час, другой от тяжелых дум, и ей было всё равно, покупают у нее или нет.
Она была безразлична ко всему, что ее окружало. Больше по привычке, чем по необходимости, она кое-как вскапывала свой огород, выращивала у себя под окном овощи и картошку. Ну зачем ей всё это? Для кого? И так же мало заботила ее работа в колхозе. Посылали ее на ток сортировать хлеб — она шла, не посылали — сидела дома. Она даже не интересовалась, сколько у нее заработано трудодней. Много ли надо, чтобы прокормиться одной? Одно зерно и посреди дороги прорастет.
И когда Юха решилась заговорить с ней о сыне, Анисья только покачала головой. Ни за кого она не пойдет. Ни за Павла, ни за кого! Была семья — не стало, а другая не нужна!
Но на следующий день, после того, как нашлась Оленька, Анисья стала неузнаваемой. От ее равнодушия и безразличия не осталось и следа. Чуть свет она уже была на огороде. Без устали полола сорняки, рыхлила землю, поливала гряды. Веселая, помолодевшая, она не знала, как выразить свою радость, и, увидев в проулке идущую в школу Катю, громко окликнула ее:
— День-то какой хороший!
И больше ничего не сказала. Да и некогда ей было заниматься разговорами. Весной упустила, — летом нагоняй. И одна мысль: Оленька жива и здорова, скоро они будут вместе.
В дороге ее не тревожило будущее. Не беспокоилась она о нем и в первые дни встречи с Оленькой. Она была слишком поглощена своим счастьем, чтобы серьезно подумать над тем, а сможет ли она прожить с Оленькой, нет, не хорошо, а хотя бы так, чтобы свести концы с концами. Этот вопрос встал перед ней вот сейчас, когда она вспомнила, что надо будет возвращать взятые на дорогу деньги. А ведь еще потребуются деньги на жизнь. Откуда их взять? Кто их даст ей?
Анисья нашла председателя колхоза Копылова на овощном поле. В своей неизменной парусиновой фуражке, в запыленных сапогах, большой и немного грузный, он сидел на опрокинутом ящике и смотрел куда-то вдаль. Увидев Анисью, он оживился и принялся расспрашивать про Оленьку. Она перебила:
— Семен Иванович, поиздержалась я в дороге…
— Сколько надо?
— Пятьсот рублей. Обещала вернуть.
Копылов поднялся с ящика и, поправив съехавшую набок парусиновую фуражку, спросил:
— Видишь капусту? Ранняя капуста. Ее как раз время убирать да продавать, а она не полота, только завивается! А ты говоришь — «деньги»? Рад бы дать, да негде взять!
— А как же мне теперь быть?
— Надо работать.
— За что работать? — чуть не плача проговорила Анисья. — За эту капусту? Забьет ее совсем травой! Да и погляди вон на помидоры! У людей с кулак, красные, а у нас что орехи.
— Ну, это ты через край хватила! Если то, что вырастили, уберем, на ноги сразу встанем.
— Да так ли, Семен Иванович?
— Другие за нас хлеб не сожнут! А будем в сторонке стоять да ждать, когда кто-то за нас сделает, — еще хуже станет…
С поля в Шереметевку они шли вместе. Копылов слегка пылил раненой правой ногой и говорил с горечью и обидой:
— Ты думаешь, вот колхоз не может дать тебе авансом пятьсот рублей, — значит, бедный колхоз? Нет, богатые мы, Анисья! Только управиться с нашим богатством не можем.
Анисья плохо слушала. Она думала о своем. Где взять деньги, долг отдать? А отдаст долг, — как дальше жить? Нет, Оленькины деньги, что дала ей Савельевна, она не возьмет.
И спросила безнадежно:
— Значит, ждать надо?
— И мне хочется сразу в гору, — ответил Копылов, — да вот беда, за ногу бес держит.
9
Староста юннатов Егорушка Копылов первым из шереметевских ребят узнал о приезде Ольги Дегтяревой. Ему сообщил об этом Алексей Константинович, и вскоре эта новость облетела весь опытный школьный участок. Юннаты обступили Дегтярева. Хотелось узнать: пионерка ли новенькая, юннатка ли, в какой класс перешла? А девочек, кроме того, интересовало, — беленькая она или черненькая, красивая ли и, вообще, стоит ли с ней дружить? После тщательных расспросов было принято решение пригласить Дегтяреву на опытное поле, и Зойка Горшкова предложила:
— Пусть Володя Белогонов сходит к ней — рядом живет.
— Я один не пойду, — отказался Белогонов.
— Хорошо, — согласилась Зойка, — не хочешь один, я с тобой пойду! И Егор не откажется. А в общем сделаем так, что Дегтярева сама пожалует.
— Может быть, без меня обойдетесь? — обрадовался Белогонов.
— Нет, Володька, без тебя никак нельзя. Но новенькая обязательно придет первая.
— А если нет?
— А я говорю, — придет! — и, оглянувшись, спросила: — А где Петяй?
— Я здесь, — вынырнул из-за Егора Копылова самый маленький юннат Петяй.
— Ты на машине?
— Вон она, за делянкой пшеницы!
— Поехали, ребята, — энергично тряхнула подстриженной головой Зойка и первой зашагала по тропке.
А через несколько минут по улице Шереметевки быстро мчалось не кое колесообразное существо о четырех головах. Это был самый обыкновенный велосипед, который оседлало сразу четыре человека. Сзади, на багажнике сидел Егорушка Копылов, на седле — Зойка, у руля на раме — Володя. Всё это были пассажиры. А сам велосипедист Петяй находился наполовину под рамой, а наполовину сбоку от велосипеда. Маленького роста, лет девяти, не больше, он жал на педали, и со стороны было похоже, что не он нажимает на них, а они то поднимают, то опускают его.
Юннатовские посланцы оставили велосипед у палисадника и вчетвером направились в дом Белогонова. Зойка открыла окно горницы, заглянула в Олейниковский двор и сказала, поднимая крышку стоящего у стены пианино:
— Сыграй, Володя, эту самую, мою любимую — «Метелицу».
— А как с Дегтяревой? К ней пойдем?
— Я сказала, — сама придет, — сверкнула глазами Зойка. — Значит, придет.
Володя Белогонов пользовался среди своих товарищей славой музыканта. Он играл на балалайке и на гармонии. Но особенно ребята стали ценить его музыкальное дарование после того, как Володькин отец, тракторист и комбайнер, купил ему у какого-то переезжавшего в город полковника в отставке старое пианино. Тут Володя показал себя. У него был неплохой слух, и он, как мог, подбирал все известные ребятам песни, танцы и марши. Как было Зойке не прибегнуть к его помощи, чтобы заставить Дегтяреву первой подойти к ним?! Здорово она придумала!
И вот Володя сначала сыграл любимую зойкину «Метелицу», потом стал подбирать «Осенний вальс», зная, что многие девчонки любят музыку жалобную и мечтательную. Однако мечтательная музыка не подействовала на новенькую. Оставалось последнее: марш. Ведь бывают девчонки отчаянней мальчишек, вроде Зойки, им только слушать марши да играть в войну. И не успели Володины руки опуститься на клавиши пианино, как за окном послышался шорох. Белогонов тут же заиграл марш и подмигнул Зойке: начинай, пришла Дегтярева. Зойка понимающе кивнула и осторожно подкралась к окну. Но прежде чем выглянуть, надо было решить, с чего начать разговор. А чего проще? Она спросит про яблоки: есть ли спелые? И перегнулась через окно. И тут с ней произошло что-то совершенно невероятное. Она отпрянула назад, повалилась на диван и, затопав ногами, так громко, безудержно стала смеяться, что Володя перестал играть и вслед за Егорушкой и Петяем бросился к окну, чтобы увидеть, что так рассмешило Зойку. Перед ним стояла убежавшая из хлева телка!
— Пошли на огород, — всё еще смеясь, предложила Зойка. — Она, наверное, там! — И действительно, там сквозь щелку плетня они увидели Дегтяреву. Она поливала из кружки капусту. Егор Копылов, как староста юннатов, обратил внимание на то, что вода была какая-то грязная, словно из взбаламученного колодца. Зойка заметила перекинутую через плечо черную длинную косу. Володя ничего не заметил. Он был зол на свою соседку и думал о ней: «Наверное, глухая она». Что касается Петяя, то он сразу залез на плетень и прямо, без всяких подходов, сказал:
— Я тебя знаю. Тебя сначала убили, а потом нашли!
— Если меня нашли, — значит, не убили, — весело рассмеялась Оленька. И тут же смутилась, увидев показавшихся из-за плетня каких-то еще двух больших мальчиков и девочку.
— А зачем ты капусту поливаешь? — спросил Егорушка Копылов. — Вчера дождь был.
— Золой проволочника отгоняю.
— А верно, что ты юннатка? — продолжал спрашивать Егорушка.
— У нас в Ладоге опытный участок был не такой, как у вас, а совсем наоборот. У вас канавы, чтобы по ним в поле шла вода, а у нас, чтобы с поля ушла.
— А ты одна жила, когда потерялась? — спросил Петяй.
— Нет. Я сначала в детдоме была, а потом меня взяла бабушка.
— И меня тоже дедушка Мирон взял, — счел нужным сообщить Петяй.
Зойка сидела на плетне. Юннатка ли новенькая, какой в ладожской школе опытный участок, — всё это мало интересовало Зойку. Она с любопытством разглядывала смуглое, немного смущенное лицо Оленьки, ее простенькое ситцевое платье, надетые на босую ногу сандалии. Но больше всего ее внимание привлекла к себе длинная Оленькина коса. Сорвиголова, соучастница всех классных проказ, девчонка, которую побаивались далеко не трусливые ребята, Зойка мечтала о длинных косах, но все ее попытки отрастить волосы ни к чему не приводили, и она предпочитала ходить подстриженной под мальчишку, чем носить тоненькие, похожие на сплетенные из веревочки, белесые косички… И когда законное любопытство к новенькой было удовлетворено и Зойка пришла к выводу, что, если не считать длинной косы, Дегтярева ничем особенным не отличается, она крикнула:
— Ладно, пошли купаться!
Однако ни Егор, ни Володя не проявили особой готовности следовать за ней и продолжали разговаривать с Дегтяревой. Зойка обозлилась. «Подумаешь, какая невидаль — коса!» — и, соскочив с плетня, она подошла к Оленьке и пренебрежительно проговорила:
— Ты думаешь, проволочник испугается твоей золы?
— Конечно, — уверенно кивнула Оленька и в доказательство добавила: — Меня научила бабушка, а она заведовала колхозным парником.
— Ну и что же! — продолжала свое Зойка. — Какой-то парник!
— Не какой-то, а большой, — обиделась Оленька. — Сто рам!
— Сколько, сколько? — Зойка сделала смешную гримасу и залилась веселым смехом. — Сто рам! Вот так парник! Откуда приехала эта Дегтярева? Какой же это парник в сто рам, когда в Шереметевке несколько тысяч, и то говорят: небольшой!
Оленьке показалось, — ей не верят, что бабушка ведала парником, и она решила подкрепить бабушкин авторитет новым доказательством.
— Бабушка всю колхозную капусту выращивала. На двадцати гектарах, — прихвастнула Оленька.
Но и это не помогло ей. Зойка еще громче рассмеялась и, забравшись обратно на плетень, иронически проговорила, обращаясь к Егору:
— Спроси еще, — сколько хлеба ее бабушка сеет?
— Бабушка не сеет! А в колхозе у нас одной пшеницы тридцать гектаров!
Зойка едва не свалилась с плетня. Даже Володя и Петяй рассмеялись. Действительно, смешно хвастаться тридцатью гектарами. Да разве это поле? И только один Егорушка не разделял всеобщего веселья, вызванного наивностью Оленьки. Ну что Зойка придирается к ней? Сама ничего не понимает, как бороться с вредителями, а лезет в спор. Но прежде чем он успел встать на защиту Дегтяревой, из-за дома появилась ее мать. Анисья слышала весь разговор и решительно набросилась на Зойку:
— Смеешься? А чего, — сама не понимаешь!
— Да ведь тридцать гектаров, тетя Анисья. — Зойка уже не смеялась.
— А что толку, что у нас тысячи? Только маемся с ними!
Ребята удивленно взглянули на Анисью. Оленька опустила глаза. Зачем мама так сказала?
— Пойдем, мама.
Егорушка остановил ее.
— Ты обязательно приходи на школьный участок.
— Приду, — ответила Оленька и благодарно взглянула на веснущатого, русоголового и босого старосту юннатов, который сидел на плетне с таким видом, словно готов был забраться в чужой сад и набить за пазуху своей сатиновой рубашки как можно больше яблок.
10
В степи высился бурт капусты. К бурту подъехало сразу несколько грузовиков. Анисья вышла из машины Юшки, взяла новую, еще пахнущую ивой корзину и вместе с другими колхозницами встала на погрузку. Ноша сама по себе была не тяжела, и Анисья без труда подняла ее на плечо. Но шла она медленнее других женщин. И ей прощали эту медлительность. С тех пор, как нашлась дочка, Анисья больше была занята у себя дома. А домашняя работа известная. Между вскопкой двух грядок приготовить обед, между обедом и поливом забежать к соседям поговорить о всяких делах и, вдруг вспомнив, что надо еще прополоть морковь, опрометью броситься на огород. Не приноровилась Анисья. Но на самом деле ее медлительность была вызвана другим. Она таскала корзины и думала: зачем ей всё это? Всё равно это не даст ей денег даже расплатиться с долгами.
Звеньевая Анна Копылова, с поля которой вывозилась капуста, поторапливала грузчиц, считала на ходу корзины.
— Бабоньки, не задерживай, грузи веселей! — И подшучивала над Анисьей. — Где скучно, там невмоготу и сложа руки сидеть.
Анисья развязала съехавшую на шею косынку, поправила растрепавшиеся волосы и присела на корзинку. Ничего, машина подождет, а ей надо решить серьезный жизненный вопрос — как жить дальше? Она смотрела в степь, серую и мутную, словно придавленную низким сизым небом. К ней подошла Анна Копылова. Когда-то в детстве они вместе ходили в школу, стояли рядом по росту на пионерской линейке, но теперь Анисья выглядела старше Анны, которая больше походила на ладно сбитую широкоплечую молодуху, чем на мать четырнадцатилетнего сына.
— Как живешь, Анисья? С дочкой-то повеселее?
— С нашего трудодня не очень-то развеселишься.
— Потерпи немного!
Анисья зло отмахнулась и пошла к бурту. Анне хорошо учить других. В доме муж, семья войной не нарушена, сама звеньевая. Ей казалось несправедливым, что вот она на тяжелой работе грузчика, а жена председателя колхоза лишь считает корзины. В эту минуту Анисья не думала о том, что с весны до осени Анна не разгибаясь работает в поле, она не думала о бессонных ночах звеньевой, когда на овощи вдруг нападала капустная муха или тля. Ее собственные беды заслонили собой всё, и ни о чем другом она не думала. Нет, еще не скоро Шереметевка из плохих в хорошие колхозы выйдет. И труднее всех придется ей. Люди как бы ни жили, а всё же добро наживали: кто в колхозе, кто на стороне. А она не думала о завтрашнем дне, не зарабатывала впрок. Нет, что-то надо предпринять, найти какой-то выход. Может быть, попроситься на ферму? Там можно больше трудодней заработать и премии бывают.
— Поехали! — окликнул ее Юшка.
Анисья встрепенулась и поспешила к машине. По выбоинам полевой дороги они двинулись к Шереметевке. Юшка сидел прямо, не спуская глаз с дороги. В зеркале поблескивал козырек его фуражки.
— Хоть бы в гости с дочкой пришла.
— Некогда по гостям ходить.
— Мать говорит, и на базаре тебя не видно. А зря! Без базара колхозник жить не может! На этот счет есть постановление. Торгуй — помогай, так сказать, снабжению потребителя и государственно-колхозной оптово-розничной торговле… Да и учитывать надо — товар, он сегодня дороже, чем завтра, а завтра дороже, чем послезавтра. Выходит, и другим без пользы и себе в убыток.
— В воскресенье выйду.
— Вот неопытность! — укоризненно проговорил Юшка. — Никакого понимания законов торговли. Да в воскресенье товару самая меньшая цена! Все норовят продать в воскресенье.
Анисья ничего не ответила, а когда Юшка вывел машину на грейдерную дорогу, сказала Юшке, который видел ее в маленьком шоферском зеркале.
— Думаю на ферму пойти. Может, больше заработаю.
— На ферму? — Юшка даже сбавил ход. — И не вздумай! Свяжет тебя ферма и только! Послушай, Анисья, не договорились мы с тобой насчет общей жизни, но я эту думку не оставил. А теперь особенно, когда Ольгу ты нашла. Ей отцовская защита нужна! Известно: мать утешит, а отец оборонит. Я не ответа требую. Нет. Об этом мы еще поговорим. Хочу, чтобы поняла: от всей души совет даю. На свой огород да на базар рассчитывай. Нынче Копылову не прижать нас: огородники-базарники! Шалишь — разрешается и поощряется!
— Семен Иванович сказывал, скоро в колхозе лучше будет.
— Знаю, на что рассчитывает. На орошение! — Юшка резко повернул баранку и едва не заехал в канаву. — Изрезали всю степь, ископали всю землю. Как комбайны пройдут? А сорняку сколько будет от этой воды! Не лучше, а хуже может быть!
В Шереметевке Юшка остановил машину у дома Анисьи.
— Ступай, и без тебя капусту разгрузят.
Анисья медлила. Она словно боялась выйти из кабинки. Потом неожиданно повернулась к Юшке и сурово сказала:
— Ты, Павел, не подумай худого. Я ничего еще не знаю. Может быть, ничего у нас с тобой не выйдет. Но одна просьба есть к тебе. Надо мне Камышевой деньги вернуть. Пятьсот рублей. Достань мне их. У товарищей или как там, а достань.
Юшка полез в карман и, ни слова не говоря, протянул Анисье пять сторублевок.
— Хватит? Могу еще дать!
Она хотела выйти из машины, но в это время в калитке показалась Оленька.
— Мама, возьми меня. Я помогу капусту разгружать.
— Я никуда не поеду, Олюшка. — И, повернувшись к Юшке, сказала: — Посмотри, Павел, какая у меня дочь.
— Видел уже. Хоть ночью со станции ехали, а разглядел… А ты, Оля, иль меня не узнала?
— Теперь узнала. — Оленька вспомнила его фуражку с глянцевитым козырьком. Но тогда дядя Павел был строг и суров, а сейчас смотрел на нее доброжелательно и весело.
— А мы еще не так познакомимся. Верно, Оля? Мы еще с тобой в дальний рейс махнем, через всю степь, в город! Поедешь?
— Поеду, дядя Павел!
Обрадованная знакомством с дядей Павлом и тем, что он возьмет ее с собой в город, Оленька побежала к калитке. Юшка посмотрел вслед и сказал:
— Ты, Анисья, не сомневайся. Дочка хорошая у тебя, я не против дочки…
— Ты не против нее, да она, может, против тебя…
Оленька встретила мать во дворе и потащила к столу под акацией обедать.
— Мама, верно, дядя Павел добрый?
— Понравился?
Оленька не ответила. Она смотрела в небо, где над самой ее головой, в прозрачной синеве парил коршун. Он шел по кругу, широко распластав свои крылья и высматривая добычу на земле. Внезапно коршун замер в вышине и стремительно бросился вниз. Оленька невольно прижалась к акации. Словно испугавшись за нее, затрепетали на ветвях листья. А хищник пронесся над самой макушкой дерева, где-то за плетнем белогоновского двора, тяжело захлопал крыльями и, показавшись на минуту над остроконечной крышей, низом воровато ушел в степь.
Они обедали, когда во двор вошел незнакомый Оленьке человек. Он был широк в плечах, из-под парусиновой фуражки виднелись коротко подстриженные седые виски, на его лице сквозь загар проступали веснушки. Она впервые видела его, и в то же время что-то в нем ей показалось знакомым. А верно: на него похож Егорушка! И даже негромко рассмеялась. Но тут же смущенно потупилась. Мать спешила навстречу вошедшему. Оказывается, к ним пришел председатель колхоза, отец Егорушки, Семен Иванович Копылов.
— Так это и есть Оленька? — Он остановился, подал ей руку и сказал Анисье: — Довольна дочкой? Хвалят ее, очень хвалят! В Ладоге по двести трудодней зарабатывала.
— Откуда вы это знаете, Семен Иванович? — И хотя трудодни в глазах Анисьи не имели особого значения, ей было очень приятно, что хвалят ее дочь.
— Мне ее послужной список колхоз прислал, — ответил Копылов. — От малых лет до пионерского галстука. Какие премии получала, тоже написано. А пришел я узнать, почему ты, Анисья, бросила машину, не разгружала капусту?
— Семен Иванович… — Анисья чувствовала себя виноватой. Ей хотелось как-то оправдаться, сказать, что ее отпустил Павел. Но она сдержалась и, чтобы не подводить шофера, проговорила: — Вот забежала посмотреть, как тут дома без меня Оленька управляется, да задержалась. Хозяйство тоже не бросишь… — И, заговорив о своем хозяйстве, она перестала чувствовать себя виноватой. Нужда заставила ее бросить машину, уйти домой: — Сам знаешь про мои долги, Семен Иванович… Да и жить на что-то надо! А у Оленьки ни обуть, ни надеть, а скоро в школу. — Она говорила еще робко, неуверенно, но когда Копылов спросил, на что же всё-таки она надеется, откуда думает достать деньги, Анисья негодующе подернула плечом и зло бросила:
— Одна надежда у нас — сад да огород…
— Небольшая твоя надежда.
— А какая есть, Семен Иванович!
— Неверно; есть у нас настоящая, большая надежда! Про колхоз я говорю, Анисья. Ты и сама это скоро поймешь.
Когда Копылов ушел, Оленька отодвинула тарелку и, недовольная, встала из-за стола.
— Мама, но ведь у меня есть и платье, и ботинки, и пальто.
— Есть пальтишко и больше не надо? Сразу видно, что у чужих людей жила. А чем ты хуже Зойки Горшковой? Тебе больше надо. Ты радости меньше видела, росла без отца и матери.
Оленька ничего не понимала. Разве она росла у чужих людей? Это бабушка Савельевна чужая? И почему она видела меньше радости, чем Зойка Горшкова?
11
Школьное опытное поле находилось за селом, недалеко от школы, и, чтобы туда попасть, надо было пройти через всю Шереметевку.
После Ладоги Шереметевка казалась Оленьке почти городом. Одна площадь чего стоила. Ее окружало несколько промтоварных и продуктовых магазинов; тут был и сельмаг и культмаг, а на углу у чайной даже продавали мороженое. А сама Шереметевка протянулась, наверное, не меньше чем на два километра. Рядом с таким селом Ладога даже не деревня, а маленький хуторок.
Оленька миновала школу и вышла к околице Шереметевки. Здесь начиналась степь. Словно прячась в собственную тень, никли, отвернувшись от солнца, пожженные травы, шелестели ржавой листвой придорожные кусты. Всё казалось мертвым: потрескавшаяся от солнца, горячая земля, пожухлая поросль обочин, приумолкнувший шмель, спустившийся на закрытый цветок белой дрёмы. Одна Оленька чувствовала себя живой. Да и у нее было такое ощущение, словно ее сунули в жарко истопленную русскую печь. И не в первый раз ей пришла в голову мысль: почему степь, где всё как будто мертво, так плодородна, а вот в Ладоге, где всё зелено и кругом жизнь, нет ни таких хлебов, ни таких бахчей, ни таких садов?
Свернув с дороги, Оленька пошла низинкой, поднялась на небольшой холм и остановилась. Сразу за холмом, примыкая вплотную к степи, вставало какое-то чудо-поле. Оно было невелико, но таких хлебов Оленька никогда не видела. Они поднимались выше человеческого роста, и каждый колос казался гроздью зерен. Оленька сбежала с холма и по извилистой тропинке вошла в хлеба. Всё исчезло: степь, Шереметевка. Она видела лишь небо над головой да между золотистыми стенами высокой пшеницы узкую полоску земли. Но тут земля была совсем иной, чем у дороги: рыхлая, черная, словно рассыпанная горстями, и сквозь каждый маленький комочек пробивалась жизнь. Высоко тянулся пшеничный колос, бегал муравей, вился пушистый вьюнок, и где-то в чаще колосьев, словно в густом, густом лесу, неумолчно стрекотал кузнечик. И пахло водой. Оленька даже слышала ее журчанье, как будто вокруг били живые родники.
Оленька шла, не замечая дороги. От хлебов к делянкам могучих подсолнухов и от подсолнухов к густой стене длиннолистой кукурузы. Неожиданно она уперлась в широкую, заполненную водой канаву. Ей ничего не оставалось, как повернуть назад. Но не прошла она и ста шагов, как снова увидела перед собой водную преграду. Тогда Оленька остановилась и громко крикнула:
— Егорушка! Копылов!
И Егорушка вдруг вырос на другой стороне канавы, перешел вброд и, довольный, сказал.
— Вот какое наше поле, заблудиться можно, — и повел Оленьку по участку.
Экскурсовод он был не совсем умелый, а потому начал свои объяснения с того, что спросил солидно и низким голосом:
— Ты знаешь, что для земли вода?
— Знаю, — кивнула Оленька. — Зальет всё — и ничего не вырастет…
— Как, то есть, зальет? — удивился Егорушка. — Вот мы три раза за лето зерновые поливали, да пять раз овощи. Смотри, какой урожай.
— А у нас в Ладоге вода — беда, — сказала Оленька. — Там у нас болота…
— Тогда другое дело, — согласился Егорушка, — и протянул руку: — Видишь? Это наше море!
— Какое море?
— Это мы так пруд называем. У нас орошение небольшое, но всамделишное.
Они подошли к пруду, обсаженному старыми ветлами, и Оленька, забравшись на земляной вал, очень быстро поняла, как орошается школьное поле. Она видела большой пруд и вытекающий из него канал. Этот канал у края поля разделялся на несколько канав. Канавы прорезали участок, охватывали его с двух сторон и исчезали за густыми хлебами. Она даже заметила, что от канав тянутся к полям узкие траншейки. Видимо, сначала вода поступает из канав в траншеи, а оттуда перекачивается в борозды. Но как? Где насосы, трубы, шланги?
Егорушка спустился с откоса и повел Оленьку вдоль канала. Они вернулись в поле, и тут, около овощной делянки, Егорушка поднял такую же, как везла Катя, изогнутую воротцами трубу и сказал весьма солидно:
— Это главный инструмент полива. По-научному — сифон. Вот смотри, опускаю его в воду, там один конец зажимаю ладонью, потом поднимаю и, пожалуйста, получается самотечный водопровод! — И тут же мокрую трубу поднес ко рту и заиграл марш.
— Хорош кларнет? Это из нашего юннатовского оркестра.
Оленька, смеясь, спросила:
— А меня научите играть на этой трубе?
— Научим, только надо закрепить за тобой делянку. Ты что возьмешь?
— Овощи.
— И хорошо. Я так и скажу Алексею Константиновичу. А он даст тебе какую-нибудь тему. У нас всё научно поставлено. Даже из колхозов приезжают смотреть.
— А давно этот участок у вас?
— Первый год. Алексей Константинович всё сделал. Как весной приехал, так сразу и начал. Раз, говорит, в колхозе на будущий год будет орошение, — значит, в школе должен быть орошаемый участок. А в классе он еще не был, только с осени начнет.
Егорушка указал Оленьке делянку, Алексей Константинович дал ей тему — «Как влияет полив и дополнительная подкормка на выращивание второго кочна капусты», — и через несколько дней она уже чувствовала себя на опытном поле не хуже Зойки Горшковой. А может быть, даже и лучше, потому что Егорушка старался ей во всем помочь — научил заряжать сифоны и даже показал, как надо открывать щит земляной плотины Как-то Егорушка сказал ей:
— Завтра будет полив, приходи пораньше.
Оленька пришла и увидела Егорушку в мрачном настроении. Ночью прошел дождь, и Егорушка не знал, что ему теперь делать. Поливать или нет? Ишь, размилостивилась природа! Он был недоволен. Еще скажут осенью: не юннаты вырастили большой урожай, а за них сработали дожди. Но он не хотел показывать виду, что та самая природа, с которой он, староста юннатов, вел отчаянную войну, обескуражила его и, сидя на скамейке около инвентарного сарая, говорил Оленьке:
— Дождь не дождь, а от плана отступать нечего.
— Зачем же поливать после дождя? — спросила Оленька.
— Кашу маслом не испортишь… Да и подумаешь, разве это дождь был? Вот ливень — это дождь!
На тропинке, идущей от школы к опытному полю, показался Дегтярев. Он поздоровался с ребятами и направился к овощным делянкам. Юннаты двинулись за ним, и все обратили внимание, что у Алексея Константиновича на ремне фотоаппарат.
— Сниматься будем, сниматься, — обрадованно воскликнула Зойка и сама решила: — Алексей Константинович, вы меня сфотографируйте, когда я прыгаю с шестом через канаву.
— Алексей Константинович, а меня снимете? — спросил Петяй.
— Обязательно, — ответила за Дегтярева Зойка. — С двумя кочнами капусты на плечах, чтобы на карточке получилось три кочна.
— Как же получится три? — удивился Петяй.
— Третьим будет твоя голова!
Дегтярев шел и словно ничего не слышал. Только, когда все подошли к овощным делянкам, он сказал:
— Сейчас, ребята, мы начнем полив овощей.
— Алексей Константинович, а это ничего, что дождик был? — спросила Оленька.
— Ну и что же, что был?
— Овощи полило.
— А мы проверим, как их полило. Может быть, полило, да не напоило?
И, к удивлению юннатов, стал расстегивать футляр фотоаппарата. Неужели фотоаппаратом можно определить, нуждается ли растение во влаге? Но вместо фотоаппарата Алексей Константинович достал какую-то стеклянную трубку, осторожно смахнул с нее пылинку и сказал:
— Вот мы сейчас и проверим, хочет капуста пить или нет.
Он оторвал кусочек капустного листа и выдавил из него в трубку каплю сока.
Все молча наблюдали за Дегтяревым и ничего не понимали.
— Этот прибор — рефрактометр; он служит для определения сухого вещества в растении. Если его больше двенадцати процентов, — значит, растение требует влаги; меньше, — напилось досыта.
— А трудно узнать, сколько сухого вещества? — спросил Егорушка.
— Нет. Научиться обращаться с этой трубкой сумеет каждый. Трудности тут другие. Не известно, по какому листу определять процент сухого вещества. Ведь чем лист выше, тем сухого вещества в нем больше. Но наши опыты дадут нам точный ответ.
Новый прибор очень заинтересовал Оленьку. Ведь с помощью такого прибора можно как бы разговаривать с растением, спрашивать его, хочет ли оно пить. И оно, словно живое, ответит: «Да уж, пожалуйста, не откажите» или «Спасибо, что-то неохота». Утро было солнечное, жаркое, и после ночной грозы из степи неожиданно подул горячий ветер. Земля быстро подсыхала. Даже под листвой помидорных кустов она уже согрелась и парила. Ветер с жарким солнцем отнимали у нее последнюю влагу ночного дождя. И Оленька ждала: так что же им ответит маленькая капелька, взятая из капустного листа?
— Копылов, воду! — приказал Дегтярев.
— Сколько, Алексей Константинович?
— На полный полив!
Егорушка кивнул Оленьке, и они побежали к пруду. Поднявшись на плотину, Егорушка взялся обеими руками за рукоятку щита и начал быстро ее поворачивать. Оленька слышала, как внизу, под ними, словно потревоженная, заурчала, а затем хлынула в канал вода. Потом они пошли вдоль канала. Казалось, вода не сама идет, а ее ведет Егорушка. Там, где магистральный канал разъединялся на несколько маленьких каналов, Егорушка остановился и стал ждать, когда вода немного прибудет. Потом, подняв один из трех щитов, направил ее в поле.
Было занятно смотреть, как мутный поток переливается из одного канала в другой, а там дальше бежит в узкие траншеи — оросители, примыкающие непосредственно к полевым делянкам. И вот уже из десятка сифонов вода идет в борозды и заливает делянки.
Оленька вместе с Егорушкой вела воду. Она была горда своей работой. Как жаль, что бабушка не может видеть ее в эту минуту! Всё, что росло на делянках, было Оленьке близко и дорого. Маленькая грядка казалась целым миром со своей особой жизнью. Хотелось убедиться, что она создает эту жизнь. Не раздумывая, подняла с земли помидорный куст и стала внимательно его разглядывать. И она увидела всё, что хотела. От стебля, уходящего своими корнями в землю, до верхних побегов она могла бы рассказать историю жизни этого куста. Каждый полив наполнял силой растение, помогал выбрасывать ветви, цвести и завязывать плоды. Вот ответвления после первого полива, а это после второго. А почему захирели, погибли эти листочки? Ну, конечно, потому, что произошла задержка с прополкой, сорняки отняли у куста соки земли. И не потому ли погибли некоторые ветви куста, а завязавшиеся в это время плоды получились меньше других, плохо зреют и рядом с другими кажутся хилыми?
Полив близился к концу. Егорушка пришел к Оленьке на делянку. Он внимательно посмотрел, как она пропускает вдоль борозды воду, и одобрительно проговорил:
— Хорошо поливаешь, вода нигде не застаивается. А у Володьки беда. Одну борозду плохо полил, а другую заболотил.
— Я сейчас ему помогу. — Оленька вскинула на плечо лопату.
— Ты про живую землю ничего не слыхала? — остановил ее Егорушка.
— Нет! А что это за земля?
— Как гряды ею посыпешь, — так обязательно урожай будет. Мне об этом сказал дед Петяя — Мирон. В волчьем буераке эта земля.
— В буераке?
— В овраге значит. Я это место знаю. Давай попробуем на твоей делянке. Если верно, есть живая земля, — второй кочан сразу в рост пойдет.
— А где этот волчий овраг? Далеко?
— За электростанцией. Только немного в сторону.
— А когда?
— Завтра. С утра пораньше. Захватим лопату, рюкзак и пойдем Только никому не говори. Вдруг ничего не выйдет, — засмеют. Договорились?
— Договорились!
Оленька прошла на делянку Володи Белогонова, чтобы помочь ему пропустить воду, и в это время на обочине дороги появилась Зойка. Она уперлась подбородком в черенок лопаты и, покачиваясь из стороны в сторону, спросила с усмешкой:
— Дегтярева, скажи, пожалуйста, где твоя делянка? То ты рядом с Егорушкой, то с Володей. Это они тебе помогать приходят или ты им помогаешь?
Оленька ответила серьезно:
— Я и тебе могу помочь!
— Спасибо, мне помощники не требуются. А я интересовалась не для себя, а для Феклы Ферапонтовны.
Когда Зойка ушла, Оленька спросила:
— Кто это Фекла Ферапонтовна?
— Кукла! — ответил Володя.
— А при чем тут кукла?
— У Зойки свой куклячий театр, а Фекла Ферапонтовна — там главная кукла. Ей попадись только! Так высмеет и продернет — похлеще, чем в газете!
12
Оленька лежала в кровати и смотрела в раскрытое окно. Ей казалось, что она не в Шереметевке, а в Ладоге. Где-то совсем близко в ночи рокотали трактора, — наверное, пахали под озимые пар; легкий степной ветерок доносил запах сена, и в небе то появлялась, то словно таяла в облаках, похожая на карту земного полушария, луна.
Оленька осторожно спустила ноги, ощутила холодок земляного пола и, накинув платье, тихо выбралась через окно на улицу. Она шла на гул тракторов, на их свет, выхватывавший из темноты ночи то тополя, то какое-то низко плывущее по небу облачко, и вскоре оказалась на околице Шереметевки. Золотистая днем, степь ночью, при свете тракторных фар, отливала серебром. Серебрилась земля, трава, листва кустов. Степь походила на огромное озеро. По ее просторам из края в край ходили волны вспаханной земли.
Оленька постояла на околице, не спеша вернулась домой и, уже укладываясь в постель, снова подумала о Ладоге. Что делает сейчас бабушка? Спит, наверное. А может быть, думает о ней? Получила ли ее письмо? И от Ладоги мысль перебросилась к Шереметевке. Что она сделала Зойке плохого? Почему эта куклятница придирается к ней, грозит своей Феклой Ферапонтовной? А еще вспомнился приход председателя колхоза, отца Егорушки. Зачем мама сказала неправду Семену Ивановичу? Разве можно обманывать колхоз? И она тоже смолчала… Но почему она решила, что мама сказала неправду? А если ей хочется, чтобы всё было новое? Разве это плохо? Что же тогда хорошо и что плохо? Где правда, а где неправда?
Но так как решить этот сложный вопрос Оленьке оказалось не под силу, то вскоре она стала думать о том, как завтра вместе с Егорушкой они пойдут за живой землей к Волчьему оврагу. А вдруг, и верно, земля окажется живой? Вот будет интересно! Но что это за земля? Не посмеялся ли дед Мирон над Егорушкой? А для чего? Нет, что-то есть в этой земле, если говорят, что она живая. Только бы дознаться! И они с Егорушкой дознаются. И все будут смотреть и удивляться… Под такие мысли только и засыпать. А когда Оленька проснулась, то в окне уже не было ни ночи, ни луны, небо было голубое и над крышей соседнего дома поднималось солнце.
Оленька умылась и, заплетая на ходу косу, вышла на улицу, чтобы поскорее прийти на школьный участок, где наверное, ее уже ждал Егорушка. Но тут она столкнулась с матерью. Она везла ручную тележку и, увидев дочь, обрадованно проговорила:
— Встала уже? А я думала, — будить тебя или дать еще поспать? Пойдем на базар!
— На базар? — Но ведь на школьном участке ее ждет Егорушка! Оленька хорошо знала, что значит идти на базар. Не раз бывала с бабушкой Савельевной в городе. Одна дорога — туда и обратно — три-четыре часа, не меньше. Да ведь надо еще что-то купить, и другие долм, наверное, есть. Она не знала, далеко ли от города до Шереметевки. Но вблизи города не было, — значит, находился он далеко, и она спросила:
— Мама, а машины на базар не идут?
— От нас? — удивилась мать. — Зачем нам машина, когда до базара пять минут ходу? Он сразу на площади.
— Так давай, мама, скорее пойдем, — обрадовалась Оленька. Тебе корзинку принести?
— Постой, постой, торопыга, иди-ка сюда!
Оленька весело побежала за матерью. Нет, как неожиданно всё произошло! Она-то думала, что базар нивесть где, а он в самом селе. Чудно даже, базар в деревне! В Ладоге никакого базара не было. Теперь-то она успеет на школьный участок. Ну что маме надо купить там? Овощи свои, картошка тоже. Наверное, молоко? Ведь у мамы нет коровы. А еще что? Мало ли что еще? Мыло, соль, спички… Через пятнадцать минут они будут дома.
Анисья вошла в сарай и вынесла оттуда большую корзинку с помидорами, ящик с морковью и чем-то набитый мешок.
— Оленька, помоги мне!
И тут только Оленька поняла: хоть базар и близко, но пройдет не один час, прежде чем она вернется…
Сельский базар был расположен на площади. С одной стороны высился навес, а с другой тянулась коновязь. Никто не помнил, с каких пор существовала эта коновязь. Но около нее теперь останавливались не кони, а колхозные машины. Эту сторону называли колхозной. Под навесом была частная сторона. Каждый, кто приходил на базар что-либо купить, сначала смотрел на коновязь и, только убедившись, что колхоз не торгует нужной ему картошкой или капустой, шел к навесу, подсчитывая на ходу, что ему придется переплатить на покупке. Оленька всего этого не знала, как не могла знать, что, чем больше продуктов привозил на базар колхоз, тем дешевле продавал свой товар навес. Ей даже было непонятно, — ну зачем на селе базар? Ведь в Ладоге его нет! Она не предполагала, что в Шереметевке кроме колхозников живут железнодорожники, рабочие стекольного и консервного заводов, служащие и кустари.
Базар был шумен, говорлив и, как всегда, суетливо-бестолков. Он напоминал осенние рощи, где по вечерам шумят неугомонные галочьи стаи. Можно было пройти по нему с закрытыми глазами и знать, что лежит на прилавках и в лотках, на земле и в корзинах, какие на товары цены. На разные голоса спрашивали о помидорах, огурцах и свекле, отвечали, почем картошка, мясо и рыба, торговались и спорили, отсчитывали деньги и стучали гирями. И всё это сливалось в один гомон, именуемый базаром.
Оленька помогла матери пробиться с тележкой через базарную толпу. Анисья расставила свой товар, огляделась вокруг и, увидев у коновязи машину с помидорами, поставила свои помидоры под прилавок.
— Несортированными, наверное, торгуют, — сказала она, кивнув в сторону коновязи. — Ну и пусть, подождем, пока отторгуются. Наше не пропадет. — Потом повернулась к соседке, старой худощавой женщине, вынесшей на рынок корзину огурцов и горку еще зеленых яблок, и негромко спросила:
— Почем, Юха, дают?
— Хорошо дают.
— Еще бы! Народу полный базар! — И, перегнувшись через прилавок, громко выкрикнула: — Кому огурцов свежих, только с грядки!
Давно ли вот под этим же базарным навесом, на этом самом месте, рядом с бабкой Юхой, Анисья без особого интереса продавала редиску, салат и другую зелень, совсем не огорчаясь, что порой плохо шел ее товар. Но теперь, думала Анисья, когда к ней вернулась Оленька, всё важно: сколько дают, как покупают, много ли навезли товара. Не продешеви, Анисья! Поменьше поход давай! Всё лишний рубль.
Торговля шла бойко. Анисья зазывала покупателей, быстро взвешивала и получала деньги. Оленька видела мать с какой-то новой стороны: еще более подвижной, находчивой на веселую шутку, громко смеющейся, чувствующей себя в этой базарной сутолоке как дома, где всё ей хорошо знакомо. Она спокойно и сдержанно встречала одних, любезно — других, с каким-то скрытым пренебрежением — третьих. Она знала каждого, кто подходил к ней, и заранее могла сказать, кто возьмет огурцов или свеклы много, кто только полкило, а кто лишь узнает цену и пойдет дальше, чтобы в конце концов купить самое дорогое и плохое. Оленька наблюдала за матерью. Здесь, на базаре, мать выглядела совсем молодой, глаза ее были наполнены задором, вся она как бы преобразилась.
— Поздравить тебя можно, Анисья? — Покупатели толпились около нее, разглядывали и хвалили Оленьку: — Хорошая девочка, красивая! А ну, взвесь-ка три килограмма огурцов!
И уходили, явно не скрывая своего удивления, что через десять лет Анисье удалось найти свою дочь.
Анисья, улыбаясь, провожала покупателей, потом, радостная, счастливая, смотрела на Оленьку и, наклонившись, словно по секрету, спрашивала:
— А что, доченька, добрый базар?
Оленьке всё равно, какой базар! Хоть бы его совсем не было. Она стояла рядом с матерью и с волнением смотрела на мелькающий перед глазами людской поток. Может быть, ей удастся увидеть кого-нибудь из юннатов? Надо же как-то передать Егорушке, что она задержится! Временами базарная сутолока отвлекала ее от этих мыслей. То вдруг вспыхивала перебранка между покупателем и торговцем, то из конца в конец навеса начинали перекликаться вынесенные на продажу петухи, то просто было интересно наблюдать за сидящей старой Юхой, как она вместе с огурцами и помидорами взвешивает свои руки и, вздыхая, набожно крестится, не то благодаря всевышнего за ловкую продажу, не то прося у него прощения за свой обман…
Оленька готова была убежать на опытное поле. Только боязнь обидеть мать удерживала ее на базаре.
Всё меньше и меньше оставалось на прилавке товара. Прошел первый ранний наплыв покупателей. Уехала колхозная машина. И тут, наконец, Анисья достала из-под прилавка корзину помидор. Холстинкой она смахнула осевшую на них пыль, положила самые крупные наверх, поближе к покупателю, не без гордости взглянула на соседок по навесу, как бы спрашивая, — ну, кто из них может потягаться с ней своими помидорами?
Базар, который еще недавно был так многолюден и шумен, сейчас поредел, стих, и торговля шла не так уж бойко. Базар близился к концу В девять часов он закрывался. Плотный мужчина в расстегнутом пиджаке остановился около прилавка, потрогал помидоры и спросил:
— Почем?
— Три!
— Дороже, чем в городе? В городе два!
— В городе и покупайте, — усмехнулась Анисья.
— Наживаетесь? Пользуетесь случаем?
— А я со своим товаром что хочу, то и делаю! Захочу — трешницу запрошу, хочу — сама съем!
Перебранка только началась, а вокруг уже собралась толпа.
— Мама, не надо спорить.
— Меня будут калить, а я молчи! — не могла успокоиться Анисья. — Я каждую травинку выпалывала, с утра до ночи спину гнула, а он, ишь что придумал — «наживаетесь»!
— Ладно, взвесь килограмм, — сказал примиряюще мужчина.
Оленька, боясь, что мать откажется от примирения, бросилась к корзине и стала сама взвешивать помидоры. А когда покупатель подал ей трешницу, она вернула ему рубль и сказала гордо:
— Килограмм стоит два рубля!
13
Егорушка ждал Оленьку на опытном участке. Он пришел сюда, едва встало солнце. В картофельной ботве был спрятан рюкзак, заступ и лопата — всё необходимое, чтобы накопать и принести живую землю из Волчьего оврага.
Но время шло, а на тропинке, ведущей из школы к опытному полю, Оленька не появлялась. Что с ней? Заболела, не пустила мать, что-нибудь случилось особенное? Егорушка не знал, что подумать. А вдруг часы подвели? Тоже может быть. Отстали за ночь, и не заметила. Тогда скоро придет. Но Оленьки не было. Уже минуло семь, на участок стали собираться юннаты. Теперь, даже если бы Дегтярева пришла, они не могли бы отправиться в поход за живой землей. Все бы увидели, что они куда-то собрались. Ну ничего, они пойдут, когда ребята разойдутся по домам.
Егорушка справил все свои дела еще рано утром и, сидя у канала, наблюдал, как Зойка окучивает после вчерашнего полива позднюю капусту. Зойка явно спешила и нет-нет, да и поглядывала с усмешкой в его сторону. Наконец она обрыхлила последний кочан, вскинула на плечо тяпку и, выйдя на тропинку, крикнула издалека:
— А что-то сегодня не все юннаты вышли на работу?
— Кому надо, все тут, — нахмурился Егорушка, отлично понимая, что Зойка намекает на отсутствие Дегтяревой.
— Нет не все, — продолжала, подойдя к нему, Зойка. — А где Дегтярева?
— Заболела.
— Заболела? — переспросила Зойка и громко рассмеялась. — Кто тебе сказал? Может быть, записочку прислала? А ты и поверил. И вовсе не заболела. Сказать, где она?
— Говори!
— На базаре помидорами торгует, — выпалила Зойка.
— Врешь! — вскочил Егорушка, сжав кулаки. — Ты смотри, Зойка!
— А чего смотреть? Я видела. Ты сходи посмотри!
Ребята знали, что Егорушка непримиримый противник базара. Ему не раз объясняли, с ним часто спорили, что нет ничего плохого в том, что колхозники продают излишки хлеба, овощей, мяса на базаре. Он упорно стоял на своем.
Егорушка давно враждовал с базаром. Враждовал еще тогда, когда его отец был бригадиром, а мать, как и сейчас, овощеводкой. По вечерам они возвращались с разных мест: отец из степи, мать с колхозного огорода, говорили о колхозных делах, и часто Егорушка слышал от них, что в колхозе есть люди, которые предпочитают торговать на базаре помидорами, огурцами, капустой и всем прочим, что растет у каждого колхозника под окном, а не работать в колхозе.
Насколько мог понять Егорушка, эти люди приносили колхозу много бед. Из-за них не хватало рабочей силы на прополку, уборку, молотьбу. Случалось, что Егорка сам видел и слышал, как отец упрашивает какую-нибудь тетку Дарью: «Да будь ты сознательной, да пойми, для тебя же…». А тетка Дарья хлопнет себя по карману и ответит: «Вот где мое сознание», — и вместо поля к себе на огород и на базар. Он считал, что все беды в колхозе от базарников и базарниц, и, как мог, воевал со своими противниками. Он сочинил стихи:
«Кто продает неполным весом? Торговки под навесом. Хочешь прогадать, — Валяй к навесу покупать!»Зойка хорошо знала нелюбовь Егорушки к базарницам и хотела немного позлить его, ну и, может быть, чуть-чуть охладить его дружбу с Дегтяревой.
Она своего добилась: Егорушка рассвирепел. И не потому, что Дегтярева пошла с матерью торговать на базар. Это он бы ей простил. Но она обманула его. Она предпочла базар походу за живой землей! Ну что же, он сейчас скажет этой Дегтяревой всё, что думает о ней!
Еще издали Егорушка увидел Анисью и Оленьку и, не доходя до базарного навеса, крикнул:
— Эй, Дегтярева!
— Егорушка, — обрадованно улыбнулась Оленька, — я скоро!
— Можешь и не скоро, — пренебрежительно ответил Егорушка и, подойдя вплотную к прилавку, возмущенно бросил: — Ты к нам больше не приходи! Нам такие не нужны, которым базар дороже всего!
Оленька пылала от стыда и негодования. Еще никогда и никто ее так не обижал. Люди были ласковы с ней, и она была к ним доверчива. Что она сделала плохого? Не пришла на школьный участок? Но разве она виновата? Как могла она отказаться помочь матери? Не кому-нибудь, а матери! Но разве это может понять Егорушка? Где ему знать, что такое мама. Он же не терял ее… И самым тяжелым было то, что все эти обиды ей нанес Егорушка. Тот самый Егорушка, который уже стал ее другом. Как он посмел смеяться над ней? Она этого никогда не простит ему.
Ее темные глаза загорелись, слегка вздернутая верхняя губа вздрагивала; казалось, что Оленька вот-вот заплачет. Но она вдруг вскинула голову и, перегнувшись через прилавок, как это делала мать, закричала зазывающе и с каким-то злорадством:
— Кому помидоры? Хорошие помидоры!
Чего, чего, а этого даже Анисья не ожидала от дочери. Оленька, которая весь базар простояла совершенно безучастной к ее торговым делам, вдруг заговорила, да как заговорила, будто век торговала!
14
Над селом стоял безоблачный, пахнущий яблоками и кизячьим дымом летний день. Он был такой сухой и жаркий, что даже легкий ветерок поднимал вихри пыли и нес ее черной поземкой вдоль дороги. Оленька с утра окапывала на огороде картошку, помогала матери поливать капусту, а потом, спасаясь от жары, легла в траву под тенистой яблоней. Сквозь просветы листьев над ней голубело небо, и она равнодушно думала о том, чем бы ей еще заняться. А не сходить ли в клуб и записаться в библиотеку? А может быть, пойти в школу? Ведь она еще до сих пор не снесла свой табель. И пора уже подумать об учебниках. Надо заранее кое-что почитать, тогда легче будет учиться. И всё время возвращалась к тому, что произошло на базаре, к ссоре с Егорушкой. Здесь, в Шереметевке она не была сиротой, как в Ладоге, но там она никогда не чувствовала себя такой одинокой. Ей не хватало товарищей, привычной работы в колхозе, и у нее было такое чувство, что ее привезли в степь, оставили одну на дороге и сказали: ступай! А всё из-за какого-то там Копылова. Ну что он ей? Подумаешь, староста юннатов! Какое он имеет право не принять ее на школьный участок? Захочет и пойдет! Только не будет просить, унижаться. Найдет себе других товарищей. Но как найти их? Ссора с одним как бы отрезала ей путь к дружбе с другими. Ее, наверное, все юннаты считают обманщицей. Ведь она обещала прийти и не пришла. Ну и пусть считают!
Неожиданно она увидела на плетне Володю Белогонова. Он легко спрыгнул на землю и подошел, пряча под тюбетейку выгоревшую прядь светлых волос.
— Ты почему вчера не была на участке?
— Некогда было… — нахмурилась Оленька.
— А сегодня?
— И сегодня некогда.
Володя недоверчиво посмотрел на Дегтяреву.
— А завтра?
Оленька не отвечала. Она не смотрела на Володю. Весь ее вид как бы упрямо твердил одно: было и будет некогда! Вчера, сегодня, завтра, всегда! Но тут же она подняла на него свои темные глаза, улыбнулась и вся просветлела.
— Володя, это ты играешь?
— Тоже умеешь?
— Нет, но я люблю слушать. Сыграй что-нибудь.
Володя не заставил себя долго просить. Прямо через плетень он повел ее за собой и, усадив у пианино, спросил:
— Песню или вальс?
— Песню.
— Песню так песню, — согласился Володя и опустил руки на клавиши.
На этот раз он выбрал такую песню, которую исполнял не одним пальцем, а двумя руками и исполнял совсем не плохо, особенно если учесть, что играл он по слуху. Правда, чтобы скрыть некоторые пробелы в аккомпанементе, Володя всё время нажимал на педаль, но этого Оленька, конечно, не заметила. Окрыленный успехом, он достал откуда-то ноты, поставил их перед собой и сказал, слегка повернув к ней голову:
— Однозвучно гремит колокольчик.
Оленька увидела знакомые ноты. Как бывало на спевках в ладожской школе, она встала сзади пианиста и запела своим высоким чистым голосом. И тут только она обнаружила, что Володя совсем не знает нот. Он играл не в той тональности, нарушал такт и, как убедилась Оленька, поставил перед собой ноты не для того, чтобы читать по ним, а чтобы произвести на нее впечатление настоящего музыканта. И всё же она не бросила петь, а наоборот, подладилась под его игру и благополучно довела до конца их совместное концертное выступление.
— Ты здорово поешь! — сказал восхищенно Володя.
— А ты хорошо играешь, — ответила ему в тон Оленька.
— Давай еще что-нибудь споем.
— Ты сможешь аккомпанировать «В лесу прифронтовом»?
— У меня и ноты даже есть.
— Не надо ноты, — мягко сказала Оленька, — удерживая Володю на табурете. — Лучше так споем.
Володя настороженно взглянул на Оленьку и густо покраснел. Потом, смущенно улыбаясь, сказал:
— Верно, лучше без нот. Откровенно сказать, не знаю я их.
— Подумаешь, а долго ли научиться, — поспешила на помощь смущенному Володе Оленька. — Это так же легко, как научиться читать. Я тебе сначала покажу буквы, потом перейдем к слогам и словам, вот и заиграешь по нотам.
Но прежде чем они успели сесть за нотную азбуку, с улицы донесся свист, и в следующую минуту Оленька увидела на подоконнике старосту юннатов. Не обращая на нее внимания, он крикнул:
— Пошли, Володька! И захвати с собой фотоаппарат.
— А куда пойдем?
— Быка Казбека для юннатского альбома снимать.
— Пойдем, Оля, с нами, — пригласил Володя.
— Нечего ей там делать, — резко возразил Егорушка.
— Она не помешает, — удивленно взглянул на товарища Володя. — Почему ты против?
— Будешь снимать базарный навес, тогда ее и зови. Ей базар дороже всего! А легче всего товарища надуть.
— Постой, Егор.
— Чего стоять? Пошли. Я тебе всё расскажу. — И, увидев, что Оленька бросилась к дверям, крикнул ей вслед: — Испугалась, базарница? И сказать ничего не можешь? — Но она то ли не расслышала Егорушку, то ли не нашлась, что ответить ему, и молча выбежала на улицу.
— Мать на колхозную работу не ходит, — громко сказал ей вслед Егор Копылов, — а этой наплевать на юннатскую — обе базарницы!
Володя снял со стены фотоаппарат, положил в карман кассету с пластинкой и вышел на улицу. Он был мрачен. А когда Егорушка рассказал, как Дегтярева обманула его, Володя стал еще мрачнее. Он видел перед собой двух Оленек: одна обманщица, для которой базар важнее всего, а другая — умеющая хорошо петь, обещавшая научить его читать ноты, и главное, такая, что не стала смеяться над ним, а могла бы, да еще как могла бы! И Володя не знал, что ему делать. Он хотел бы дружить и с Олей и с Егорушкой. Но это было невозможно. Он слишком хорошо знал Егорушку.
Прежде чем пойти на скотный и сфотографировать там Казбека, им предстояло зайти к сыну скотника — Николаю Камышеву или, попросту, Кольке Камышу. Хотя Камыш и не был юннатом, но он обещал Егорушке предупредить отца о съемке и даже согласился, если потребуется, помочь им в этом небезопасном деле.
Однако, едва Володя и Егорушка вошли во двор Камыша, из сеней до них донесся сначала голос Колькиной матери, Лукерьи, потом крики самого Кольки и, наконец, хлопанье ремня. Ребята поняли: в сенях мать лупит Кольку.
— Гуляешь? Гуляешь! Гуляешь!
Она произносила только одно это слово. Но произносила по-разному: укоризненно и с возмущением, с досадой, насмешкой и удивлением, иронически и назидательно.
Наконец, не выдержав, мать заплакала, а Колька Камыш, почувствовав себя на свободе, вышел как ни в чем не бывало на крыльцо. После всего происшедшего Егорушке даже неудобно было звать его фотографировать Казбека, и он, не без сочувствия разглядывая долговязую фигуру Камыша, спросил:
— За что это тебя?
— Ни за что… Кино поздно кончилось, а потом я еще на гулянку зашел. — И тут же, забыв все свои огорчения, первый предложил: — Так как, Казбека снимать будем?
На скотном дворе было пустынно и тихо, коров чуть свет выгнали в поле, и только Казбек, как всегда, стоял в своем стойле. Огромный, бурый, с продернутым сквозь ноздри кольцом, он не удостоил ребят даже взглядом и, слегка посапывая, не спеша жевал сено. Он стоял к ним задом и, как понимает всякий фотолюбитель, такая экспозиция была не удобна для съемки. Но хуже было другое. На скотном дворе явно не хватало света. Надо было вывести быка во двор.
Колька Камыш бросился искать отца. Однако выяснилось, что он уехал с доярками в поле. Егорушка, расстроенный, присел на ворох сена рядом со стойлом быка.
— Что же теперь делать? — И вдруг он принял решение: — Давай, Колька, мы сами выведем Казбека. Ты же хвалился, что не раз водил его на водопой и, помнишь, говорил, что, если ничего не бояться, то всё равно, с кем дело иметь: с быком или теленком?
Но Камыш отказался, и тогда Егорушка сам направился к стойлу и вывел оттуда Казбека.
Сперва бык послушно шел за Егорушкой. Володя спешил установить треногу, ввинтить фотоаппарат и вставить кассету. Но в ту самую минуту, когда он был готов к съемке и оставалось лишь щелкнуть затвором, бык вырвался и, согнув свою мускулистую шею, казалось, раздумывал, на кого ему броситься: на Володю с его фотоаппаратом, на Кольку Камыша или на Егорушку Копылова. Но пока бык делал по двору разворот, длинноногий Камыш вбежал на навозную кучу, а с нее прыгнул на невысокую крышу кладовки, расположенной около сарая. Туда же следом забрался Егорушка, а Володя прыгнул в меловую яму, около которой стоял фотоаппарат.
Перед разъяренным быком вдруг не осталось противников. Нет, один остался. Он смело стоял на трех ногах, черный, с небольшой головой, поблескивая одним глазом. Какое дело Казбеку, что это фотоаппарат! Он шел на него, как на врага… Но враг стоял, не шелохнувшись, и это заставило быка сначала замедлить шаг, а потом совсем остановиться. Так они стояли друг против друга, один треногий, другой четвероногий. Наконец Казбек преисполнился к своему противнику чувством уважения, протянул вперед морду и, в знак примирения, лизнул фотоаппарат языком. В это время Володя из своей ямы явственно расслышал, как щелкнул затвор.
Он не ошибся. И когда Казбек удалился к себе в стойло, Володя закричал:
— Бык-фотолюбитель! Я заставил его сделать фотоснимок!
Но вечером Володя проявил пластинку и, к своему ужасу, обнаружил, что Казбек сфотографировал его самого. И главное, в каком виде: растерянного, измазанного мелом, испуганно выглядывающего из ямы!
Егорушка спросил:
— Что-нибудь вышло?
— Засветило.
— Жалко…
15
С плотины канала было видно всё школьное опытное поле. Делянки черного пара перемежались с золотистым подсолнухом; темнозеленую ботву картофеля сменяли светлые полоски капусты; рядом с поблескивающим на солнце арбузом пламенела бордовая листва свеклы; свежей зеленью переливались на ветру поздно посеянные делянки овса, ячменя, пшеницы.
Алексей Константинович стоял у подъемного щита плотины. Рядом с ним была директор школы Елизавета Васильевна, уже не молодая, полная, с легкой проседью в черных волосах. Она смотрела на участок и назидательно, словно на уроке, говорила Дегтяреву:
— Алексей Константинович, ваш опытный участок — гордость нашей школы, нашего района и, если хотите, даже области. И вы сами недооцениваете его значение. Поэтому я вас прошу не скромничать на совещании, рассказать о нем, поднять нашу школу. Пусть все знают, учатся у нас…
Дегтярев плохо слушал Елизавету Васильевну. То, что ее вполне устраивало, вызывало у него много сомнений. Да так ли уж хорош опытный школьный участок, как это представляется Елизавете Васильевне?
Дегтярев приехал в Шереметевку весной, вскоре после окончания института. Елизавета Васильевна приняла его весьма радушно, не скрывая, что рада его приезду. И всё же выразила свое удивление, почему он приехал, как она сказала, не то слишком рано, не то слишком поздно: учебный год на исходе, а новый еще не скоро начнется.
— Для биолога учебный год начинается весной. И не в классе, а на опытном участке, — ответил Дегтярев.
— Но у нас нет участка!
— Вот видите, — значит, я хорошо сделал, что приехал так рано. Он будет.
— Вы романтик, Алексей Константинович.
— Практик, Елизавета Васильевна. Что значит ботаника без агрономии? Это физика без техники.
В тридцать лет Дегтярев меньше всего походил на молодого, недавно окончившего институт учителя. Он опоздал с учебой, хотя еще в среднем школе считал, что его призвание быть педагогом и агрономом. Всё это прекрасно соединялось в естествознании. Он заранее решил поехать в сельскую школу. Только там откроются широкие возможности для избранной им деятельности. Но война спутала все его расчеты. Он вернулся в институт спустя несколько лет после войны. Не легко было заново начинать студенческую жизнь и восстанавливать в памяти давно забытое. Однако разве легче было бы ему, если бы он отказался от своей мечты и сменил ее на другое, более легкое, но менее любимое дело? Ну что ж, пусть с запозданием он начинает свою жизнь педагога. В конце концом разве жизненный опыт человека, прошедшего войну, опыт коммуниста не заменит ему хотя бы отчасти педагогический стаж?
Ему пришлось положить не мало труда, чтобы с помощью колхоза устроить небольшую плотину и проложить канал от пруда к школьному участку. А сколько потребовалось затратить сил на опыты! Он действительно создал опытный участок и даже был весьма доволен им. За его работой следили и в колхозе, потому что вскоре и на колхозные поля должна была прийти вода строящегося оросительного канала.
Однако жизнь заставила Дегтярева взглянуть на школьное опытное поле совсем другими глазами. Как он ни старался, ему удалось привлечь к работе в юннатовском кружке лишь десятка два ребят. И из них только трое: Егор Копылов, Володя Белогонов и Зоя Горшкова думали после окончания школы работать в сельском хозяйстве. И тогда он спросил себя: да кто он, Дегтярев, — агроном или педагог? Какая цель его жизни? Выращивать пшеницу, овощи, картофель или воспитывать ребят? Шереметевка — отстающий колхоз. Некоторые ребята только и слышат и семье: то в колхозе нехорошо, то плохо. Недавно разговаривал с Николаем Камышевым. Мечтает уйти в лес, быть птичьим царем! А почему? Там не будет ни отца ни матери над ним, ни агронома, ни председателя колхоза, и будет он один всем птицам царь. Ведь это же страшная вещь! Учим, учим ребят, каждый день с ними и допустили, что в детских душах проросли сорняки, которые заглушили тягу к земле, уважение к крестьянскому труду, любовь к колхозу. А Елизавета Васильевна требует: не скромничать, поднимать авторитет школы, звать учиться у шереметевских учителей. Чему? Неужели она не видит ничего? Не видит самого главного!
Когда Елизавета Васильевна ушла с участка, на дороге, ведущей к пруду, Дегтярев заметил пионервожатую Екатерину Ильиничну. Подойдя, она поздоровалась и с возмущением проговорила:
— Алексей Константинович, когда вы уймете своего старосту? Он прогнал Ольгу Дегтяреву с опытного поля, запретил ей быть юннаткой!
— Это похоже на него! Подражает отцу и мнит себя на опытном поле председателем колхоза…
— Видите ли, — продолжала возмущаться Катя, — ему не понравилось, что девочка помогала матери торговать на базаре. По-моему, Копылова надо наказать.
— А заодно внушить девочке, что из-за обиды на товарища не бросают юннатовский кружок. Но, может быть, дело не в ссоре? Вы знаете, Анисья Олейникова вот уже две недели не выходит на работу…
— Тем более надо вернуть девочку в кружок. А старосту при всех юннатах призвать к порядку… На вашем месте я бы поставила перед ребятами вопрос: может ли Копылов быть дальше старостой?
— Так сурово? Это уже не по вине наказание, — рассмеялся Дегтярев.
— Ясно. Разве вы дадите в обиду своего любимчика?
— Не дам, — ответил улыбаясь Дегтярев. — Да и незачем его обижать. Какая же ребячья дружба бывает без ссор? А что касается Оленьки, то вернуть ее в юннаты надо обязательно. И попрошу вас поговорить с ней. Я бы и сам занялся, да вот надо ехать на совещание. — И добавил усмехнувшись: — Елизавета Васильевна приказала блеснуть нашими достижениями, поднять авторитет школы!
Все эти дни Оленька проводила дома, в саду, у себя на огороде. Сколько у нее было в Шереметевке товарищей! И вдруг не стало ни одного. С Зойкой не поладила, с Егорушкой поссорилась. Ей хотелось убедить себя, что и одной может быть не скучно, и она каждый день, помимо работы на огороде, находила себе какое-нибудь занятие. Убирала двор, чинила камышовый плетень, построила под яблоней шалаш, где всегда можно было укрыться от жаркого солнца. В этом же шалаше она часами читала книги, которые взяла в сельской библиотеке. И вместе с книгами к ней как будто пришли новые товарищи — герои этих книг. Она жила их радостями и бедами и невольно сравнивала Егорушку, Володю, Зойку и себя со своими новыми многочисленными друзьями, старалась в их поступках найти ответ; забыть о нанесенной ей обиде и вернуться на опытное поле или быть до конца гордой и показать всем, что она никому не позволит себя обижать. Вся беда заключалась в том, что книги не могли ответить ей, как вести себя при всех случаях жизни. По ним выходило, что надо быть и гордой и вернуться на опытное поле, забыть о своей обиде и в то же время показать всем, что она не позволит себя обижать.
Катя и застала ее в шалаше.
Она подсела к девочке и заглянула ей в глаза.
— Вот ты где, пропащая!
Оленька молчала. Она понимала, зачем пришла пионервожатая. Нет, уж если возвращаться на опытное поле, то одной, а не с учительницей и пионервожатой. И всегда вот так, взрослые хотят помирить ребят, да только хуже ссорят. Катя почувствовала молчаливое упорство девочки и тихо проговорила:
— Оленька, я знаю, о чем ты думаешь. Нет, я не буду тебя попрекать: так пионерка не поступает, так пионерка не рассуждает! Ты семиклассница, ты уже большая. Но я хочу тебя предупредить: обида — обидой, но не бросайся так легко товарищами. С одним поссорилась, а со всеми раздружилась. Смотри, ты же осталась одна.
И, не ожидая, что скажет Оленька, Катя привстала с земли и, наклонив голову, вышла из шалаша. Оленька хотела остановить ее, рассказать о всех своих горестях, но сдержалась и лишь молча проводила Катю до калитки и долго, долго смотрела вслед, пока светлое платье пионервожатой не слилось с побеленными стенами домов.
Неожиданно за спиной Оленьки раздался велосипедный звонок. Она обернулась и увидела Петяя. Он, как всегда, предпочитал ездить по тротуару и, притормозив свою машину около белогоновского дома, громко крикнул в окно:
— Егорка, тебя Алексей Константинович ищет. Давай скорей!
Оленька, чтобы не столкнуться с Копыловым, поспешила уйти во двор, а сам староста юннатов через несколько минут уже сидел на велосипедной раме, и Петяй мчал его к школе, на опытное поле. На опытном поле Дегтярев протянул ему тетрадь и сказал:
— Я уезжаю на несколько дней. Без меня проведешь полив поздних овощей. Ну и, конечно, сделаешь все необходимые записи.
— Можно идти, Алексей Константинович?
— Постой, я еще хотел посоветоваться с тобой. Как ты смотришь на то, чтобы привлечь для работы на нашем опытном поле всех школьников, всё равно — юннаты они или нет?
— Всё потопчут и порвут, — не задумываясь, ответил Егорушка.
— Значит, не стоит, по-твоему? Ну, а если нам скажут — обязательно сделайте свой участок общешкольным полем? Как тогда быть?
— А никак! Пусть говорят, что хотят, а мы свое будем делать…
Дегтярев пытался объяснить Егорушке, как важно сделать юннатовский участок местом учебы всей школы. Но напрасно. Староста был непоколебим. Тогда Алексей Константинович сказал:
— У меня больше ничего к тебе нет. Можешь идти!
И ни слова не сказал об Оленьке. Он думал, что лучше, если разберутся между собой сами ребята.
16
Когда Зойка была маленькой, то, как и все девочки, любила играть в куклы. И куклы у нее были самые разнообразные: купленные в сельмаге и самодельные. Самодельные, в свою очередь, делились на бумажные и тряпичные, с настоящей головой и нарисованной. Одни были более любимы, другие менее. Но каждая наделялась своим характером: жадным или добрым, веселым или вечно ворчливым и недовольным. Для Зойки куклы были настоящими живыми существами. Они работали в колхозе, ходили в клуб и даже ездили лечиться на курорт после того, как она их роняла на пол или причиняла им какое-либо увечье. А свою любимую куклу Феклу, когда пошла учиться в первый класс, она взяла с собой даже в школу. И однажды во время урока Зойка громко запела:
— Баю-бай, баю-бай!
— Что ты, Зоинька, делаешь? — спросила учительница, прерван объяснение.
— Я укладываю спать Феклушу. Она мешает мне заниматься.
И может быть, эта любовь к куклам прошла бы у Зойки, как она проходит у других девочек, когда они подрастают, если бы она не сделала одно открытие.
Однажды она пришла из школы, и ее любимые куклы, с которыми она делилась всеми своими радостями и печалями, которым она даже пыталась внушить некоторые правила школьного поведения, вдруг предстали перед ней в виде тряпок и ваты, глины и пластмассы, которым лишь придано подобие живых существ. Зойка безутешно заплакала. Напрасно мать пыталась ее успокоить. Она твердила одно: у нее неживые куклы, а она хочет, чтобы они были живые. После мать узнала: в школу приезжал кукольный театр, и это его куклы Зойка называла живыми. Но узнала, когда дочь сама смастерила себе двух кукол и начала еще не совсем умело высмеивать лодырей, отлынивающих от колхозной работы:
«— Дарья, хлеб поспевает. — Ничего, не молоко закипает. — Дарья, хлеб пропадет. — Не молоко, не уйдет».Это были ее первые куклы и первые стихи. А потом она сделала свою знаменитую Феклу Ферапонтовну, гордость и славу всей школы, ту самую Феклу, которая в глазах шереметевцев как бы была жительницей села и их землячкой.
Самая обыкновенная тряпичная кукла представлялась всем живой. То сердитую, то смешливую, то серьезную, то уморительную, ее знали на селе как первую героиню Зойкиного кукольного театра. Феклу Ферапонтовну уважали и побаивались. И когда Зойку спрашивали, как она живет и что делает, это значило, что интересуются, в какой новой роли выступит Фекла Ферапонтовна.
Зойка любила играть. На сцене, в жизни — всё равно. И страшно увлекалась этой игрой. Ей захотелось быть юннаткой, чтобы чем-то отличаться от большинства других девочек и чтобы все видели, с каким вниманием к ней относятся и Володя Белогонов, и Егорушка, и другие ребята. Но, став юннаткой, она представила себя в роли открывательницы тайн земли и увлекалась школьными опытами не меньше самого Егорушки. Чувствовать себя в центре каких-то событий было просто необходимостью для Зойки. И вполне понятно, что едва Оленька на какое-то время отвлекла от нее внимание Егорушки и Володи, она не взлюбила ее. Но стоило Кате попросить ее привести Оленьку на опытное поле, и Зойка, гордая оказанным ей вниманием, уже вошла в роль благородного спасителя своей недавней противницы и готова была сделать всё, чтобы выполнить задание пионервожатой. Теперь она чувствовала даже угрызение совести. Она не думала кляузничать, когда сказала Егорушке, что Дегтярева торгует на базаре. Хотела только посмеяться, а вышло — хоть плачь. Но она готова теперь сделать всё, чтобы вернуть Дегтяреву. Как ни обидно, что мальчишки уделяют внимание другим девчонкам, но еще обиднее чувствовать себя из-за этих мальчишек кляузницей. Всё кончено. Отныне она будет только презирать их, и большего они не заслуживает, если из-за них приходится переживать такие неприятности.
Оленька забыла свой разговор с Володей, о зойкиной Фекле Ферапонтовне и, увидев перед собой в саду Зойку с куклой, удивилась этому больше, чем если бы та пришла к ней с рогаткой или даже с самопалом. А Зойка, как ни в чем не бывало, подсела к Оленьке, причесала пятерней свои светлые короткие волосы и спросила, показывая куклу:
— Нравится? Это Фекла Ферапонтовна! В такие куклы не играют, они сами играют. — Она вскочила, вытащила носовой платок и, перекинув его через яблоневую ветку, присела на корточки. И тут же над платком показалась румяная Фекла Ферапонтовна. Она смешно поклонилась Оленьке и спросила:
— Вас зовут Оленькой? Будем знакомы. — И протянула руку.
Оленька рассмеялась. А Зойка уже сорвала с ветки платок, спрятала его в карман юбки и, подсев к Оленьке, спросила:
— Нравится моя Фекла Ферапонтовна? Пойдем ко мне. У меня целый театр. — И, не ожидая согласия Оленьки, схватила ее за руку и потащила на улицу.
Зойка жила, как почти все в Шереметевке, в небольшом глинобитном доме, но полы в нем были не земляные, а деревянные, выкрашенные масляной краской. Так как все взрослые уехали в степь, то Зойка без всяких затруднений превратила низенький круглый стол в подмостки, одеяло с кровати — в ширму, небольшое зальце — в театр, и спектакль начался.
Первой шла пьеса «Ворона и лисица». За ней был сыгран «Храбрый заяц». Если не считать кота, забравшегося на стул, Оленька была единственной зрительницей. Но она так громко смеялась, что с улицы могло показаться, что Зойкин театр переполнен.
А после Зойка предложила Оленьке испробовать свой талант в качестве актрисы кукольного театра. Оленька старалась изо всех сил и, как только могла, повторяла за Зойкой текст пьески о храбром зайце. На одной руке у нее был заяц, на другой лев. Но лев и заяц ее не слушались. Заяц всё время рычал и бросался на льва, а лев трусливо прятался от зайца. Нет, не выйдет из нее кукольницы. Зойка старалась вселить в нее надежду. Надо потренироваться месяц, а то и все два. Это же искусство!
Только после этого Зойка, наконец, сочла возможным приступить к выполнению поручения пионервожатой. И с нежностью, на которую она была способна, заговорила об опытном поле, пионерском долге и закончила тем, что посулила отколотить Егорку Копылова, если он еще хоть раз попытается обидеть Дегтяреву.
Оленьку тронуло участие Зойки. Задиристая, колкая Зойка, оказывается, очень добрая. Да, ради того, чтобы быть вместе с такой подругой, она готова вернуться в юннатовский кружок. Но тут же это непосредственное желание исчезло. Оленька представила себе, как она придет на опытное поле, как Егор Копылов крикнет ей: «Что, пришла, базарница!» — и старая обида вспыхнула в ней с новой, еще большей силой. И чтобы как-то отомстить своему обидчику, она проговорила презрительно и стараясь всем своим видом подчеркнуть свое превосходство над Егорушкой:
— Нечего мне там делать с этим старостой. Подумаешь, опытное поле! Какие-то деляночки!
Даже Зойка, которая не считала себя патриоткой опытного участка, даже она возмутилась. Так вот ты, Дегтярева, какая! Тебе опытное поле — не поле, а какие-то деляночки! Хороша пионерка, нечего сказать! — Она схватила куклу, надела ее на руку, и Оленьке показалось, что не Зойка, а Фекла Ферапонтовна прокричала ей с возмущением и презрением:
— И копайся у себя на огороде!
Оленька вернулась домой расстроенная. Обедала нехотя. Даже любимый борщ, приправленный перцем и баклажанами, показался безвкусным. А после обеда вышла на крыльцо и, задумчивая, грустная, присела на ступеньку. Ее не тянуло ни в сад, ни на огород. Ей хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы унизить Егора Копылова, показать всем, что она настоящий юннат. Не мириться она будет с ним, а воевать! И она ему еще покажет. Но сколько Оленька ни думала, ничего придумать не могла. И от сознания своего бессилия она готова была заплакать.
Но тут же решительно поднялась и пошла на огород, где мать, готовясь к завтрашнему базару, связывала петрушку, морковь, укроп. Оленька подбежала к ней и взволнованно сказала:
— Мама, оставь мне этот участок.
— Какой участок? — Анисья не могла понять, чего от нее хочет дочь.
— Из-под капусты.
— Да постой, там ведь ничего нет, одни кочерыжки…
— Кочерыги и оставь. Не выкапывай их.
— Вот чудачка! А зачем они тебе?
— Я второй урожай выращу. Еще кочаны будут.
— Еще? — Анисья недоверчиво посмотрела на дочь. Так ли она ее поняла? На кочерыгах, оставшихся после срезки кочанов, снова вырастут кочаны? Но Оленька говорила так уверенно, что Анисья улыбнулась и сказала.
— Бери, доченька. Что хочешь бери!
В тот же день Оленька окучила, полила водой и подкормила минеральными удобрениями все капустные кочерыжки. Она работала с ожесточением. Посмотрим, чья возьмет! Ишь, выдумал живую землю! Она была зла, как никогда.
17
Оленька быстро привыкла к степной жаре, а сад у дома в какой-то мере восполнял отсутствие леса. Но речная шереметевская вода не могла ей заменить холодную, прозрачную воду ладожских колодезных ключей.
Река огибала Шереметевку с двух сторон. Выше всех находилась быстрина, оттуда полагалось возить воду для питья; пониже — лодочная станция и песчаная отмель — место для купанья; еще ниже — мостки для полоскания белья и, наконец, за околицей, где река делала крутой по ворот, конский водопой.
Каждый день Оленька ходила за водой на речку к старой иве. Она сделала одно открытие. Если воду взять рано утром, то она дольше сохраняет свою прохладу. Но приятнее всего было пить прямо из реки, ощущая холодное прикосновение воды к губам, подбородку и самому кончику носа и видя покачивающееся в зеркальной глади свое лицо и кусочки голубого неба, обложенные ватой белых летних облаков.
Там, на речке, Оленька встретилась с Колькой Камышом. Он сидел под ивой и ловил удочкой рыбу. От воды тянуло утренней свежестью, пахло травой, сама вода стояла неподвижная, еще не тронутая ветерком. То здесь, то там проклевывалась мелкая рыбешка, и по воде ходили круги, казалось, что кто-то бросал в речку маленькие камушки.
Они разговорились. Узнав, что Оленька — дочь Анисьи Олейниковой, Камыш сказал:
— И зря ты нашлась.
— Почему?
— А что хорошего дома? То сделай, этого не делай! Я бы на твоем месте жил бы да жил один! Да еще в Ладоге! Сама говоришь, леса там. Хорошо, наверное, в лесу. Ходи и никому не подчиняйся.
Колька Камыш держал голубятню. Она помещалась на чердаке, и Оленька, забравшись на крышу, любила наблюдать за полетом голубей.
Они шли по кругу, и там, в вышине, кувыркались, падали на крыло, словно ныряя в золотой, солнечный поток. И часто, сидя на крыше, она слышала, как вдруг в доме, ни с того, ни с сего начинает ругаться мать Кольки. Кому только от нее не доставалось! Председателю за то, что ястребы унесли с птичника пять цыплят; бригадиру — еще не передал в контору табель трудодней; попадало даже продавщице разъездного ларька, привезшей в степь недостаточно холодный лимонад. Колькина мать говорила громко, быстро, и слова вылетали у нее изо рта короткими очередями. Как правило, ее речи кончались тем, что она выбегала во двор и набрасывалась на сына:
— По крышам голубей гоняешь? Лодырь, дармоед непутевый! Дожила Лукерья, лихорадка тебя затряси!
И, обругав самое себя, бросалась преследовать забравшихся в огород кур.
Оленька подружилась с Камышом. Он расспрашивал ее о ладожских лесах, мог без конца слушать ее рассказы о лесных чащобах и как бы возвращал ее в далекую, родную Ладогу. Но вскоре ей наскучила дружба с ним. На реке, не спуская глаз с поплавка удочки, он больше молчал, а дома, гоняя голубей, всё время торчал на крыше. Оленьке не хватало Егорушки, Володи и даже Зойки. Она не прочь была бы помириться с Егорушкой, жалела, что так неосторожно оттолкнула от себя Зойку, с удовольствием спела бы с Володей, хотя он нот не знает и не так легко подладиться под его аккомпанемент. В конце концов, вероятно, примирение так или иначе состоялось бы, если бы не случай, который еще больше отдалил Оленьку от ее недавних друзей.
Однажды ранним утром Оленька пошла по воду. Недалеко от старой ивы Колька Камыш ловил рыбу. Оленька зачерпнула ведра, подхватила их коромыслом и уже собралась идти обратно, как увидела Егорушку, Володю и Зойку. Они шли вдоль берега на овощное поле. Неожиданно Егорка и его друзья свернули на ведущую к реке тропинку и подошли к Камышу. Чтобы не быть замеченной, Оленька спряталась за иву и оттуда наблюдала за ребятами. Она не слыхала, о чем они говорили, но вскоре убедилась, что между Камышом и Егорушкой завязалась та самая беседа, после которой им ничего не оставалось, как в виде последнего доказательства пустить в ход кулаки.
И в первую минуту ее сочувствие было на стороне Егорушки. Долговязый Колька Камыш, конечно, сильнее его. Но когда на помощь Егорушке бросился Володя, а за ним и Зойка и втроем они стали теснить Камыша, ее сочувствие перешло на его сторону, и она решила вмешаться в неравный бой трех против одного. Схватив коромысло, Оленька рванулась на защиту рыболова. Ее нападение было так неожиданно, что сначала вызвало растерянность во вражеском стане, а потом заставило Егорку, Володю и Зойку изменить тактику боя. Хорошо поняв, что с голыми руками против коромысла не пойдешь, они отступили в глубь берега, и повели оттуда беглый обстрел камнями. Оленька и Камыш ответили им тем же. Бросать камни сверху было удобнее, да и боеприпасов там было больше, а потому Оленьке и Камышу пришлось отступить под защиту ивы. Тогда Егорушка и его друзья с воинственным кличем пошли в атаку. И в тот момент, когда Оленьке и Камышу уже ничего не оставалось, как спасаться от каменного дождя бегством, произошло чудо. Атакующие повернули назад и в панике побежали со всех ног в степь.
Только после этого Оленька увидела идущую вдоль берега мать Егорушки и поняла, что ей тоже надо поскорее покинуть поле боя. Но было поздно. Анна Степановна преградила ей дорогу:
— Девочка, а дерешься камнями.
— А чего они трое на одного…
— Смотрю, не ладишь ты с моим Егором…
Оленька не ответила, а Камыш сказал:
— Он первый полез. И камнями стал кидаться первый…
— Верно? — повернулась Анна Степановна к Оленьке.
— Все вместе начали.
— Ишь ты какая, — усмехнулась Копылова. — То у тебя трое на одного, то все вместе. Всё равно дома Егору трепки не миновать, а увижу еще раз, что дерешься, матери скажу.
Когда Анна Степановна ушла, Камыш, весьма довольный, рассмеялся.
— Теперь Егору будет…
— А зачем ты сказал про него?
— Не жалко. Ему достанется, а не мне. И за Казбека еще получит. Только за камни мать ему всыплет, а за Казбека — батька. Будет знать, как меня трусом называть! А я вовсе не боялся быка вывести, просто не хотел! А он вывел и чуть на рога ему не попал. Как расскажу батьке, — достанется Егорке.
Оленька не прерывала торжествующего Камыша. А когда он кончил, она молча подхватила ведра и, стараясь ступать как можно тверже, мелкими шажками поспешила подняться на берег. Но там она не выдержал а, остановилась и громко крикнула:
— Трус! — И так возмущенно качнула ведра, что они еще долго покачивались на коромысле, расплескивая по сторонам воду.
18
Конечно, Ладогу нельзя было даже сравнить с Шереметевкой. Один шереметевский сельский сад чего стоил. Он был и мал и велик. Его можно было обойти за несколько минут и весь не увидеть за вечер. Всё зависело от того, что считать садом и с каким интересом относиться к тому, что было там. Собственно, сад представлял собой густую рощу с одной широкой аллеей, маленькой эстрадой и площадкой, разместившимися сбоку от аллеи. На эстраде играл небольшой духовой оркестр, на площади до полуночи танцевали, а когда играли гопака или казачка, то казалось, что пляшет и топает ногами всё село. Лихо отплясывать тут умели!
К саду примыкало футбольное поле. По другую сторону находились площадки для волейбола и баскетбола. А между ними спускалась к реке дорожка, и там, у пологого берега, была водная станция, где устраивались всякие заплывы. Чтобы осмотреть этот большой шереметевский сад, требовалось уже немало времени.
Для Оленьки, которая лишь изредка выезжала из Ладоги в районный городок, шереметевский сад был полон самых волнующих развлечений. Ей хотелось пройти по аллее и посмотреть, как танцуют на площадке. Или побывать на футбольном матче! А в волейбол она не прочь бы и сама поиграть. Но как пойти в сад одной, да еще после того, как она подралась с Егорушкой, Володей и Зойкой. Тут не то, что в сад, и на улицу надо выходить с оглядкой.
Да, в Ладоге не было ни сада, ни Дома культуры, ни кино каждый день, и сама она была намного меньше Шереметевки, но там, в маленькой деревушке, Оленьке всегда было очень весело, никогда она не скучала, и летом только поздно вечером бабушке Савельевне удавалось заставить ее лечь спать. А в Шереметевке она не знает, куда себя деть, и ждет не дождется вечера, чтобы забраться в кровать.
В шалаше под яблоней, сидя на подостланной старой шубе, Оленька и решала все эти волнующие ее вопросы. Конечно, ей скучно потому, что она всё время одна и одна, без подруг. Но в подругах ли дело? Почему в Ладоге ей было весело со всеми? И с подругами, когда они уходили в лес за ягодами или купались на речке, и с бабушкой, когда они вдвоем уезжали на дальнее овощное поле и жили там целыми неделями. Она даже мечтала об этих поездках. Там они устраивались в маленьком домике и по вечерам до поздна сидели у костра. Бабушка знала про Ладогу всё. Даже то, что было сто лет назад.
Оленька вылезла из шалаша и сказала матери, чистившей у крыльца кастрюли:
— Мама, ты хотела бы поехать в Ладогу?
— Темная там сторона.
— Почему темная, мама?
— Лесная, заблудишься в ней…
— Да нет, мама. В степи легче заблудиться. В лесу всякие приметы есть: куда дерево больше растет, — там юг; по следу лося придешь к стогам на покос; а видишь, деревья становятся выше, — значит, близко река…
Некоторое время они сидят молча. Анисья трет кирпичным порошком медную кастрюлю, а Оленька смотрит на облачко, плывущее над двором, над Шереметевкой, куда-то далеко в степь, и думает: как хорошо быть облачком и плыть над землей и всё видеть и всё знать!
— Мама, почему мне скучно?
— Вот в школу пойдешь.
— Скорей бы.
Она поднялась с крыльца и прошла на огород, чтобы осмотреть кочерыжки, на которых уже начали завиваться вторые кочаны капусты Она каждый день навещала свою грядку, поливала ее, но только желание доказать Копылову, что она — мичуринец не хуже его, поддерживала в ней интерес к этому маленькому квадратику земли. Для нее в этой маленькой делянке не было того, совершенно естественного и привычного, с чем еще с детства она связывала свой труд на земле. И земля, и то, что росло на земле, и ее труд — всё принадлежало колхозу. Всё радостное, всё, что приносило ей удовлетворение, было связано с ним. Что же могла дать ей маленькая грядка каких-то кочерыжек на огороде?
Оленька чувствовала себя на отшибе от большой жизни села, от всего того, с чем годами свыклась в Ладоге. И хоть она знала, как нелегко в жаркий день не разгибаясь полоть и полоть строчки свеклы или окучивать капусту, но быть одинокой у маленькой грядки стало для нее невыносимо.
Оленька вновь забралась в шалаш. Надо написать бабушке письмо. Но о чем писать? Она не будет расстраивать бабушку и напишет ей, что живет хорошо. И про Шереметевку напишет, какое это большое село. И скоро она вместе с мамой пойдет работать в поле. Но главное, надо еще раз напомнить бабушке, чтобы она не задерживалась и скорее приезжала. Оленька склонилась над листом бумаги. Она писала, что ей очень хорошо, а сама была грустная и чувствовала, как навертываются на глаза слезы. И, думая, что ей удастся скрыть от бабушки правду, она, сама того не замечая, писала правду: как она скучает по Ладоге, как бы ей хотелось быть там. Быть вместе с бабушкой, в их доме, в поле, в лесу…
Оленька услышала звуки пианино. Это опять играет Володя. Немного путается, сбивается, но это совсем неважно. Всё-таки хорошо на душе, когда слушаешь музыку. И грустно и как-то легко.
Оленька вышла со двора, миновала улицу и направилась к переправе. Она уже не слышала пианино, но музыка, то рокочущая грозовыми раскатами, то тихая, как ее печальные и грустные мысли, жила в ней. Она уносила ее с собой из тесного, обнесенного плетнем двора в бескрайнюю степь.
У переправы она услышала сзади себя шаги. Кто-то мягко и быстро ступал по песчаной береговой дорожке. Оленька оглянулась. Ее догоняла мать Егорушки Копылова.
— Постой, не спеши! — Анна Степановна подошла к Оленьке, заглянула в ее смущенное лицо и радушно спросила: — Ну как, вторые кочаны выросли у тебя?
— Не выросли, но вырастут, — не совсем дружелюбно ответила Оленька.
— А над чем еще колдуешь? — спросила Анна Степановна.
И, обняв Оленьку за плечо, ласково подтолкнула ее вперед.
— И совсем я не колдую…
— Я не в укор, — улыбнулась Анна Степановна. — Ты молодец. Только почему со своей наукой на огороде копаешься?
— В Ладоге я бабушке помогала.
— Тоже на огороде?
— Я в колхозе помогала бабушке.
— Вот какая у тебя бабушка! — И Анна Степановна похлопала Оленьку по плечу, словно это была ее, Оленькина, заслуга. — Хорошая бабушка!
— А вы агроном? — спросила Оленька, заметив в руке Копыловой связку колышков.
— Нет, куда мне!
— Бригадир?
— Нет, звеньевая по овощам.
— Звеньевая! — обрадованно воскликнула Оленька. — Она смотрела на Анну Степановну, словно не веря ей, и в то же время всё лицо ее осветилось радостной улыбкой. — Звеньевая? Верно? И бабушка была звеньевой! — И это так расположило Оленьку к Анне Степановне, что она забыла, что перед ней мать Егорушки, настороженность пропала куда-то, и Оленька стала рассказывать, какие у бабушки были поля, урожаи и что однажды бабушка выезжала в район и читала лекции о парниках.
— Да ты, наверное, сама мастерица. Не поможешь ли мне? Правда, я лекции, как твоя бабушка, никому не читаю, но наукой тоже занимаюсь. Пойдем со мной на бахчи. Будем отбирать арбузы на семена.
Арбузы росли близко друг от друга, одни больше, другие меньше, все как будто одного цвета, но одни матовые, другие совсем светлые, натертые солнцем до лоска. Анна Степановна переходила с места на место и втыкала около самых больших и светлых колышки.
Звеньевая и Оленька бродили по бахчам несколько часов, а потом, сорвав арбуз, присели на краю поля. Оленька ела, не обращая внимания на то, что весь ее подбородок, кончик носа и даже щеки в арбузном соку. Всем своим видом, от смеющихся глаз до рук, крепко вцепившихся в красный ломоть, она как бы говорила, что такого сладкого арбуза она еще никогда не ела. И он действительно был самый вкусный на свете. А почему, — она и сама не знала. Может быть, вырос на солнечном склоне или на легкой земле? А может быть, он был таким вкусным потому, что она ела его, сидя рядом с Анной Степановной, такой же звеньевой, какой была бабушка? Поди разберись в этих арбузах. А главное, вдруг исчезли все ее беспокойные думы. Она словно вновь попала в Ладогу, а раз так, то всё остальное не имело для нее никакого значения.
— А завтра, тетя Аня, вы куда пойдете? — спросила Оленька.
— Завтра на помидоры.
— Возьмете меня?
— Мать не заругает?
— За что?
— Да как тебе, Оленька, сказать? — Звеньевая встала и стряхнула с юбки арбузные косточки. — Может быть, воды дома не хватает, а кого послать?
— Я с утра на весь день наношу!
Оленька не умела увлекаться чем-нибудь одним, как, например, Петяй своим четырехместным велосипедом, Егорушка опытным полем, Зойка кукольным театром. Она тянулась ко всему, что окружало ее, чувствуя, что в жизни есть всегда что-то для нее неизвестное или уже известное, но такое, что приносит радость. И когда это чувство радости захватывало Оленьку, она забывала о своих невзгодах, и всё вокруг становилось светлым, словно загоралось в лучах утреннего солнца.
Вот с этим ощущением большой радости Оленька возвращалась с бахчи и, как первоклассница, гонялась за бабочками, прыгала на одной ноге и без конца дурачилась, подражая сусликам, дятлам и даже степным ястребам, бросающимся на свою добычу. А потом вдруг Оленька запела. Запела своим чистым, звонким голосом. Запела о степи, о птице, которая вьется над нею, о степном голубом небе.
Дома, веселая, счастливая, Оленька обняла мать.
— Отгадай, где я была? Нет, никогда не отгадаешь! Ну хорошо, я тебе скажу, с кем я была. С Анной Степановной! Какая она хорошая, добрая! А какой мы с ней арбузище съели! Во какой! Как бочонок!
Оленька была переполнена нахлынувшими на нее чувствами и продолжала, обнимая и тормоша мать.
— Мама, если бы ты знала… — Она хотела еще о многом рассказать матери и вдруг смолкла. Мать смотрела на нее сердито, и Оленька почувствовала себя виноватой. Она ушла, не предупредив маму. И мама, наверное, беспокоилась. — Ну, прости меня.
Анисья поцеловала дочь. Оленька обрадованно улыбнулась. Ее простили. Но ведь этого ей мало. Весь мир, окружающий ее, теперь представлялся ей разделенным на две части: на тот, что находится за камышовой изгородью, и на тот, что был у дома, огороженный плетнем. Это было что-то, напоминавшее одиночество. И Оленька ласково, но не без хитрости, проговорила:
— Мама, скажи, ты выполнишь мою просьбу?
— Купить что-нибудь?
— Нет, ты скажи: выполнишь?
— Избаловала я тебя!
— Мама, я завтра опять пойду с Анной Степановной! — И, не ожидая, что скажет мать, побежала к шалашу. Она достала письмо и дописала: «А здесь, бабушка, не так уж плохо». И, предоставив бабушке самой разбираться, хорошо или плохо живется ее Оленьке в Шереметевке, запечатала конверт.
19
Они забрались в высокую траву, в дальний конец опытного поля. Егорушка и Володя играли в шахматы, а Зойка лежала рядом, подперев кулаками подбородок, и дразнила Володю:
— Ты всё-таки боишься Дегтяреву, сознайся. А не боялся, давно бы подстерег и отколотил.
— Отстань, Зойка, не мешай играть, — просил Белогонов.
— И ты, Егорка, не из храбрых, — донимала Зойка Копылова. — Помнишь, как она с коромыслом выскочила?
— Связываться не стоит, — пренебрежительно ответил Егорушки, забирая коня своего противника.
— Это почему не стоит? Может, скажешь, девчонка? — Зойка уже готова была сразиться со старостой юннатов. Она ему покажет — девчонка!
Но Егорушка поспешил ее успокоить:
— Разве она пионерка и юннатка? Показала, что базар ей дороже всего? Показала! У себя на грядке как заядлая огородница что-то мудрит? Мудрит! А с кем сдружилась? С птичьим царем…
Зойка рассмеялась:
— Выходит, была бы она настоящей пионеркой и юннаткой, ты бы ее отколотил…
— Да ну тебя, — рассердился Егорушка. — Только и знаешь, что придираешься к словам.
С той поры, как Ольга Дегтярева перестала ходить на опытное поле, а тем более после сражения на берегу, Зойка вновь почувствовала себя в центре внимания мальчишек, а потому разрешала себе совершенно безнаказанно говорить им обидные вещи. И сейчас, посмеиваясь то над Егорушкой, то над Володей, она вдруг сбила добрую половину шахматных фигур и, прежде чем игроки успели опомниться, оказалась вне пределов досягаемости. Но Зойка хорошо понимала, что Егорушка и Володя ей всё простят, и через несколько минут, когда фигуры были водворены на место, она уже снова крутилась около своих друзей.
— И отчего вы, юннаты, такие скучные? Только и знаете — полив, ученые разговоры, шахматы. Вот возьму и запишусь в футболисты.
— Так тебя и примут.
— Тогда в гиревики пойду.
— И туда не суйся!
— Всё равно от вашей скучищи сбегу. Ну что вы засели за шахматы? Давайте лучше в чехарду играть. Не хотите? А прыгать с шестом через канал будете? Тоже нет. Тогда, может, договоримся: вы сыграете пять партий, потом мы поговорим об орошении, а после Егорушка прочитает лекцию о выращивании помидор на картошке. Вот весело будет!
Володя явно проигрывал партию. И Зойка мешала сосредоточиться, да и было ему не до шахмат. Он хотел поговорить с Егорушкой об Оле Дегтяревой, доказать ему, что она совсем не такая, как он думает, помирить их. Если для Копылова Оленька не была ни пионеркой, ни юннаткой, то для него она была и пионерка и юннатка, которая, к тому же, хорошо пела и знала ноты. Ему казалось, что стоило ей научить его разбираться в нотах, и он смог бы играть на пианино любую вещь: песни, вальсы, марши. Он уже видел себя выступающим на школьном концерте, он уже слышал, как из-под его рук вырываются красивые, захватывающие душу мелодии. И всего этого не было, потому что Егор против его дружбы с Оленькой. Конечно, плохо, что она обманула Егора, отказалась быть юннаткой и подружилась с Колькой Камышом. Но разве Егор не обидел ее: и на базаре и когда собирались снимать Казбека? Володе хотелось всё это прямо сказать в глаза Копылову, но он не решался пойти на этот шаг. Ему хотелось сделать всё так, чтобы и своей дружбой с Егорушкой не рисковать и самому обязательно помириться с Оленькой.
Он так ничего и не сказал. Собрал шахматы, снес их в инвентарный сарай, где они всегда хранились, и направился домой. Теперь, когда Егорушка не был рядом, Володя видел, как много было у него возможностей начать откровенный разговор с товарищем. В который раз осуждал он себя за свою нерешительность и не первый раз думал о том, что не сегодня-завтра он обязательно поговорит с Копыловым. И вдруг Володя увидел перед собой Оленьку. Она стояла у калитки своего дома и, видимо, кого-то ожидала. Володя хотел пройти мимо, но остановился и неожиданно для себя спросил:
— Ты кого ждешь?
— Анну Степановну. Я теперь у нее в звене работаю.
— А помнишь, ноты обещала показать?
— Помню, — обрадованно подтвердила Оленька. — И знаешь, я обязательно вечером зайду к тебе. Хорошо?
— Обязательно! — восторженно ответил Володя. А он-то готовился к решительному разговору с Егором. Теперь отступать нельзя!
Оленька увидела Анну Степановну и поспешила к ней навстречу. Но, прежде чем она успела спросить, куда они пойдут на работу, Анна Степановна вошла в калитку и сказала стоящей на крыльце Анисье:
— А я Ольгу в полевой стан хочу взять. Пусть посмотрит степь, увидит, как канал роют, хлеб убирают.
— Павел обещал прокатить, да всё некогда ему. Только смотри, Анна, чтобы шофер машину шибко не гнал.
Она провожала Оленьку взволнованная, словно никогда даже на день не расставалась с ней.
— Близко к канавам не подходи. И от солнца берегись.
Чудная мама! Чего бояться? Ведь не одна она, а с Анной Степановной.
Оленька и раньше видела степь из окна вагона, из Шереметевки. Но она не ощущала ее так близко, как сейчас, когда Анна Степановна остановила машину на развилке грейдерных дорог, и они пешком пошли в полевой стан. Оленька подбежала к одиноко растущему у дороги подсолнуху, прижалась щекой к золотистому венчику и взглянула в сизую степную даль. В ладожских лесах, рядом с высоченными соснами она не чувствовала себя такой маленькой, затерявшейся, как здесь, в степи, где высоким было лишь голубое небо. Всё терялось в просторах степи, — даже самые огромные массивы хлебов, кукурузы и подсолнечника. Она была так бесконечна, что вдали сливалась с воздухом, а воздух вставал над ней туманной непроницаемой завесой.
Неожиданно из-за косяка еще неубранной пшеницы к небу поднялась высокая лестница. Это была стрела экскаватора, работавшего на трассе канала, и Оленька подумала: «Похоже, словно лезут за водой на небо». А потом, когда они подошли ближе к трассе, Оленька увидела бульдозеры, которые громоздили насыпи и создавали русло канала. И она невольно вспомнила канал, что был на школьном участке. Он показался ей таким маленьким, таким игрушечным, словно там, на школьном поле была страна лилипутов, а здесь, в степи шагали великаны.
С трассы канала они направились в полевой стан. Издали Оленька увидела крытый камышом навес, а вокруг золотистую от зерна поляну. Это был обычный ток. Но на току не молотили, как в Ладоге, а только очищали зерно. Сюда от комбайнов то и дело подъезжали груженные зерном бестарки, а с другой стороны тока очищенное зерно грузили в автомашины, которые тут же уходили в Шереметевку. Оленька еще в Ладоге заметила, что, как только в поле приезжают посторонние, сразу вокруг них собирается добрый десяток людей. По детскому своему разумению, она как-то даже предложила бабушке Савельевне таким образом выявить у полеводов излишнюю рабочую силу, за что бабушка ее поцеловала, назвала умницей, но почему-то совета не приняла. И ее с Анной Степановной окружили люди. Всем хотелось поглядеть на нее, Ольгу, дочь Анисьи: чудно, была потеряна и через столько лет нашлась!
Анна Степановна запрягла в бестарку пару вороных лошадей, посадила рядом Оленьку и погнала в поле. Они подъехали к остановившемуся комбайну, и из бункера в подводу золотым потоком посыпалась пшеница. Когда ехали обратно к току, Оленька завладела вожжами, и Анна Степановна могла убедиться, что девочка умеет управлять конями не хуже, чем она.
— И к комбайну сама подъедешь?
— Подъеду…
Анна Степановна ушла работать к сортировке, а Оленька принимала из комбайна и доставляла на ток зерно. Вскоре она приноровилась делать это так, что, едва комбайн останавливался, она уже тут как тут — подгоняла к нему своих вороных.
Оленька не видела, что в полевой стан приехал Дегтярев. Он тоже не заметил ее. Но Анна Степановна остановила учителя и весело сказала:
— Видали, как ваша крестница на паре коней управляется? Молодец девка, сама зерно возит, словно в степи выросла. И в звене у меня не плохо работает. Во всё вникает, всё-то ей надо знать.
— Мать за себя послала?
— Сама пришла. Есть у нас, Алексей Константинович, всякие ребята. Одних на колхозное поле не загонишь, а другие без него жить не могут.
Дегтярев понимающе кивнул головой, развел руками и рассмеялся:
— Вот и разберись, кто из нас педагог! Я подослал к девочке пионервожатую, пионервожатая — пионерку, — и ничего не вышло. А вы никого не посылали, к вам сама пришла. И пусть работает с вами. А школьное поле не убежит от нее.
— Это мой безобразник обидел Ольгу. Самоуправничает.
Летнее солнце было низко, когда Оленька вернулась в Шереметевку.
День сближался с вечером тихо, незаметно, отдавая ему свое тепло и выстилая перед ним золотистую дорожку близкого заката. Усталая от степного солнца и соскучившись по матери, Оленька бросилась в дом, но там никого не оказалось. Тогда она прошла в свою комнату и, чтобы переодеться после пыльной дороги, раскрыла маленький сундучок. А где ее ситцевое платье? Это платьице было не ахти какое красивое, от многочисленных стирок оно выцвело, но Оленька очень его любила, даже гордилась им. Оно было подарено ей ладожскими овощеводками. Однако платьице она не нашла и, захлопнув сундучок, пошла на огород. Ну как там чувствуют себя ее кочерыги со вторыми кочанами? Вместо своей опытной делянки она увидела разрыхленную грядку с новой рассадой цветной капусты. Зачем это сделала мама? Зачем она погубила ее опыт? Теперь все будут смеяться: «Эй, огородница, хотела Егора перешибить, да не вышло!» Ей хотелось заплакать. Но тут же сквозь слезы улыбнулась, круто повернулась и побежала к Володе Белогонову. Нет кочерыг и не надо! Зачем ей спорить с Егорушкой, когда она в звене Анны Степановны, и снова будет дружить с Володей?
Было совсем темно, когда Оленька вернулась домой. Дома было тихо. Мать еще не возвращалась. На улице, в раскрытых окнах светились яркие огни, расцвеченные красными, голубыми, оранжевыми и желтыми абажурами. А во дворах и топках времянок неярким пламенем горел кизяк, и в воздухе пахло дымом, вечерней рекой и пылью. Оленька взяла книгу, подсела к лампе и опять подумала о ситцевом платье. Где же всё-таки оно? Может быть, в комоде? Она открыла комод и стала перебирать чистое, аккуратно выглаженное белье, какие-то кофточки, куски бязи. Но и в комоде ситцевого платья не оказалось. Не забыла ли она его в Ладоге? Нет, нет, оно было в сундучке.
Услышав стук калитки, Оленька выбежала навстречу матери.
— Ты не видела мое ситцевое платье? Такое в голубеньких цветочках.
— Совсем старенькое? Я его разорвала на тряпки, когда протирала окна…
— Да нет, мама, ты, наверное, не то разорвала. — Оленька даже представить себе не могла, — неужели платье, которое ей подарил колхоз, можно было разорвать на тряпки? — Оно еще совсем хорошее, с васильками.
— Его и разорвала. Только на тряпки и годилось…
— Разорвала? — словно еще не веря, переспросила Оленька и вдруг, прикрыв лицо руками, бросилась в сени. Она забилась в свою комнатушку и горько заплакала: как могла мать уничтожить то, что было для нее так дорого, близко, напоминало о Ладоге и бабушке!
20
Дни Анисьи проходили в бесконечных хлопотах. С утра базар, потом домашние дела: обед, уборка, иногда стирка, и главное — подготовка к завтрашнему базару. Им начинался день, им он и кончался. А тут еще прибавилась забота. Не всякий умеет приготовить товар, а тем более хорошо продать его. Да и не у всякого время на это есть. Вот и обращаются к ней: сделай милость, продай, а уж, что полагается, и себе возьми. Им польза и ей польза.
Анисья была довольна. Всё шло как нельзя лучше. Думала перекрывать крышу камышом, а теперь, пожалуй, можно будет купить шифер. И уже присмотрела Оленьке осеннее пальто. Не какое-нибудь грубошерстное, а бобриковое, бордового цвета, теплое, красивое. А девочка, глупая, расплакалась из-за какого-то старого ситцевого платьица. Правильно под сказал ей Юшка насчет базара. Еще когда-то на трудодень дадут большие деньги. А с огорода вот они, в кармане! По глубокому убеждению Анисьи, ее не имели права тревожить колхозной работой. Разве она не выработала, что ей положено по закону? К выработке трудодней надо, оказывается, тоже умеючи подходить. Надо за зиму весь годовой урок выполнить, а там с весны до осени занимайся своим делом. Это тоже Юшка посоветовал.
Вечерами она подсчитывала выручку. Правда, стопки трешек и пятерок были не так высоки, но уже появилась возможность откладывать деньги на покупку осеннего пальто, на крышу, на всякие текущие и хозяйственные расходы. И еще двадцатипятирублевку, что пойдет на Оленькину сберкнижку к ее деньгам. Поедет Оленька в техникум учиться. А на кого учиться, — есть еще время выбрать.
Она думала о будущем Оленьки. Что ждет ее дочь? Если бы можно было купить для нее счастливую легкую жизнь! А почему нельзя? Только мало она для этого накопила денег. Но будущее Оленьки она ясно себе не представляла. И чем неопределеннее было это представление о будущем дочери, тем больше она любила думать о нем, тем большее значение приобретали в ее глазах огород, базар, удачная торговля.
И впервые по-серьезному задумалась она о Юшке. И сама она не старая, да и Оленьке нужен отец. Нужен, чтобы никто не посмел ее обидеть, чтобы чувствовала себя увереннее среди людей. А Оленьке Павел нравится, по душе, она признает в нем отца. Одно плохо: у шофера всегда много дружков, а на дорогах много буфетов. Ну да ничего, она остепенит его. В ней живы были воспоминания о прежней семье, о Матвее. Семья была для нее чем-то, несущим человеку радость и счастье. И такой она представляла себе жизнь с Юшкой.
Оленька ощущала любовь матери в каждом взгляде, в постоянной заботе, в нескрываемой тревоге — да хорошо ли ее дочке, как бы чего с ней не случилось! Смешная мама. Смешная и хорошая. Уничтоженное ситцевое платьице, перепаханная опытная делянка — всё было забыто. И она не осуждала мать за то, что та не ходит на колхозную работу. Бабушка Савельевна, бывало, тоже неделями сидела дома. Правда, это случалось после уборки, но ведь и сейчас хлеб почти весь скошен, а значит, тоже скоро будет «после уборки».
В это утро, как всегда, Анисья, провожая Оленьку в поле, вышла с нею за ворота.
— Смотри, дочка, не снимай на солнце панамки — голову нажжет, и одна не купайся — в речке омуты есть, сомы ходят.
Вернувшись во двор, она впряглась в тележку и двинулась на базар. Нагруженная до отказа тележка скрипела. Тащить было тяжело. А тут еще упала сверху корзинка. И, ползая по пыльной дороге, собирая помидоры и сокрушаясь об убытках, Анисья подумала: будь с ней Оленька, и корзинку бы придержала да и помогла бы тащить тележку. И вдруг стало очень обидно. Разве она для себя ломает спину на огороде, торгует на базаре? Ей самой ничего не надо. Всё это для Ольги. А Ольга ушла, бросила ее ради чужой Анны Копыловой.
Анисья совсем не думала о том, что девочку может тянуть к себе колхозное поле, что для нее это поле необходимо, как земля для растения, ей казалось, что Оленьку нарочно завлекла к себе звеньевая, завлекла, наверное, прослышав, что Оленька трудолюбива и хорошо разбирается в овощах. Она ревновала дочь к Анне Степановне. Как она смела сманить Оленьку!
После базара Анисья не выдержала и направилась к переправе, хотя отлично знала, что так рано Оленьку ждать нельзя. Она постояла у реки, долго смотрела в далекое степное марево и вернулась домой. Больше к переправе она не выходила, но всё время прислушивалась к шагам, доносящимся с улицы: не идет ли Оленька? День этот тянулся долго, и, поджидая дочь, Анисья еще и еще раз убеждалась в том, что вся ее жизнь в Оленьке и что, прожив без нее десять лет, она не может быть без нее теперь и одного дня.
Оленька вернулась в сумерки. Анисья хозяйничала на кухне, не зажигая огня. В полутьме вечера она двигалась по земляному полу неслышно, словно тень. Оленька, веселая, бросилась к матери, на ходу повернула выключатель, и Анисье почудилось, что это дочь принесла с собою свет.
— Мама, если бы ты знала, как я скучала по тебе!..
Анисья обняла ее. Дочурка весь день скучала и не шла. Значит, рада матери? Глазенки-то как горят! Одной да среди чужих не сладко. А Оленька рассказывала:
— Мама, знаешь, что мы делали? Укладывали в ящики помидоры. Сидели в холодке, песни пели и укладывали. А потом тетя Аня показала мне теплицу. Знаешь, на что она похожа? Настоящий стеклянный дом!
Анисья с трудом сдерживала слезы. Так вот откуда радость Оленьки. Совсем не оттого, что увидела мать. Не ею счастлива, не домом своим. А Оленька продолжала рассказывать, ничего не замечая.
Неожиданно Анисья резко отстранила дочь. Оленька замолчала. Анисья подошла к столу и стала накрывать к ужину. Одна мысль, как будто очень простая и правильная, пришла ей в голову. Она сама виновата, что дочь целыми днями пропадает на колхозных огородах и бахчах. Надо взять девчонку в руки и заставить сидеть дома. Нет, больше она не пустит ее к Копыловой.
— Завтра дома останешься.
— Не могу, мама. И так некому помидоры укладывать.
— Ты мне совсем не помогаешь!
— Но я весь день занята, мама!
Анисья пристально взглянула на дочь. Она готова была сломать непонятное ей упорство девочки.
— Никуда в поле не пойдешь, будешь помогать мне. Огородом живем, на огороде и работай! — И с негодованием подумала о Савельевне: «Не могла, старая, воспитать девочку, так я воспитаю». Но тут же что-то подсказало Анисье: «Нет, Ольгу нельзя неволить, ничего из этого не выйдет. Солнцем ее нажжет, работой наломает, тогда сама прибежит к матери. И пусть идет в степь, пусть ручонки-то натрудит. Чем тяжелее будет там, тем скорее вернется к матери, тем больше свое ценить будет…»
Анисья наблюдала за дочерью. Оленька возвращалась с поля усталая, но всегда довольная. Домашними делами и работой на огороде она ее не загружала. Еще подумает, что руки болят оттого, что работать приходится и дома и в поле. Руки у Оленьки действительно болели, и ломило спину. Но она не жаловалась. Ведь после долгого перерыва так всегда бывает. А Анисья всё ждала, когда Оленька сдастся, наконец. Встанет утром и скажет: «Мама, знаешь, я сегодня на работу не пойду». И выдумает что-нибудь для оправдания: голова болит, или тетя Аня не велела приходить, и, что еще проще, надо узнать, какие учебники нужны в седьмом классе. Ох, знает она этих колхозных помощников!
Ранним августовским утром Оленька, как всегда, встретилась с Анной Степановной у переправы и вместе пошли на участок овощного звена. Участок находился недалеко от реки и путь к нему лежал мимо сараев, где зимой хранился всякий инвентарь, а летом грузили на машины овощи. Здесь Анна Степановна остановилась и сказала Оленьке:
— А ведь сегодня ярмарка.
— Мама с вечера приготовила всякой всячины.
— И мы повезем кое-что.
— А отбирать помидоры на семена?
— Семена завтра!
— Завтра? — переспросила Оленька и вдруг умоляюще проговорила: — Тетя Аня, я лучше здесь останусь.
— Со мной поедешь, — приказала Анна Степановна и добавила: — На колхозной работе капризничать не полагается! А ну, садись в кабинку!
Летняя ярмарка на селе мало чем отличалась от обычного базара. Торговали тем же, чем и всегда: овощами и картофелем, яблоками, арбузами и дынями, мясом и рыбой, початками кукурузы, связками лука. Но на ярмарке товаров было больше, длилась она дольше; ну, еще на ярмарке гуляли, веселились, чего на базаре, как известно, делать не полагалось.
Анисья сидела на своем обычном месте под навесом. День, как казалось ей, начался неудачно. Покупатель выжидал, плохо брал товар. А тут еще людской поток хлынул к коновязи. Ну так и есть, прибыли на ярмарку колхозные машины. Теперь жди, когда там всё распродадут! И вдруг услышала возмущенный голос Юхи:
— Ты глянь, кто там с колхозной машиной приехал! Дочка твоя! Вон и деньги получает!
Оленька помогала Анне Степановне продавать колхозные помидоры. У машин стояла толпа, было шумно, ей приходилось напрягать слух, чтобы услышать, сколько надо получить с покупателя денег. Но скоро Оленька рационализировала свою работу кассира. Она следила за весами и сама в уме подсчитывала деньги. Торговля шла бойко. Вес, деньги, сдача. Это напоминало ей игру в скороговорку, где главное — не сбиться. Вес, деньги, сдача!..
21
Вот и наступили эти дни. На столе пахнущие свежей краской, аккуратно надписанные, без единого вырванного листка учебники и чистые тетради. Всё приготовлено к новым урокам: портфель, вставочка, карандаши. А занятий в школе всё нет и нет. И тогда не знаешь, куда себя деть, и думаешь: когда же, наконец, кончатся, хоть и веселые, но изрядно надоевшие каникулы и наступит первое сентября, которое всегда представляется вступлением в какую-то новую, неизвестную жизнь!
С нетерпением ждала и Оленька начала нового учебного года. Кто знает, может быть, это ее последний год в школе? Но она не задумывалась над тем, что будет дальше, и этот год представлялся ей бесконечным и уходящим куда-то очень далеко. Здесь, в Шереметевке она узнала многое из того, что раньше ей было совершенно неведомо: любовь к матери, тоску по колхозному полю, цену дружбе, которую так легко потерять. Ей и в Ладоге случалось ссориться с кем-нибудь из ребят. Но прежние ее обиды теперь казались ей несерьезными и смешными. Подружка отдала интересную книгу другой девочке, обещала вместе пойти купаться и не пришла, или, играя в лапту, отказалась водить — всё это было сущим пустяком рядом с ссорой с Егорушкой. Он оскорбил ее, заставил бросить юннатовский кружок, лишил товарищей.
Новые переживания, новые чувства принесли Оленьке новые мысли, а с новыми мыслями пришло новое отношение к людям. Она была в обиде на Егорушку, но эта обида не мешала ей любить его мать, ласковую, отзывчивую и всегда, как бабушка Савельевна, неугомонную в работе. Раньше Оленька мерила людей по тому, как они относились к ней. Хорошо — она считала их хорошими, плохо — плохими. Теперь она оценивала их главным образом по тому, как они относятся к другим людям и к своему делу. И потому, хоть она и враждовала с Егорушкой, но, не желая в этом признаться, уважала его. А вот Камыш ей ничего плохого не сделал, но к нему у нее не было уважения. И еще у нее появилось нечто новое. Это было чувство ответственности за свою семью. Она видела, что мать не работает в колхозе, и тем больше и лучше старалась работать там сама. Ведь мать и дочь — это одно, не разделишь.
Оленька ждала начала занятий, как и все школьники. Но в то же время это ожидание было наполнено тревогой. Она не знала школу, где ей предстояло учиться, и школа не знала ее, свою новую ученицу. Как-то встретят ее семиклассники? И всё было бы ничего, не будь вражды между ней и Копыловым. А он, конечно, постарается восстановить против нее весь класс.
Первого сентября рано утром Оленька направилась в школу. Новая, двухэтажная, с черепичной крышей, школа рядом с маленькими глинобитными домами казалась непомерно высокой, а большие квадратные окна делали ее похожей на огромную теплицу. Хотя до начала уроков оставалось не меньше получаса, на школьном дворе было людно и шумно, и сам двор походил на какой-то своеобразный стадион, где одновременно играли в футбол и городки, бегали взапуски, боролись. А трибунами были окна обоих этажей, откуда на разные голоса подбадривали футболистов, восхищались прытью бегунов и что-то кричали и свистели участникам борьбы. Ребята, как могли, проявляли всю свою силу, энергию и жизнерадостность, пользуясь тем, что еще не прозвенел зовущий к урокам звонок.
Оленька миновала двор и вошла в вестибюль. В вестибюле учителя встречали первоклассников. И на мгновение сама Оленька увидела себя первоклассницей, совсем маленькой, такой, какой бабушка Савельевна привела ее в ладожскую школу. Не сразу удалось их разлучить, они обе плакали, словно расставались не на несколько часов, а на долгое, долгое время. Но тогда всё свое горе она забыла после первого урока и первой перемены. А что ждет ее сейчас, на первом уроке, на первой перемене в незнакомой школе, куда она пришла не в первый, а в последний класс?
В классе уже было много народу. Егор Копылов что-то рассказывал окружавшим его ребятам; Володька делал стойку на учительском стуле. Зойка спорила из-за места с какой-то девочкой. Оленька чувствовала себя в стороне от всех и в то же время в центре внимания. За ней наблюдали: одни с удивлением, другие с неприязнью, третьи с любопытством.
Оленька не слышала, как прозвенел звонок. Но по стуку крышек парт, по тишине, наступившей в классе, она сразу догадалась, что вошел учитель, привычно, во-время встала вместе с другими и увидела Алексея Константиновича.
А Алексей Константинович весело окинул класс и проговорил, как будто давным-давно не видел ребят:
— Вот мы и встретились снова. И дальше пойдем вместе, как старые знакомые. Впрочем, есть среди вас и новый товарищ, Ольга Дегтярева. Вы, наверное, уже знаете ее?
— Видали на базаре, — откликнулся Егорушка Копылов.
По классу пробежал смешок. Но Алексей Константинович строго оглядел ряды парт, восстановил тишину и продолжал:
— Впереди у нас с вами, ребята, большие дела. Вы знаете, что сейчас происходит в нашем шереметевском колхозе. Весной колхозные поля получат воду. Будут дожди или не будет дождей, — теперь нам не страшна засуха. А еще вода означает, что мы сможем получать такие урожаи, какие не могла бы дать нам природа. И вот, давайте подумаем над таким вопросом: мы хорошо знаем землю, поливаемую дождем, но хорошо ли мы знаем ее, орошаемую водой? С орошением многое изменится в сельском хозяйстве. Обработка земли, уход за посевами, внесение удобрений. И всё это мы с вами должны знать. И имеем полную возможность для этого. У нас есть свой школьный орошаемый участок, мы провели не мало опытов, кое-что уже узнали. Поэтому я считаю, ребята, что не только юннаты, но и весь класс должен будет ознакомиться с нашим участком, узнать, как ведется полив, что он дает. Не знать орошение — это всё равно, что не уметь копать землю лопатой, запрячь лошадь, спутать овес с рожью.
Егорушка слушал Дегтярева и мысленно спорил с ним. Превратить юннатовский участок в какое-то опытное поле для всей школы? Они об этом уже говорили, и он, Копылов, был и будет против затеи Алексея Константиновича. Кто хочет стать юннатом, пусть вступает в кружок. А так всех водить да учить на опытном поле — только зря время тратить. Многие и не думают работать в колхозе! И даже смеялись над ним: «Егор Копылов мечтает стать агрономом! Огороды, поля, скотные дворы. Вот так мечта! Всё знакомое, и никуда не надо ехать. Ну и размечтался Егорка!» Так, значит, тех, кто над ним смеялся, ему водить по опытному участку? Кольку Камыша водить, птичьего царя! Нет, так не выйдет… Не для них он добывал живую землю и проводил с ней опыты. Пока еще эти опыты секрет, но есть живая земля, своими глазами убедился. Егорушка так увлекся своим молчаливым спором с Алексеем Константиновичем, что даже не заметил, как Алексей Константинович перешел от опытного участка к уроку по зоологии, и даже не сразу почувствовал, как Володя толкнул его в бок.
— Смотри, твоя мать.
— Что? — встрепенулся Егорушка.
— Мать идет в школу.
Егорушка взглянул в окно и только после того, как Анна Степановна исчезла в подъезде, сказал:
— Наверное, пошла просить, чтобы дали ребят убирать капусту.
Егорушка ошибся. Анна Степановна пришла в школу, потому что ее вызвал Дегтярев, а зачем, она и сама не знала. Она поднялась в вестибюль и через длинный школьный коридор направилась к учительской. По обе стороны коридора поблескивали стеклянные двери классов, и из каждого класса доносились голоса, то тихие и порой едва слышные, то громкие, взволнованные, от которых даже слегка звенели стекла. Словно в неведомом лесу — ау-ау — перекликались малыши, солидно вели счет на черной доске второклассники, и кто-то звонко читал:
«Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела, Оглянуться не успела, как зима катит в глаза…»А дальше всё это, знакомое по собственному детству, сменилось со всем непонятными омами, параллелограммами и прочей мудростью старших классов, через которые Анна Степановна провела Егорушку, но до которых сама доучиться не смогла.
В учительской никого не было. Анна Степановна присела на диван и оглядела небольшую, хорошо знакомую ей комнату. Она не раз тут бывала, и тем не менее всё здесь вызывало ее любопытство. Ни в каком другом месте нельзя было встретить такие различные, не имеющие между собой ничего общего, вещи. Тут у большой, чуть ли не во всю стену, географической карты, словно готовясь к перелету через океан, стояли чучела водоплавающих птиц; человеческий скелет, слегка наклонив голову, как будто рассматривал динамомашину; а на столе поблескивали колбы химической аппаратуры, и лежали вперемешку карты севооборотов, гербарии и какая-то картина, изображающая морское сражение, где было столько огня и дыма, что за ними почти не видно было кораблей. Только в школе все эти вещи составляли единое целое, и если бы Анна Степановна кончила семилетку, то она смогла бы сказать, что сейчас шереметевские ребята проходят по физике, географии, химии и ботанике.
Прозвенел звонок. Анна Степановна хорошо знала всех учителей и к каждому из них у нее было какое-то особое чувство материнской благодарности. Вошел невысокого роста, с тщательно выбритой головой математик Антон Антонович, или, как ребята его зовут, «А в кубе»; за ним — учительница географии, маленькая седая Надежда Георгиевна, которую в Шереметевке помнят, когда она приехала учительствовать совсем молоденькой девушкой, как сейчас Катя, и, как Катенька, больше походившая на старшеклассницу, чем на учительницу; вот через учительскую в свой кабинет прошла директор школы Елизавета Васильевна. Ее уважали и побаивались не только ребята, но и родители, и тем не менее называли на селе не совсем почтительно: «дирик». С Анной Степановной она поздоровалась, как с хорошей знакомой, и шутя пригрозила: скоро придет к ее муженьку Семену Ивановичу ругаться, — опять колхоз подводит школу с подвозкой топлива. Похвалила Егорушку, — показал себя очень активным пионером на опытном участке. Наконец вошел Дегтярев.
— Опять Егорка набедокурил? — спросила Анна Степановна.
— Что вы! Учебный год только начался.
— На школьном участке мог.
— Нет. Тут вопрос другой. Пройдемтесь, Анна Степановна!
Второй час у Дегтярева был свободен, и они, выйдя из учительской, направились к школьному опытному полю.
— Я вас просил прийти по одному очень важному делу, — сказал Дегтярев. — Видите ли, в этом году все семиклассники обязаны будут работать на опытном поле. Да и не только семиклассники. Я хочу добиться, чтобы каждый школьник знал, что такое орошение, умел вести полив и понимал, как ведется орошаемое хозяйство…
— Это вы хорошо решили, Алексей Константинович. Ведь только подумать, для иного земля — грязь и больше ничего…
— Сейчас начинается новый учебный год, надо провести выборы старосты, и я думаю о том, — а не помешает ли Егорушка задуманному большому делу?
— Что вы, что вы, Алексей Константинович! Да мой Егорка только и бредит опытным полем.
— Вы знаете, Анна Степановна, что я Егорушку очень люблю. Да, ему очень дорого опытное поле. Но по своей горячей натуре он забывает, что оно не только его, а и других юннатов, всей школы. Он против того, чтобы все школьники работали на опытном поле. Может ли он сейчас быть старостой? Нет! Понимаете, дело требует, чтобы староста был с другим характером, поспокойнее, рассудительнее и, если хотите, не такой ершистый, как Егорушка.
— Мне, матери, трудно вам что-нибудь сказать. Решайте сами.
— Я уже решил. Но как вы думаете, кто из ребят больше всего подойдет в старосты? Вы хорошо их знаете. Они у вас не раз в поле работали.
— Оленьку Дегтяреву, — почти не задумываясь, ответила Анна Степановна: — А если мой Егорка кричать будет, что она, мол, не юннатка, вы ему скажите, — Дегтярева настоящая колхозница! А это поважней! Так и скажите!
— Я подумаю и посоветуюсь с пионервожатой, — ответил Дегтярев, и с чувством уважения к этой женщине, которая шла рядом с ним, тронутый ее материнской тревогой за сына и в то же время ее правдивой строгостью к нему, он поклонился ей и сказал: — Я очень благодарен вам, что вы пришли и помогли мне, Анна Степановна.
22
В большую перемену Зойка разыскала во дворе Егорушку и Володю. Она отвела их в сторону и сообщила таинственно и многозначительно:
— Пошли в класс, есть важное дело.
Зойка была возбуждена, на ее коротко подстриженной голове торчал хохолок, глаза казались даже испуганными. Затащив ребят в класс, она закрыла за собой дверь, подперла ее спиной и проговорила с прежней многозначительностью:
— Ты, Егорка, больше не староста!
— Откуда ты знаешь? — спросил Володя.
— Сама слыхала, как Алексей Константинович говорил об этом с Екатериной Ильиничной.
— Подумаешь! — поспешил сказать Егорушка с независимым видом, стараясь за пренебрежением скрыть обиду. — Пусть выбирают другого.
— Уже выбрали! Честное слово, сама слыхала. Они сидели в пионерской комнате, а дверь была открыта. И знаешь, кого выбрали?
— Кроме тебя, некого! — снисходительно ответил Егорушка. Он уже начал сомневаться, а не разыгрывает ли его Зойка. — Лучше юнната нет!
— Нашли! Ольгу Дегтяреву!
Еще не прошла большая перемена, а весть о том, что Ольгу Дегтя реву Алексей Константинович хочет сделать старостой, облетела весь класс. Все знали о ее ссоре с Егором Копыловым, и потому новость стала предметом самого горячего обсуждения. Больше всех волновалась, шумела, выражала свои чувства Зойка. Сейчас она чувствовала себя борцом за справедливость против учительского произвола, и эту свою новую роль она играла с необыкновенным увлечением. Собрав вокруг себя ребят, размахивая руками, она произнесла короткую, но вдохновенную речь.
— Кто дал право без нас решать, кому быть старостой? Чем Дегтярева лучше Копылова? Пусть он неправильно прогнал ее из юннатов, а почему сама не пришла? Значит, работать не хотела. Вот так староста!
Она была возмущена и в то же время в восторге. Ну и здорово начался учебный год. Такие события!
Неожиданно Зойка растолкала ребят и решительно направилась к Дегтяревой.
Класс притих. Было слышно, как ударился о стекло упавший с верхушки клена пожелтевший лист, потом стукнула крышка парты. Оленька встала и, словно боясь, что Зойка ее ударит, прижалась к степс. И в тишине Зойка спросила:
— Скажи, Дегтярева, правильно ли это, что тебя хотят сделать старостой?
Оленька не отвечала.
— Правильно это? Сама скажи.
Оленька считала, что она не имеет права быть старостой юннатов, она готова была признать это перед всем классом, но не успела она произнести и слова, как между нею и Зойкой встал Володя Белогонов.
— Что тебе надо от Дегтяревой? — Лицо Володи покрылось красными пятнами, его голос дрожал, он готов был защитить Ольгу хоть от всего класса. — А почему она не может быть старостой? Скажи, почему? Егор может, все могут, а Дегтярева нет?
Ему никто не ответил. Даже Зойка молчала. И все, словно сговорившись, поспешили на свои места. Володя, конечно, не рассчитывал на столь действенную защиту. Значит, здорово он обрезал Зойку! И тут же почувствовал на своем плече чью-то руку. Обернувшись, он увидел Елизавету Васильевну.
— Подай свой дневник. — Она села к столу и написала: «Поведение — 4». — В следующий раз будешь слушать звонки.
После школы Егорушка поспешил домой. Ему надо было срочно увидеть отца или мать. Сколько трудодней заработала Дегтярева в овощном звене? Дома никого не было, и он имел полную возможность наедине возмущаться несправедливостью Алексея Константиновича. Да ведь у Дегтяревой в лучшем случае тридцать трудодней! У Кольки Камыша и то, наверное, не меньше. Егорушка подумал о себе. Алексей Константинович не хочет, чтобы он был старостой, и не надо. Но допустить, чтобы старостой была Дегтярева, он тоже не мог. Он твердо решил бороться до конца за правду, а пока, в ожидании отца или матери, залез в шкаф, достал оттуда селедку и хлеб, потом принес из кладовки арбуз и всё это стал уплетать за обе щеки, вспомнив, как однажды отец говорил, что питание как в обороне, так и в наступлении — великое дело. В разгар своей трапезы он оставил арбуз и многозначительно присвистнул. А ведь в классе произошло нешуточное дело! Может быть, скажут — пустяки это? Нет, не пустяки — политика! И побежал на улицу.
Никогда Егорушка не задумывался над тем, что такое политика. В его представлении это было лишь слово, имеющее отношение к газете, к докладу о международном положении, ну и еще оно означало какую-нибудь хитрость, к которой прибегал кто-нибудь из ребят, когда хотел в чем-нибудь словчить. Тогда он сам говорил такому ловкачу: «Ты брось эту политику». Но тут это слово раскрылось вдруг перед ним во всей своей глубине. В назначении Дегтяревой он вдруг увидел страшную угрозу опытному участку, всей юннатовской работе, а значит, и орошению степей. Ему казалось, что неосмотрительное решение Алексея Константиновича обязательно подорвет в людях веру в великое дело. Егорушке хотелось поделиться с кем-нибудь своим открытием. Но с кем? С Володькой Белогоновым? Володька больше не друг ему. Пойти к Зойке? Разве она поймет, что такое политика? А не пойти ли к Петяю? Изобретатель отчаянной счетверенной езды на велосипеде, безусловно, если и не всё поймет, то во всем поддержит его.
Егорушка был старше Петяя чуть ли не на пять лет. Но, несмотря на такую разницу, Петяй считал себя другом Егорушки. Юннатовский староста часто поверял ему секреты, нередко с ним советовался и серьезно обсуждал волнующие его вопросы. Он оказывал Петяю всяческое покровительство. Это было известно во всех младших классах и заставляло даже самых отъявленных забияк быть весьма осторожными с Егоркиным другом. И самым удивительным в этой дружбе было то, что первым пошел на нее Егорушка.
Это произошло в тот день, когда однажды зимой Егорушка катался на коньках и залетел в прорубь. Мокрый, весь обледеневший, он поднимался по речному берегу и вдруг увидел, что его догоняет какой-то малыш. После он узнал, что малыша зовут Петяем и живет он с дедом Мироном. А тогда мальчонка потащил его в низенькую хату на берегу реки, там сразу же затопил чугунку, достал из сундука чьи-то огромные шаровары и бурки, и через час Егорка, как ни в чем не бывало, уже весело болтал со своим новым маленьким другом. Петяй рассказывал гостю всякие истории про повадки лошадей, про нравы всяких степных зверей и птиц. Волк, он ведь боится человека, а вот где человек селится, туда и волк за ним тянется, чует поживу. Только он не нападает на стадо близко от своего логова. Хитрющий, с соседом боится задираться. А какие норы у сусликов! Вот интересно! Два выхода, отдельная кладовка для хлеба, спальня, даже есть куда до ветру ходить. А вот еще интересно, как кони с волками дрались!
Егорушка слушал, забыв, что он только что пережил ледяное купание в проруби и что Петяй намного младше его. Правда, через некоторое время выяснилось, что Петяй лишь пересказывал слышанное им от деда Мирона, но маленький Петяй остался для Егорушки знатоком многих вещей, которые ему не были известны. К тому же Петяй познакомил Егорушку с дедом Мироном. Так возникла дружба, в которой Егорушка чувствовал себя то старшим и опекающим Петяя, то младшим, опекаемым дедом Мироном.
Петяй сидел на крыльце и стругал кухонным ножом какую-то дощечку. Егорушка подсел к нему и сказал:
— Слыхал, у нас в седьмом какое дело получилось?
— Изобрели что-нибудь?
— Да ты понимаешь, что значит политика? — спросил Егорушка.
— Слыхать слыхал, — откровенно признался Петяй, — а чтобы разобраться, — времени не было. Сам знаешь, я велосипед такой изобретаю, чтобы по снегу ездил… Велолыжи! Понимаешь?
Егорушка поднялся и разочарованно сказал:
— Пойти, что ли, к деду Мирону?
Дед Мирон сидел на низеньком сапожничьем табурете с шилом в руке и с зажатым между коленями сапогом. Старик, как всегда, работал в очках, и они едва держались у него на самом кончике носа. Так удобней было смотреть за дратвой и вколачивать гвозди в подметку.
Дед Мирон встал, похлопал гостя по плечу и, разминая затекшие ноги, подошел к плите.
— Так как, хлопцы, борщ хлебать будете?
— Спасибо, — отозвался Егорушка.
— Поешь, тогда и говори спасибо. Еда, она, брат, не только чтобы сытым быть, но и для компании.
Дед Мирон поставил на стол большую миску борща, положил перед ребятами ложки и скомандовал:
— Справа по порядку номеров рассчитайсь! Бери полней, ешь храбрей. — И повернулся к Егорушке. — Слыхал я, знатные хлеба на школьном участке нынче были. Всё хотел заглянуть, да никак времечко не урвать было. То пастьба, то с тока на ток, как ревизионной комиссии, пришлось ездить, а собрался — всё сжали. И какие хлеба, не видел, да и премию тебе не мог вручить…
Дед Мирон подошел к сундуку, открыл крышку и достал резиновые сапоги.
— Вот возьми от меня в подарок.
— Не надо, дедушка.
— Как так не надо! Долго ли ноги застудить!.. Бери, бери, тебе как раз в пору.
— Петяю отдайте, — пытался отказаться Егорушка.
— Ему в воду не лезть, а по грязи и кожаные хороши.
Дед Мирон снова начал сапожничать, а Егорушка, подсев к его низенькому столику, спросил:
— Дедушка Мирон, когда неправильно награждают, получается вред политике?
— Беспременно, — ответил старик, вколачивая в подметку гвоздь. — Шутка сказать — награда и ни за что!
— Вот и я говорю, — поднялся Егорушка и, попрощавшись с дедом Мироном, вышел с Петяем на крыльцо. Он был весьма доволен резиновыми сапогами, что подарили ему, а больше всего, конечно, тем, что нашел подтверждение своим мыслям о политике. Ему хотелось отплатить чем-то хорошим деду Мирону, и, выйдя на улицу, он спросил провожающего его Петяя:
— Ты уроки выучил?
— Выучил…
— Может, объяснить что-нибудь надо? Главное, по русскому не отставай. Как с ним дело хорошо, так и по другим легче.
Было уже совсем темно, когда Егорушка вернулся домой. Он зажег настольную лампу и сел за уроки. Но больше думал о Дегтяревой. Не быть ей старостой юннатов! Он представил себе, как будет Дегтярева сидеть за партой, растерянная и пристыженная, и ему стало даже жаль ее. Стоит ли затевать всё это дело? Но если не он, то кто же тогда? Значит, уступить несправедливости? Эх, не догадался он спросить у деда Мирона, — как выбрать между правдой и жалостью!
23
В седьмом классе шла география. Старая учительница Надежда Георгиевна водила указкой от одного полушария к другому, переносилась в мгновение ока из Европы в Америку, переплывала одним взмахом руки океаны. В большом, необъятном мире, имя которому Земля, она чувствовала себя, как дома, и во время уроков ребята забывали, что Надежде Георгиевне под шестьдесят, что ходит она с палочкой; им она казалась смелой путешественницей, идущей по следам Дежнева, Пржевальского, Миклухи-Маклая, по следам открывателей еще неведомых тайн огромной земли.
Но самым удивительным в Надежде Георгиевне было ее уменье в огромном земном шаре, среди континентов и государств, находить место близкой и знакомой ребятам степи. Эта степь больше государства Люксембург и даже Бельгии. А хлеба в этой степи сеют больше, чем в обоих этих государствах. Вот так степь! Вот так Шереметевка! Удивительно, почему есть Пулковский, Лондонский, но нет Шереметевского меридиана?
Однако на этот раз Егорушку совсем не интересовали морские пути, соединяющие отдельные континенты. Он думал о предстоящем классном собрании и свергал Ольгу Дегтяреву с высоты, на которую ее собирался вознести Алексей Константинович. Он не сомневался в своей победе, но всё же волновался. Поди угадай наперед, как поведут себя ребята! Вон Володька во время половодья бросился спасать плывущего на льдине зайчонка, а потом гнался с камнями за убегающей собакой. По себе он знал, что ребята бывают то безжалостные, то очень жалостливые. А что такое политика, — не понимают.
Наконец прозвенел звонок, в класс вошел Дегтярев, и началось собрание. Оленька, смущенная, сидела на своей парте и боялась поднять глаза, чтобы не встретиться взглядом с кем-нибудь из одноклассников. Она знала, что класс против нее, да и сама она считала, что не может быть старостой. Вот уж посмеются над ней! Может быть, даже Зойка в своем кукольном театре представит: «Не хочу быть просто юннаткой, хочу быть старостой на опытном поле». Но что она сделала? Почему над ней должны смеяться? Она ничего не просила, ей ничего не надо, только бы не трогали ее. Если бы над ней посмеялся один Егорка или Зойка, она бы нашла, чем им ответить. Но перед всем классом она чувствовала себя совершенно безоружной. Для нее и в детдоме и в колхозе коллектив всегда был чем-то очень значительным и большим, и при всей своей смелости она даже не могла себе представить, как идти против всех. Но почему против нее весь класс? Что она сделала плохого? А что сделал плохого Егор Копылов? И словно в ответ, она услышала, как Алексей Константинович сказал:
— Ребята, нам предстоит выбрать старосту опытного школьного поля. Но прежде всего надо отметить хорошую работу нынешнего старосты юннатов — Егора Копылова. Если бы не юннаты и их староста, мы бы сегодня не могли говорить об учебе на опытном поле всего класса, всей школы.
Егорушка взглянул на Зойку. Молча он спрашивал: «Ты что же всё наврала?» Она смущенно, но так же молча ответила: «Честное пионерское, сама слышала». Егорушка снова метнул молчаливым взглядом: «Ладно, после собрания поговорим, попадет тебе». Зойка презрительно пожала плечом: «Не грозись, не боюсь тебя», — и отвернулась.
А Дегтярев продолжал:
— Я думаю, что юннаты и в дальнейшем будут вести свою опытную работу, только не маленькой кучкой, а большим школьным коллективом.
— А говорили, Егора Копылова погонят из старост, — разочарованно проговорил Колька Камыш.
— Никто не собирается гнать Копылова. Он этого не заслужил. Наоборот, в приказе директора школы будет отмечена его хорошая работа… Другое дело, кого сейчас мы выберем старостой. На опытном поле будут старосты пятого, шестого и седьмого классов, от седьмого главный. Но, прежде чем произвести выборы, я бы хотел задать вопрос Копылову: скажи, ты попрежнему считаешь, что опытное поле должно быть юннатовским, а не общешкольным?
— Вы нам отдельно выделите участок, — ответил Егорушка.
— Ты пойми, Копылов, я не могу отделить юннатов от всех школьников, — мягко сказал Дегтярев. — Мне надо не отделять вас, а опираться на вас. Согласен со мной?
— Нет.
— А ты всё-таки подумай…
— Я думал, — хмуро повторил Егорушка, — всё помнут да потопчут.
— Тогда, ребята, сами судите, — может сейчас быть Егор Копылов старостой общешкольного опытного поля?
— А вы кого советуете, Алексей Константинович? — спросила Зойка и торжествующе взглянула на Егорушку: «Слушай, кого назовут!»
Дегтярев не сомневался, что класс хорошо осведомлен о всех его замыслах, и ответил громко:
— Я знаю, Горшкова, почему ты это спрашиваешь, и ты не ошиблась… По-моему, очень хорошим старостой будет Ольга Дегтярева. Но почему, как ты думаешь? И, не ожидая ответа, продолжал: — Давайте, ребята, говорить откровенно, по-серьезному. А начнем с приезда Ольги Дегтяревой в Шереметевку. Приехала пионерка, юннатка, пришла на опытное поле и вдруг поссорилась со старостой. Не будем тут разбирать, кто прав, кто виноват. Важно другое. И не то, что кажется тебе, Копылов. С матерью вышла на базар, у себя на огороде опыты ставила. Как ты на нее смотрел? Базарница приехала, приусадебщица! Какая это пионерка! Не нужна такая юннатам!
— А что? Разве неправда? — вскочил с места Егорушка.
Дегтярев подождал, когда Егорушка сядет, и продолжал:
— Правда не то, что кажется, а что есть на самом деле. Вот эта самая базарница Ольга Дегтярева, которую Копылов не пустил на опытное поле и которую никуда не посылала мать, не усидела на огороде и пошла работать в степь. Да не ради баловства, на часок-другой да поскорее обратно, а с утра до вечера. Хорошо, если бы все были такие приусадебщицы! Выходит, друга принял за недруга, преданную колхозу пионерку — за усадебщицу! Ты пойми, Копылов: важно, чтобы человек работал в колхозе, любил свое колхозное, связывал с ним свою жизнь!
Егорушка потерпел поражение. Старостой была выбрана Ольга Дегтярева. Пусть так, но он остался при своем мнении. Опытное поле не должно быть общешкольным, а старостой не должна быть Дегтярева. Мало ли почему она пошла работать! Может быть, за мать или для минимума трудодней. Знает он все эти хитрости приусадебщиков.
Он вышел из школы один, после всех, вышел, погруженный в свои невеселые думы и даже не заметил, что впереди него идет Алексей Константинович и пионервожатая Екатерина Ильинична. И он не мог слышать, как Катя сказала:
— А всё-таки жалко Егорку…
Дегтярев не ответил. Догадывается ли Катя, что он потерял больше, чем кто бы то ни было? Хорошего помощника и настоящего юнната. Ну ничего, они еще будут друзьями!
24
Сентябрь был по-летнему теплый и ясный. Он ничем не отличался от последних дней августа. А всё же чувствовалось, что наступила осень. На старых ивах уже начала опадать листва, и нет-нет, а сквозь солнечное тепло пробивалось дыхание еще далеких, но уже наступивших на севере холодов. И степь вокруг стала голой, пустынной, какой-то очень грустной. А может быть, такой она лишь казалась Егорушке? Когда на душе хорошо, — и осень, что весна. А на душе грустно, — и природа грустна, будь на улице самый развесенний день.
Егорушка был обижен, очень обижен. Незаслуженно вознесли Дегтяреву и еще более незаслуженно унизили его. Нет, видно, надо искать других друзей и проявить себя в чем-то другом. Не стать ли физкультурником? Футболистом! И не каким-нибудь защитником, а обязательно вратарем или нападающим. Но какой там футбол, когда вот-вот начнутся осенние дожди! Нет! Погодите, придет зима, и он всем покажет, что значит Егор Копылов. Вместо своих самоделок он купит новые лыжи и станет лучшим лыжником…
Но, подумав так, он не почувствовал облегчения. Наоборот, стало жалко самого себя. Значит, больше он не пойдет на опытное поле, не поднимет щит и не увидит, как, пенясь и играя, побежит вода по каналу. Ничего не будет знать и видеть: как прошла влагозарядка, как посеют озимые, какие будут всходы.
Вернувшись домой, Егорушка взял резиновые сапоги и направился к деду Мирону. Он положил их перед стариком и сказал:
— Возьми, дедушка, обратно, я теперь на поливе не буду работать.
На улице его догнал Петяй и молча зашагал рядом со своим другом. Без уговора они свернули к реке и по берегу вышли в степь.
— И я уйду из юннатов, — сказал Петяй.
— Я вот тебе уйду! — пригрозил Егорушка.
— А ты ушел?
— У меня конфликт!
В степи, совсем близко, работал бульдозер. Он сдвигал землю к каналу и был похож на какое-то огромное существо, которое то взбиралось на насыпь, то отступало от нее, словно было не в силах преодолеть высоту.
Егорушка оставил Петяя и зашагал к бульдозеру. Ну, конечно, в кабинке был знакомый бульдозерист. А через минуту Егорушка уже сидел рядом с ним, с восхищением разглядывая рычаги и приборы управления, и допытывался:
— А нельзя стать бульдозеристом, не окончив семилетки?
— Никак нельзя.
— Ну, а если похлопотать? Через батьку если?
— Закон, брат, есть закон. Большому не перешагнуть, маленькому не подлезть.
— Жалко.
— А что так?
— Не сработался с классным воспитателем, — вздохнул Егорушка и с завистью посмотрел на бульдозериста, двинувшего на насыпь свою машину.
А Петяй уже представлял себе, как его друг научится управлять бульдозером и как он будет рассказывать про него ребятам: «Егорка, значит, как нажмет на рычаг — и машина пошла. Егорка, значит, управляет, а бульдозерист сидит рядом, покуривает да перевыполнение записывает». Что поделаешь, когда не можешь утешить друга, приходится утешать самого себя.
А над Егорушкой нависали новые тучи.
Всё началось с того, что до начала занятий в класс внесли стулья и расставили их у окна. Класс насторожился и присмирел. Предстоит какая-то особая контрольная работа? А может быть, ждут из другой школы учителей, и Алексей Константинович проведет показательный урок? Чтобы в последнюю минуту класс не был застигнут врасплох, в школьный коридор для наблюдения за учительской была выслана глубокая разведка. Однако разведка, в лице Володи Белогонова, вернулась ни с чем, а сигнал, который после звонка подала Зойка, означал: ничего не понимаю, но сидеть смирно и быть начеку!
Едва Зойка успела занять свое место, как в классе появилась Елизавета Васильевна, за ней математик Антон Антонович, потом учительница географии Надежда Георгиевна, и, наконец, последним вошел Алексей Константинович. Такого наплыва учителей, если не считать дней экзаменов, семиклассники еще не видели! Что случилось? Чем это вызвано? Но вот все сели. Только Алексей Константинович продолжал стоять у стола. Стало очень тихо. И тогда он проговорил:
— Сегодня мы с вами будем говорить об орошении.
Первое занятие, связанное с изучением орошения, было решено провести в седьмом классе. Строго говоря, это занятие вряд ли можно было назвать первым. Ведь орошаемый школьный участок уже многому научил ребят. Но, во-первых, в работе школьного участка принимали участие лишь юннаты, а во-вторых, каждый из них хорошо знал главным образом свои опыты.
Дегтяреву хотелось, чтобы на этом первом занятии школьники почувствовали всю важность того нового, что отныне входит в их жизнь и будет иметь большое значение для всей их дальнейшей судьбы. Ничто не должно разделять школу и жизнь, они должны быть едины. Жизнь наполняет собой учебу, а учеба становится жизнью маленьких граждан страны, познающих опыт и законы близкой, окружающей их природы. Так думал Дегтярев и продолжал свой урок, слегка волнуясь не столько оттого, что каждое его слово проверяется другими учителями, сколько тревожась, понятно ли он рассказывает ребятам.
— Вы живете в счастливое время, — продолжал он. — Я хорошо помню, как, бывало, говорили: «Да чего с него спрашивать, он недавно из деревни! Что он там видел?» А сейчас говорят: «Ты же из колхоза, должен понимать». Сейчас сельское хозяйство — средоточие огромной техники и самых различных наук. На шереметевских полях работают трактора, сеялки, самоходные комбайны. Мы молотим на токах электричеством, мы подкармливаем посевы с самолетов; сельское хозяйство — это современная физика, химия, биология. А какие великие возможности открывает перед нами орошение!
Егорушка слушал Алексея Константиновича, не спуская с него глаз. Он жадно ловил каждое его слово. Привычный, будничный мир, который окружал Егорушку и который он порой не замечал, вдруг стал таким значимым и огромным, словно вся жизнь на земле сосредоточилась в Шереметевке. Но чем больше захватывал Егорушку этот новый, раскрывающийся перед ним мир, тем острее он переживал всё, что произошло с ним за последние дни. Работать бы и работать ему на опытном поле. А он отказался, решил, что не будет юннатом. А Алексей Константинович, как казалось Егорушке, дразнил его: он одной рукой распахивал перед ним двери в неизведанное и прекрасное, а другой отталкивал от двери, не пускал войти в новый, раскрывшийся перед ним мир. И в Егорушке росло страстное желание доказать Дегтяреву, что он, Егорушка, не сдался, еще поборется с ним. И это чувство протеста достигло своей высшей точки, когда Дегтярев заговорил об орошении, рассказал о не обыкновенной делянке, где вырос очень большой повторный урожаи овощей. Егорушка громко сказал:
— Это от живой земли такой урожай.
— Живой земли? — переспросил Дегтярев. — Я такую в науке не встречал.
— Ну и что ж, — возразил Егорушка. — В науке нет, а у Волчьего оврага есть.
— Ты поменьше придавай веры всяким разговорам. Нет живой земли…
— Нет есть!
Неожиданый спор, возникший между Дегтяревым и Егорушкой, явно затягивался, и Елизавета Васильевна сочла необходимым в него вмешаться. Она встала, подошла к столу и твердо сказала:
— Копылов, изволь помолчать! А вас, Алексей Константинович, прошу продолжать урок…
Елизавета Васильевна дала понять Дегтяреву, что она явно не одобряет его спор с учеником, что он нарушает методику ведения урока. Но у Алексея Константиновича было на этот счет свое мнение. Он считал, что лучше нарушить методику и доказать ошибку ученика, чем сохранить методику и оставить класс в полном недоумении: прав ли учитель, если, ничего не доказав, он заставил ученика замолчать. И потому Дегтярев, вместо того, чтобы продолжать урок, начал объяснять химический состав почвы. Но Егорушка снова его перебил:
— Состав составом, а это живая земля!
— Ты не понимаешь, о чем говоришь, — нахмурился Дегтярев.
Егорушка побледнел. Это он не понимает, о чем говорит? Да он сам ходил к Волчьему оврагу, сам нарыл черной земли, рассыпал ее на делянке под овощи. И там, где была живая земля, вон какой второй урожаи собрали! Так кто же имеет право сказать ему, что он не понимает, о чем говорит? И, забыв обо всем, Егорушка крикнул:
— Сами вы не понимаете!
Крикнул и тут же осекся. Осекся, растерянно оглядел класс и сраму понял, что сделал что-то непоправимое. И испугался наступившей тишины. Что же теперь будет? Только бы скорее прошло это зловещее молчание.
И в тишине он услыхал, как Елизавета Васильевна, словно задыхаясь, произнесла:
— Копылов, выйди из класса!
Егорушка вышел, захлопнул за собой дверь и остановился в коридоре, не зная, что же теперь ему делать, куда идти. Домой, в степь, на речку? А может быть, к Волчьему буераку, где он нашел эту самую живую землю?
Егорушка ждал, — его вызовут в учительскую, сообщат отцу, начнут прорабатывать на пионерском сборе. Он ко всему готов и меньше всего расположен к раскаянию. У него было такое ощущение, что он совершил, если не совсем позволительное, то во всяком случае необыкновенное и нечто близкое к героическому. Поспорить с учителем, да еще при всем классе да к тому же на глазах у всех учителей и самого «дирика»! Он твердо решил не отступать и стоять за правду. Какова его правда, он вряд ли мог бы сказать. В голове его всё перемешалось: вражда с Оленькой Дегтяревой, недовольство Дегтяревым, который сделал ее старостой, обида на класс, вставший на сторону Алексея Константиновича, злость на Елизавету Васильевну, выгнавшую его с урока.
Однако никто его никуда не вызывал, не прорабатывал, и чувство единоборства одного со всеми скоро сменилось чувством отверженности. Вокруг словно образовалась пустота. Всё отвернулось от него, осуждало, не принимало к себе. И хоть он, как заученное, еще повторял одно и то же: «никого я не боюсь, ничего мне не страшно», в нем вдруг пробудилось страстное желание вернуть потерянное. Он бросился искать защиты у отца. Ведь его отец — председатель колхоза!
25
Егорушка шел к колхозной конторе. Он не представлял себе, что скажет отцу. Но он уже видел его стоящим рядом с Алексеем Константиновичем, и даже чудилось, как тот отвечает отцу: «Не беспокойтесь, всё будет в порядке». Что под этими словами надо понимать, Егорушка и сам не знал. Самым важным было вмешательство отца. А остальное всё само собой устроится, и беда его минует. Только в правлении ли отец? Не уехал бы в степь!
Еще издали Егорушка увидел у ворот председательскую бричку. Он облегченно вздохнул. Теперь еще надо, чтобы у отца не было никакого заседания. Егорушка заглянул в окно председательской комнаты. В комнате, кроме отца, никого не было. Отец стоял у карты орошения шереметевских полей и, слегка согнувшись, смотрел на нее задумчиво, словно видя что-то свое, особое, никем другим не замеченное.
Егорушка вдруг почувствовал, что отцу не до него, и, как часто, бывало, говорил ему, так и сейчас скажет: «Разбирайся-ка ты сам в своих делах, а у меня свои заботы!»
Егорушка отошел от окна и медленно побрел к дому. Он больше не надеялся на чью-либо защиту. Но неужели ему даже некому рассказать о своей беде? Неужели никто не поддержит его? Ему вспомнились его маленькие детские горести… Отец подарил ему заводной автомобиль, а он перекрутил пружину. Тогда его утешала мать. Подумаешь, пружина сломалась, но ведь автомобиль-то цел! А потом первая двойка в школе. Он говорил себе: двойка ведь одна, а зато три четверки, две пятерки. Но эта арифметика мало помогла ему. Он был безутешен. Тогда мать, посадила его рядом с собой и сказала: «А мы сейчас прогоним твою двойку».
Они стали учить стихотворение. То он читал, то она. Ее голос был ласков, и каждое слово, которое она произносила, хорошо запоминалось. А потом она сказала: «Теперь мы твою двойку прогнали». И верно, на следующий день он получил за стихотворение пятерку! Он хорошо помнил всё это. И в ту самую минуту, когда Егорушке казалось, что никто его уже не поддержит, он подумал о матери. Как он мог забыть о ней? Она всегда его выслушивала, всегда была ласкова с ним, — так к кому, как не к ней, он должен пойти? Пойти, чтобы услышать ее доброе слово и не чувствовать себя беспомощным и одиноким.
Он застал мать дома. Она только что приехала на машине с поля. Взглянув на сына, встревоженно спросила:
— Что у тебя?
Он опустил голову и тихо ответил:
— Все на меня. А за что? — И рассказал, что произошло на уроке — о том, как он поспорил с Алексеем Константиновичем.
Он ждал ее утешающего слова, казалось, что вот-вот он услышит: «Не кручинься, сынок, мы сейчас найдем, как горю пособить». Но мать молчала. Ему чудилось, что без слов она шагнет к нему, обнимет его голову, проведет рукой по волосам, и он услышит, как бьется ее сердце ровно и спокойно, и так же ровно и спокойно станет у него на душе. Но она стояла, не двигаясь с места и опустив руки. Ну, значит, она молча смотрит на него, улыбается своими большими ласковыми глазами, и в ее взгляде он найдет поддержку и помощь.
Егорушка поднял голову. Мать смотрела на него сурово, и в ее взгляде не было ничего, что говорило бы о сочувствии. Но ее глаза скрывали то, что было у нее на душе. Ей хотелось прижать к себе Егорушку, утешить его, сказать, что не так велики его горести, как это ему кажется. Кто-кто, а она знала, что Егорушка честен и правдив, она понимала, что все его беды от мальчишеской заносчивости, и был бы не большой грех, если бы она приласкала его, сказала, чтобы он не очень-то сокрушался, что всё обойдется как нельзя лучше. Но она чувствовала и другое. Как маленький зеленый росток пробивается сквозь землю, так в эту минуту растет от детства к юности ее сын. И от того, как она направит его в жизнь, будет во многом зависеть, каким он будет в этой жизни: стойким в бедах, умеющим отвечать за свои поступки, правдивым перед людьми. И, подавив в себе такое понятное и простое желание утешить сына, она сказала ему строго:
— Не все против тебя, а ты против всех! И это перед тем, как вот вот в комсомол вступать. Нехорошо. Что думаешь делать?
— Не знаю, — ответил Егорушка и почувствовал, как на глаза навернулись слезы. — Не знаю.
— Тогда слушай меня. — Она была попрежнему сурова и требовательна, и она приказала ему: — Иди к Алексею Константиновичу. Он скажет тебе, что ты должен сделать! Ступай!
26
Жизнь в школе начиналась с первыми проблесками утра. Еще вокруг всё спало, редко, редко где в Шереметевке горели огни, а на широкое крыльцо, кряхтя, поднималась школьная сторожиха. Звеня ключами, она открывала двери, входила в вестибюль и, включив свет, заводила стенные часы, словно давая завод школе на весь день. Часы били с хрипотцой шесть раз, и следом, словно пробуждаясь, где-то в коридоре начинали поскрипывать половицы. Поздней осенью и зимой вслед за сторожихой в школе появлялись две истопницы, они же уборщицы и нянечки в раздевалке. А когда заканчивалась топка печей и из раскрытых классов веяло теплом, из своей квартиры показывалась Елизавета Васильевна. Она медленно проходила по коридору, и ничто не могло ускользнуть от ее взгляда. Хорошо ли убраны и проветрены классы? Есть ли у досок чистые тряпки и мел? Подготовлен ли к общешкольной утренней зарядке физкультурный зал? В школе всегда был порядок.
Но эта жизнь школы до начала занятий мало была известна ребятам. Ее, пожалуй, хорошо знал лишь сынишка истопницы, которому в сильные морозы приходилось помогать матери топить печи и носить из сарая лузгу или уголь. А для других ребят школьная жизнь начиналась с той минуты, когда они приходили в раздевалку, бросали нянечке пальто, пиджак или шубейку и, независимо от того, было ли до начала урока полминуты или полчаса, неслись сломя голову в класс.
Школьная жизнь — это тишина уроков и шум перемен, горячие споры и задушевные беседы. Чего только не изведаешь за долгие школьные годы: радость дружбы и горечь мимолетной обиды, веселье пионерского похода и тайные слезы после полученной и почему-то всегда кажущейся незаслуженной двойки. И очень серьезная вещь — эта школа! Тут перед уроком истории какой-нибудь Петяй с товарищем обсуждают ошибки Наполеона. И тот, который грозил всему миру, как бы стоит незримый рядом и слушает, как должное, поучение ребят. И ничего не поделаешь! А рядом с историками ведут свой разговор географы. Их порой прерывают естествоиспытатели. В школе чуть ли не все науки: русский язык и литература, химия, ботаника и зоология, математика и физика. Тут своя академия, где каждый должен овладеть всеми ее знаниями, чего, как известно, не требует даже большая академия наук от своих ученых. И гудит, и шумит, и жужжит, словно улей, эта маленькая академия:
— На Чудском озере русские разбили ливонских рыцарей.
— Квадрат первого числа плюс удвоенное произведение…
— По реке Амур проходит граница между Китаем и Советским Союзом.
И в то же время кто-то в кого-то запустил бумажную стрелу, кто-то в разгар урока заиграл натянутой струной, а кто-то, забыв об уроке, смотрит в окно и мечтает о будущем, которое сам себе еще смутно представляет. Нет такого класса, где бы не витала легкокрылая детская мечта. И нет такого урока, на котором бы не раскрывались перед ней души ребят. И всё это вместе укладывается в одно, очень короткое слово «школа»!
В эту школьную жизнь и втянулась Оленька. Она училась, подружилась с Зоей, Володей и другими одноклассниками, снова стала юннаткой. Временами она как бы забывала, что учится в шереметевской школе. Всё вокруг было, как в Ладоге. Такие же школьники, учителя, а главное, ома сама стала такой, какой была в Ладоге: спокойной, веселой, радостной. И чем больше она сближалась с окружающей ее школьной жизнью, тем всё чаще и чаще думала: «Ну какой я была дурехой, когда приехала в Шереметевку! Со всеми поссорилась, ото всего отгородилась, даже свои опыты на огороде затеяла». Теперь ей было ясно, как должна она была поступить с Егором Копыловым. Ссора — ссорой, а она всё равно должна была работать на опытном поле. И это воспринималось ею как открытие какого-то неведомого ей ранее закона жизни. Она даже записала его. Правда, в тетрадке по алгебре, но от этого он не потерял в ее глазах своей значимости. «Никакая личная ссора не должна отрывать пионера от общего дела».
— Дегтярева, что ты делаешь? — спросил Антон Антонович и заглянул в ее тетрадку.
— Извлекаю корни, — машинально ответила Оленька.
Антон Антонович взял тетрадь и прочитал открытую Оленькой жизненную мудрость:
— Корень, пожалуй, извлечен правильно, — улыбнулся он, — ищи теперь неизвестное.
А неизвестным для Оленьки было многое. Прежде всего сама она: почему, например, она стала часто думать о Егорушке? Он совсем ей не нужен, а она всё-таки думает о нем.
После школы Оленька возвращалась домой и готовила уроки. Она сдружилась с Володей Белогоновым и любила бывать в его доме. Володю она учила читать ноты, пела под его аккомпанемент. Часто вместе обсуждали самые волнующие вопросы: о долге, дружбе, чести. Ох, уж эти извечные проблемы для всех, вступающих в юность! Сколько поколений их решало, а вот решить до шереметевских семиклассников не смогли! А может быть, и им не суждено их решить? Конечно, каждый обязан хорошо учиться! Но кто это выдумал отнести учебу к долгу? Настоящий долг — захватывающий и героический, как подвиг Зои Космодемьянской. А разве настоящая дружба только в том, чтобы помочь товарищу выучить уроки или прочитать ему наставление, как вести себя в классе? А что такое честь? Неужели и здесь не обойтись без этой самой хорошей учебы? Стоит кому-нибудь получить двойку, — и сразу заговорят о чести класса, пионерского отряда, юннатовского кружка. Да что же это такое? Долг — учеба, дружба — учеба, честь — учеба. Всё учеба! А где же настоящая жизнь — героические поступки, захватывающие испытания, увлекательное вторжения в неведомее?
И вдруг сквозь эти мысли пробивалась тревожная дума. Оленька помнила, как в Ладоге говорили, что одним огородом не проживешь, и спрашивала себя: «Когда же мама пойдет на работу? На что же она надеется?» Но так как ответить на этот вопрос не могла, то волей-неволей приходила к выводу: мама лучше знает, что делать.
27
С тех пор, как начались занятия в школе и Оленька перестала ходить на участок Анны Копыловой, у Анисьи исчезла обида на дочь. Теперь она не ревновала ее к звеньевой и даже сама себя упрекала: и чего ради расстраивалась по пустякам? Скучно стало без подружек — вот и потянуло на люди!
И она была очень рада, что наконец-то Егорке Копылову попало в школе. Довоевался с базаром, негодник! Нынче базар в почете. Навес обшили досками, чтобы ветром не обдувало, кругом вымостили, обхождение самое лучшее. А бывало еще товар не разложишь, а сборщик кричит: «Плати!». Участковый тут как тут, подозрительно смотрит, комендант норовит оштрафовать. А сейчас не то. Пожалуйста, милости просим, торгуйте! Вежливость, уважение, почет. Даже приятно. Сидишь за прилавком и чувствуешь себя, как на важной службе. Одно плохо. Ох, плохо! Что и делать, ума не приложишь. Ночью не спишь, всё думаешь и думаешь. Вот уж верно говорят: не велика разница между умным и дураком: что умному ясно сегодня, то дураку — через две недели.
Впервые с тех пор, как приехала Оленька, Анисья не готовилась к базарному дню. Днем обошла все гряды — какие уж там гряды: всё рыто-перерыто. Посчитала, сколько самой потребуется на зиму, и увидела: продавать нечего, хоть покупай! Как же дальше жить? Выходит, без колхоза не обойтись. Не надо было слушаться Юшку. Хоть и не очень-то велик трудодень, а всё в дом. А теперь придется тратиться даже на хлеб. Деньги, которые еще недавно ей казались немалыми, а главное, свидетельствовали о всех преимуществах торговли перед тяжелым колхозным трудом, эти самые деньги рядом с предстоящими расходами оказались уже не столь значительными. Всё шло к весьма серьезным затруднениям, и выход из этих затруднений Анисья видела один: хоть пора самой выгодной колхозной работы прошла, надо идти за нарядом к бригадиру. И куда ни пошлют: на ферму дежурить или копать ямы под силос — выбирать не приходится. На тяжелую работу даже лучше. Всё-таки заработать можно. Октябрь, ноябрь, декабрь. Три месяца. Не меньше ста трудодней. По килограмму зерна — центнер хлеба! А картошки, овощей и того больше! Худо ли, хорошо, а как-нибудь с Оленькой проживут. И подумала об Оленькиной сберкнижке. Нет, ее деньги она не возьмет. Еще внесет, сколько сможет. Эти деньги Оленьке нужны будут, когда кончит семилетку, поедет в техникум.
Да, а всё-таки жалко, что в такое время, когда и сборщик, и участковый, и комендант базара стали такими обходительными, ей приходится отказаться от торговли. Всё хорошо, одно плохо: продавать нечего!
Анисья скрывала от Оленьки свои невеселые мысли. Зачем девочке всё это знать? И, словно успокаивая себя, говорила:
— Всё будет хорошо, доченька!
— Обязательно, мама, — отвечала, ничего не подозревая, Оленька. — И сейчас всё хорошо.
Еще было тепло и временами словно возвращалось бабье лето, в голубом небе проплывали белые паутинки, но уже шел октябрь, и Анисья представляла себе, как через неделю-другую легкие утренники начнут стеклить прозрачным ледком лужи. И вот еще беда: не по сезону Оленьке ее бархатная жакетка, а зимнюю шубку, что она привезла, не наденешь. Надо покупать осеннее пальто. Отправляйся, Анисья, в сельмаг!
Шереметевский сельмаг представлял собой большое одноэтажное бревенчатое здание. В одном конце сельмага пахло духами и мылом, а в другом — сыромятной сбруей. Здесь можно было купить посуду и одежду, шелковые нитки, конские скребницы, толщенные пеньковые веревки. Чего только не было на полках и прилавках! Правда, среди этого разнообразия товаров попадалась и заваль: то чувяки, сшитые из кусочков кожи, то какие-нибудь дерюжные пиджаки, да и случалось, вдруг в магазине обнаруживалась недостача. Но всё это не могло умалить значения шереметевского сельмага в глазах шереметевцев. Они любили свои универсальный магазин и с удовольствием толпились у его прилавка. Были и такие, которые приходили сюда не только для того, чтобы выбрать и купить себе какую-нибудь вещь, но и не спеша, обстоятельно осмотреть полки, полюбоваться товарами и поговорить глубокомысленно и многозначительно о том, что с каждым днем всего становится больше и больше, и товар, нечего грешить, не плохой и ноский, и вид имеет, а это что-нибудь да значит.
В сельмаге Анисья увидела Юшку. Он стоял у прилавка перед пылесосом и допытывался, а можно ли этой машиной быков чистить? Анисья поздоровалась, прошла в глубь магазина и попросила показать ей бобриковое пальто. Пальто было добротное, темносинее и стоило недорого. Но купить его без Оленьки не решилась. Да и зачем спешить? Не те времена, что бывали раньше. Не надо бояться, как бы другие не переняли товар. Оно даже лучше день, другой подождать. Может быть, еще что нибудь завезут или цену снизят.
Она вышла из сельмага вместе с Юшкой.
— Как здоровье, Анисья?
— Спасибо, хорошо.
— А я думал, не заболела ли?
— С чего это?
— Я в область ездил за частями для машины, а как вернулся — сразу на базар. С утра в воскресенье где еще тебя искать? А тебя нет, и мать ничего не знает.
— Нечем торговать.
— Было бы желание, а товар найдется. Я вечером приду, поговорим.
Воскресный этот день тянулся для Анисьи бесконечно долго. На базаре она не торговала, а Оленька с утра ушла на опытное поле. Анисья коротала время, как могла: подмела двор, стирку затеяла. И думала: надо решать с Павлом. Да так да! Нет так нет!
Оленька вернулась вечером. Алексей Константинович уехал зачем-то на опытную станцию, и ей пришлось просидеть одной весь день, чтобы составить отчет о работе юннатов. Она прилегла в своей маленькой комнатушке. За окном пела ставня. Если вслушаться и самой чуть-чуть подпевать, то получится колыбельная песня… «Баю-бай, спи-усни». И Оленька уснула.
Ее пробудил чей-то громкий голос. Оленька подняла с подушки голову и сквозь дверную щель заглянула в кухню. За столом, прислонившись к стене и вытянув вперед свои короткие ноги, сидел дядя Павел. Было похоже, не то он только что вылез из-под стола, не то хочет спрятаться под стол. И Оленька слышала, как он сказал, не вынимая изо рта папиросы:
— Трудно тебе, Анисья, из последних сил выбиваешься. Оно и понятно. Огород и есть огород. Одним словом, подспорье или палка, чтобы опереться на нее. А палка и есть палка. Ног она не заменит.
— Трудно зимой будет…
— Надо вывод сделать… Оценить, так сказать, обстановку. Без колхоза никак нельзя. Это всё равно, что ездить на машине и не иметь шоферских прав. Одним словом, минимум. Только мой совет: не идти на постоянное место! На скотный куда-нибудь или на птичник. Нет лучше разной работы. Сегодня у веялки, завтра корзины плести, а потом куда бригадир пошлет. Кто всюду, тот нигде. Отработал день, другой — неделю себе хозяин. Хочешь на базаре торгуй, хочешь дома сиди.
— А дальше? — Анисья пристально взглянула на Юшку. — К чему весь этот разговор? Тянешь, тянешь, вытянуть не можешь!
Но Юшка не спешил.
— Так вот о палке и о ногах у нас разговор, — снова начал он издалека.
— Тьфу ты, господи! — рассердилась Анисья. — Брось ты свою палку.
— На собственном огороде свет клином не сошелся. Кто хочет, пусть растит. А нам бы с тобой, Анисья, покупать да продавать. Круглый год урожай!
Анисья боязливо ответила:
— Да ведь чужим, Павел, торговать, — спекуляция. Так говорят.
— Сказать — не доказать! Поди угадай, какой помидор свой, какой чужой.
— Нет, не по мне такое дело, Павел. Свое не продашь — дома пригодится, а чужое?…
— Ничего, — успокоил Юшка. — Я в торговле разбираюсь. Только для начала оборотные средства нужны.
Анисья пристально взглянула на Юшку. Не целится ли он на Оленькину сберкнижку? Ну нет! Даже если одной семьей будут жить, Оленькины деньги не отдаст ему. Юшка продолжал:
— Но в торговле доверие да знакомство важнее денег. И не бойся. Думаешь, каждый день на базар ездить придется? Пусть другие ездят! А мы раз в недельку махнем в район, раз в месяц в область, нам и хватит. Редко да метко. У нас покупатель особый! Ему ящиками товар подавай, целой машиной… Большого полета покупатель…
Они замолчали.
— Так подумай, Анисья, — вновь заговорил Юшка.
— Что люди скажут? — еще сопротивлялась Анисья.
— А что люди! — рассмеялся Юшка: — Люди всегда завидуют: и тому, кто на комбайне лучше всех сработал, и тому, у кого в саду много яблок выросло… — И снова спросил: — Так как, Анисья?
— Не знаю…
Оленька не всё слышала, да и не всё поняла. Но смысл разговора для нее был ясен: спекуляция! Дядя Павел уговаривал мать заняться спекуляцией. Так вот какой дядя Павел! А она-то думала, что он хороший. Ну, а мама? Мама согласилась?
Когда после ухода Юшки Анисья вошла в комнатку дочери, Оленька схватила ее за руки, усадила на кровать и проговорила умоляюще:
— Мама, не надо, не слушай его. Он плохой, дядя Павел…
— Да что с тобой, ласточка моя? Ты успокойся, всё хорошо будет.
— Скорее бы бабушка приезжала! — невольно вырвалось у Оленьки.
Анисья отстранила дочь, поднялась и сурово сказала:
— Надо ужинать да спать!
28
Дегтярев приехал поздно вечером, а на другой день, придя в школу задолго до начала уроков, направился не в учительскую, а в дальний конец коридора, где находилась квартира Елизаветы Васильевны.
Она усадила Дегтярева за стол и, наливая чай, спросила:
— Как съездили? Благополучно? — Но ее совсем не интересовала его поездка на опытную станцию; и, не ожидая ответа Дегтярева, сказала: — Надо что-то решить с Копыловым. Мы слишком затянули, а такие поступки оставлять безнаказанными нельзя.
— И всё же придется.
— Только не в моей школе.
— Елизавета Васильевна, не к чести моей, но я должен признать, что в споре с Егором Копыловым прав он, а не я.
— Ничего не понимаю! — воскликнула Елизавета Васильевна. — Откуда вы это взяли?
— Привез с опытной станции, — улыбнулся Дегтярев. — Послушайте меня, и вы поймете. Вы знаете, что я поехал на опытную станцию посоветоваться насчет плана работы нашего школьного поля. И вот во время беседы с директором станции я рассказал ему про живую землю Копылова. Я рассказывал улыбаясь, а всё обернулось против меня. Оказывается, есть живая земля. Земля, насыщенная азотными бактериями. Если ее внести в истощенную почву, то там начнется бурный процесс размножения бактерий, а это способствует повышению урожая.
— Но как же вы не знали этого? — удивилась Елизавета Васильевна. — Ведь вы биолог!
— Что поделаешь! Да и название — «живая земля» — смутило. А в общем всё это подтверждает одну истину. И в средней школе и в вузах нас меньше всего учат приглядываться к многовековому опыту крестьян.
Елизавета Васильевна встала из-за стола, молча прошлась по комнате, потом сказала спокойно и с сочувствием:
— Я понимаю вас, Алексей Константинович, вам, наверное, не легко… Но вы молодой педагог, и поэтому я не считаю нужным делать эту историю предметом широкого обсуждения.
— Меня не это беспокоит.
— Я думаю, вы сами сумеете сделать вывод из собственной ошибки.
— Вы правы. Я об этом думал всю дорогу, думал о живой земле и о том, что любознательный ум мальчика заметил то, мимо чего прошел учитель биологии. Я проявил свое незнание и назвал глупостью то, что было проявлением пытливости. Что же теперь делать? Конечно, учитель может ошибаться. Но ошибка ошибке рознь. Я настаивал на ней. И сам толкнул Копылова на резкий ответ. Теперь речь может идти не о наказании ученика, а о признании учителем своей ошибки!
Елизавета Васильевна перебила:
— Вы хотите сказать в классе, что прав Копылов, а не вы?
— Я хочу, чтобы мои ученики уважали меня не только в школьном возрасте, но и тогда, когда они станут взрослыми.
— Я запрещаю вам это делать. Слышите, запрещаю! — крикнула Елизавета Васильевна. — Вы можете не дорожить личным авторитетом, но обязаны беречь престиж школы. Да ведь завтра вся Шереметевка будет говорить о том, что Егор Копылов учителям нос утер. — Елизавета Васильевна остановилась около Дегтярева, положила руку на его плечо и спросила дружелюбно: — Скажите, Алексей Константинович, разве я не помогла вам создать школьный опытный участок? А скажите, разве я не пошла вам навстречу, когда вы подняли вопрос об изучении орошения в старших классах? Пошла, несмотря на грозящие мне неприятности. Ведь всё это самостийно, без согласования. Ради школы я готова на всё. Для меня нет ничего дороже, чем престиж, доброе имя моей школы. И за эти годы я добилась, что о ней говорят не только в районе, но и в области. А вы хотите, чтобы она стала посмешищем.
Дегтярев поднялся.
— Я понимаю, вам дорога школа. Но неужели вам не дороже те, кто в ней учатся?
Елизавета Васильевна не ответила и встала. Разговор окончен.
Этот школьный день начался в седьмом классе уроком геометрии. В Ладоге этот предмет Оленька не то, что не любила, — он просто не особенно интересовал ее, и часто, решая теоремы равенства сторон или подобия треугольников, думала: да зачем всё это доказывать, когда и без доказательства видно, что стороны равны, а треугольники подобны! Но в Шереметевке она увлеклась геометрией и нередко дома до глубокой ночи решала заданные Антоном Антоновичем задачи.
Умел Антон Антонович такую, казалось бы, отвлеченную науку, как математика, так подать ребятам, что часто при взгляде на дом, полевые участки, скирды хлеба, — куда бы ни обратился их взор, — они вспоминали какую-нибудь теорему и начинали мысленно измерять углы и устанавливать равенство сторон. Часто на уроках, как бы по пути, Антон Антонович решал с классом головоломки, рассказывал о жизни известных математиков, и это не только не отвлекало от урока, наоборот, углубляло и оживляло его, делало увлекательным и вызывало у ребят большой интерес к математике.
Но сейчас Оленьку не интересовала геометрия. Мучило, не давало покоя одно: согласилась ли мать с дядей Павлом? Надо было прямо спросить у нее, спросить, ничего не боясь. Но, может быть, лучше самой проследить? Не показывать виду и проследить. Тогда всё будет наверняка. Если сомнения напрасны, она своими подозрениями не обидит мать, а если нет, ну что ж, она увидит всё своими глазами. И снова тревожная и беспокойная мысль: «Согласилась или нет?»
Так прошла математика, а за ней литература. Третьим уроком в седьмом классе была история. Класс подтянулся. Ждали Елизавету Васильевну. Она вошла в класс; еще не доходя до стола, успела сделать несколько замечаний и, приказав дежурной собрать домашние работы, приступила к уроку. Оленька обошла класс, собрала тетради и положила их на стол.
— Елизавета Васильевна, я забыла дома свою тетрадь.
— Я верю тебе. Но я не могу тебе верить больше, чем другим. И если я взяла тетради у всех, то должна видеть перед собой и твою…
— Я завтра принесу.
— Не завтра, а сегодня. Если у тебя, как ты говоришь, домашняя работа выполнена.
Едва прозвенел звонок, Оленька бросилась из класса и что было духу побежала домой. Дверь в сени была на замке. Достав из потайного места ключ, Оленька открыла дверь. И сразу на нее дохнул запах яблок, и каких яблок — антоновки! От них так и повеяло Ладогой. Но где яблоки? Не уйдет же она, не попробовав ну хотя бы самого маленького яблочка! Ух ты! Да тут не какая-нибудь корзиночка, а целых два ящика. Оленька взяла яблоко. А может быть, взять пару — угостить Володю? Тогда придется выбрать самое большое. Оленька протянула к ящику руку, но тут же испуганно отпрянула назад и бросилась прочь из сеней. Где мама? Куда она ушла? Пусть она скажет, — откуда у нее эти яблоки? И увидела у калитки мать. Та шла, осторожно неся большую, полную яиц корзину… Оленька крикнула:
— Мама!
— Осторожно, доченька.
— Яблоки и это вот… Откуда?
Оленьке всё стало ясно. Значит, мама согласилась! Согласилась, хотя вчера она просила ее не слушаться дяди Павла.
Она вернулась в школу и в коридоре столкнулась с Елизаветой Васильевной.
— Где тетрадь?
— Тетрадь? — Тетради не было. — Я забыла принести.
— Опять забыла? Утром забыла, днем забыла… А не забыла ли ты, что надо выполнять домашние задания?
— Я забыла! — повторила Оленька.
— Забыла, что нельзя лгать! — продолжала Елизавета Васильевна. — И чтобы ты лучше помнила об этом, я поставлю тебе двойку. Ступай в класс.
В классе шла зоология. Дегтярев сначала объяснял урок, а потом, незадолго до звонка, неожиданно сказал:
— А теперь мне хочется рассказать вам, что я видел на опытной станции. Помните, не так давно между мною и Егором Копыловым возник спор о живой земле.
— Алексей Константинович, вы извините его…
— Белогонов, не перебивай меня. Так вот, ребята, я должен вам сказать, что прав был не я, а Копылов. — И он рассказал всё, что узнал на опытной станции.
Все были ошеломлены неожиданным признанием Алексея Константиновича. Так, значит, прав Копылов? Даже Егорушка чувствовал себя смущенным. Сам Дегтярев вызволил его из беды.
Егорушка торжествующе оглядел класс. Что, здорово получилось? А от него требовали, чтобы он извинился перед Алексеем Константиновичем. Теперь не к чему, раз он прав. И вдруг Егорушка увидел перед собой бледного, с дрожащими губами Белогонова. И не успел Егорушка подумать, что хочет от него Володька, как у парты оказались и другие ребята.
— Извинись, Егор, перед Алексеем Константиновичем. Слышишь? Извинись!
Перед ним плечом к плечу стоял чуть ли не весь класс, и впервые он почувствовал, что самый сильный человек слабее коллектива и что он, Егорка, либо подчинится требованию этого коллектива, либо окончательно потеряет всех своих друзей и товарищей и останется один. Егорушка понимал, что Дегтярев победил его своей прямотой, тем, что, не боясь, признал свою ошибку. Так вот где требуется больше всего смелости! Егорушка вышел из-за парты. И в смелости признать свою ошибку, признать, что он не имел права грубо ответить учителю, он не хотел уступить Алексею Константиновичу. Но прежде чем Копылов успел подойти к столу, Дегтярев остановил его у парты Оленьки и сказал строго, требовательно:
— Если ты понял свою ошибку, то извинись сперва перед Ольгой Дегтяревой. Разве Анисья Олейникова спекулянтка? А Ольга помогала ей спекулировать?
Егорушка стоял, опустив голову. Так, значит, ему предстоит извиниться и перед Ольгой Дегтяревой? Что ж, если быть смелым, то до конца. Он и сам видит, что напрасно обидел Дегтяреву, и если бы не эта история с живой землей, то попрежнему они работали бы рядом на опытном поле. И он ничего не имеет против того, чтобы она была старостой. Если сложить ее шереметевские да ладожские трудодни, то ни у кого больше не будет. Только кто это выдумал все эти извинения? Неужели нельзя просто помириться без «извините», «простите»? Егорушка пересилил себя, поднял голову и откинул назад прядь волос.
— Оля… — Он не договорил.
Она смотрела на него испуганными глазами. Зачем он просит прощения? Ведь ее мать спекулянтка! И сейчас, наверное, вместе с дядей Павлом, нет, не с дядей Павлом, а с Юшкой скупает яблоки, яйца, еще что-нибудь. И класс, ждавший, что же скажет Егорушка, услышал Оленьку.
— Не надо, я не хочу! — закричала она голосом, полным отчаяния, и выбежала в коридор.
29
Всё произошло так неожиданно, что сразу никто ничего не мог понять. Что случилось с Оленькой Дегтяревой, почему она отказалась принять извинение Егорушки? А потом каждый по-своему стал истолковывать ее бегство из класса. Ишь, какая гордая! И зло долго помнит! Даже Зойка, которая никогда не упускала случая насолить мальчишкам, и та признала, что Дегтярева напрасно отказалась помириться с Копыловым. Так или иначе, но все порицали Оленьку. Все, кроме Егорушки. Он видел, какими умоляющими глазами она смотрела на него, в них не было ни злобы, ни гордости.
После урока Алексей Константинович разыскал Оленьку на школьном дворе. Она сидела на скамейке, где обычно, перед тем, как идти на опытный участок, собирались юннаты, и плакала. Он обратил внимание на ее осунувшееся, похудевшее лицо. Уж не больна ли Оленька? Тогда всё, что произошло в классе, легко и просто объяснить. Оленька вытерли кулаком слезы и упрямо сказала:
— Не буду мириться, не хочу!
— Не забывай, что ты пионерка. Почему ты отказываешься быть старостой?
— Не хочу!
— Это не ответ, Оленька. Скажи, что с тобой?
Сказать, что с ней? Нет, никогда и никому она не расскажет о своем позоре, о том, что ее мать спекулянтка, а она, Ольга Дегтярева, дочь спекулянтки. И ни с кем не будет дружить. И не будет старостой.
— Так что же ты молчишь?
— А ей стыдно отвечать! — Оленька не заметила, как подошла Катя. — Расскажи, расскажи, как ты хотела обмануть Елизавету Васильевну.
Оленька в первую минуту даже обрадовалась. Она всё объяснит двойкой по истории, и ни о чем ее больше расспрашивать не будут. Но, взглянув на Катю, она увидела в ее глазах не упрек, нет, и даже не суровое осуждение. Они смотрели на нее с презрением. И тогда Оленька с гордым достоинством ответила:
— Я получила за домашнюю работу двойку, но я не обманывала.
— Ты всё упорствуешь?
— Тетрадь дома! Я ее забыла!
— Ты так же говорила Елизавете Васильевне.
— Я говорила правду.
— Екатерина Ильинична, — вмешался Дегтярев, — сейчас конец перемены, а после уроков, когда мы будем идти мимо Оленькиного дома, она вынесет нам тетрадь…
После занятий Оленька побежала домой, взяла тетрадь и вынесла ее Алексею Константиновичу и Кате. Когда Оленька скрылась за калиткой, Дегтярев спросил Катю.
— Что вы скажете?
— Мне кажется, что всему причиной двойка и чувство обиды на Елизавету Васильевну.
— Вы в этом уверены? Не слишком ли просто? Двойка, обида на директора, но при чем здесь Егорушка? Наоборот, она должна была бы стремиться искать защиту у ребят, их дружбу. Всё это очень странно. А самое странное, нет, — пожалуй, страшное в том, что мы не понимаем, что происходит в душе этой девочки. Мы годами воспитываем ребят, создаем для них всякие опытные участки, вырабатываем их мировоззрение, и вдруг что-то трескается во всей нашей воспитательной постройке. А мы даже не знаем, что треснуло и отчего треснуло. И заметьте, не в слабых звеньях: Егор Копылов, Оленька. Это не Колька Камыш, мечтающий быть птичьим царем!
— Алексей Константинович, но, может быть, всё-таки стоит попросить Елизавету Васильевну зачеркнуть двойку? Ведь Оленька не обманывала…
— Совершенно верно, не обманывала, — согласился Дегтярев. — Но за дважды забытую тетрадь я бы тоже поставил двойку… Уверяю вас, не стоит думать о ней.
О двойке меньше всего думала сама Оленька. Оправдав себя в глазах Дегтярева и Кати, Оленька выбросила из головы забытую тетрадь и думала о том, что действительно ее волновало и заставляло страдать. Она наблюдала за матерью, за каждым ее шагом, за всем, что происходило в доме.
А дома стали появляться какие-то незнакомые люди, обычная тишина сменилась говорливой суетой, в сенях уже пахло не только яблоками, но и чесноком, луком, неведомо откуда взявшимся лавровым листом. Редко проходило утро, чтобы Оленьку не разбудил стук в окно. Тогда сквозь дрему она слышала, как мать вскакивала с кровати, бежала в сени и, разговаривая с кем-то простуженным голосом, возила по полу какие-то тяжелые ящики. Случалось, что ее будили даже ночью. Тогда темный двор прорезывал свет фар автомашины, а в кухне появлялся Юшка. Он разговаривал громко, ничуть не стесняясь, что в чужом доме, и мать всё время останавливала его:
— Тише ты, не кричи, Оленьку разбудишь.
Однажды туманным октябрьским утром Анисья уехала в район. Она вернулась лишь через два дня. Увидев мать, Оленька обрадованно бросилась к ней.
— Мама, где ты пропадала? Я так беспокоилась…
— Задержалась, доченька. Задержалась, ну да не зря. — И, наклонившись к Оленьке, устало улыбнулась. — Две ноченьки не спала.
— Мама, зачем это? Не надо, мама!
— Надоело, Оленька, каждую копейку считать.
— А ты их считаешь, мама, больше, чем раньше. Всё что-то выгадываешь.
— Скоро легче будет, доченька. Дядя Павел поможет.
— Не надо, мама, чтобы он нам помогал! — встревоженно воскликнула Оленька. — Не надо нам чужих денег!
— Чудачка. — Анисья притянула к себе девочку и смущенно взглянула ей в глаза. — Не чужой он нам. Скоро в нашем доме жить будет…
— Разве у него нет своего дома?
— Он будет твоим отцом!
— Отцом? — Оленька вырвалась из рук матери, какую-то минуту смотрела на нее непонимающими, испуганными глазами.
— Не надо, мама, — сказала она тихо, — он чужой.
— Да ты вспомни, вспомни, что говорила…
Но Оленька словно ничего не слышала.
— Я не хочу, чтобы он был мне отцом. Слышишь? Не хочу…
Анисья этого не ожидала. То дядя Павел хорош, то плох. Опять с девчонкой что-то неладное. И, поднявшись, сказала решительно:
— Ступай к себе! Уроки приготовила?
Но прежде чем Оленька вышла, в дверях появилась Юха. Высокая, плоская, как доска, с худощавым лицом, которое пожелтело от какого-то внутреннего недуга, Юха была похожа на монашенку, и это сходство еще более усиливалось оттого, что Юха и в жаркий летний день и в осеннюю непогоду всегда ходила в черной юбке, в такой же кофте и повязывалась черной косынкой. Еще в первые дни приезда в Шереметевку Оленька отметила, что старуха говорила медленно, как бы нехотя, словно боясь, что слова выдадут ее. Глаза у Юхи были навыкат, смотрели на людей зло и остро, но редко кто успевал заметить их выражение, потому что они всегда были потуплены, и от этого Юха казалась смиренной, покорной.
Юха поздоровалась.
— Вернулась?
— Оленька, включи чайник, — сказала мать.
— Всю жизнь не пила и пить не буду это зелье. Деньги-то сполна привезла? — недоверчиво проговорила Юха и, пряча сверток в карман юбки, кивнула на дверь: — Идем, в одно место сведу тебя.
Юха с матерью вышли из дома, Оленька бросилась к окну. В сумерках вечера Юха вся в черном выглядела зловеще. Она словно отняла у нее мать и уводила куда-то в темноту.
Оленька не верила, что Юшка войдет в их дом и в то же время только и думала о том, что это может случиться. Нет, она не допустит, она не хочет, чтобы ее отцом был спекулянт. Как он уговаривал маму, чтобы она ему помогала! И откуда у него деньги? Отец, мать… Нет, если Юшка войдет в их дом, у нее не будет ни отца, ни матери.
В окне послышался стук. Оленька подняла голову и увидела Лукерью Камышеву. Приставив ко лбу руку, та сквозь стекло спросила:
— Мать-то дома? Приехала?
— Вышла куда-то, — ответила Оленька.
— Так я ее подожду.
Оленька открыла дверь, и Лукерья, войдя в кухню, сердито спросила:
— Не говорила Анисья, — далече пошла?
— Нет.
— Носится нивесть где, поди угляди за ней. — И вдруг вскочила с табуретки, словно ее кто-то подхлестнул. — Долго это я буду за свое добро кланяться?
Оленька знала сварливый характер матери Кольки Камыша; ее не удивило, что даже в чужом доме она ругается, и спокойно ответила:
— Тетя Луша, если вам некогда, вы не ждите маму, а когда она вернется, я прибегу и скажу.
— Нет уж, хватит. Вот сяду и буду ждать. Не будет к ночи, ночевать останусь. Но когда дождусь, я ей всё скажу. Я ей покажу, как за нос меня водить да душу мне выматывать…
Оленька решила, что мать забыла вернуть Камышевой взятую на время какую-нибудь сковородку, и сказала, желая поскорее выпроводить скандальную гостью:
— Вы скажите, что мама взяла, я отдам…
— Нашлась отдатчица, — еще больше разъярилась Лукерья. — Что с тебя взять?!
— Тогда возьмите, когда мама придет.
— Как же, держи карман шире, с нее получишь!
Оленька побледнела.
— Вы не смеете! — Голос дрожал и плохо слушался ее.
— Ишь ты, какая защитница! А кому я на той неделе три корзины яблок продала по трешке? А кто моего поросенка на базар возил? Твоя мать — вот кто! Взять взяла, а деньги не отдает! Мало на моем добре нажилась, так еще деньги зажилила.
Этого Оленька стерпеть уж не могла и закричала:
— Неправда это!
— А вот и зажилила, — словно дразня Оленьку, повторила Камышева.
— Слышите? Уходите отсюда!
— А вот и не уйду… — решительно отказалась Колькина мать и, снова присев на табуретку, зло засмеялась. — Ну что ты со мной сделаешь, ну что?
Вдруг Лукерья увидела в руках Оленьки кочергу. А сама Оленька шла на нее спокойно и молча. Камышева вскочила с табуретки, бросилась в сени и закричала: «Спасите, бьют». Никто ее еще не бил. Она сначала забарабанила кулаком в дверь, потом, выбежав на улицу, долго и зло ругалась, стоя у калитки. Дома от нее попало и мужу Никандру и сыну Кольке.
— Ишь, расселись за столом! А до матери и дела нет!
Они действительно играли за столом в шашки, не обращая никакого внимания на Лукерью, потому что давно привыкли к ее ругани.
Анисья вернулась в сумерки. В руках у нее был большой, аккуратно перевязанный сверток. Наконец-то у Оленьки будет новое пальто!
— Получай, дочка! Не очень ли широко в плечах? Не морщит ли в рукавах? Всё-таки на рост куплено.
Оленька стояла неподвижно, словно не видя, что мать держит перед ней пальто.
— В универмаге задержалась, — продолжала, ничего не замечая мать. — А шла обратно, всё думала: вот и у меня с Оленькой есть деньги. А давно ли плакалась, не знала, как будем жить? Только вышло наоборот! Крепче на ноги стала. Дай срок, заживем еще лучше, доченька! Ну-ка надень! Поглядись в зеркало!
Как хотелось Оленьке прервать мать, заставить ее замолчать! Но не всё ли ей равно теперь: молчит мать или говорит о своих деньгах, о своей торговле. В висках стучало. В мыслях было только одно слово: «спекулянтка, спекулянтка»! Больше ни о чем Оленька не могла думать.
И вдруг она выхватила из рук матери пальто, бросила его на пол и закричала:
— Отдай чужие деньги! Всем, всем отдай!
30
Оленька презирала себя. За слабость, нерешительность, трусость. На ее месте Егорушка поступил бы совсем иначе. А она не может. Не может приказать матери: прогони Юшку, не езди с ним по базарам. Были минуты, когда Оленька готова была поделиться своими думами с Катей, но и здесь у нее не хватало решимости. Что будет с ней, когда все узнают, чем занимается ее мать?
Оленьку угнетало, что мать ее спекулирует, а сама она живет на деньги, добытые нечестным путем. Нет, она не может быть старостой опытного поля. И не будет.
Каждое утро, входя в класс, Оленька с замиранием сердца думала: «А вдруг всё стало известным?» Она вглядывалась в лица ребят, наблюдала за их отношением к себе и успокаивалась лишь после того, как убеждалась, что никто ничего не знает о ее матери.
Оленька чувствовала себя одинокой и дома и в школе. В школе они спасалась от дома, а дома — от школы. Но и дома и в школе ей было одинаково тяжело. Она была полна своими переживаниями и нередко на уроке забывала, что сидит в классе, а готовя уроки, она порой не видела перед собой книжку. И произошло то, что неизбежно в таких случаях: посыпались одна за другой плохие отметки. Но если раньше даже тройка была для Оленьки неприятным событием, то теперь она совершенно спокойно клала на учительский стол свой дневник, чтобы унести с собой очередную двойку. Она научилась даже с достоинством и не без гордости получать плохие отметки. Не путалась, не пыталась создать впечатление, что знает урок, нет, она выходила к столу и откровение говорила:
— Я отвечать не буду.
— Ты, может быть, приготовила урок, но забыла, как тетрадь дома? — спросила однажды с усмешкой Елизавета Васильевна.
— Я не выучила урока…
— А то, может быть, сходишь в большую перемену домом? — Елизавета Васильевна оглядела класс. Ребята не смеялись. Никто даже не улыбнулся. Ну что ж, тем хуже для этой девчонки. И ома поставила в журнал единицу.
Это была та самая единица, которую обязательно обсуждают и на классном собрании, и на пионерском сборе, бывает, и на педсовете И, конечно, она обеспокоила Володю Белогонова, Зойку и даже Егорушку Копылова. Друг не друг, а если одноклассник получает единицу, ему надо помочь.
В этот день сразу же после занятий Володя, Зойка и Егорушка пошли на школьный канал, где, по имеющимся у них сведениям, поливальщицы будут учиться заряжать сифоны. Юннаты вышагивали по дороге и взволнованно рассуждали — как помочь Дегтяревой.
— Надо шефство взять над ней, — предлагала Зойка, руководствуясь тем, что в таких случаях рекомендовалось делать в пионерской газете. — У нее с чем плохо? История, алгебра, геометрия, литература…
— По всем предметам сразу не подтянешь, — возразил Володя. — Нужно помочь по таким, где в четверти может быть двойка. И что мы смотрели?
Их догнала Катя.
— Ребята, Алексей Константинович просил передать, что обучение будет на речке.
Когда они повернули обратно, Зойка сказала:
— Екатерина Ильинична, Дегтярева единицу по истории схватила…
— Знаю…
— Надо взять над ней шефство… Мы уж говорили…
— Не знаю, поможет ли это.
Они шли мимо Анисьиного дома, и Володя предложил:
— Давайте зайдем за Дегтяревой. — Он свернул к калитке, заглянул во двор и тут же вышел. — Замок на дверях, — наверное, ушла куда-нибудь…
Оленька знала о предстоящей учебе будущих поливальщиц, и ее тянуло на опытное поле.
Но пойти туда после того, как она отказалась быть старостой, было неудобно. Тогда она решилась на хитрость и подговорила Кольку Камыша ловить в пруду карасей.
Пруд отделялся от канала небольшой плотиной, и отсюда, как на ладони, была видна вся оросительная система опытного школьного участка. Прямо перед глазами лежал, словно серебряный меч, главный магистральный канал, от него трезубцами расходились более узкие хозяйственные каналы, а дальше шли временные оросители. Всё это было так хорошо знакомо Оленьке, что она могла бы пройти от плотины до любой делянки с завязанными глазами. Но сейчас она так смотрела вокруг себя, словно впервые видела орошаемые поля. Они были уже голы, потеряли свою недавнюю красоту и радовали глаз лишь зеленой озимью. Всё же для Оленьки даже такие поля казались необыкновенно прекрасными. Это была потерянная для нее земля.
На опытном участке было тихо и безлюдно. Оленька, взглянув на уровень воды, сразу поняла, что обучение, наверное, перенесли на речку.
Надвинувшаяся было на Шереметевку осенняя непогода неожиданно сменилась теплом. Если бы не голая степь, не разворошенные колхозные огороды да желтая листва кленов и ивы, густо осыпавшая шереметевский сад, то можно было подумать, что вот-вот снова нагрянет лето. В пруду после летних поливов и так осталось мало воды, а тут его сначала проморозило, а потом пригрело, и уровень воды упал ниже последней отметки, оголив глубоко вбитые сваи плотины.
Оставив Камыша ловить карасей, Оленька вышла на речку и направилась вдоль берега к переправе. Едва миновав ее, она увидела у небольшой, прорытой к воде канавки Катю, Егорушку, Володю и Зойку.
Катя окликнула ее. Но Оленька сделала вид, что не расслышала, и, не доходя до канавки, свернула к воде и присела на старую, побрякивающую ржавой цепью лодку. На берегу было тихо, и через реку тянулась золотистая солнечная дорожка. Изредка на солнце набегали облака, и тогда река казалась глубже, и всю ее от берега к берегу покрывала легкая чешуйчатая рябь. Оленька перегнулась через борт лодки и увидела в воде себя, берег и юннатов. А потом она увидела отца Егорушки Семена Ивановича. Он подошел к канавке, весь обвешанный сифонами, и Оленька слышала, как он поздоровался: «Вон сколько вас, мастеров!»
К началу занятий на берегу собралось много народу. Пришли не только будущие поливальщицы, тут были даже доярки, конюхи и скотницы, — одним словом, не мало людей, которые как будто не имели прямого отношения к поливам. Пестрая толпа окружала канаву, рассматривала сифоны; кое-кто уже опускал их в воду и дивился, — как это вода пойдет по трубке вверх через бровку канавы!
— Пойдет, пойдет, не беспокойтесь, — весело посмеивался над скептиками Володя Белогонов. — И не пойти не может, — закон физики.
— А может, он в нашей местности не действителен, — сомневался отец Кольки Камыша. — Никанор Камышев. — Ну, скажем, у нас тяжелая вода.
Сомнения Камышева вызывали улыбку, но всё же и другие не так уж были уверены, что трубы потянут воду. Тут было многое непонятно: и как без напора пойдет вверх вода, и для чего сифон сделан в виде воротцев, и не будет ли так, что вода сначала пойдет по какому-то там закону, а потом возьмет и перестанет.
— А ну, юннаты, покажите, как это выходит у вас! — сказал Копылов и протянул Володе сифон. — Пока инструктор в чайной обедает, ты поучи нас.
Володя взял в руки сифон, заглянул в одно отверстие, потом и другое и сказал, нагнувшись к канавке:
— Самое простое дело. Вот я опускаю сифон в воду, там зажимаю ладонью отверстие, — и еще до того, как он успел вытащить конец трубы из канавы, сказал совершенно уверенно: — и вода пошла!
И вдруг в тишине кто-то разочарованно проговорил:
— А вот и не пошла…
И в следующее мгновение послышался смех.
— Глянь-ка, верно не пошла.
— Вот тебе и закон физики!
Белогонов смутился; но тут же овладел собой.
— Ерунда! Подумаешь! Просто рука соскользнула.
В наступившей тишине Володя повторил зарядку, но вода опять не пошла. Смущенный, совершенно растерянный, он стоял и что-то бормотал в свое оправдание. Он слышал, как кто-то с сочувствием произнес:
— Парню на пианинах играть, а не сифоны заряжать.
К канаве протиснулся Егорушка. Вечно у Володьки не ладится что-нибудь на поливе. Только юннатов позорит.
— А ну, дай-ка я!
— Изловчись, изловчись, главный пионер!
Главный пионер хорошо понимал, что момент наступил весьма ответственный, и быстро проделал всё необходимое для зарядки. Но и у него вода не пошла. Тогда он опустил снова сифон в канаву, однако и на этот раз безрезультатно. Вода никак не хотела идти по трубе. Семен Иванович не выдержал и отобрал у сына сифон:
— Ишь, нашлись учителя!
— Пусть Зойка попробует, — раздались отовсюду женские голоса. — Не привыкать учить мужиков. А ну, Зойка, давай! Покажи им Феклу Ферапонтовну.
Семен Иванович, так же, как и Егорушка, не мог понять, почему не заряжаются сифоны. Но когда Зойку Горшкову постигла та же неудача, что и ее товарищей, он подошел к Кате и сказал:
— Оскандалились ваши пионеры. Выходит, одно дело — школьные деляночки, а другое — колхозное поле…
К реке спускался Дегтярев. Увидев учителя, шереметевцы раздвинулись, дали ему пройти к канаве.
— Еще не началась учеба?
— Ваши мастера себя показать хотели, да оконфузились.
Дегтярев нагнулся, поднял валявшийся у канавы сифон, удивленно взглянул на председателя колхоза:
— И вы хотите, чтобы эти сифоны подали воду?
— Сифоны не плохие. По стандарту сделаны…
— Вот в том-то и дело, что по стандарту, Семен Иванович. Да разве отверстие такого сифона плотно закроет детская рука?
— Это еще хуже, — хмуро проговорил Копылов. — А я крепко рассчитывал на ребят. Помогут колхозу на поливе.
— Ничего не поделаешь, подрастут — помогут!
В эту минуту все услышали взволнованный удивленный голос Петяя:
— Зарядилась! Зарядилась!
Все увидели действующий сифон и были поражены не меньше, чем сам Петяй. Чудеса!
— А ну, Петяй, покажи, как ты зарядил трубку!
Все окружили мальчика. Он взял сифон, окунул его в воду, вытащил один конец. И ничего не получилось. Вода не пошла. И сколько ни силился он повторить зарядку, результат был тот же. А первый сифон продолжал подавать воду, он словно дразнил и подзадоривал ребят.
— Алексей Константинович, ведь можно и с настоящим сифоном управиться, только надо суметь догадаться, как!
— Если можно, то догадаемся, — уверенно отвечал Дегтярев и продолжал выпытывать у Петяя. — Да ты вспомни, как это у тебя получилось.
Петяй хмурил брови, морщил лоб, сопел носом. Ему было обидно: тоже изобретатель! Потерял свое изобретение!
С берега реки Катя и Дегтярев возвращались вместе. Дегтярев сказал:
— Екатерина Ильинична, что будем делать с Ольгой Дегтяревой?
— Двойки и двойки без конца…
— Хуже того, — она стала нелюдимой, бросила общественную работу. Надо вызвать ее на откровенность.
— Может быть, сначала поговорить с матерью?
— Нет, нет, сначала с Ольгой. Мне кажется, что в матери всё дело. Но в чем именно, я сказать не могу.
31
На следующий день, закончив занятия со своими малышами, Катя пришла к семиклассникам на урок географии и попросила Надежду Георгиевну вызвать Дегтяреву.
Оленька встала у карты СССР. Надежда Георгиевна молча перелистала ее дневник… Плохо, очень плохо стала учиться девочка. Начала с пятерок, а дошла до двоек. И по географии отвечает плохо. На прошлой неделе едва вытянула на тройку. Не смогла проехать водным путем из Астрахани в Архангельск, заблудилась в притоках Волги. А девочка способная, любознательная… Так, во всяком случае, казалось в начале года.
— На прошлом уроке я рассказывала вам о реках Сибири. Расскажи, Дегтярева: какие в Сибири самые большие реки, куда они впадают, в чем их значение для страны?
Оленька взглянула на бескрайние, закрашенные зеленой краской просторы Сибири, на ее извилистые реки и, как ей показалось, ощутила их холодное дыхание. Она бы еще могла кое-как перечислить эти реки, даже сказать, куда они впадают, это видно и на карге, но совсем не знает, в чем их значение для страны. Енисей, Ангара, Тобол! Они ничего не говорили ей о себе, они молчали.
Оленька урока не приготовила. Ее ждала уже не тройка, а двойка. И теперь уже двойка в четверти. Это она хорошо понимала. И ей было мучительно стыдно не оттого, что она не знает урока, а что всё это произошло на глазах у Кати. И вдруг, о чудо! Неужели ее пожалела Надежда Георгиевна? А может быть, она хочет проверить, помнит ли Оленька, что проходили раньше? Но, может быть, ей это послышалось, что от нее требуют показать на карте Ладожское озеро и рассказать о нем, — чем оно богато, какие в него впадают реки и какой проходит через него водный путь? Ладога, родная Ладога! Да сама Надежда Георгиевна о тебе знает меньше! Ведь она не была в твоих дремучих лесах, не видела твоей голубой воды, не бродила по твоим каменистым берегам. И Оленька начала отвечать:
— Ладожское озеро расположено между Финским заливом и Онежским озером. В древней Руси через Ладогу пролегал великий водный путь «из варяг в греки».
Оленька говорила о реках, впадающих в Ладожское озеро, о его рыбных богатствах, о лесах, встающих по его берегам. Она упоминала какие-то цифры, сравнивала Ладогу с другими водоемами Европейской части страны, она отвечала, как полагается отвечать урок, коротко и ясно и не вдаваясь в детали, не имеющие отношения к географии. Но именно они-то и волновали ее, были ей особенно близки. Она видела перед собой родной ладожский колхоз, которого не найти на географической карте, зато близкий и дорогой ей колхоз, в котором она жила с бабушкой Савельевной и где за зеленой листвой березовой рощи в большом белокаменном доме осталось ее детство… Ну зачем она уехала из Ладоги?
Оленька отвечала, не чувствуя, что по лицу ее текут слезы, и все слушали ее молча, боясь шелохнуться. А Надежда Георгиевна кивала ей седой головой, подбадривала и мысленно утешала: «Не надо плакать, девочка, — всё будет хорошо». Потом она нагнулась к сидящей у стола Кате и тихо сказала:
— У нее большое горе. Его не вылечишь ни двойками, ни пятерками.
После урока географии Катя задержала Оленьку. В классе никого не было, они сидели за партой, и Катя спросила прямо:
— Ты жалеешь, что уехала из Ладоги? Да? Скажи откровенно…
— Да, — едва слышно ответила Оленька.
— Дядя Павел? — осторожно проговорила Катя. Она слыхала, что Юхов хочет войти в семью Анисьи. Ведь девочка может тяжело переживать предстоящее замужество матери… И всё же для нее было неожиданным, когда Оленька взволнованно встала из-за парты и с ненавистью произнесла:
— Пусть мама его прогонит. Я не могу больше. Я уеду к бабушке. И сквозь слезы, всхлипывая и утирая глаза то платком, то рукой, поведала о всех своих горестях.
Катя не перебивала. Она внимательно слушала рассказ Оленьки и всё время думала: «А не преувеличивает ли девочка? Может быть, никакой спекуляции и нет? Просто не взлюбила Юхова и приписывает ему все грехи».
— Только ты, Катя, никому не говори про маму. Хорошо? Не скажешь?
Катя успокоила Оленьку, оставила ее готовить уроки в классе, а сама направилась к матери девочки. Анисья перебирала в кладовке груши. Маленькие — в одну сторону, большие — в другую. Базарный опыт подсказывал ей, что это лучшее средство выдержать конкуренцию с низкими государственными ценами. В магазинах не сортируют фрукты, а она подберет один к другому, покупатель за одну красоту не пожалеет уплатить дороже. Анисья обрадованно встретила Катю, угостила грушей, провела в комнату. Давно, давно Катенька не была. Ну как там Оленька? Привыкла в школе? Да чего ей беспокоиться? Иль Алексей Константинович в обиду даст!
— А как она дома, тетя Анисья? Довольны ею?
— Не могу пожаловаться, — ответила Анисья Петровна, хотя они видела, что с Оленькой происходит что-то неладное. И разговаривает неохотно, всё больше сидит в своей комнатушке, от нового пальто отказалась…
— Тетя Анисья, а вы интересуетесь ее отметками? Плохо она стали учиться.
— Господи, да неужто плохо? Я ее ладожский табель смотрела — одни четверки да пятерки. С чего бы это ей плохо учиться? Сыта, обута, одета. При матери. Ни в чем отказа нет.
— И всё же плохо она учится, — повторила Катя. — Вы зайдите завтра к Алексею Константиновичу.
— Мне в район с утра ехать!
— Тогда после уроков. Алексей Константинович будет ждать вас в учительской.
Анисья не могла пожаловаться на свои дела. Сколько раз она уже съездила в район, и всё удачно. Правда, эти поездки еще не дали ей много денег, но Юшка объяснял, что через месяц, другой деньги будут, потому что прибыль получается от оборота, а оборот у них еще не велик. Анисья с каждым днем убеждалась, что торговля торговле рознь. Раньше, когда она выносила на шереметевский базар капусту или помидоры со своего огорода, всё было просто: она продает, другой покупает, что выручила — ее. А теперь всю выручку она отдает Юшке, ей остается совсем немного. Да и торговала совсем не попрежнему. Часто случалось, что она даже не доезжала до базара. Где-нибудь по дороге, в темноте Юшка останавливал свою машину около другой, товар переваливали из кузова в кузов, и они возвращались обратно в Шереметевку. Об этом способе торговли Юшка говорил с гордостью: «Мы оптовики, а не какая нибудь розничная шушера». В подробности он не вдавался. Анисья чувствовала себя незначительным звеном в какой-то цепи. Началом этой цепи была, правда, она сама, но за ней шел Юшка, и что было дальше, она не имела никакого представления. Всё терялось в темноте ночной дороги и в ослепительном свете фар неизвестного грузовика.
Но так или иначе дела Анисьи налаживались, и она была бы довольна своей судьбой, если бы не странное поведение Оленьки да вот это неожиданное известие, что девочка стала очень плохо учиться. Почему так нескладно устроена жизнь? Одно налаживается, другое разлаживается. Неужели нельзя сделать так, чтобы всё было хорошо? Но, может быть, из-за плохих отметок Оленька молчалива, расстроена, — не подойти к ней? Только что же смотрел Алексей Константинович? Спас тебя, нашел… Чужой, доченька, чужим и останется!
32
Директорский кабинет был свободен. Алексей Константинович усадил Анисью на диван и внимательно взглянул ей в лицо. Оно было обветрено, глаза усталые. Подумал: похоже, действительно ездила в район. И, конечно, на базар. Так вот чем занялась Анисья Петровна! Скупка, перепродажа! И не одна, а с шофером Юшкой?
— Анисья Петровна, я вас вызвал по очень важному делу…
— Ума не приложу, почему Оленька плохо учиться стала?
— Это не так трудно понять, Анисья Петровна. Девочка лишена нормальной обстановки…
— И заниматься есть где, и никто не мешает ей, и книги все куплены.
— Она привыкла жить в трудовой обстановке.
— И нам хватает работы… Чего-чего, Алексей Константинович, а этого хоть отбавляй. Крутишься, вертишься, ни днем ни ночью покоя нет.
Дегтярев сердито отвернулся. Не понимает его Олейникова; не хочет понять? Придется говорить напрямик.
— Анисья Петровна, подумайте серьезно: как вы живете? Купля, продажа, базар. А тут еще Павел Юхов.
— Дочь матери не указчица…
— Да кто вы — колхозница или спекулянтка? Неужели вы не понимаете, что девочка страдает, мучается? Вы позорите и себя и ее.
Анисья слушала, плотно сжав губы, нахмурясь и не глядя на Дегтярева. Потом она поднялась и глухо проговорила:
— Ребят учить — учите, а в семейные дела не лезьте. Вы вот меня тут во всех грехах винили. И скупка, и перекупка, и спекуляция. Сказать легко, а вы докажите! Где спекуляция? А запретить мне ездить на базар не можете. Я зарплаты не получаю, живу тем, что на огороде сниму да на трудодень получу! И насчет Юхова Павла скажу. Не к вам в дом идет, а ко мне. Мне мужем, Ольге отцом! А каков он, — сама разберусь! Лучшего не подыскала!
Дегтярев сдержался:
— Ну, а как же всё-таки с Ольгой? Учится-то плохо.
— Вы их лучше учите, вот они и будут лучше учиться, — ответила Анисья и, не прощаясь, вышла из кабинета.
Оленька сидела в своей комнатке, ждала возвращения матери и рассматривала юннатовский дневник. Она видела школьное поле, изрезанное поливными бороздами, и представляла себе, как оживает земля, впитывающая в себя воду оросительного канала. И растения кажутся Оленьке живыми существами, которых надо не поливать, а поить водой. Не было перед ней ни осеннего вечера, ни маленькой комнатки, где с трудом помещались кровать и стол, вокруг чудился солнечный летний день, тот самый день, когда она впервые увидела опытное поле и еще не знала, какие горести ждут ее впереди. Но зачем думать о горестях, когда, читая дневник, можно о них забыть? Пойдет ли она в будущем году на опытное поле? А может быть, опять в звено Анны Степановны? На колхозных полях тоже будет орошение. Вот только жалко, что у нее маленькая рука. Такой рукой не зарядить настоящего большого сифона. А может быть, что-нибудь придумают ребята?
Анисья пришла расстроенная. Откуда всё известно Алексею Константиновичу? На селе говорят или увидел ее на базаре в районе и догадался? И не только про скупку знает, — и про Павла. Знать — еще не доказать, а всё-таки осторожней надо быть. Дойдет слух до председателя или до участкового — будут неприятности. Одно дело — свои овощи на базар возить, другое — скупать да перепродавать. А Ольгу она заставит учиться. Ишь, чего удумала: в Ладоге, у чужой бабки была отличницей, а у родной матери двоечница! Избаловалась у матери; вот в этом она, Анисья, виновата.
Анисья сняла пальто и громко позвала дочь:
— Ольга, поди сюда. — Девочка вошла и в нерешительности остановилась у дверей. — А ну подойди поближе. Я от Алексея Константиновича. Знаешь, зачем он вызывал меня? — Она хотела спросить Оленьку, почему у нее плохие отметки, но, увидев смущенное лицо Оленьки, еще не зная, верить или нет мелькнувшей догадке, крикнула: — Ты ходила на меня жаловаться? Говори!
Она подошла к дочери, сжала ее руку и вывела на середину кухни, словно желая лучше рассмотреть ее.
— Молчишь? Значит, угадала? Спасибо, дочка! — И, отвернувшись, коротко приказала: — Ступай, принеси корзины из сарая и почини их.
Оленька не двинулась с места.
— Не слышишь, что ли? — прикрикнула Анисья.
— Я не пойду, — тихо и не глядя на мать ответила Оленька. Не буду тебе помогать спекулировать. Я бабушке напишу.
Анисья на минуту растерялась. Да понимает ли Оленька, что говорит? Кто ее научил, натравил на мать? Старая бабка, Дегтярев, Катя? Не сама же додумалась! Но тут же мелькнуло: а не всё ли равно? Стыдит и поучает мать! А кто кого кормит: она — дочь или дочь — ее?
— Принеси корзинки, а не принесешь, смотри у меня!
Теперь всё стало Анисье понятно. А она-то еще гадала, почему Оленька бросила пальто! Не понравился материал или неладно сшито? Известно, какие нынешние деревенские девчонки, привередливее иной городской барышни. И убивалась, — не больна ли Оленька? Почему молчит, неразговорчива? И об отметках тужила. Теперь ей всё ясно. Не согласна с жизнью матери! Ишь, что девчонке пришло в голову! Да чувствует ли в ней Ольга свою мать? А может быть, ей какая-то там бабка Савельевна родней? Анисья вспоминала день за днем жизнь дочери в Шереметевке и вдруг ясно себе представила, что с первого же дня ее тянуло не в дом, не к ней — матери, а куда-то на сторону, к чужим людям, в колхоз и даже в далекую Ладогу. Тяжелая обида откликнулась болью в сердце, охватила всё ее существо и породила суровую решимость — заставить дочь, если не полюбить, то подчиниться, жить интересами семьи, помогать ей во всем. Избаловала она девчонку, во-время не взяла в руки. Что же получается? Мать по дорогам да базарам мыкается, не досыпает, дрогнет на холоде, а приезжает домой — дочь встречает ее, как чужую. А для кого, как не для нее она так старается? Теперь хватит потакать. Уму-разуму надо учить девчонку!
С того дня Оленька придирчиво стала следить за каждым шагом матери, подмечать в ней всё новые и новые недостатки. Как жадно мама считает деньги, словно впивается в каждую бумажку! И голос стал простуженный, хриплый… А глаза нехорошие: то колкие и злые, то мутные, словно ничего не видят… Оленька уже знала, что если кто-нибудь из соседей постучит в окно и вызовет мать, — во дворе пойдет разговор о купле. Мать будет стараться купить подешевле: «Ох, милая, беру себе в убыток» — и начнет выжимать копейку за копейкой, и особенно у тех, кому к спеху деньги. А как она хитрит: одно спешит продать, другое прячет, выжидает хорошую цену. Она видела мать то скупой и безжалостной, то хитрой и старающейся казаться людям какой-то бедненькой. Все эти торговые дела вызывали в Оленьке отвращение и заставляли ее страдать.
Анисья замечала в дочери только одно — упрямство, враждебность, нежелание помириться с ней. И ей казалось, что от того, как она, мать, себя сейчас поведет, будет зависеть, станет ли Оленька настоящей дочерью или оторвется от нее и, кто знает, не останется ли навсегда чужой. Ее преследовала одна мысль: надо сломить девчонку, иначе всё пропало.
— Чего лодырничаешь! — говорила она ей, возвращаясь из поездки или от Юхи и видя, что Оленька за столом читает книгу. — Всё равно толку от твоего учения нет. Двойки да двойки. Иди помоги лучше яблоки перетереть.
На кухне появлялся ящик с яблоками, и Оленька принималась за работу. А Анисья раздраженно покрикивала:
— Шевели, шевели руками! Каждое яблоко осмотри. Это тебе не колхозной капустой торговать.
Оленька не могла не подчиниться матери. Она выполняла всё, что от нее требовали: чинила корзины, перебирала яблоки, рядами укладывала их в солому. Но делала, не скрывая своего отвращения, как бы говоря: всё это грязно, подло, позорно. В ней росло внутреннее сопротивление, и она еще сама не знала, во что оно выльется. И только одно смущало ее. Она всё рассказала Кате, всё известно Алексею Константиновичу, но никто за нее не заступился, а мама стала относиться к ней еще хуже. Неужели Катя и Алексей Константинович ей не верят? Ну конечно, не верят.
По вечерам приходил Юшка. Анисья, перехватив недружелюбный взгляд Оленьки, снова покрикивала:
— Чего волком смотришь, дай табуретку!
Оленька пододвигала Юшке табуретку и, ни слова не говоря, и, направлялась в свою комнатку.
— Куда? — останавливала ее мать. — Сиди здесь!
Выбрав время, когда матери не было, Оленька писала в Ладогу. Она рассказывала о своем горе, о том, как ей плохо в Шереметевке. Но ни одного письма не отослала. Думала: зачем расстраивать? Вместо горьких, грустных писем она наспех отправляла коротенькие открытки: «Приезжай!» И вела счет дням. В Ладоге давно уже всё убрали — и овощи, и хлеб, и картофель; почему же бабушка не едет? Если она приедет, всё изменится. Она прогонит Юшку и сумеет сделать так, чтобы всё было хорошо.
Но Савельевна не ехала, и Оленька чувствовала, что с каждым днем ей становится всё трудней.
Хоть ей и не верят, но она-то знает, что готовится поездка в большой город за триста километров. Юшка погонит туда, чтобы сменить мотор колхозной трехтонки, и по пути доставит целый кузов всяких товаров.
К этой поездке скупалось только самое ценное и выгодное. Юшка подбадривал Анисью:
— Съездим и сразу рванем тысяч пятнадцать чистенькими.
Юшка отдавал нужные распоряжения, а потом шел в чайную. Там он подсаживался к каким-то своим приятелям, разговаривал с ними вполголоса, а потом после нескольких кружек пива, многозначительно посматривая на дружков, запевал на всю чайную: «Умирать нам рановато».
33
В пионерской комнате шла подготовка к первому школьному вечеру. Как и полагается, в программе предстоящего вечера были хореографические номера, художественное чтение, гимнастические упражнения, музыка и пение. Особое значение придавалось выступлению Зойки с ее Феклой Ферапонтовной.
Фекла Ферапонтовна высмеивала школьных футболистов и их болельщиков, которые обо всем разговаривают на футбольном языке: двойка — гол, учитель — тренер, опоздать в класс — оказаться вне игры, списать у соседа — короткая передача, шпаргалка, переброшенная с последней парты, — длинная. Доставалось и перегруженным активистам, которые из-за недоверия к другим берут все классные нагрузки на себя:
«Активисты норм не знают, Сто нагрузок поднимают, Сто нагрузок, сто прорех. Не работа — один грех».Но особенно обрушивалась Фекла Ферапонтовна на ребят, которые любят ругаться. Она их прозвала индюками. Было какое-то сходство между руганью и индюшечьим лопотаньем. Задолго до вечера, уже после первых репетиций, «индюки» стали посмешищем всей школы. Пришлось им сбавить прежнюю лихость, они не знали, куда деться от насмешек Феклы Ферапонтовны.
В пионерской комнате горел яркий электрический свет, было людно и шумно, и Кате, которая руководила подготовкой к вечеру, приходилось часто призывать к порядку неугомонных артистов:
— Зоя, начинаем! Ребята, кто будет мешать, — прогоню.
Сцену условно представляли два, поставленных друг против друга, стула. Между этими стульями и репетировались все номера будущего вечера. Зою сменял Володя с гармонью, затем выступала восьмилетняя певунья, лихо вылетали танцоры, показывали свое искусство акробаты. Из присутствующих только Егорушка и его друг Петяй не участвовали в самодеятельности. Они считали, что пение, музыка, танцы — дело, не совсем подобающее для таких деловых людей, как они. Впрочем, это не мешало им торчать на всех репетициях.
Вдруг, остановив номер, Катя подозвала к себе Егорушку:
— Чуть не забыла. Ступай в учительскую, там тебя ждет Алексей Константинович.
Егорушка вышел из пионерской.
— Вы меня звали? — спросил он, входя к Дегтяреву.
— Проходи, садись! С Дегтяревой не помирился?
— Она сама не хочет.
— А надо. Понимаешь, для чего? Нет? Нужно, чтобы она почувствовала, что у нее есть товарищи, друзья, что они готовы ей помочь…
— Я не против, Алексей Константинович.
— Так сходи к ней и убеди, чтобы она участвовала в вечере.
Егорушка предпочел бы получить от Алексея Константиновича нагоняй, чем выполнить такое нелегкое поручение. Он шел по улице и размышлял над тем, как ему войти к Дегтяревой, когда мать ее, Анисья, его терпеть не может. И как он заговорит с ней, когда она считает себя обиженной и не хочет с ним мириться? Возьмет да скажет: проваливай туда, откуда пришел! Нет, рисковать он не будет. Никаких разговоров дома. Его прислал Алексей Константинович! Дегтяревой — немедленно в школу! Зачем? Не знаю! И вот, когда она выйдет из дома, по дороге он с ней поговорит. И получится так: согласится она — хорошо, сразу с улицы и на репетицию, а нет — приведет к Алексею Константиновичу и скажет: «Что я вам, агитатор? Уговаривайте сами!»
Во дворе Оленькиного дома стояла автомашина. Ее фары освещали двор. Тонкие лучи яркого света пробивались сквозь плетень. Егорушка увидел у машины Юшку и Анисью. Анисья что-то сказала и села в кабинку, Юшка возился с мотором. Потом и Юшка исчез в кабинке, и автомашина, как бы унося с собой со двора свет, выехала за ворота и исчезла в темноте осеннего вечера.
Егорушка открыл калитку. С отъездом Анисьи выполнение задания значительно облегчалось. Однако приступить к нему без предварительной разведки он не решался. Егорушка подкрался к кухонному окну, осторожно приоткрыл ставни. Как ни говори, прежде чем войти, надо же узнать, что делает Дегтярева. Уроки учит? Хозяйничает в кухне? Увидел он то, чего совсем не ожидал. Оленька спала. Но как? За кухонным столом, уткнувшись головой в локоть. Егорушка даже обрадовался. И пусть спит. Так он и скажет Алексею Константиновичу. Никто не придерется, что поручение не выполнено. Не тащить же сонную на репетицию! И вдруг Егорушка понял, — она плачет, ее кто-то обидел. Не раздумывая, метнулся к крыльцу и толкнул дверь.
Оленька подняла голову. Увидев Егорушку, она смущенно, с неловкой поспешностью стала утирать заплаканные глаза.
Егорушка знал, что Анисья уехала, но на всякий случай спросил, оглядывая кухню.
— Никого нет?
— Нет, — сквозь слезы ответила Оленька.
— Пойдем в школу, — не совсем смело продолжал Егорушка, присаживаясь на скамейку и глядя в сторону. — Там без тебя что-то не ладится… С этим самым вечером.
— Без меня? — удивилась Оленька.
— Алексей Константинович велел! А на меня не обижайся… Я не со зла. Это от неправильного подхода получилось! — И, не давая Оленьке опомниться, приказал: — Одевайся — и пошли! Ведь ждут!
Оленька послушно встала из-за стола, сняла с гвоздя свою бархатную жакетку, но тут же отбросила ее в сторону и решительно заявила:
— Не пойду!
— А как же в школе? Ведь ждут. А?
— А пусть ждут, а я не пойду. — Она резко отвернулась и готова была выбежать из кухни, чтобы спрятаться в своей маленькой комнатушке, но вновь повернулась к Егорушке:
— Всё равно ты со мной не будешь дружить.
— С места не сойти, буду.
— Всё равно не будешь! А говоришь так потому, что ничего не знаешь. — И тихо, словно боясь, что ее могут услышать на улице, сказала: — Хочешь, скажу, кто моя мать? Всё торгует и торгует! Вот… — глаза ее снова наполнились слезами, и она даже воскликнула. — А ты говоришь: «С места не сойти»!
Но Егорушка весьма спокойно воспринял новость. Базар, торговля! С него хватит. Сам не намерен, и Оленьке не советует вмешиваться в базарные дела. И с безразличием, которое он довольно успешно сумел изобразить, Егорушка сказал:
— Да плюнь ты на этот базар!
— Ты не так понял…
— Чего тут понимать? — отмахнулся Егорушка. — Базар и есть базар! Ну, торгуют!
— Совсем не то, — словно от боли, поморщилась Оленька. — Мама не своим торгует на базаре, а перекупает. Понимаешь? Перекупает!
Оленька умолкла.
— Значит, спекулирует? — как бы поясняя самому себе, спросил Егорушка.
— Спекулирует…
— Да ведь не ты, а она!
Он понимал ее горе, а помочь ничем не мог. А что бы он сам сделал, если бы оказался в положении Дегтяревой? Ничего! И чтобы скрыть свою беспомощность и острое чувство жалости к ней, сказал с нарочитой грубоватостью:
— Чего тут разговаривать! Пошли!
34
Оленька шла с репетиции с Володей Белогоновым. Теперь его обучала нотной грамоте фельдшерица из сельской амбулатории, но он всё же считал, что именно Оленьке обязан тем, что скоро, очень скоро будет музыкантом. Но вот только каким? Они шли не спеша, и Володя говорил:
— Я недавно читал книжку одного пианиста. Знаешь, как он думал: либо быть известным артистом, либо совсем не играть. Ты как считаешь? Правильно он говорит? По-моему, нет. А разве тот не музыкант, кто для себя играет, для своих знакомых? Я совсем не хочу быть известным артистом, а играть хорошо хочу. Вот ты хорошо поешь; разве ты думаешь стать певицей?
— Нет…
— Вот видишь. И я тоже… Буду агрономом и музыкантом.
— А я никем не буду. Колька Камыш правильно сказал: зря я нашлась…
— Нашла кого слушать. Да и брось ты об этом говорить. Мать грешит, а ты каешься. Давай лучше подумаем, с чем ты выступишь на вечере. Одной песни мало…
Мать была уже дома. Сурово взглянув на дочь, она придирчиво сказала:
— Ночь на дворе.
— Я с репетиции.
— Мало двоек?
— Завтра воскресенье…
— У тебя вся неделя воскресенье! — Анисья понимала, что она всё время придирается к дочери, но изменить свое отношение к ней не хотела. Упустишь вожжи, потом попробуй управься! Нет, уж лучше покруче: «Оля, за водой! Оля, подмети пол, Оля, вымой посуду!» Ее не устраивало, что всё это Оленька делала по своему желанию. Нет! Важно было приказать, прикрикнуть, дать почувствовать материнскую власть. Она даже перестала называть ее Оленькой. Оля, Ольга, а один раз даже сказали «Ишь ты какая, Дегтярева». Любовь ее к дочери, еще недавно полная жалости, стала суровой, требовательной.
Поздно вечером, когда Оленька возвращалась с репетиции, кругом была голая, черная земля, легкий ветерок шуршал еще не опавшими листьями калины, а утром всё стало белым-бело от снега. Наступила зима. И то ли оттого, что ярче стал гореть в печи уголь, то ли оттого, что снег прикрыл промерзшую осеннюю землю, если не в воздухе, то на душе у Оленьки как-то потеплело, и она с большой охотой побежала по воду и, веселая, возвращалась к дому, забыв даже о том, что, наверное, мать опять начнет к ней придираться.
В полдень пришел Юшка. Анисья подогрела на плите кофе и подала гостю. Юшка не отказался, но пил без особого удовольствия.
— Кофе натуральное — это кофе! А которое из ячменя или желудей — суррогат…
— Сахару побольше возьми!
— От сахару ячмень кофеем не станет, — всё же потянулся за сахаром Юшка. — Природа у ячменя не та. Настоящее кофе — оно с кофейного дерева. Это понимать надо!
— Зерна другие…
— Вот именно, как и в торговле. Вот раньше, говорят, была торговля! Кто ловчей — тот с прибылью, кто глупей — с убытком. А ловкому и прибыль и почет. Перед ним шапку драли, а дураку по шапке давали. А нынче? Суррогат! Сегодня словчил, а завтра за свою же ловкость каяться готов, дураком прикидываешься, чтобы не дали по шапке. Вот оно какое кофе…
— Еще налить? — нагнула чайник Анисья.
— Погорячей… — И, отпивая из блюдца, продолжал: — Через неделю, Анисья, поедем… В году три праздника: Май, Октябрь да Новый год. А под праздник самая лучшая торговля… В школе-то когда каникулы?
— А что нам школа?
— Пусть Ольга приучается.
— Вдвоем управимся!
— Много товара. Ольге надо ехать!
Анисья не ответила, покосилась на дверь и громко позвала:
— Ольга!
Оленька вышла не сразу.
— Сорок раз кричать, что ли, тебя? Каникулы когда у вас?
— С двадцать пятого!
— Поедешь с нами на машине в город. Поможешь мне на базаре.
— Город большой, хороший, — добавил Юшка. — В цирк сходим…
Оленька взглянула на мать, потом перевела глаза на гостя и молча отвернулась. Никуда она не поедет. И не нужен ей цирк. Анисья вспыхнула. Опять упрямство? Она ощутила сопротивление дочери, и ее охватило ставшее уже привычным желание сломить это сопротивление, заставить Оленьку подчиниться.
— Ты что отвернулась? С тобой говорят или нет?
— Я не поеду, — тихо и решительно произнесла Оленька.
— Вот оно что, — сдержанно, но готовая уже взорваться, сказала Анисья. — Мать не мать, что хочу, то и делаю! Так, что ли?
— Я не поеду, — повторила Оленька.
— Поговори еще! — рванулась к дочери Анисья.
Но Юшка удержал ее, отвел в сторону и усмехнулся не злой, но обидно снисходительной улыбкой.
— Такая хорошая девочка, а мать не слушается. Давай сядем поговорим… Вот так! А теперь обсудим с тобой, почему ты не хочешь нам помочь… Скупка, спекуляция, — нечестно, так ведь? Слыхал, рассказывала про тебя мать. Только скажи, ежели бы тебя назвали не Ольгой, а Епифанией какой-нибудь, стала бы ты от этого хуже? Так и тут. Скупка, спекуляция, а на деле самая полезная торговля. Ежели каждый будет со своим огородом на базар ездить, и работать некому в колхозе станет. А кто дешевле продаст: у кого товара меньше или больше? У кого больше! Опять польза людям. Что же еще нечестного осталось? Прибыль? Так ведь за труд человеку свое полагается? А торговля — самая ответственная работа. Всяких ученых да изобретателей вон сколько у нас, а с торговлей не наладилось… Так почему же матери твоей за все ее труды и рубля лишнего заработать нельзя?
Оленька слушала растерянная, сбитая с толку, не зная, что возразить Юшке. И хоть он завладел ее вниманием и его доводы звучали убедительно, всё же у нее было такое чувство, что ей показывают какой-то хитрый фокус, когда у всех на глазах черное становится белым. Юшка действительно фокусничал. И его мошенническая ловкость сразу стала бы понятна Оленьке, если бы она догадалась, что он думает только об одном: как бы побольше урвать для себя. А зарабатывает он главным образом на том, что умеет прятать товар и не налаживает, а разваливает торговлю.
Юшка видел, что Оленька не может возразить ему, но в то же время для него было ясно, что все его доводы не уничтожили недоброжелательство ее, и он продолжал свое наступление:
— Как хочешь, Оленька, можешь ехать, а нет, так не надо!
— Я ей дам, узнает, как своевольничать! — вмешалась мать.
— Силой зачем же, Анисья? В торговле силой ничего не сделаешь, объяснить надо. Ты знаешь, Ольга, за что нашему председателю колхоза Семену Ивановичу Копылову строгий выговор был? Торговлишкой попрекал. Вот ему и указали — не лезь своим председательским носом в торговые дела. Вас-то, пионеров, тоже, наверное, просвещают, что базар не позор. Верно ведь? То-то и есть. А будет еще не то. Думаешь, легко плохому колхозу хорошим стать?
— Не легко, а станет! — убежденно проговорила Оленька, едва разговор от незнакомой и чужой для нее темы перешел на колхоз. Вот будет орошение — и станет.
— Пока богатство придет, от бедности брюхо сведет, — пренебрежительно ответил Юшка. — Орошение! А что такое орошение? Беда! Корка от воды, машинам негде будет развернуться, опять же людей нехватка! Еще хуже будет!
Оленька поняла, Юшка ничего не знает. Что значит корка? На то и культивация, чтобы не было корки. И на то временная оросительная сеть, чтобы было где развернуться машинам. Что еще? Не хватит людей? Хватит, если применять квадратно-гнездовую посадку картофеля и квадратную — овощей. А если Юшка этого не понимает, то пусть на будущий год приходит на школьный участок и убедится. Да она может ему и сейчас доказать… Но, взглянув в его маленькие глаза, она вдруг поняла, что всё, что он говорит ей, это нечто большее, чем желание заставить ее согласиться поехать на базар. Юшка хотел, чтобы она доверилась ему, прониклась его мыслями, смотрела бы на жизнь так, как смотрит он сам. Нет, этого не будет. Пусть говорит всё, что хочет.
— Колхозы, колхозы, а на проверку каждый сам за себя, — продолжал Юшка. — Что, не так разве? Возьмем комбайнеров, которые по тысяче гектаров убирают. Что им хлеб? Они деньги да ордена зарабатывают! Опять же про ученых. Они сознательные. А почему им машины и дачи? И мне много надо! Может быть, больше всех. Я торговать умею!
Юшка был полон несвойственного ему волнения. Никого не стесняясь, безбоязненно он высказывал свои мысли. Так вот чем хороша еще своя семья. Говори что хочешь — ты всему владыка, и все тебя должны слушать и слушаться. Он был в восторге от собственных мыслей. Они захватили его и несли куда-то в неведомую даль неясного призрачного будущего, реальное представление о котором оказывалось всё тем же базаром.
Оленька не знала мыслей Юшки, но то, что он теперь говорил, оскорбляло ее лучшие чувства. Юшка обливал грязью самоотверженную работу комбайнеров и возвышенный труд ученых. То, чему она была обязана своей жизнью, то, что для нее было святым, Юшка опорочивал, произнося даже самое слово «колхоз» пренебрежительно. Он старался внушить ей, что жизнь — сборище подлых людей, заботящихся только о себе и готовых перегрызть друг другу горло. Нет, жизнь совсем не такая. Она знает это по себе. Совсем чужие люди ее кормили, одевали, учили… Так какое же право у Юшки так говорить о жизни? Он сам подлый, грязный, хуже зверя. Человек, ставший зверем. Так вот они какие — спекулянты! И всё в Юшке показалось ей страшным. Его маленькие сверлящие глазки, круглое лицо с мелкими, как у кошки, зубами, весь — он в своей кожанке на коротеньких ногах. Не такое ли у нее было чувство, когда однажды в детском доме она вышла в темный коридор и в ночном окне ей представился упырь, о котором им рассказывала старая няня? Так вот когда она увидела настоящего живого упыря! И она его терпит, разговаривает с ним в своем доме, в доме своей матери. И этот человек — ее будущий отец. Оленьку охватило смешанное чувство страха и гадливости, она отшатнулась, словно намеревалась бежать из комнаты, но потом рванулась к Юшке и закричала так, что, наверное, ее было слышно на улице.
— Уходи отсюда, упырь! Уходи!
Оленька даже не заметила, как мать с силой схватила ее за руку. Она лишь увидела совсем близко ее глаза; они смотрели ненавидяще, увидела ее лицо, обезображенное злобой, и вдруг почувствовала удар.
— Зачем я тебя нашла? Горе свое я нашла!
Оленька едва не упала. Она прислонилась к стене и слепо взглянула на мать. Но видела она перед собой чужого человека. Кто дал этой женщине право бить ее? Так вот что значит мать. Чужие не имеют права бить, а мать может? В Оленьке как будто что-то оборвалось. И не было жалости ни к себе, ни к матери. Она вскинула голову и смело прошла мимо матери к двери в свою комнату так смело, что мать отодвинулась, и только после того, как за Оленькой закрылась дверь, закричала ей вслед:
— Поедешь? А нет, — шкуру сдеру!
Анисья еще никогда не была в таком состоянии. Ее лицо стало бледным, губы дергались, она кричала с угрожающим пришептыванием. Но чем больше угрожала мать, тем спокойнее себя чувствовала Оленька. Теперь, когда она уже не ощущала к матери любви, та была бессильна подчинить ее себе. Нет, она не будет заодно с матерью в ее нечестных делах. И ни за что не согласится поехать на базар, пусть хоть убьют!
Оленька достала из стопки книг атлас. Вот здесь шереметевская степь, а вот тут, у Ладожского озера, родная Ладога. Как близко всё на карте и как далеко, если представить себе путь по железной дороге! И, глядя на карту, Оленька тихо рассмеялась. Теперь она знает, что делать. Надо бежать в Ладогу. Всё просто и ясно. Даже удивительно, как она раньше до этого не додумалась.
За дверью еще бушевала мать. А Оленька стояла над картой и думала о предстоящем бегстве. Ну вот и кончились все ее беды! Скоро она будет в Ладоге, и снова начнется прежняя счастливая жизнь…
35
Бегство требовало большой подготовки. Так просто, без билета и денег в поезд не сядешь. Дорога дальняя — три дня пути. И самым трудным казалось достать на дорогу деньги, хотя на сберкнижке у Оленьки лежало столько, что хватило не только бы до Ладоги, но и до Курильских островов. Где взять деньги, она знала, — в сберкассе. Но вот как их получить? Выдадут ли ей без разрешения матери?
После уроков Оленька направилась на почту. Почта выходила окнами на базар, и к ней со всех концов села тянулись провода. В небольшом домике с резными наличниками и крашеным крыльцом помещалась почта, телефонная станция и, что было особенно важно, сберкасса. Оленька осторожно открыла дверь, и ей в лицо дохнуло теплом печи, запахом свежих газет и жженого сургуча. Почта была разгорожена деревянной стойкой на две половины. По одну сторону стоял для посетителей длинный, испачканный чернилами стол, а по другую, за стеклянными окошечками, дробно стучал телеграфный аппарат, глухо бил по конвертам почтовый штемпель. И на всю почту был слышен голос телефонистки: «Шереметевка слушает! Соединяю! Нюра, дай Абакановку! Что? Пусть слезает с провода! Шереметевка! Занят, позвоню. Москва? МТС, говорите с Москвой!»
Оленька подумала: раз можно говорить с Москвой, — значит, можно говорить и с Ладогой. Она представила себе правление ладожского колхоза, телефонный аппарат на стене; ей захотелось позвонить, вызвать бабушку, поговорить с ней. Нет, так ничего не получится. Надо бежать. И никому не удастся вернуть ее из Ладоги. Оленька волновалась и не решалась сразу подойти к окошку сберкассы. Она начала читать объявления и вскоре не только знала, как надо посылать телеграммы с оплаченным ответом, но и выяснила, что поезда на север проходят ночью, под утро и днем.
Наконец Оленька решилась и протянула в окошко свою сберкнижку.
Ей посчастливилось. Она, оказывается, могла распоряжаться своим вкладом. И, получив триста рублей, поспешила на улицу. Теперь оставалось сохранить в тайне подготовку к побегу.
Но в действительности самым трудным оказалось совсем другое. Когда у нее уже были деньги и в сарае лежал надежно спрятанный узел, она вдруг подумала о том, а как же она явится в Ладогу с табелем, где будут двойки по истории, математике и даже литературе. Ольга Дегтярева — двоечница. Что ей скажут в ладожской школе? Что ей скажет бабушка? Учиться не захотела, вот и сбежала от матери! Оленька решила во что бы то ни стало до каникул исправить свои плохие отметки, закончить четверть без двоек. Это и было самым трудным в подготовке к бегству из Шереметевки.
Еще никогда она не сидела так много за книгами. Было похоже, что ей предстоит сдавать экзамены. Она уходила в свою маленькую комнатушку сразу же после обеда и сидела там до глубокой ночи. Путь в Ладогу лежал через трудные теоремы и алгебраические задачи, через битвы и сражения средних веков, через сложный разбор литературных произведений. Но зато какой это был радостный путь!
Оленька изменилась. Еще совсем недавно молчаливая, замкнутая, она стала общительной, охотно принимала участие в подготовке к школьному вечеру, в перемену играла с ребятами в снежки. Эту перемену видел Алексей Константинович и решил про себя, что дружба с ребятами, особенно с Егорушкой, отвлекла ее от запутанных семейных дел. Прислушиваясь к тому, с какой внутренней радостью Оленька поет на репетициях свои песенки, была довольна и Катя. Но, пожалуй, больше всех радовалась мать. После того, как она ударила Оленьку, девочка присмирела, стала хорошо заниматься. Вот что значит во-время образумить упрямицу! Был характер колкий, шершавый, что дерюга, а стал мягкий, вот уж верно говорят, — шелковый. Надо будет, теперь и в область поедет…
Только один Егорушка воздерживался от каких-либо выводов. Уж что-то больно хорошо стала Ольга Дегтярева учиться, что-то слишком весела. С чего бы это? Мать обещала больше не спекулировать? Как бы не так! Попрежнему Юшка вечерами ездит с ней. Что-то всё возят…
В эти напряженные дни Оленька иногда забывала о побеге. Обида на мать притупилась, о поездке на базар ей не напоминали, а Юшка, если и заходил к ним, то не засиживался и больше не пытался высказывать перед ней свои взгляды на жизнь.
Но, наконец, кончилась четверть, и в этот день всё решилось. Оленька получила табель без единой двойки, вечером ей предстояло выступать в школьном концерте, а перед концертом она узнала, что завтра вместе с матерью и Юшкой она должна поехать на областной базар.
Надо было бежать. Как долго и тщательно она готовилась к этому, и вдруг оказалось, что многое еще ею не сделано: нет еды в дорогу, не положены в узел валенки, и, вообще, она даже не решила, с каким поездом уедет. Ясно было одно: она не подведет товарищей, а потому обязательно выступит на вечере. Но после концерта она во что бы то ни стало должна бежать. Если останется до утра, то станет сама спекулянткой и навсегда опозорит себя. Бежать, бежать, бежать!
Оленька одевалась к концерту. Дрожащими руками примерила новое платье, заплетала косу, застегивала новенькие туфли. С каким бы удовольствием она сменяла всё это на лыжный костюм и сапоги! Ведь ей предстоит идти ночью по снежной степи…
Школа светилась огнями. Они сверкали в окнах. Пятна яркого снега падали на школьный двор и дорогу. До начала вечера оставалось еще полчаса, но в школе было уже много народу. Оленька отдала на вешалку свой полушубок и побежала за кулисы. За кулисами собрались почти все участники самодеятельности. И все наперебой, взволнованно обращались к Кате с какими-то возникшими неотложными делами.
— Екатерина Ильинична, как мне быть, а вдруг забуду?
— Екатерина Ильинична, вы далеко не отходите.
— Екатерина Ильинична, Екатерина Ильинична, Екатерина Ильинична!..
Катя слушала, отвечала и вдруг, вспомнив, говорила:
— Ах да, Зоя, не спеши, произноси слова отчетливее. А ты, Володя, когда аккомпанируешь, не забывай, что ты не один на сцене. И еще, когда декламируете…
И, не досказав, бросалась за иголкой, чтобы пришить к платью маленькой плясуньи готовый оторваться бант. И снова: «Екатерина Ильинична, Екатерина Ильинична!»
Все спешат, все волнуются, стараются что-то сделать в самую последнюю минуту, хотя уже поздно да и ничего не надо делать, потому что целый месяц шли репетиции.
Оленька стоит в стороне и смотрит в зал через глазок занавеса. На какой сцене, в каком занавесе нет этого маленького, совершенно невидимого для зрителя глазка, в который с волнением смотрят и старый опытный актер и впервые выступающий на сцене участник драматического самодеятельного кружка! Но Оленька равнодушна к своей сценической славе, ее не волнует, как она выступит на концерте, и смотрит она в зал безучастно. Зал уже переполнен, и пришедшие позже других занимают подоконники и выстраиваются вдоль стен. И учителя все на месте. Они сидят сбоку, чтобы не заслонять сцену. Вот Елизавета Васильевна, вот Алексей Константинович, Антон Антонович, Надежда Георгиевна… Среди многочисленных зрителей Оленька замечает Егорушку. Он что-то рассказывает своему неизменному спутнику и другу Петяю. А неподалеку Колька Камыш. Он сидит, свесив ноги с подоконника, будто удит рыбу.
Оленька оторвалась от глазка. Почему не начинают? Скорей бы… Но вот мимо куда-то пробежала Катя. В руке ее мелькнул и зазвенел колокольчик, и на сцене уже выстроились открывающие вечер физкультурники.
Из-за кулис ничего не видно, можно только слышать, что делается на сцене. Но слушала Оленька невнимательно, и о том, хорошо ли принимали зрители нового артиста, она судила по взрывам аплодисментов. Они возвращали ее к концерту, на сцену в зал шереметевской школы то из снежной степи, то из далекой, далекой Ладоги.
Но когда выступала Зойка, она видела то, чего не мог увидеть зрительный зал. Над ширмой разговаривала, смеялась и кричала Фекла Ферапонтовна, а за ширмой стояла Зойка, которая управляла ею и делала тряпочную куклу живой, веселой, смеющейся и заставляющей верить в каждое ее слово. Зойка то приседала, то поднималась на цыпочки, то хмурилась, то радостно улыбалась. Оленька наблюдала за ней сбоку и, не видя Феклы Ферапонтовны, смеялась со всем залом и даже с завистью подумала: «Нет, далеко мне до Зойки — сама сочиняет, сама и выступает, как настоящая актриса». Потом Володя Белогонов играл какую-то грустную мелодию, и Оленьке казалось, что он понимает ее, сочувствует ей и даже утешает ее.
Неожиданно она услышала:
— Дегтярева, тебе выходить…
Оленька, не раздумывая, шагнула на сцену. Она любила петь, но со сцены только в хоре выступала. Голос был какой-то чужой, неслушающийся ее. Наконец она овладела им, дала ему полную свободу.
«Ты постой, постой, красавица моя, Дай мне наглядеться, радость, на тебя…»Несущаяся снежная пелена представилась ей. Казалось, метель под хватила и понесла ее в ночную степь.
Оленьку не отпускали со сцены. Она пропела «Метелицу», «Гармонь», «Степь широкую», а зал требовал от нее петь и петь еще. Нет, некогда. Уже девятый час. В ее распоряжении не так уж много времени. Больше петь она не будет. И в это время она услышала, как Егорушка крикнул:
— Спой свою любимую!
Его поддержали.
— Любимую, любимую!
Смущенная Оленька вышла на край сцены. Она споет свою любимую песенку. Так она попрощается со всеми. И Оленька запела.
«И снова встречусь я с тобой, Моя любимая…»Далекая, любимая Ладога! О тебе были слова этой песни. К тебе неслись думы девочки, ты согревала ее воспоминаниями детства, и тебя вспоминала она в час горя. Далекая, родная Ладога, близок конец разлуки!
«И снова встречусь я с тобой, Моя любимая…»Но может быть, эта песня о степи? Может быть, Оленька прощается со степью и обещает ей снова вернуться?
Оленька сбежала в раздевалку. Она уже надевала полушубок, а в зале еще дружно хлопали и требовали ее на сцену. Нет, больше она не может задерживаться. Прощай, школа! У калитки ее нагнал Егорушка.
— Ты куда, Оля?
Он стоял перед ней без шапки, без пиджака, в сатиновой косоворотке.
— Домой! — Нет, она не обманывала Егорушку. Ведь в Ладоге ее дом.
— Останься!
— Не могу!
— Останься, Оля!
— Больше не могу. — Оленька протянула руку Егорушке. — Ты забудь, что мы были в ссоре… И не верь, если про меня скажут плохое. Не верь, Егорушка.
И прежде, чем он успел что-либо ответить, она поцеловала его, бросилась прочь от калитки и скрылась в темноте.
Вот и попрощались!
А теперь скорее, скорее добежать до дому и, главное, незаметно пробраться в сарай.
Дома горел свет. Оленька тихо прошла в сарай, взяла спрятанный там узел и подкралась к кухонному окну. Увидела мать. Она о чем то весело разговаривала с Юхой. Такой она ее любила. И внезапно почувствовала, что если еще минуту простоит перед окном, то войдет в дом. Ни за что! Ведь иначе надо будет ехать с Юшкой.
Оленька отступила от окна, вышла на улицу и зашагала в ночную снежную степь. А в небе, не отставая, пробивался через белые сугробы облаков молодой месяц. Не то он провожал ее через степь или тоже спешил к ночному поезду на Москву?…
36
Вокруг лежала степь, смутная, неясная, полная непонятных голосов, то напоминающих шум ветра в придорожных лесных полосах, то похожих на далекое подвывание волчицы.
Только в степи Оленька отчетливо и ясно представила себе, что вот она ушла от матери, и теперь, оставив далеко позади Шереметевку, идет на станцию к ночному поезду, с которым она сначала доберется до Москвы, а оттуда в Ладогу.
Дул встречный холодный ветер. Оленька шла, спотыкаясь о комья смерзшейся земли, и дрожала. От холода, что ли? Но потом как-то сразу потеплело. Может быть, от ходьбы, а может быть потому, что изменился ветер и пошел снег? Он ложился на дорогу и делал ее скользкой. Идти стало еще труднее. И всё же Оленька прибавила шагу, думая лишь о том, чтобы скорее уехать навсегда из Шереметевки. Всё было как во сне: ночная степь, мелькающие вдалеке огни Шереметевки и страх перед чем-то неведомым, что ждет ее впереди. И Оленьке временами казалось, что стоит ей проснуться — и всё исчезнет.
Наконец засверкали огни. Снег перестал, степь посветлела, ясно слышались отрывистые гудки паровоза.
В маленьком станционном зале было тепло, не ярко горела спрятанная в колпак электрическая лампочка. На черной, такой же, как в школе, доске Оленька прочитала расписание поездов, присела на широкую, с высокой спинкой скамью и стала ждать, когда откроется касса. Она не раскаивалась, что ушла из дома, и не сомневалась, что в Ладоге одобрят ее бегство. Она даже представляла себе, как ее будут хлопать по плечу и говорить, что она молодец, — пусть знают, какие ладожские девчата!
Чувство своей правоты было у нее так сильно, что она не побоялась бы сейчас встретиться с матерью.
Она вздремнула под неторопливый разговор соседей, ожидающих ночного поезда. Ее разбудил стук, словно дятел долбил стену. Оленька открыла глаза и увидела у кассы небольшую очередь. Кассир компостировал билеты. А потом услышала, как человек в красной фуражке громко и нараспев объявил:
— Поезд на Москву прибывает через тридцать минут.
Она поспешила к кассе. Какой-то пассажир с рюкзаком на спине двигал перед собой небольшой сундучок, рылся в бумажнике и недовольно бурчал:
— А света у кассы маловато…
— Зато тьма билетов, — посмеиваясь, шутил другой.
Оленька встала в очередь и достала деньги. Для нее все поезда шли очень скоро. Но она знала, что они всё-таки делятся на пассажирские, почтовые и скорые, и в зависимости от скорости повышалась цена на билет. А еще она знала, что стоимость билета зависит от места, а места бывают разные: лежачие и сидячие. Оленьке очень хотелось, чтобы сейчас шел почтовый поезд и чтобы продавались билеты на сидячие места. Тогда у нее хватит денег и на билет и на дорогу…
Анисья ждала возвращения Оленьки со школьного вечера. Пробило девять, десять, а Оленьки всё не было. Анисья прислушивалась. Не застучат ли под окнами быстрые, такие знакомые Оленькины шаги? И досадовала: ведь предупреждала, — чуть свет — в дорогу! Ох, горе ей с этой непослушной, упрямой девчонкой!
Бабка Юха помогала Анисье увязывать мешки и проявляла свое сочувствие. Рассказала, как однажды ее, Юху, за непослушание матери отстегали лозой. Это было единственное ее воспоминание о детстве.
Анисья охотно слушала: молодежь теперь непослушная потому, что строгости нет. Но когда стрелка часов перевалила за десять, а Оленька всё еще не возвращалась, не выдержала и крикнула:
— Да замолчите вы, тетя Юха! И так тошно.
Анисья накинула на голову платок и побежала в школу. Она увидела на лестнице Володю Белогонова и крикнула ему:
— Позови мою Ольгу!
— Тетя Анисья, она домой ушла!
Но дома-то ее не было. Может быть, по дороге зашла куда-нибудь? Наплевать ей, что мать беспокоится, ищет! «Ну, погоди, получишь, негодная, трепку. Не бегать же мне за тобой по всему селу!»
Прошел еще час, а Оленька всё не шла. Что же это такое, — ушла девочка на школьный вечер и пропала! И что смотрят учителя?! Анисья снова бросилась в школу. Там было темно. Не горел свет даже у Елизаветы Васильевны. Анисья растерянно оглядела пустынную улицу. Где же теперь искать? Она миновала базарную площадь и свернула к дому, где жила Катя. Ей открыла хозяйка, сказала, что Катя пришла одна и уже спит, и тогда Анисья, забыв обо всем — и о завтрашней поездке и о том, что собиралась проучить дочь, в предчувствии какой-то непоправимой беды, бросилась к Дегтяреву.
Она распахнула дверь и с порога сказала тревожно, дрогнувшим голосом:
— Алексей Константинович, Оленька пропала…
— Она раньше всех ушла.
— Ушла, а домой не пришла.
— Так что же вы до полуночи молчали?
Она опустилась на табуретку и заплакала.
— Господи, может быть, ее и в живых-то нет…
— Глупости не болтайте! — Дегтярев подошел к Анисье и сурово спросил: — Опять поссорились?
— Ой нет, всё хорошо было… Не ссорились мы с ней.
Дегтярев подумал: куда же могла деваться Оленька? Он не допускал даже мысли о каком-нибудь несчастии, но чувствовал, что произошло что-то серьезное, похожее на разрыв между матерью и дочерью, хотя, если верить Анисье, никакого повода для этого как будто не было.
— Что же теперь делать-то, Алексей Константинович? — умоляюще спросила Анисья.
— Найти нашли, а удержать не сумели.
Анисья бросилась к порогу.
— Куда вы? — остановил ее Дегтярев.
— К участковому побегу.
— Сидите. Где он ее ночью искать будет?
Дегтярев не сомневался, что Оленька ушла от матери. Но куда она ушла? Ее нет ни у Белогонова, ни у Зои. Это он точно знает: они вместе шли домой. Может быть, она у Копыловых? Нет! Анна Степановна сообщила бы об этом. Да и всякий другой на ее месте сделал бы то же самое. Но где же тогда Ольга? Он схватил пальто, выбежал на улицу и поспешил к дому Копыловых.
У Копыловых в маленьком кухонном окне горел свет. Алексею Константиновичу открыла Анна Степановна. Она ставила тесто, и ее руки были в муке. Узнав об исчезновении Оленьки, она тут же разбудила мужа и сына и взволнованно проговорила:
— Надо искать.
Егорушку снова и снова расспрашивали, когда в последний раз он видел Оленьку, что она говорила, куда пошла. Егорушка рассказал, что знал, утаив, конечно, что Оленька его поцеловала, и сам мучительно думал: куда же она могла деться? И вдруг сказал уверенно, ничуть не сомневаясь в правильности мелькнувшей догадки:
— Она в свою Ладогу поехала!
— Надо машину, да поскорей, — сказал Копылов.
— И я поеду. — Анна Степановна накинула на голову платок и, уже выходя на улицу, проговорила: — Шофера не буди, сам поведешь, а то опоздаем.
Оленька увидела Анну Степановну, когда стоящий перед ней пассажир уже брал в кассе билет. Она хотела спрятаться, но было поздно. Всё в ней замерло. Сейчас ее заметят и задержат, как преступницу, словно она что-то украла. Но Анна Степановна подошла к ней, наклонилась и, взяв за руку, тихо шепнула:
— Пойдем, Оленька!
Оленька послушно вышла на станционную площадь, увидела у подъезда грузовик с зажженными фарами и рванулась обратно.
— Я не поеду к вам. Не поеду!
Анна Степановна обняла ее и ласково сказала:
— Пойдем, на скамеечку сядем… Какая беда, — рассказывай.
— Я всё равно к бабушке…
— Пусть к бабушке. Ладно!
— В колхозе буду работать.
— Колхоз и поближе есть…
— Всё равно не вернусь, — упрямо сказала Оленька. — И тут же, словно ища защиты, припала к плечу Анны Степановны и стала путанно рассказывать всё, что с ней произошло дома.
— Я не хочу быть спекулянткой, — говорила она, плача и судорожно сжимая руки Егорушкиной матери. — И пусть мама Юшку прогонит… Почему она не хочет, чтобы бабушка приехала?
И вдруг, соскочив со скамейки, растерянно огляделась.
— Тетя Аня, поезд подходит.
— Поезда, Оленька, каждый день ходят… А мы сначала обмозгуем, как твоей беде помочь! Пойдем, время позднее…
37
Семен Иванович не знал, почему Оленька бежала из дому, а потому, когда жена усадила ее в кабинку, сказал:
— Выходит, второй раз разыскиваем, а?
— И без тебя ей тошно, — вступилась Анна Степановна. — Ты бы лучше за Юшкой поглядывал!
— Как же, уследишь за ними, шоферами! Я один, а машин десять. Хоть разорвись, — всё равно не хватит.
Уже за полночь они въехали в Шереметевку.
На улицах горели фонари, было светло, и Копылов, взглянув на сосредоточенное и показавшееся ему при свете электричества очень бледным лицо Оленьки, сказал:
— Переночуешь у нас. Утром поговорим…
Оленька готова была выпрыгнуть из кабинки. Ночевать у Копыловых? И это после того, как она попрощалась с Егорушкой… И как попрощалась! Бежать, бежать от стыда! Но бежать было поздно. Да и выбирать было нечего. В дом Копыловых, так в дом Копыловых! Только не туда, где она оставила мать и где, может быть, еще сидит Юха.
Анисья думала лишь об одном: только бы Оленька была жива и здорова. Она знала, что поехали на станцию, но никто к ней не пришел. Среди ночи приехал Юшка. Он всё рассказал ей. Оленька хотела бежать в Ладогу, находится у Копыловых. Анисья вскипела. У всех на глазах отняли дочь, ограбили, никто не хочет прийти ей на помощь. Она готова была бежать к Копыловым и силой вернуть Оленьку домой. Полная обиды, она металась по кухне и проклинала не только дочь, которая своим бегством ославит ее на всю Шереметевку, но и председателя, Дегтярева и Анну Степановну, укрывших беглянку.
Юшка молча наблюдал за разбушевавшейся Анисьей, потом подошел к ней и повелительно сказал:
— Может, хватит? Лучше бы уехала твоя Ольга. А теперь выноси-ка товар на машину.
— Пока Ольгу не верну, не поеду.
Юшка подумал:
— И не надо. Оставайся, это даже лучше. Я сам управлюсь. До района доеду, там перекантую всё на другую машину — и концы в воду. А ты одно говори: знать не знаю, ведать не ведаю! Ольга твоя всё, наверное, расскажет Копылову. Поняла?
— Не до тебя мне, Павел…
— Помоги погрузиться, а там как хочешь, — отмахнулся Юшка и первый взвалил на себя тяжелый ящик.
Вскоре машина была погружена, ящики и мешки укрыты войлочной кошмой, и всё стихло в доме Анисьи. Утренний свет, проникший через небольшое кухонное окно, осветил валявшиеся на полу черепки разбитого горшка, брошенный платок Анисьи и самое Анисью, спящую за столом. Ноги ее стояли на забытой корзинке с яблоками, словно она ехала в поезде и боялась, чтобы во время сна у нее не украли багаж.
Ее разбудили шаги в сенях. В двери просунулась Лукерья Камышева. Она поздоровалась и, словно они не были в ссоре, весело проговорила:
— Я к тебе Анисьюшка… Скроила своему Кольке штаны, а иголка от машины сломана. Ты не бойся, я ее тебе сразу верну. Иль не понимаю, что нужна? Парню штаны сделаешь — и хорошо, а на дочку-то надо шить и шить. Девушка она хорошая у тебя, работящая. — И, взглянув в раскрытую дверь горенки, сказала: — Вот погляжу, постель уже застелена. Неужто так рано по воду ушла?
Анисья не хотела говорить. Чего доброго, догадается Лукерья, что Ольга ушла из дома. Но, взглянув на Лукерью, поняла: для того и пришла, чтобы убедиться, а верно ли, что Анисью дочка бросила?
— Только иголка надобна? А может быть, охота языком потрепать?
— Что ты, что ты, Анисьюшка… Да и не пойму, — о чем ты?
— А вот как метлу возьму…
Лукерья бросилась в сени, выбежала во двор и, почувствовав себя вне опасности, закричала:
— Дочка-то сбежала, вот на людей собакой и бросаешься… — И поспешила на другую сторону улицы, найти кого-нибудь посудачить о происшествии в семье Анисьи.
— И точно, бросила Оленька ее, — со злорадством сообщила она первой встречной. — А дома-то что делается! Видимо, драка с дочкой была. На полу черепки, у Анисьи вроде как глаз подбит. Эта девчонка и на меня раз бросилась. Вся в Анисью!
Анисья не могла усидеть дома. Ей ли, матери, ждать, когда кто-нибудь приведет Ольгу? Она сама ее разыщет и уж проучит, крепко проучит. Ею владела одна лишь мысль — вернуть беглянку, во что бы то ни стало вернуть!
— Я от своего не отступлю! Из-под земли достану!
Она накинула на плечи платок, с непокрытой головой бросилась на улицу и, гневная, ворвалась в дом Копыловых.
— Где Ольга? Говори!
— Ты мать, тебя и спросить надо, — ответила Анна Степановна, ставя на плиту чугун с водой.
— Я перед тобой не ответчица, — с ожесточением выкрикнула Анисья, — хоть за косу, а выволоку девчонку.
— За косу к себе не привяжешь…
— Не учи, отдай, говорю. Исполосую, будет знать, как бегать от матери. — Анисья шагнула к горнице, увидела в окне Катю, остановилась и злобно спросила, едва пионервожатая показалась в дверях:
— Одна пришла? А где же другой воспитатель? Алексей-то Константинович где? Научили девчонку мать бросить, из дому бежать! Я это так не оставлю. Думаете, нашли, так и отнять можете у меня Ольгу?
— Сами вы ее потеряли, — резко сказала Катя. — Сами виноваты! Дочь на Юшку променяли. Хорошего отца нашли! Спекулянта! И мало, что сами ему стали помогать, Оленьку втянуть хотели. Думали, девчонка ничего не понимает! Сами вы ее, Анисья Петровна, оттолкнули, а теперь вот попробуйте верните.
— Я по суду ее возьму! Нашлись заботчики!
— Ступай домой, Анисья, — проговорила Анна Степановна, — успокойся, а потом приходи, сама поговоришь с ней. Только смотри, не стращай, не вздумай силой приневолить, — совсем потеряешь.
— Так не отдадите сейчас Ольгу?
— Сейчас нет, — решительно отказала Анна Степановна. — Разве ты мать сейчас? Сама себя не помнишь, искалечишь девчонку.
— Всё равно от моей управы ей не уйти! — Анисья потрясла кулаком и, толкнув ногой дверь, вышла из кухни.
Когда Анисья ушла, Катя спросила:
— Оленька спит?
— Под утро только заснула. Всё плакала.
— А Семен Иванович где?
— Чуть свет ушел звонить в милицию, чтобы Юшку задержали. Раз готовились ехать в область на базар, — не порожним поехал.
— Как же быть теперь с Оленькой? Это я виновата… Мне казалось, что она преувеличивает. Мать, Юшка, спекуляция. Я не верила ей. Думала даже — вот еще одна ненавистница базара, вроде Егорушки. А тут она стала хорошо учиться, веселая ходила. Мать была довольна по.
— Пока Анисья сердцем не отойдет, Оленька у меня будет, — просто решила Анна Степановна. — Да еще не известно, как дело с Юшкой обернется. Боюсь, не осиротела бы Ольга опять. И надо же было дуре-бабе с Юшкой связываться!
Вскоре пришел Копылов, а с ним Алексей Константинович. Семен Иванович был весел и, громко смеясь, пошучивал над явно расстроенным Дегтяревым:
— Задала нам задачку ваша ученица. Поди разберись теперь, что бело, а что черно.
— Ты толком рассказывай, — перебила Анна Степановна. — Нашли Юшку?
— А он и не скрывался, — ответил Семен Иванович. — Да и зачем скрываться? Догнали его, только выехал из района, ехал порожняком, даже пассажиров не имел.
— Может быть, Анисья не доверила одному везти?
— И дома ничего нет. На кухне только маленькая корзинка яблок…
— Откуда известно? Иль обыск был?
— Зачем обыск? Попросил пожарника исправность печей проверить. И в горницу он заходил и на чердак лазил. Заодно в кладовку заглянул. И всюду пусто.
— А не перехитрил ли нас Юшка? — спросил Дегтярев.
Семен Иванович отмахнулся.
— Хуже — девчонка за нос провела! Ты, Анна, разбуди-ка ее.
— Еще чего! Пусть спит.
— Да ведь милиция ждет.
— Чего ждать? Пусть лучше ищет.
— Да мне велели спросить Ольгу: что и как, откуда она всё взяла?
— Нет уж, ты не лезь, Семен, с допросами. Сама поговорю с Ольгой, сама и в милицию позвоню. Так-то лучше будет.
— Твое дело, — согласился Семен Иванович. И, довольным том, что весьма серьезные неприятности, которые могли быть из-за Юшки, миновали его, он сел за стол и сказал жене: — Давай усаживай Катю и Алексея Константиновича, будем завтракать.
Катя подсела к столу и спросила:
— Семен Иванович, неужели вы думаете, что Оленька обманула нас? Этому я не поверю.
— Верь не верь, а факт фактом.
— Но что считать фактом? — возразил Дегтярев. — Для меня ясен только один факт: девочка бросила мать. А что касается пустой машины, то этот факт может оказаться фокусом…
После завтрака Дегтярев и Катя пошли в школу. Елизавета Васильевна была уже осведомлена о ночном происшествии и в виду особой важности предстоящего разговора попросила их пройти к ней на квартиру. Там, плотно закрыв за собой дверь, она возмущенно воскликнула:
— Позор школе! Мне, как директору, вам, Алексей Константинович, как воспитателю, а вам, Екатерина Ильинична, как пионервожатой. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю? Представьте себе, что я пережила! Врывается ко мне эта Олейникова и кричит: «Чему вы учите ребят? Бегать от отцов и матерей? За что вам деньги платят? Не всё вам других учить, и вас научат!» Но дело не в том. Есть нечто важнее наших переживаний. Честь школы! Надо немедленно вернуть матери ее дочь. Иначе эта скандальная история дойдет до района.
— Вернется она или не вернется, теперь уже поздно, — сказал Дегтярев.
— Ошибаетесь, Алексей Константинович, — возразила Елизавета Васильевна. — Если мы сейчас вернем матери ее дочь, всё происшествие приобретет совсем другую окраску. Недоразумение, маленькая ссора — и больше ничего!
— Боюсь, что это невозможно, — сказал Дегтярев. — Надо учесть состояние девочки…
— Вы потакаете капризам своенравной девчонки, — резко перебила Елизавета Васильевна. — Если хотите знать, почему Дегтярева бросила дом, так я вам скажу: она, видите ли, не желает, чтобы мать вышла замуж за Юхова Павла. И обязательно ей нужно, чтобы здесь жила ее бабка… Упрямство, своеволие…
— Это вам Олейникова сказала?
— Да! И это настоящая правда. А всё остальное Дегтярева выдумала. Поэтому, прошу, пройдите к Копыловым и серьезно поговорите с девочкой. Кстати, пусть Семен Иванович сам ей скажет, что оставить ее у себя он не может.
38
Когда ночью привезли Оленьку, Егорушка спал. Его подняли и сонного перевели из маленькой горенки на лежанку в зальце. Так бывало не раз, когда к отцу кто-либо приезжал из района. И Егорушка настолько привык к подобным ночным перемещениям, что принимал их безропотно и, не открывая глаз, проделывал весь переход в полусонном состоянии.
Егорушка знал, что мать и отец поехали искать Дегтяреву, и всё же он не ожидал, что, поднявшись рано утром, он увидит ее спящей на его кровати. Через несколько минут он уже был в курсе всех ночных событий. А потом мать предупредила:
— Смотри, Оленька — гостья у нас! — Егорушка не ответил, а они притянула его к себе и посмотрела прямо в глаза: — Сам не обижай и другим не давай в обиду.
Егорушка уже не считал Дегтяреву базарницей и выскочкой, незаслуженно выбранной старостой, он уже давно знал, как больно ей оттого, что мать ее стала перекупщицей, но он не ожидал, что она решится бросить мать. Он, Егорушка, любил свою мать, и для него бросить ее было бы просто невозможно. Теперь он понял, почему так задушевно пела Оленька на вечере, почему так рано ушла домой и почему так необычно она попрощалась с ним. В его глазах Оленька Дегтярева совершила настоящий героический поступок, и он гордился, что она нашла спасение от матери в его доме. В этом заключалась особая, подкупающая сила Оленькиного поступка.
В этот день всех старшеклассников просили прийти в школу, чтобы помочь нянечкам убрать после вечера классы, и Егорушка, наскоро по завтракав, выбежал на улицу. Но он заранее решил, что долго не задержится, скоро вернется домой и скажет Оленьке, что она поступила правильно.
Зимнее утро было пасмурно, шел мокрый снег, тучи ползли, чуть ли не задевая трубы домов.
В классе у доски толпились ребята. У доски всегда происходят сборища ребят. Уж такое это место. То там кипит какой-нибудь спор, то составляется заговор троечников о взаимной выручке во время предстоящей контрольной работы, то в полной тишине рассказывается последний кинофильм, который, несмотря на все запреты, удалось накануне увидеть одному из семиклассников. На этот раз вниманием всех ребят овладел Колька Камыш. Увидев Егорушку, ребята закричали:
— Егор, послушай Камыша.
Камыш, польщенный вниманием, спросил:
— Сызнова что ли рассказывать?
— Давай сначала, — крикнула Зойка. — А то Егорушке непонятно будет…
— Так вот, Егорка, такое дело вчера произошло. — Камыш повернулся к Егорушке и так ему подмигнул, словно хотел сказать: приготовься и слушай! — А с кем, как думаешь? С Дегтяревой! Мне мать моя всё рассказала, а она своими глазами видела. Ты понимаешь, Дегтярева к матери пристала и пристала, — и туфли ей нужны, и платье, и пальто, а на колхозные денежки не очень-то раскупишься. И решила она от матери убежать. И убежала, а куда — не известно. Может быть, с перепугу пешком по рельсам в Ладогу и наяривает…
Вокруг засмеялись. Действительно, смешно было представить себе, как Дегтярева по шпалам в Ладогу «наяривает». Но, прежде чем Колька успел насладиться произведенным им впечатлением, он увидел рванувшегося к нему Копылова. От удара Колька отлетел к круглой корзинке для бумаг и с размаху сел в нее.
— Рукам воли не давай! — Камыш беспомощно барахтал ногами.
— А ты не ври!
В класс неожиданно вошла Елизавета Васильевна. Сам «дирик»! Увидев Кольку Камыша, сидящего в корзинке, она насмешливо спросила:
— Ты что, цыплят высиживаешь?
— Это гнездовая посадка по методу академика Копылова, — фыркнула Зойка и под смех всего класса помогла Камышу подняться.
Всё, что Егорушке было известно, он рассказал семиклассникам. Как Оленьку хотели сделать спекулянткой, как она собралась бежать в Ладогу и уже дошла до станции, как там ее нашли. А сейчас Дегтярева у них. Ребята слушали Егорушку, их воображению рисовалась ночная степь, Оленька, убежавшая от своей матери, мчащаяся вдогонку на машине Анна Степановна. И хотя они понимали рассудком, что ничего нет хорошего в том, что дочь хотела убежать от матери, само по себе таинственное бегство, да еще сразу со школьного вечера, вызывало к Дегтяревой уважение. Вот если бы сейчас спросили их, достойна ли Дегтярева быть старостой, они бы единодушно подтвердили: достойна! А Колька Камыш, птичий царь, наврал, чего и не было. Это он оттого, что давно собирался бежать, да не хватило духу.
Когда Егорушка вернулся домой, Оленьки уже не было. Мать сказала:
— Приходила Екатерина Ильинична. Они ушли.
Он всё же заглянул в горенку. На полу лежала красная ленточка. Егорушка поднял ее и долго рассматривал, а потом отправил в карман, где у него рядом с лупой лежал садовый нож и электрический фонарик. Только после этого вышел в кухню и спросил:
— Мама, а где же теперь будет жить Оля?
— У нас, — ответила Анна Степановна, чем вызвала молчаливое одобрение сына.
39
Впервые в жизни Оленька задумывалась над тем, что никогда раньше не занимало ее и не вызывало в ней никаких особых размышлений. Для нее было привычно жить в колхозе, видеть вокруг себя огромные поля, работающие на этих полях с весны до глубокой осени машины, фермы с их стадами. И не требовалось особых раздумий над тем, почему люди заботятся, чтобы на полях выросло много хлеба, чтобы хорошо работали машины, чтобы были большие удои.
И вот сейчас в Шереметевке она увидела, что всё естественное и обычное, с чем она сроднилась и что ей очень близко и дорого, чуждо ее матери. А почему? Почему они такие непохожие, разные?
Оленька не могла обо всем этом не думать, потому что мать не только отошла от колхоза, но и предпочла труду наживу на торговле. А это в глазах Оленьки было уже совсем бесчестно и позорно. И впервые они задумалась над тем, что жизнь, которая ее окружает, нужно как-то защищать и отстаивать и что если против этой жизни идут даже близкие и родные люди, то и они становятся чужими. А мама не понимает, что нельзя хотеть хорошо жить и не работать. А ведь это так легко понять Хорошо жить — значит честно жить, трудом жить. Разве не так? Бабушка Савельевна даже пословицами говорила: «И в плохом колхозе без колхоза не проживешь». «Кто в колхозе, у того душа на месте». «Колхозу зло сделать — себе же навредить, совесть потерять». А может быть, то что ей говорила бабушка, чему ее учили в школе и о чем она читал; в книгах, — это одно, а жизнь совсем другое? Тогда где же правда? На чьей стороне она? Не на Юшкиной же! Нет, что бы там ни говорил Юшка, как бы ни поступала мать, она не отдаст им правду и не сменяет ее ни за что и ни на что! И пусть лучше никто не пытается отнять у нее эту правду!
И сейчас, когда Оленька сидела в маленькой комнатке Кати, а директор школы Елизавета Васильевна всё допрашивала и допрашивала ее, она либо упрямо молчала, либо отвечала односложно: «Всё равно не вернусь».
Напрасно ее хотят помирить с матерью, вернуть домой. Ничего из этого не выйдет. Она не будет жить там, где прячут скупленные товары, где тайно готовятся к поездкам на базары, где всем распоряжается Юшка.
Наконец Оленьку отпустили. Ни ласка участия, ни суровое обличение в нелюбви к матери, ни угрозы — ничто не помогло Елизавете Васильевне заставить девочку вернуться домой. И когда Оленька ушла, Елизавета Васильевна сказала:
— Дегтярева лишена всякого дочернего чувства, и мать для нее ничто. Есть такие дети. Но если мы не можем их уговорить, то это совсем не значит, что мы должны подчиниться их капризам…
— Но как всё-таки вы думаете вернуть девочку матери? — спросил Катя. — Насильно?
Елизавета Васильевна подняла брови:
— Неужели вы не можете понять простой истины, что мнимая трагедия одной девчонки не стоит того, чтобы из-за нее рисковать авторитетом школы и родителей? Не дело ребят влезать в жизнь взрослых. Да не имеют они права судить своих отцов и матерей…
— Но разве это дает право родителям делать детей соучастникам своих преступлений?
— Так можно спорить без конца, — с досадой произнесла Елизавет Васильевна и поднялась, чтобы выйти из комнаты. — Во всяком случае, пока я директор, не допущу, чтобы в школе потворствовали бегству детей от родителей.
Днем Елизавету Васильевну вызвали к телефону. Как она и предвидела, в районе узнали о бегстве Дегтяревой, и ей, директору, предложил сделать всё, чтобы дочь вернулась к матери. Ну, кто был прав? Она вызвала Дегтярева.
— Что вы теперь скажете? Вы учитель и классный руководитель! Мы опозорены на весь район!
— Я уже говорил вам, Елизавета Васильевна, что девочка травмирована всей этой историей, — сдержанно ответил Дегтярев. — И потому я не позволю насильно вернуть ее матери. А что касается позора, то мне кажется, позор для школы не столько в том, что Ольга Дегтярева ушла от матери, сколько в том, что мы не заметили ее трагедии в семье. Это действительно позорно. Мать — соучастница каких-то темных дел, а мы умилялись: девочка нашла мать, обрела близкого человека, родной дом…
— Принципиальные расхождения, конфликт внутри семьи, отцы и дети! — иронически сказала Елизавета Васильевна и резко поднялась с кресла. — У нас нет и быть не может проблемы отцов и детей. Всякие разглагольствования на эту тему вредны и семье и школе.
— А если отцы сходят с нашего пути? Назовите это как хотите, но уважать таких отцов дети не будут.
— Опять философия! — раздраженно отвернулась Елизавета Васильевна. — Во всяком случае, я сделаю всё, чтобы взять у Копыловых Дегтяреву. Я поеду в райком.
— Напрасно. Анна Степановна ее не отдаст! И я ее поддержу.
— Вы не посмеете компрометировать школу.
— Я сделаю всё, что считаю полезным для ребенка.
— Тогда завтра извольте высказать официально свое мнение на педсовете.
— Завтра педсовет? Несмотря на каникулы?
— Да, чрезвычайный! Я, кажется, имею право его созвать, Алексей Константинович? — язвительно спросила Елизавета Васильевна. — И подумала: «Кто директор школы, кто прежде всего отвечает за проступки школьников? Ну, а если Дегтярев окажется слишком упрям, — пусть винит себя. Легче найти другого ботаника, чем без конца расхлебывать ошибки Дегтярева». — И сказала сдержанно: — Попрошу завтра ровно в двенадцать часов.
Когда Дегтярев вышел, у него было такое чувство, словно во всем, что произошло с Оленькой, виноват прежде всего он сам. Воспитатель класса, он обязан был интересоваться жизнью девочки. А он проглядел, как Анисья стала спекулянткой и пыталась втянуть в это дело Оленьку. Чем он помог Оленьке? А помог ли он матери понять, что она становится на опасный путь? И вот разрушилась семья. Разве после этого он может считать себя настоящим педагогом? И чем больше он думал о своей вине, тем смешнее казалось ему требование Елизаветы Васильевны. Она хочет немедленно вернуть матери дочь. Но ради чего? Сохранить семью? Но какая это будет семья? Какая судьба ожидает Оленьку в семье Анисьи и Юшки?
И тут он вспомнил и Кольку Камыша. А какая судьба ждет этого паренька, «птичьего царя»? Не любит колхоз, мечтает лишь о том, чтобы одному оказаться в лесу. А почему он такой? Нет, так дальше продолжаться не может. Надо вникнуть в жизнь ребят, понять, что влияет на характер каждого из них, и не заниматься лишь уроками да опытным участком! Ну что он может сказать о том, каким образом в колхозной семье мог вырасти такой, как Колька Камыш? Разве его мать не работает в колхозе? А отец? И на отца не жалуются. И всё же. Неужели Николая Камышева таким воспитала школа? А может быть, улица?
И неожиданно для себя Дегтярев ясно себе представил, каким образом из обыкновенного колхозного паренька получился «птичий царь» Чего только нельзя услышать в доме Камышевых о колхозе, о бригадирах, о том, что делается в степи! Известно всей Шереметевке, что, если тракторист потеряет болтик, у Камышевых скажут, что трактор сломался и лежит в канаве. Он восстанавливал в памяти всё, что слыхал о Камышевых, всё, чему был свидетелем сам, и теперь понимал, почему именно таким, а не другим вырос их сын. Разве мог он полюбить колхоз, когда с детских лет только и слышал про колхоз всякие небылицы! Вот в каком гнездышке оперился «птичий царь». А чем Анисья Олейникова лучше Камышевой? Она, пожалуй, хуже! А Елизавета Васильевна хочет, чтобы он заставил Оленьку вернуться к матери. Нет, он этого не сделает.
Но, споря мысленно с Елизаветой Васильевной, он спорил и с собой: а всё-таки так ли он прав, как это ему кажется? Пусть Анисья спекулянтка. Разве это лишает ее прав матери? Разве нет на свете людей, которые были под судом? Но никто даже не подумал отнять у них детей. Ведь только в исключительных случаях, когда действительно жизнь детей становится невыносимой, можно требовать лишения отца или матери их родительских прав.
Дегтярев не сомневался в одном: поступок Ольги заставит задуматься многих родителей, — а так ли они воспитывают своих детей? И зависит задуматься школу: а не стоит ли она в стороне от жизни ребят в семье? Не в семье ли надо искать разгадку многих отрицательных черт и привычек в характере ребят? Но почему именно в семье? А может быть и в школе? А может быть, в жизни — вне семьи и вне школы? И всё-таки каждый раз он возвращался к семье.
Откуда у Егорушки стремление всеми командовать? И ведь если бы Оленька поддалась матери, через год-другой она и сама стала бы перекупщицей.
Анну Степановну попросили прийти на педсовет, и это, конечно, стало тут же известно Егорушке. Прямо из правления колхоза, где он узнал эту новость, Егорушка помчался к Зойке Горшковой и сообщил ей весьма таинственно:
— Ох и заварушка пошла! «Дирик» требует, чтобы мы выгнали Ольгу, а моя мать ни в какую! Теперь ее на педсовет вызывают, будут прорабатывать! Ну, да ничего! Мамка вроде меня. Она так просто от своего не отступит. Она раз увидела, тракторист плохо пашет, — встала на борозде и ни с места. Так и заставила перепахать… Одно нехорошо: больно дисциплинированная она. Как единогласно решат, так подчинится…
Дома, увидев в кухне Оленьку, Егорушка, как ни в чем не бывало, поздоровался с ней и, словно она жила у них давным-давно, весело спросил:
— А где мамка? Ушла? — И принялся шарить в буфете. — Ох, и есть хочу!
Оленька сначала молча наблюдала за ним, потом, когда он опрокинул стакан, подошла к нему, закрыла перед самым носом буфетную дверцу и деловито приказала:
— Принеси лузги, я тебе обед согрею.
— Не буду я обеда ждать, — ответил Егорушка и потянулся к краюхе хлеба.
— Неси лузгу.
Егорушка хотел было сказать, что вот еще, новый командир нашелся, но подчинился и вскоре уже уплетал за обе щеки горячий борщ. Ему хотелось, чтобы Оленька рассказала, как она решилась бежать; в свою очередь он бы поведал ей о предстоящем завтра педсовете, но он понимал, что всё это только расстроит ее, и заговорил о лыжах.
— Еще немного снега выпадет — и на лыжи! У тебя есть?
— В Ладоге остались. А у тебя?
— Есть, да самодельные. Но я куплю настоящие: с креплениями и бамбуковыми палками. Будет две пары.
— А куда пойдем?
— Хочешь, по речке, а нет — в степь.
Егорушка расправился с борщом, потом принялся за жареную картошку, и не успел он пообедать, как вошли Зойка и Володя. Они были хмурые, явно чем-то расстроенные. Егорка настороженно спросил:
— Что-нибудь в школе неладно?
— Дома! — отмахнулась Зойка.
— А что дома?
— Пусть Володя скажет, — ответила Зойка и сама же заговорила взволнованно: — Ты понимаешь, Егорушка, пришла я домой, а мама мне и говорит: не смей с Ольгой Дегтяревой дружить: еще тебя с собой бежать сманит!
— Ну а ты что? — спросил Егорушка.
— А я сказала, что буду дружить. Буду, буду и буду!
— Молодец! — одобрил Егорушка.
Зойка сделала вид, что не расслышала похвалу Егорушки, и, подойдя к Оленьке, протянула руку.
— Пойдешь ко мне в кукольный театр? Я играю, а ты поешь! И еще знай, что мы все твои друзья! И пусть завтра на педсовете решат, что угодно, — всё равно друзья!
Егорушка из-за спины Оленьки показал Зойке кулак: замолчи, не говори! Но было уже поздно. Оленька спросила с тревогой:
— Какой педсовет? Насчет меня, да?
— Да, — пришлось сознаться Егорушке. — Только ты не беспокойся. Мать там будет, она тебя в обиду не даст.
— И мы, — сказал Володя, многозначительно взглянув на Зойку. — Что-нибудь предпримем. — И тихо спросил: — Дома никого нет?
— Никого, — кивнул Егорушка.
Тем не менее Володя продолжал говорить тихо, заговорщически:
— У моего батьки есть полевой телефон. Завтра перед педсоветом мы пройдем на чердак и подключимся к телефонному проводу…
— И ничего не услышишь, — уверенно сказал Егорушка.
— Услышу, — так же уверенно ответил Володя. — Елизавета Васильевна, как заседание, обязательно трубку снимает…
— А что ж, пожалуй, — согласился Егорушка.
— То-то, — гордо взглянула на него Зойка. — А кто придумал? Я придумала. Только куда мы спрячем Оленьку, если постановят вернуть ее домой?
— Тебе всё спектакль, — с досадой отмахнулся Егорушка. — А тут серьезное дело!
40
Шереметевская школа была двухэтажная. Такой ее построил архитектор, и такой она казалась всем шереметевцам. Но в представлении ребят она имела четыре этажа. Внизу, под школой, был подвал, где не раз отсиживались опоздавшие на урок, а наверху, над самым директорским кабинетом была чердачная комнатушка, где хранились семена и экспонаты школьного участка. Вот про этот четвертый этаж и вспомнили семиклассники, когда они узнали о педсовете, на котором, как им точно было известно, должна решаться судьба Ольги Дегтяревой.
На следующий день, за полчаса до начала педсовета, по черной школьной лестнице пробирались Володя Белогонов, Егорушка Копылов и Зойка Горшкова. Забравшись под крышу, Володя Белогонов достал из-за пазухи провод, Егорушка просунул голову в слуховое окно, соединил про вод с телефонной линией, и вскоре вся тройка уже сидела у трофейного полевого телефона в ожидании, когда под ними, в кабинете директора начнется педсовет.
— А вдруг Елизавета Васильевна не снимет трубку?
— Обязательно снимает, — авторитетно заявил Володя. — Она не любит, чтобы ей звонили, когда идет педсовет. Мы, значит, и подслушаем.
— Это совсем не подслушивание, — возразила Зойка.
— А что же, по-твоему?
— Желаем быть в курсе дела, — ответила Зойка и поднесла к уху телефонную трубку. — Не начали еще? Нет! А потом во всех пьесах обязательно кто-нибудь что-нибудь подслушивает. И чаще всего это делают хорошие люди. Почему же нам нельзя?
Неожиданно в трубке что-то зашуршало. Белогонов выхватил ее у Горшковой.
— Ну как, началось? — протянул руку Егорушка. — Дай-ка мне!
— Постой, — отмахнулся Белогонов. — Это в Дом культуры звонят. Новая кинокартина идет.
Да, телефон работал, были слышны голоса из далекого районного центра, но ни единого звука не доносилось с заседания педсовета.
— Ничего мы не услышим, — сокрушенно вздохнул Володя.
— Пожалуй. — согласился Егорушка.
Но Зойка упрямо продолжала слушать. Пока идет педсовет, она не сдвинется с места. Для подруги она готова на всё! Она не сомневалась, что Егорушка и Володя вот-вот начнут ее уговаривать слезть с чердака, сердилась на них и сказала недовольно:
— Уходите, нечего вам тут делать! — А когда они весьма охотно поспешили исполнить ее приказание и осторожно двинулись к лестнице, подумала с гордостью и чувством собственного превосходства: разве мальчишки способны быть верными товарищами? Но она им покажет, что значит настоящая дружба! Просидит здесь хоть всю ночь, а что-нибудь услышит.
41
Елизавета Васильевна сидела в своем кабинете и ждала, когда соберутся все. Учительская была отделена тонкой дощатой перегородкой, и Елизавета Васильевна хорошо слышала, что там происходит. За столом у окна с кем-то спорил о дополнительных занятиях Антон Антонович — никогда спокойно не посидит; из угла в угол тяжело шагал Дегтярев — перед педсоветом задумаешься; вот открыла дверь и, смеясь, вошла Екатерина Ильинична — освоилась, а давно ли сама была школьницей? В учительской становилось всё больше и больше народу. Стало шумно, голоса слились в общем невнятном говоре. Елизавета Васильевна старалась заранее представить себе, кто будет ее союзником и кто противником. Она рассчитывала на помощь Надежды Георгиевны, думала о возможной поддержке Антона Антоновича и не сомневалась, что против нее будет Дегтярев и, конечно, сама Анна Степановна Копылова. Как-то ведь надо оправдать укрывательство сбежавшей девчонки!
Елизавета Васильевна поднялась из-за стола. Ну что ж, пора, кажется, начинать. Итак, ее позиция ясная! Девочку вернуть матери, а педагогическую практику Дегтярева осудить. Всё должно подтвердить, что она, директор школы, решительно пресекла допущенные в воспитательской работе ошибки. Елизавета Васильевна поправила волосы, смахнула с плеча пушинку и, сделав строгое и чуть-чуть опечаленное лицо, открыла дверь учительской:
— Товарищи, прошу.
И педсовет начался. Елизавета Васильевна стояла у письменного стола и говорила солидно, веско и не спеша. Дело Дегтяревой — дело всей школы. И пройти мимо факта ухода школьницы от матери нельзя. Семья и школа неотделимы. Сегодня Дегтярева бросит мать, завтра она бросит школу. Девочка не привыкла к семье, и самая пустяковая ссора становится поводом для разрыва. Елизавета Васильевна остановилась, оглядела присутствующих и, неожиданно повысив голос, заговорила жестко:
— Всё это тем более возмутительно, что бегство школьницы произошло при явном попустительстве классного воспитателя. Школа стала притчей во языцех. Что думают о школе родители? Я не хочу гадать, но на их месте я бы серьезно задумалась, а стоит ли посылать в такую школу своих детей? Понимаете, что значит бегство Дегтяревой? И всё это сделали вы, Алексей Константинович!
— Но простите, Елизавета Васильевна, — возразил Антон Антонович. — Насколько мне известно, Олейникову обвиняют в спекуляции.
— Одну минутку, Антон Антонович, — остановила математика Елизавета Васильевна. — Педсовет не суд. Но, скажите, разве нет людей, которые были не только заподозрены, но и действительно занимались спекуляцией и разве они были лишены родительских прав? Что вы скажете, Антон Антонович?
Антон Антонович промолчал, и Елизавета Васильевна почувствовала, что, поставив в тупик математика, она одержала первую победу.
— И вы, Алексей Константинович, попрежнему упрямо настаиваете на своем? — иронически спросила Елизавета Васильевна.
— Да, настаиваю, — ответил Дегтярев.
— Так вам мало, что вы нарушили жизнь семьи, скомпрометировали школу! — воскликнула Елизавета Васильевна. — Вы хотите окончательно подорвать к ней доверие? Я не потерплю этого, и я не позволю пропагандировать в школе антипедагогические взгляды!
Елизавете Васильевне изменила обычная сдержанность. Кажется, она уже сказала что-то лишнее. Но овладеть собой ей было уже не под силу, и теперь она не спорила с Дегтяревым, а поучала его, словно перед ней был провинившийся ученик.
— Вы забыли, что еще вчера были студентом. Понимаю, что война помешала, но объективно вы столь же неопытный учитель, как и двадцатилетний юнец.
Елизавета Васильевна не щадила самолюбия Дегтярева. Для нее он уже не был учителем ее школы. К тому же, когда, как не сейчас, она могла отплатить ему за все неприятности, что он причинил ей? Она понимала, что не дать ему слова на педсовете она не в силах, и потому строила свою речь в расчете на то, чтобы подавить его волю, сделать его в глазах всего коллектива ничтожным, маленьким человеком, который не заслуживает даже того, чтобы быть внимательно выслушанным. Она воодушевлялась своими словами, ей они казались очень верными, и продолжала наносить Дегтяреву удар за ударом:
— Вы подменили кропотливую воспитательную работу заигрыванием с ребятами, а настойчивую учебу — сомнительными опытами на участке! Разве не ваши юннаты опозорились с сифонами? Не вам ли пришлось расписываться в своем незнании перед Егором Копыловым? А сейчас что вы делаете?
Дегтярев и до педсовета не сомневался в том, что ему предстоит выдержать серьезный бой с Елизаветой Васильевной. Он знал, что его упорное нежелание заставить вернуться Оленьку к матери может толкнуть директора на крайние меры, но он не ожидал, что она так враждебно и бесцеремонно выступит на педсовете.
Дегтярев с трудом удержался, чтобы не ответить ей так же резко, и начал очень спокойно и сдержанно:
— Я много думал о том, что произошло в семье Олейниковой. Я откровенно скажу, уход девочки от матери был для меня неожиданностью, и первым моим желанием было вернуть ее домой. Но потом я понял, что не имею права это делать. Нет, я не забыл о престиже школы, не забыл о горе матери. Но я прежде всего думаю о судьбе Ольги Дегтяревой, а это значит — и о школе, и о матерях, и о судьбе детей. Школа много дает нашим ребятам. Это всем известно. Но разве не бывает, когда плохое прививается тому или иному ребенку в школе? Бывает и так! Когда? Тогда, когда он подпадает под влияние какой-то группы плохих, распущенных ребят, когда не школа, а такие ребята воспитывают друг друга. Но что в таких случаях делают? Школа активно вторгается в жизнь ребенка, она дискредитирует в его глазах плохих товарищей и тем самым воспитывает и его и их. В школе педагог старается не просто привить своему ученику какие-то положительные качества, а делает это, помня, что ребята тоже воспитывают друг друга. В школе много недостатков, но плохому не так-то легко разгуляться в ней.
— Мы говорим о семье, — перебила Елизавета Васильевна.
— Я скажу и о семье. Но прежде несколько слов об улице. Перейдем из школы на улицу. На сельскую Шереметевскую улицу. Дед Мирон, которого все вы знаете, как-то мне сказал: «А что улица — улица у нас колхозная! Были бы товарищи хорошие». Конечно, на улице мы не можем так активно воздействовать на ребят, как в школе, но будут наши ребята хороши в школе — будут они хороши и на сельской улице… Дед Мирон прав: улица, в конце концов, колхозная!
— Дед Мирон в роли шереметевского Ушинского? — снова перебила Елизавета Васильевна.
— Я его не сравниваю с Ушинским, — продолжал спокойно Дегтярев, — но он хорошо помогает школе воспитывать своего Петяя. И это особенно важно потому, что мы часто не только не имеем возможности влиять на семейное воспитание, но порой и не желаем этого делать… А между тем плохое воспитание в семье наиболее для нас опасно.
— Почему же именно в семье? — спросил Антон Антонович.
— По той простой причине, что нигде с такой откровенностью не проявляют себя пережитки, как в таких семьях, где всему задают тон люди типа Павла Юхова. И заметьте, в семье Юховы ничего не стесняются: ведь кругом свои! И в семье они тем более воинственны, чем больше им приходится прятаться в обществе, школе, на улице. У пережитков двойная жизнь: за пределами дома они маскируются, прячутся по углам, а дома они воюют, бахвалятся, выдают свою ложь за правду, а неприглядное за красоту! И всё это на глазах у детей, не замечая их, а порой и не стесняясь их. И часто там некому скомпрометировать всё это в глазах ребенка. А он отсюда делает свои выводы, составляет свое представление о жизни. Я долго не мог понять, почему Николай Камышев или, как его зовут ребята, Колька Камыш, не любит в колхозе работать, всё общественное презирает и тянется куда-то в лес, — где нет ни председателя колхоза, ни сельсовета, а только звери да птицы, а он может стать их царем. Разве его мать плохо работает? Нет. Отец? Тоже труженик! А вот именно они сделали его таким. И как было не сделать, когда, из года в год собирая все шереметевские слухи, они выдавали их за правду и открыто, где надо и не надо, не стесняясь ребенка, ругали свой колхоз, своих агрономов, своих бригадиров. Откуда же было взяться у Кольки Камыша желанию работать в колхозе, как он мог полюбить колхоз? Вот вам и «птичий царь»!
Дегтярев замолчал, потом повернулся к Антону Антоновичу и продолжал:
— К счастью для Ольги Дегтяревой, она была воспитана колхозницей, которая ей заменила мать. К счастью для нее, общественное, колхозное оказалось у нее в крови. Но ведь при других обстоятельствах она могла стать соучастницей сомнительных делишек своей матери. Да и достаточно было только смириться с ними. А потом мы развели бы руками: «Ведь была хорошая девочка, а вот выросла — не узнать». Я понимаю, что из всех нас прежде всего за Ольгу Дегтяреву отвечаю я. Я классный воспитатель, она у меня в юннатовском кружке. А меня хотят убедить, что виноват во всем ее капризный, своевольный характер. Мы виноваты, что Ольга Дегтярева ушла из дома. Но исправить ошибку это совсем не значит, что против воли девочки надо вернуть ее обратно матери.
Елизавета Васильевна сначала слушала Дегтярева со снисходительностью человека, уверенного в своей силе. Ну что он там болтает о школьном воспитании, о влиянии ребят друг на друга! Он до того растерялся, что потерял свою обычную резкость и говорит, словно проводит урок. Забыл даже, что перед ним не дети, а взрослые люди. Но вскоре пренебрежение к Дегтяреву сменилось тревожной настороженностью. Странно, почему так внимательно его слушает Антон Антонович! Что он нашел интересного в его словах? А Надежда Георгиевна? Старая, опытная учительница, а слушает его, как девчонка. Что такого особенного в том, что он рассказывает о деде Мироне? Елизавета Васильевна готова была возмутиться. Господи, как должен быть низок культурный уровень учителей, если общие разговоры о воспитании могут вызвать к себе такой большой интерес! И, так думая, она, сама того не замечая, внимательно слушала Дегтярева. Но неужели кто-нибудь рискнет его поддержать? Интересно, — что скажет Антон Антонович? И едва Дегтярев умолк, она сама спросила математика:
— Антон Антонович, скажите свое мнение — считаете ли вы нормальным, когда ребенок бежит от своих родителей?
— А разве Алексей Константинович считает это нормальным? Разве из-за этого спор? Спор из-за того, — почему девочка ушла от матери? И как быть с этой девочкой дальше? И мне совершенно непонятно, — почему вы так ожесточенно нападаете на Алексея Константиновича?
— Семья — не опытное поле… — резко бросила Елизавета Васильевна.
— Но изучать ее, наблюдать за ней педагог обязан. И наблюдения Алексея Константиновича, по-моему, имеют большой интерес. А вы, Елизавета Васильевна, закрыли на всё глаза и твердите одно, как некая царица из детской сказки: «Знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю, а быть Ольге Дегтяревой у своей матери».
Выступление Антона Антоновича не оправдало предположений Елизаветы Васильевны, и она с надеждой взглянула на учительницу географии. На педсоветах Надежда Георгиевна всегда говорила сидя, положив перед собой вытянутые руки, словно давая им отдых. Так и теперь, не вставая с места, она сказала:
— Всегда легче предупредить ошибку, чем исправить ее. Но, исправляя ошибку, можно снова повторить ее, и тогда исправить ее будет трудно. По-моему, мы не должны уподобляться самой Ольге Дегтяревой. Она слишком скоропалительно покинула мать, а мы так же скоропалительно хотим вернуть ее обратно. А поняла ли девочка, что она поступила плохо? И еще более важно, — поняла ли мать, чем она вынудила дочь к бегству?
Елизавета Васильевна всё больше и больше убеждалась в том, что педсовет вряд ли поддержит ее против Дегтярева. Она уже досадовала на себя, что слишком резко выступила в начале собрания. Надо было действовать осторожней. Может быть, даже совсем не созывать педсовета. Но как же выйти из трудного положения? Еще захочет взять слово пионервожатая, она тоже будет защищать Дегтяреву. Елизавета Васильевна быстро поднялась.
— Товарищи, пожалуй, нам придется отложить педсовет. Во-первых, надо послушать мать девочки, а во-вторых, пригласить инспектора районо.
— Зачем же вы тогда меня вызывали? — спросила Анна Степановна. — Посидеть и уйти? Нет уж, вы как хотите, Елизавета Васильевна, продолжайте или закрывайте педсовет, а я слово свое скажу. Слушала я тут, как вы говорили и о школе и о семье, о родительских правах помянули, а о самом главном забыли. Как вы думаете, Елизавета Васильевна, любит Ольга свою мать или нет?
— Любила бы — не бросила.
— А по-моему, так: если бы не любила она мать, для нее было бы безразлично, что мать делает, чем живет, кого в дом к себе берет. Любила она мать и любит. И я вам скажу, коль не вернем мы Ольгу домой, то прежде всего будет несчастна сама девочка.
— Значит, вы согласны со мной? — обрадованно воскликнула Елизавета Васильевна. — Так почему же вы не вернете ее матери сами?
— Придет время — верну. Когда сама Ольга поймет, что нельзя было бросать мать, и когда мать поймет, почему ее бросила дочь. А сейчас их свести — навек разделить. Будут жить хоть вместе, да врозь, без ссоры, да во вражде, мать и дочь, но чужие. А поймет Анисья Олейникова, что дороже всех барышей, Ольга за нее в огонь и в воду пойдет.
Анна Степановна умолкла.
Надежда Георгиевна подошла к Анне Степановне, обняла ее за плечи и сказала:
— Если бы Ольга Дегтярева была вашей дочерью, то я была бы спокойна за ее судьбу. — И, повернувшись к Елизавете Васильевне, добавила: — Я думаю, что мы можем принять одно решение, если оно вообще нужно: просить Анну Степановну позаботиться о девочке. И всё. А остальное ей подскажет сердце!
Елизавета Васильевна была в полной растерянности. Как ей оценить итоги педсовета? Победил Дегтярев? Нет! Победила она? Тоже нет! Пока нет. Но рано или поздно она победит его.
После педсовета она попросила Дегтярева задержаться на несколько минут.
— Алексей Константинович, не считаете ли вы теперь более удобным работать в другой школе?
— Вы предлагаете мне подать заявление об уходе?
— Совершенно верно. Такое заявление даст вам возможность беспрепятственно перевестись в другую школу…
— Понимаю, но подать заявление я не могу, — развел руками Дегтярев. — Не могу идти против устава партии, который обязывает меня добиваться того, что правильно, необходимо…
— Значит, вы хотите со мной бороться? — спросила Елизавета Васильевна. И сама же ответила снисходительно: — Но это не всегда возможно. Особенно, когда с вами бороться не собираются.
42
Дом Копыловых находился в десяти минутах ходьбы от школы. Но это совсем не означало, что если Егорушка выходил из школы, то через десять минут он уже был дома. Часто этот путь длился часами. Ведь надо же по пути заглянуть в сад, — узнать, как идет заливка катка, спуститься на речку, чтобы обследовать лыжный трамплин, ну и конечно, навестить Петяя; разве не интересно узнать, получается ли у него лыжный велосипед? Так было и на этот раз, когда Егорушка, разуверившись в затее Зойки услышать по телефону, что говорят на педсовете, покинул чердак.
Но едва Егорушка успел войти в дом, в окне показалась встревоженная физиономия Зойки. Зойка подмигивала Егорушке и Оленьке, махала им рукой, чтобы они вышли на улицу, и всем своим видом как бы говорила: скорей, скорей, иначе всё пропало. А когда Копылов и Дегтярева выскочили на крыльцо, она взволнованно прошептала:
— Егорка, немедленно идем к Алексею Константиновичу. Его надо предупредить. Понимаешь, дирик на него в район жаловалась. Уберите, говорит, его! А нет, так я уйду.
— Ты откуда знаешь всё это?
— Оттуда! — зло бросила Зойка. — Сидела, сидела, наверное, и педсовет уже прошел, и вдруг, слышу, что-то говорят. Я к трубке, а там голос Елизаветы Васильевны. «Уберите, говорит, Дегтярева, не буду с ним работать. А не так, — я уйду». И еще сказала: ежели Дегтярева, то есть ты, не вернешься домой, она тебя, Дегтяреву, после каникул в школу не пустит. — Зойка передохнула. — А что мать говорит? Она ведь на педсовете была!
— Ничего не говорит, — ответил Егорушка.
— Так и ничего? — допытывалась Зойка.
— Так и ничего. Сказала, — побольше учитесь и поменьше суйте свой нос в учительские дела.
Известие о Дегтяреве было слишком неожиданным, чтобы можно было сразу принять какое-либо решение. Требовалось помолчать, подумать. Наконец Егорушка предложил:
— Пошли к Алексею Константиновичу.
Анна Степановна видела, как Егорушка и Оленька исчезли за воротами. Она прошла в зальце, застелила там для Оленьки кровать и в это время услышала:
— Где Ольга?
В комнате стояла Анисья. Заметив у лежанки маленькую кровать, Анисья сразу догадалась, — это для дочери, и, забыв на минуту, что она пришла потребовать Оленьку, приподняла край байкового одеяла и подумала: «А не холодно ли? Зимой лучше ватное». Только после этого она повернулась к Анне Степановне и сурово повторила: «Где Ольга?»
Анна Степановна усадила ее на стул и сказала спокойно:
— Ты дай девчонке опомниться. Переживет у меня денек-другой, переболеет и вернется. Ты положись на меня.
Анисья слушала Анну Степановну, ее сочувствие было ей приятно, успокаивало. Она даже прослезилась и готова была благодарить ее. «Верно, кого-кого, а тебя, Анна, Ольга уважает». Но когда та заговорила о Юшке, о том, что надо бросить свои торговые делишки, — нехорошие разговоры идут по Шереметевке. — Анисья резко поднялась.
— Ты не таи от меня Ольгу.
— Ее дома нет. Наверное, к подружкам ушла…
— Всё равно найду! — крикнула Анисья и, не попрощавшись, захлопнула за собой дверь.
Анисья подозревала, что к ее приходу Анна Степановна нарочно услала Оленьку, и была полна решимости во что бы то ни стало найти ее. Хоть из-под земли достать. И вдруг, едва выйдя на улицу, она увидела дочь. За эти два дня, что они не были вместе, Оленька похудела, и было в ней что-то новое, незнакомое Анисье. Девочка смотрела на нее чужими глазами и шла ей навстречу безбоязненно, словно перед ней была не мать, от которой она убежала, а посторонняя женщина, до которой ей нет никакого дела. Нет, она не сможет силой заставить Оленьку вернуться домой.
— Доченька! — Она покорно ждала, что вот сейчас ее девочка сжалится над ней, подойдет, и то, что нельзя было сделать ни уговорами, ни силой, свершится от одного прикосновения к материнскому плечу.
Но Оленька прошла мимо, и Анисья слышала, как простучали каблуки по ступенькам крыльца. Дочери как не было.
Оленька не зашла в комнату. Она присела за кухонный стол и стала смотреть в окно, наполовину занавешенное снежными узорами. На улице поднималась поземка, и жалобно поскрипывала ставня. Быть вьюге! А дым вырывался из труб клочьями и сливался с дымом метелицы.
— Видела мать? — спросила Анна Степановна, выходя из комнаты.
— Я ее не боюсь. — Оленька думала о своем.
— Она тебя любит.
— Зачем она ходит за мной?
Анна Степановна ничего не ответила. Если бы Анисья отказалась от Юшки, пошла работать в колхоз, можно было бы легко уговорить Оленьку вернуться домой. А что делать теперь? Отказать в убежище, выгнать, как требует Елизавета Васильевна? Этим она не только не вернула бы ее в родной дом, наоборот, снова подтолкнула бы к бегству из Шереметевки. Анна Степановна понимала, что Оленька ставит ее в трудное положение. Нечего сказать, хороша жена председателя колхоза! Приютила сбежавшую от матери дочь! И пусть говорят. Или лучше себя от разговоров уберечь, а девчонку загубить?
На следующее утро Оленька привычно подхватила ведра и побежала за водой. За ночь метель прошла, сильно подморозило, и раннее утро казалось необыкновенно светлым и прозрачным. На площади Оленька увидела Елизавету Васильевну. Она стояла близ коновязи, где обычно останавливаются идущие в район попутные машины.
Елизавета Васильевна заметила свою ученицу и проводила ее долгим, изучающим взглядом. «Ничего, уберут Дегтярева — и капризам девчонки будет конец», — подумала она. Вдали сквозь утреннюю дымку виднелась зимняя степь. Заснеженная безмолвная в своем величии, похожая на бескрайнее белое море. Елизавета Васильевна думала о своем вчерашнем разговоре с Дегтяревым. Почему он не боится идти против нее? Что что, — сознание своей правоты или смелость от того, что ему нечего терять? А вот она всего боится. Боится, чтобы ее учителя не допустили ошибок, боится, чтобы о школе не пошла худая молва. Чем рискует Дегтярев? Должностью учителя-биолога, которую он всюду получит. А она — своим авторитетом старого, опытного директора школы! Но в слабости своего директорского положения она видела и его силу. Она директор школы, она представитель государственного учреждения, а Дегтярев — ошибающийся учитель, он один и никого не представляет собой.
43
В ту ночь, когда Юшка погрузил автомашину и уехал в область, Анисья ощутила сначала облегчение — славу богу, Павел взялся один всё продать, а потом страх: а вдруг что случится? Ведь она вложила в эту поездку все свои деньги, которые накопила за лето, и всё, что удалось взять в долг у знакомых и соседей. Теперь она ждала возвращения Юшки. Она уже знала, что он успел перед проверкой в дороге «перекантовать» свой товар в какую-то другую машину, и была рада, что всё обошлось благополучно. И ожидание возвращения Юшки помогало ей легче переживать разрыв с дочерью, переносить свое одиночество.
Но дома всё же было тоскливо. А тут еще опять завьюжила метель. Завыла в трубе, за окном, врывалась в сени. Она было подумала, — как же Павел проедет по заснеженным дорогам, и тут же махнула рукой: не до него ей, — как-нибудь проедет!
Теперь, когда она поняла, что силой Оленьки не вернуть, возмущение и желание сломить упрямую дочь сменилось боязнью остаться одинокой и брошенной. Ей хотелось разобраться во всем, что произошло с ней за последние месяцы. Она годы жила одна, и вдруг вернулась Оленька, а с ней и радость жизни. И эта радость жизни повернула ее к Юшке. Разве Оленька плохо к нему относилась? Она радовалась, когда он приходил, всегда весело встречала его. Так что же произошло? Почему она не захотела, чтобы он вошел в их дом? Господи, может быть, Оленька испугалась, что их разъединит чужой человек, что она ее будет меньше любить? Теперь Анисье казалось, что за спором о торговле, о колхозе, за всем, что произошло между Оленькой и Юшкой, скрывается нежелание Оленьки видеть рядом с матерью всё равно кого — Юшку или кого-нибудь другого. Что же, если это так, выбор сделать не трудно. Да и какой тут может быть выбор? То, что не даст счастья Оленьке, не даст счастья и ей… Пусть Юшка идет своей дорогой!
В сенях кто-то хлопнул дверью — и сразу холодный ветер задул по полу. Анисья бросилась к порогу. Наконец-то приехал! Но вместо Юшки она увидела Лукерью Камышеву. Ругань — руганью, а дело — делом. Лукерья пришла узнать, не вернулся ли Юхов.
— Непогода-то какая! Не только машины, и поезда, может, не ходят. — И, запахнув широкую овчинную шубейку на своем худеньком тело, Лукерья исчезла в запорошенных снегом сенях.
Анисья с досадой подумала о Лукерье. Ишь, забеспокоилась! Где Юхов? Приедет, не пропадут твои денежки! Она была встревожена и зла: на других, на себя, на Павла. Не загулял ли с дружками? Ему недолго!
И снова в сени ворвался ветер. Ворвался, загудел, опрокинул ведро и стих. А теперь уж, наверное, сам Юшка! По шагам слышно. Идет уверенно, знает дорогу, не боится пройти дверь…
Из темноты сеней появилась Юха. Вся в снегу, словно сменив спою черную монашескую одежду на белую, она присела на табуретку и спросила Анисью испуганно:
— Не приехал еще?
— Да что вы все заладили? — раздраженно ответила Анисья.
— Спаси и помилуй, — перекрестилась Юха. — Народ шушукается, всякие слухи идут. В лавку вошла, сама слыхала, как продавец сказал: Юшку арестовали.
— Послышалось вам…
— А люди увидели меня, замолчали. Так и буравят, так и буравят. А при нем деньги!
— Да что вы из-за денег плачете! — сорвалась с места Анисья. — «Буравят, буравят», а ничего не говорили?
— В лавке нет, а когда шла к дому, встретила участкового, он поздоровался и спросил, не приезжал ли Юшка? И нехорошо свои усища рукой потрогал…
— Чем о деньгах думать да рассматривать, кто как свои усы трогает, вы бы лучше узнали, — зачем Юшка потребовался участковому?
Бессвязный рассказ Юхи еще более усилил волнение Анисьи. Она не подумала о том, что Юшка не может быть арестован, если его ищет участковый, и, встревоженная за его судьбу, чувствовала себя перед ним виноватой. Решила отказать ему, считала его уже чужим. А ведь он старался для нее, для Оленьки. И вот теперь страдает… Нет, она тоже виновата и обязана взять на себя часть общей вины. И не побоится сказать об этом на суде. В эту минуту дочь была забыта. Все ее мысли были с Юшкой, с чужим ей человеком, который, как казалось ей, страдает и за нее и за Оленьку. Но, может быть, всё это одни разговоры, что он арестован? То, что не могла узнать старая Юха, узнает она… Анисьи накинула на себя пальто, повязалась платком и, проводив до дома мать Юшки, свернула в ту сторону, где находилась контора правления колхоза…
В конторе еще горели огни. Анисья прошла через длинный коридор прямо к комнате Копылова. Если что-нибудь случилось с Юшкой, председатель колхоза должен знать. Тем более, что Юшка повел на ремонт трехтонку. Но у самой двери Анисья невольно остановилась. Из-за тонкой фанерной перегородки она услышала, как Копылов кому-то кричал в телефон:
— Так, значит, машину на ремонт наш шофер сдал? Очень хорошо! Да, да, попрошу с установкой двигателя не задерживать. Деньги переведем.
Анисья опустилась на скамью, стоявшую у двери, и облегченно вздохнула. Значит, ничего с Юшкой не случилось. Благополучно приехал и поставил на ремонт машину. Она может спокойно идти домой. Но, прежде чем она успела подняться, в коридор вышел Копылов. Он увидел Анисью, задержался и спросил:
— Каяться пришла? Поняла, до чего дошла?
— Я только хотела. — смутилась Анисья. Она не понимала, о чем говорит председатель колхоза. Зачем ей каяться? — Я просто так…
— А дело не просто так, — жестко и назидательно проговорил Копылов. — Дело-то уголовное! Ищут твоего Юшку. На какой-то продбазе связался с жульем и государственный товар продавал на базаре, целая шайка их!
Анисья не помнила, что ей еще говорил председатель колхоза. С непокрытой головой она вышла из конторы и, не разбирая дороги, прямо через сугробы, побрела в метельную темноту. Она пришла в себя дома и, ухватив руками голову, припала к столу. Господи, что же это на нее всё валится? Дочь ушла, Павла хотят арестовать. А она-то силы отдавала, чтобы семью создать. Ради этого всё терпела. И ничего нет! Не денег жалко, совсем не денег. Где же та жизнь, о которой она мечтала?..
Снова в сени ворвался ветер. И опять уже кто-то стучит в дверь. Кто там? Опять Лукерья? Все уходите прочь! Ей надо остаться одной, всё обдумать, решить. Ведь она снова одна-одинешенька. Как теперь дальше жить?
Оглянувшись, Анисья увидела в дверях усатого участкового милиционера, соседей и еще незнакомого человека. Незнакомый человек был совсем молодой и старался казаться очень строгим.
— Я следователь, — сказал он и показал Анисье какую-то бумажку, а потом приказал участковому: — Производите обыск!
Участковый и понятые вышли в сени. Вскоре они вернулись.
— В кладовке ничего не обнаружено!
— Это следовало ожидать, — сказал следователь и добавил, повернувшись к Анисье: — Возьмите необходимые вещи. Я должен избрать меру пресечения…
Анисья не поняла, что означают эти слова, но по лицу следователя, по тому, как он произнес их, догадалась, что она арестована и надо собираться в дорогу.
44
Оленька узнала об аресте матери на следующий день, когда рано утром брала у колодца воду. Никто ей прямо об этом не сказал, но вот одна женщина взглянула на нее как-то жалостливо, другая, увидев ее, тяжело вздохнула, третья покачала головой — опять осиротела девочка. А потом она услышала случайные обрывочные фразы: «Ночью взяли… следователь приезжал… в тюрьме Анисья…» Оленька не помнила, как принесла воду, как снова бросилась на улицу, как добралась до знакомого покосившегося плетня.
У нее была одна мысль: домой, домой, домой! А зачем, для чего, что ей там делать, об этом она не думала. Мать и дом были неотделимы. И, если с матерью случилось несчастье, — значит, надо скорее вернуться в свой родной дом.
Дом слепо и мрачно смотрел на улицу своими белыми заиндевелыми стеклами. Оленька открыла калитку. От калитки к крыльцу тянулся косой сугроб.
Прямо через сугроб Оленька бросилась к крыльцу. На дверях висел замок. Она опустилась на колени, разгребла снег у нижней прорези и, просунув руку, стала искать ключ. Он всегда лежал в выемке пола у самой стены. Но выемка оказалась пустой, ключа там не было. Неужели мама забыла оставить ключ? И вдруг Оленька всё поняла. Она ведь убежала от матери, и мать отказалась от нее. Оленька опустилась на заснеженное крыльцо. И около пустого, запертого дома, она сама себе показалась бесприютной и одинокой. Она сидела на крыльце и грела своим дыханием посиневшие руки. Ничего нет; ни мамы, ни дома — она одна.
— Ты что тут делаешь?
Оленька испуганно подняла голову и увидела перед собой Юху.
— Где мама? — спросила Оленька. — Она в тюрьме?
— Вот ключ прислала.
— Дайте его мне.
— Не велено никому отдавать. Но если хочешь, чтобы скорей мать вернулась, да чтобы простила она тебя, идем со мной.
Оленька не знала, куда ее ведет старая Юха, но шла за ней покорно вдоль метельной улицы, прислушиваясь к доносящемуся вместе с ветром звону колоколов. В Ладоге во время метели включали репродуктор «колокольчик», а ночью зажигали на вышке красную звезду. По этой звезде заблудившиеся путники выходили на дорогу. А здесь, в Шереметевке бьют в колокол.
Звон колокола становился всё ближе и ближе, словно Юха шла на его зов. А потом Оленька увидела церковь. Она не понимала, каким образом церковь поможет ей скорее вернуть мать, но всё же послушно поднялась на паперть и вошла в широкие ворота.
Со стен на нее смотрели темные лики икон, а над ней нависали хмурые своды. И мрачно гудел где-то между колоннами низким голос, то поднимающийся в сводчатую высь, то падающий на каменный церковный пол, где на коленях стояли редкие молящиеся.
— Молись! — приказала Юха.
— Я не умею…
— А как умеешь молись! Проси, что тебе надо. Всё легче будет. — И Юха силой поставила ее на колени перед огромной иконой, на которой был изображен человек с седой бородой.
Оленька подумала — ну о чем ей просить этого старика, который очень похож на ладожского колхозного пчеловода? Разве может эта картина сделать так, чтобы мама скорей вернулась, прогнала Юшку, чтобы она бросила спекулировать? Вдруг у Оленьки появилось ощущение, будто она просит пощады, валяется в чьих-то ногах. Ей стало стыдно, и она оглянулась, словно испугавшись, что ее кто-нибудь может увидеть.
Неожиданно над самым ухом злобно зашипела Юха:
— Бог тебя накажет, если скажешь про Павла.
Оленька резко поднялась. Нечего тут ей делать. Надо скорее уходить отсюда. И она бросилась прочь.
Выбежав из церкви, она остановилась. И остановилась потому, что через пустырь, срезая дорогу, с одной улицы на другую шла Анна Степановна.
— Ты в церкви была?
— Была… убежала.
— Идем домой.
— Я к маме поеду. Одна она.
Анна Степановна уже знала об аресте Анисьи и, когда Оленька, принеся воду, тут же исчезла, — поняла: девочке всё уже известно, — и побежала ее искать. Кто-то видел Ольгу у дома на крыльце, кто-то заметил ее с Юхой. И когда Оленька сказала, что поедет к матери, первым желанием Анны Степановны было отговорить ее, доказать всю бессмысленность этой затеи. Но вместо этого она привлекла к себе девочку и сказала:
— Пойдем домой, я тебе дам деньги на дорогу!
— У меня есть.
— Всё равно, сперва домой…
Дома Анна Степановна заставила Оленьку потеплее одеться, потом сказала Егорушке:
— Ты лыжи хотел себе купить, так вот, поезжай с Олей. И обратно вместе. Подождешь ее.
Оленька и Егорушка выехали на попутной машине, и через час они шли по главной улице небольшого степного городка.
Оленька быстро разыскала дом, где помещался и суд и прокурор, и следователь. Вход к следователю был со двора. Оленька открыла калитку. Но Егорушка ее остановил:
— Нехорошо получается, — сказал он. — Ты к матери на свидание идешь и без передачи.
Но Оленька медлила, и Егорушка догадался.
— У тебя нет денег?
— Только на дорогу взяла.
— Да-а, — задумчиво произнес Егорушка, но тут же деловито предложил: — Возьми мои.
— А лыжи?
— Лыжи в следующий раз! — И, не ожидая согласия Оленьки, Егорушка побежал через дорогу к продуктовому магазину.
45
Оленька плохо понимала, зачем ей надо идти к какому-то следователю в самый обычный дом, когда ее мама находилась в тюрьме, расположенной в большом каменном здании на окраине города. Но так ей велела Анна Степановна, и она боязливо вошла в комнату следователя.
— Тебе, девочка, что надо? — спросил ее сидящий за столом русый, совсем молодой человек.
— Я хочу… Я прошу… Можно мне к маме?
— А что она?
— В тюрьме…
— Это хуже, — сочувственно проговорил следователь и, догадавшись, что перед ним дочь Олейниковой, сказал: — Сейчас нельзя, она под следствием.
— Я ненадолго. Я сразу уйду… — продолжала настаивать Оленька.
— Но зачем это тебе? Только расстроишь себя и мать.
— Она одна, совсем одна, — опустив голову, тихо проговорила Оленька. — И она думает, что я ее не люблю… — И заплакала.
— Ну хорошо, — после некоторого колебания сказал следователь, — сейчас что-нибудь придумаем. — Он снял телефонную трубку. — Доставьте гражданку Олейникову. — И улыбнулся: — Сейчас увидишь свою маму! А это что у тебя за сверток? От кого? Не от Павла Юхова?
— Я в магазине купила, — показала Оленька в окно…
— А Павел Юхов, как уехал, больше не приезжал?
— Пусть совсем не приезжает, не нужен он нам.
— Ишь ты, какая серьезная! Ну, ладно, садись и жди маму, а я поработаю.
Оленька присела, оглядела голые, оклеенные серыми обоями стены, стоящий в углу шкаф, стол у окна и, не найдя для себя ничего интересного, взглянула на улицу, где бежала поземка. Она ждала мать, ждала каждую минуту, и всё же ее появление было неожиданным для Оленьки.
Она не в силах была встать, броситься навстречу и только услыхала хлестнувшие ей в лицо слова:
— И сюда пришла, негодница?
— Как вам не стыдно так встречать девочку? — поднялся следователь, но Оленька даже не расслышала, что он сказал. Она испуганно вскочила с места и уронила сверток.
— Мама, я люблю тебя. — Она нагнулась и стала собирать по полу колбасу, крендели, конфеты. Собирала и вновь роняла. Она ползала на коленях, словно молила о пощаде, и повторяла одно и то же: Мама, я люблю тебя…
Анисья ничего не хотела слышать. Она, казалось, безжалостно топтала ее каждым своим словом:
— Змею за дочь приняла! Мало тебе, что в Шереметевке ославила, здесь хочешь утопить?
— Что вы делаете, Олейникова? — крикнул следователь. — Замолчите, или я прикажу вас вывести.
— А я и не просилась сюда.
Оленька кое-как собрала свой подарок и протянула его матери:
— Мама, это тебе.
Анисья оттолкнула ее:
— Уйди, видеть тебя не хочу.
Оленька отшатнулась. Прижав к себе сверток, она бросилась к дверям. Следователь остановил ее.
— Ты не обижайся на мать. Она сама не знает, что говорит. А теперь ступай.
Увидев Оленьку, Егорушка сразу всё понял:
— Поехали домой.
Но у крыльца взял сверток и снова скрылся в коридоре. Он подошел к сидящему у дверей следователя милиционеру, сунул ему в руки снедь, от которой отказалась Анисья, и сказал:
— Пойдете, так отдайте кому-нибудь это.
Всю обратную дорогу в Шереметевку Оленька думала лишь об одном: сначала она ушла от мамы, а теперь мама прогнала ее. Больше в Шереметевке ее уже ничто не удержит.
Грузовик остановился на базарной площади. Оленька спрыгнула на землю и, к удивлению Егорушки, направилась к реке.
— Ты куда?
Оленька не ответила.
— Ты куда, Оля? — Егорушка едва поспевал за ней.
— Пойдем, помоги мне!
Оленька вошла во двор своего дома, поднялась на крыльцо и, потрогав замок, сказала недоумевающему Егорушке:
— Найди какой-нибудь кол, только покрепче.
— Замок ломать? А ключ где?
— У Юхи, она его не даст…
— А удобно? Как бы чего не было.
— Ничего не будет, — уверенно ответила Оленька. — Я хозяйка, а не Юха.
После такого довода Егорушка с величайшей охотой достал торчавший из-под снега железный крюк, ударил им по замку, и Оленька, как хозяйка, переступила порог дома. В доме было холодно, неуютно, всюду виднелись следы обыска, поспешных сборов в дорогу. Оленька велела Егорушке затопить плиту, сама принялась за уборку. Загремела посуда, заскреб по земляному полу кухни веник, всё в доме задвигалось, стало перемещаться с места на место, принимало новый, по мнению Оленьки, более лучший порядок. И хоть не очень-то весело было у Оленьки на душе, но она шутя сказала своему помощнику:
— В магазине, Егорушка, остались твои лыжи.
— Ничего, у меня самоделки не хуже настоящих. И неожиданно сказал: — Хватит убираться, пошли домой.
— Я дома!
— Насовсем? — спросил Егорушка, поняв, что Оленька у них больше жить не будет.
— Ты маме скажи…
— А обедать придешь?
— Чем-нибудь и здесь перекушу.
В сумерки пришла Анна Степановна. Она оглядела прибранную кухню, заглянула в зальце и спросила:
— Мать видела?
— Да…
— О чем говорили?
— Прогнала меня.
— А ты что решила?
— Сначала хотела в Ладогу уехать, а потом раздумала. Как же я маму брошу, когда она в тюрьме! И дома никого. Нельзя мне уезжать.
— Может быть, бабушку вызовем?
— Не надо. Я одна…
Анна Степановна обняла Оленьку, поцеловала ее в голову.
— А то оставайся у меня.
— Нет, — отказалась Оленька, — вдруг мама вернется?
В сенях хлопнула дверь, послышались торопливые шаги, в дверях появилась Юха.
— Что наделала? — грозно крикнула старуха. — Кто тебе позволил петли ломать?
Оленька выдержала натиск Юхи и спокойно приказала:
— Отдайте ключ от моего дома.
— И то верно, — посоветовала Анна Степановна. — Иль не видишь, — хозяйка пришла?
46
Зимние каникулы прошли быстро. В школе снова начались занятия. Никто не знал, о чем Елизавета Васильевна говорила в районе, по, судя по тому, что она вернулась оттуда довольная, было ясно, что ее конфликт с Дегтяревым закончится не в пользу биолога.
Однако прошла неделя, за ней другая, а о Дегтяреве словно забыли: его никуда не вызывали, и никто не приезжал разбирать его спор с директором школы. А еще через неделю даже перестали вспоминать о последнем педсовете, словно и не было такого случая, чтобы ученица седьмого класса ушла от своей матери.
Оленька свыклась со своим положением хозяйки дома. Она просыпалась рано утром, когда в зимнем небе еще светились звезды, но уже горели огни в окнах домов. Со сна трудно было разобрать: наступило ли утро, или на улице стоит еще вечер. Она быстро одевалась и, громыхая ведрами, бежала на речку или к колодцу. На утреннем морозе колодезный журавль скрипел, словно двигался по улице целый обоз саней, в глубине колодца вода казалась совсем черной, и в ней серебристо поблескивала утренняя звезда. Перекинув через плечо коромысло и боясь расплескать воду, Оленька шла обратно не спеша и осторожно ступая по узкой протоптанной дорожке. Дома у плиты она готовила сразу и завтрак, и обед, и ужин и ровно к девяти часам успевала в школу.
В школе тоже всё шло своим чередом. Уроки перемежались с переменами, большие события — с маленькими. К большим событиям Оленька относила прежде всего появление в классе комсомольской организации. Хотя в комсомол пока что вступили только Володя, Зойка и еще несколько учеников, Оленьке казалось, что изменился весь класс. Он как-то стал взрослее, сдержанней, хотя оставался попрежнему шумливым. Оленьке исполнилось четырнадцать лет, она знала, что скоро тоже вступит в комсомол. Она хорошо будет учиться, как и полагается будущей комсомолке, и сделает всё, чтобы хорошо работал юннатовский кружок. Она решила, что теперь больше чем когда-либо она должна обладать самыми лучшими человеческими качествами: быть правдивой, смелой, бескорыстной.
Школьные дни проходили быстро. И особенно, когда стояла безветренная морозная погода. Тогда, приготовив уроки, семиклассники гурьбой шли на каток. В Ладоге катка не было. Да и предпочитали там конькам лыжи — эти вездеходы по заснеженным лесам! В Шереметевке же отдавали предпочтение конькам, потому что бродить на лыжах по степи не так уж весело, да не всегда из-за бесснежья и можно. В рощу приехала пожарная машина, залила водой футбольное поле, потом монтеры провели свет, радио, и по вечерам в роще было так же весело, как и летом.
Оленьку выучил кататься на коньках Егорушка. Он достал ей хоккейки, привел на каток и вывел на лед. Она прошла все стадии обучения. Сначала каталась, широко расставив руки, или, как говорил Егорушка, «кур загоняла», потом сверкала пятками и заранее не знала, что она сделает на повороте, — наедет ли на кого-нибудь или с размаху уткнется в снежный сугроб, и, наконец, научилась плавно скользить по льду, слегка раскачиваясь из стороны в сторону и уже не страшась, а наслаждаясь стремительным движением по большому кругу катка. Только научившись кататься на коньках, Оленька смогла принимать участие в «параде семиклассников», которым они ознаменовывали свое появление на катке. Взявшись за руки, они неслись вперед, заставляли всех уступать себе дорогу и, разорвав цепь, разлетались в разные концы катка. И так случалось всегда, что после «парада» Оленька почему-то оказывалась рядом с Егорушкой. Они катались вдвоем весь вечер. Он считал, что нужен ей как учитель, а она не возражала, хотя уже каталась не намного хуже его. А с катка веселые и голодные бежали к Егорушке, заморить червячка ломтем черного хлеба.
Оленька жила у себя дома, но часто проводила вечера в семье Копыловых. Ужинали там рано, но засиживались до поздна. Особенно, когда бывал свободен Семен Иванович. Тогда он вдруг затевал с Егорушкой и Оленькой сражение в шашки или усаживал за стол всю семью играть в домино. Не думала Оленька, что Семен Иванович, всегда такой серьезный и даже немного сердитый, любит посмеяться и мастер рассказывать веселые истории. И даже, когда он начинал вслух читать газету или экзаменовать ее и Егорку в политике, всё это выходило у него как-то очень интересно. Нередко по вечерам к Копыловым приходили знакомые. Из машинно-тракторной станции, со строительства канала, свои колхозники. Правда, в такие вечера Семен Иванович был занят гостями; но плохо ли было послушать их разговоры о степи, куда вскоре придет вода, о международных делах, о приметах будущей весны! Были и споры. Больше всего Семен Иванович ругался с «эмтээсчиками»: еще мало заботятся они об урожае, думают лишь о том, как бы больше вспахать. А «эмтээсчики» — Семену Ивановичу: мало колхоз заботится об условиях для хорошей работы машин; да и урожай разве зависит только от МТС? Оленька внимательно прислушивалась, старалась разобраться в нем. Но, странное дело, когда говорил Семен Иванович, ей казалось, — он прав, а когда говорили его противники, — как-то, выходило, что правы они… А может быть, та и другая сторона были виноваты и потому так хотелось каждой доказать свою правоту?
И бывало вечером, сидя где-нибудь в уголке у печки, Оленька встречалась глазами с Анной Степановной. Они улыбались друг другу, но Оленька не знала, о чем думает мать Егорушки. Оленька была ей близка и дорога. Ей хотелось подойти, обнять ее и сказать: «Ничего, Олюшка, всё устроится». И в то же время в душу закрадывался страх: а что будет с девочкой, если осудят Анисью?
В юннатовском кружке стояло затишье, как всегда зимой, когда до весны еще не так близко. Но всё же Оленька собрала Зойку, Володю, Егорушку и других юннатов, участвовавших в поливе, и поставила перед ними вопрос, — как же всё-таки сделать так, чтобы ребята могли летом помочь колхозу поливать поля? Привели Петяя и долго расспрашивали, как ему удалось тогда на речке зарядить большой сифон. Петяй только разводил руками:
— Не заметил, как и зарядил.
— Да ты после этого пытался сделать то же самое?
— Велолыжи забросил, только с сифоном и вожусь, ничего не выходит, — признался в своей беспомощности Петяй.
— А если крышку или заслонку сделать? — допытывалась Оленька.
— Неудобно, да и плохо прикрывает…
Было решено самим взяться за дело. У одного может и не выйти, а у всех — получится. На чердак, где хранились семена, приволокли бадью, наносили туда воды и стали проделывать опыты с большими сифонами.
Однажды Оленька пришла домой и увидела в сенях под дверью письмо. Оно было на имя матери, без указания обратного адреса и даже неизвестно из какого города, потому что на конверте был штемпель почтового поезда. Было совершенно ясно, что это письмо не из Ладоги. Но откуда тогда? Оленьке очень хотелось вскрыть конверт и прочесть письмо. И всё же она отложила его в сторону. Чужое письмо читать нечестно.
Однако письмо не давало ей покоя. А вдруг оно какое-нибудь очень важное и нужное для мамы? И вот вместо того, чтобы распечатать его и чем-то быть полезной маме, она рассуждает о том, хорошо ли читать чужие письма?
Оленька раскрыла конверт. И первым движением ее было бросить не читать исписанный ломкими строчками листик. Внизу стояла подпись Юшки. Но тут же она подумала, что именно письмо Юшки она обязана знать. Она пересилила себя и стала читать слово за словом.
«Письмо, сама знаешь, от кого. Передай матери — чуть было не увяз на трудной дороге жизни, но выбрался. Меня не ищи. А денег я тебе не должен. Еще с тебя приходится. Всё началось из-за твоей Ольги. С нее и взыскивай. У нее деньжата на сберкнижке есть, вот и расплачивайся кому должна…»
Оленька спрятала в карман письмо и вышла на улицу. Сначала она хотела показать письмо Анне Степановне, даже подумала, — а не зайти ли к Алексею Константиновичу или Кате? Но по дороге она увидела идущую в район колхозную машину, подняла руку, забралась в кабинку и через час уже сидела в комнате следователя.
Следователь прочел письмо и сказал:
— Твоя мама всё время говорила, что она не имела никаких общих дел с Юховым.
— Значит, я подвела ее?
— От правды никуда не уйдешь… Не было письма, но были свидетели.
— Скажите, верно, что мама многим должна?
— Да, кое у кого она брала товар в долг.
— Я не хочу, чтобы говорили, что моя мама обманула кого-нибудь… Я уплачу.
— Когда надо будет, я тебе всё скажу, а теперь поезжай домой. Впрочем, постой. Верно, мне сказали, что ты живешь одна в своем доме, хозяйствуешь, ждешь мать?
— А она скоро вернется?
Следователь подошел к телефону и, сняв трубку, вызвал прокурора.
— Завтра утром я освобожу Олейникову. Надо найти Юхова. Нет, она не знает и не укрывает его. Но теперь Юхов не уйдет. Я знаю, где его искать. — И, провожая Оленьку из комнаты, сказал: — Так вот, суди сама, — подвела ты свою маму или нет?
47
Оленька с ночи поставила тесто. Утром она испекла пирог, приготовила обед и, прибрав весь дом, ждала возвращения матери. Анисья вошла и, пораженная празднично накрытым столом, невольно остановилась у порога. Не ожидала она встретить сбежавшую от нее дочь, не думала, что Ольга живет дома и ждет ее. Сколько раз ночью в тюрьме ей виделась Оленька! Казалось, нет для нее преград, идет к ней сквозь высокие каменные стены, железные решетки, обитые жестью двери камеры. И вот сейчас, когда Оленька была рядом, не протянула к ней руки, не прижала к себе и даже не сказала ласкового слова. Только сняла платок, пальто и, присев к столу, устало проговорила:
— Продрогла я. Поем и спать лягу.
Встреча получилась совсем не такая, как предполагала Оленька, и она ответила так же безразлично:
— Садись, я борща налью…
Анисью выпустили до окончания следствия и, вернувшись в Шереметевку, она сразу же попросила дать ей наряд на работу. Надо было жить и хотя бы получить небольшой аванс под будущие трудодни. И очень обрадовалась, когда Копылов предложил ей место ночного сторожа на ферме. И заработок постоянный, и всё время одна.
Анисья шла дежурить на ферму.
Сколько ей предстоит еще провести таких ночей до суда и что скажет суд, — об этом она старалась не думать. Что будет, то будет! Да и не всё ли ей равно, что будет, если нет счастья и, наверное, скоро надолго она потеряет свободу!
На ферме уже прошла вечерняя дойка, скотницы кончали уборку. Наконец всё стихло. Дремотная тишина лишь изредка нарушалась бряцанием цепей, бульканием воды в автопоилках да похрустыванием сена.
Анисья обошла скотный двор, проверила, не искрят ли пробки на электрическом щитке, и опустилась на табуретку у двери, чтобы вот так просидеть тут всю ночь. В этом, собственно говоря, и заключалась работа ночного сторожа. Она не требовала большого труда и располагала либо ко сну, либо ко всякого рода размышлениям. Но бездействие угнетало и всё время возвращало к размолвке с дочерью. Анисья пыталась убедить себя, что такая дочь ей не нужна, что у нее не было и нет дочери и, глядя поверх золотистых от электрического света коровьих спин, она негромко говорила, словно где-то рядом, на скотном дворе, была Оленька.
— Живи, как хочешь!
Рано утром по пути к дому она зашла к Юхе. В доме стоял тяжелый воздух. Анисья поморщилась.
— И что вы хату проветрить не можете?
— Где-то сынок мой?
— Ищут, да найти не могут, — зло ответила Анисья. — Сбежал с чужими деньгами.
— Ничего я не знаю, не мое это дело! — Всегда суровая, Юха сейчас выглядела жалкой и словно боялась Анисью. — Сами разбирайтесь!
— На суде всех разберут!
Анисья сама не знала, зачем она зашла к Юхе. Некуда больше идти — вот и зашла. А дома постояла на пороге, подумала: «Одна ночью, одна днем» — и направилась на ферму, к высившейся за Шереметевком силосной башне, которую огибали подковой скотные дворы.
Анисья попала в дневную суету. Неумолчно гудели моторы на кормокухне, слегка покачиваясь, катились вагонетки подвесной дороги, доярки задавали коровам корм. И еще тоскливей стало Анисье. Каждый делает свое дело, всё движется, стучит, работает, а она не знает, куда себя деть, одно у нее теперь будет дело: сиди и сиди ночами на табуретке.
— Иль забыла что? — Анисья оглянулась и увидела деда Мирона. Он шел с артелью землекопов рыть котлован. — Пойдем с нами. — И протянул ей лопату.
Над котлованом высилась стрела самодельной подъемной лебедки. Анисья спустилась вниз и встала рядом со скотником Камышевым. Управляться с лопатой ей было нетрудно, и Камышев, едва успевавший за ней копать землю, даже пошутил:
— Тебе, баба, в землекопы идти, а ты по базарной части вдарилась.
Он сказал и тут же раскаялся. Анисья так зло взглянула на него, что он предусмотрительно отступил в дальний угол.
Дед Мирон, помимо своей основной колхозной нагрузки члена ревкомиссии, выполнял много других обязанностей: чинил сбрую, помогал бригадирам принимать от трактористов вспаханные поля и порой оказывался сам в положении бригадира, когда надо было что-нибудь сделать, очень срочное, причем найти для выполнения этой работы, как ом говорил, «нутренний» резерв. Такой работой оказалось рытье котлована под жижеотстойник. Конечно, на общем фоне большого колхозного хозяйства жижеотстойник вряд ли требовал, чтобы о нем специально докладывать председателю колхоза, но дед Мирон считал всякую работу главной и в обед направился к Копылову.
— Еще денька три-четыре, и отстойник, Семен Иванович, выкопаем.
— Ладно, ты сведения давай животноводу.
— Можно и так, — согласился дед Мирон и продолжал: — Сегодня Анисья Олейникова сама в котлован пришла. Хорошо работает.
— Анисья? — удивился Копылов. — Ну что же, так тому и дальше быть. Пускай работает.
Дед Мирон помолчал.
— Как там у Елизаветы Васильевны с Дегтяревым — не слыхать?
— А это, дед, к ревкомиссии не относится, — сказал неожиданно рассердившись Семен Иванович. — И скажи, пожалуйста, всё тебе знать надо!
— А как же? Мне мой Петяй покою не дает. Что, да как, да почему? Ладно, можешь не говорить. Прощай, председатель! — Но, как бы вспомнив что-то, вернулся от дверей. — Сколько раз я тебе говорил — без весу сено не отпускать! Еще раз увижу, обязательно акт составлю. Тут, брат, хочешь, не хочешь, а отвечать придется…
Анисья и сама бы ушла из ночных сторожей. Быть весь день одной дома, а потом всю ночь одной на ферме она не могла. Но находиться в бригаде землекопов, куда ее взял дед Мирон, было тоже не по душе. Ей было трудно работать рядом с людьми, хорошо знавшими ее горе. Одни высказывали свое сочувствие, другие открыто, не стесняясь говорили, что она сама во всем виновата, третьи не прочь были подшутить над ее неудачной попыткой связать свою судьбу с Юшкой. Тогда она попросилась в карьер, где добывали для дороги песок и гравий. Карьер находился в трех километрах от Шереметевки. Он был открыт для всех ветров, и ничто не защищало там от зимней стужи. Но работа в карьере имела одно преимущество, ради которого Анисья готова была каждый день ходить за три километра и проводить весь день на холодном ветру. В карьере работали совсем не знавшие ее колхозники соседнего хутора, и это давало возможность Анисье быть на людях и в то же время наедине с собой. Правда, вскоре в карьере появился дед Мирон, которому после рытья котлована было поручено наблюдение за добычей песка и гравия, но он не заговаривал с ней об Ольге, больше интересовался ее выработкой, чем семейными делами, и через несколько дней она уже радовалась, что в зимние сумерки шла домой не одна, а с попутчиком.
Зимним полднем карьер выдал последние возы гравия для дороги, и Анисья вместе с дедом Мироном возвращалась в Шереметевку необычно рано. Стоял ясный безветренный февраль. На солнце у придорожных кустов слегка подтаивало, и снег в степи отливал радужной расцветкой. Дед Мирон был очень доволен, что карьер хорошо справился с заданием, советовал Анисье денек-другой отдохнуть, обещал даже подыскать подходящую работу, а потом неожиданно спросил:
— Суд тебе когда будет?
— Не знаю.
— Эх, Анисья, в какое время неладное с тобой случилось! Слыхала, канал уже готов, с весны воду на поля дадут, на ноги колхоз становится, а ты куда вдарилась? Вот всегда так получается: подождем, да со стороны посмотрим, а на деле выходит, — ждать, да со стороны смотреть всё одно, что в другую сторону идти.
— Хотелось получше жить.
— А другим иль не хочется? — спросил дед Мирон.
— Каждый за себя.
— Это всё равно, что никому! Об общем забыл — себе хорошего тоже не жди. Ну, что вот ты от своей торговли получила? Небось, думала, тысячи будут, куда там сравниться с ними колхозным трудодням, и спину в поле не надо гнуть и деньги вон какие! Легко да богато! А вышло что? Где деньги твои? Одни долги! Еще какая прибыль? А с дочкой, иль не вижу, как чужие живете. Теперь вот суд будет. Здорово разбогатела! Потеряла, что имела! Да что я тебе объясняю, сама знаешь. Только не всё знаешь. Что плохо — постигла, а в чем настоящая радость — неведомо тебе еще.
— Да замолчи ты, дед.
Но замолчать дед Мирон уже не мог. Он любил пофилософствовать, а тут к тому же почувствовал, что задел Анисью за живое, и каждое его слово бьет прямо в цель.
— А настоящее счастье, оно, знаешь, в чем? В работе. В согласии! Только это тоже надо понять! Счастье, оно, как и горе, сердцем постигается…
Но последнее наставление Анисья уже не слышала. Она метнулась к обочине и напрямик, через поле, зашагала к своему дому, кажущемуся издали врытым в снег.
48
Оленька была очень удивлена, когда, вернувшись из школы, ома застала дома мать.
— Ты уже с работы?
Она спросила это так, как спрашивают ребят, когда те слишком рано приходят из школы.
Они больше не ссорились, разговаривали, ели за одним столом, ми каждая как будто жила своей особой жизнью; Анисья — работой в карьере, Оленька — школой, юннатовским кружком, где попрежнему и пока что безуспешно юннаты искали способ заряжать большие сифоны, и ни слова между матерью и дочерью не было сказано о бегстве в Ладогу. Они были чужими друг другу, хотя для каждой было бы счастьем, если бы вдруг рухнула стена настороженности и непонимания, которая разделяла их. Они боялись высказать свои чувства, скрывали их за внешней сдержанностью. Анисья считала, что дочь ее бросила, Оленька не могла забыть встречу у следователя и считала, что мать ее прогнала. Они жили настороженно, и больше всего боялись открыть друг другу свое сердце. Но именно сейчас бегство от матери казалось Оленьке таким наивным и глупым, что порой она даже не могла объяснить себе, каким образом она могла так поступить. От чего и от кого она бежала? От позора, от Юшки? Но разве можно уйти от позора? И, убежав от Юшки, разве она не сделала еще хуже? Ведь ее бегство не разлучило, а скорей сблизило его с матерью. Нет, ей надо было поступить совсем иначе. Остаться дома и сделать так, чтобы ушел Юшка. И не обижаться на мать, не стыдиться ее, а убедить ее в том, что нельзя жить так, как хочет жить Юшка.
Оленька видела, что мать старается меньше бывать дома, не занимается домашними делами, и она взяла хозяйство в свои руки. Готовила, покупала что надо на базаре. А мать точно не замечала всего этого, предоставив Оленьке полную свободу. Анисья жила так, как будто была в гостях у дочери и скоро уедет далеко и надолго. В эти дни ее всколыхнуло, вызвало у нее интерес лишь одно событие. Следователь задержал Юшку. Помогло письмо. Хитер Юшка, отправил письмо с поездом, а не сообразил, что почтовый приходит в два ночи, и по штампу сразу узнали, что искать его надо в двух-трех станциях от Шереметевки. Задержали, даже не успел все деньги прогулять… Анисья была рада одному: пусть Юшка втянул ее в свои темные дела, но она не связала с ним свою жизнь, он не стал отцом Оленьки. Впереди всё же был какой-то просвет.
Оленька, не раздеваясь, прошла в свою комнатку, оставила там сумку и вернулась в кухню.
— Ты на работу еще пойдешь?
— Кончили на карьере…
— Тогда обедай и отдохни. А я пойду к Алексею Константиновичу. — И даже не сказала, зачем. Разве интересны маме дела старосты школьного поля, какие-то там планы предстоящих опытов?
Дегтярев жил неподалеку от базарной площади. Его комната очень походила на лабораторию. Добрую треть занимал большой стол, уставленный мешочками с семенами, пробирками, колбами, на стенах вместо картин висели снопы, и собственно жильем можно было назвать уголок, где находилась кровать, застеленная серым солдатским одеялом.
Дегтярев проверял классную работу, когда в комнату постучалась Катя.
— Я пришла как будто слишком рано. — Она сняла шубку и присела к столу. Дегтярев проверял ученические работы. Катя тихо спросила: — Вы ездили в район?
— Всё кончилось очень плохо, очень плохо, — сказал Дегтярев и с шумом отодвинул стул. — Я предпочел бы, чтобы меня уволили. Знал бы за что! А то просто переводят в другую школу. Тихо, спокойно, как будто ничего не произошло, так сказать, в порядке укомплектования. Вы ставите принципиальные вопросы воспитания в школе, а вас не опровергают, с вами не спорят, а просто тихо убирают.
— Подло! Что они не поняли, не разобрались?
— Может быть, — задумчиво произнес Дегтярев. — Теперь я понимаю маневр Елизаветы Васильевны: зачем спорить, рисковать, ошибаться, когда можно сделать вид, что ничего не произошло. Но кто дал право отнимать у меня опытный участок, который я создал вместе с ребятами, отнимать ребят, которые мне дороги и близки? Как это легко всё делается: раз — и перевод в другое место! Школа государственная, опытный участок — школьный, а учитель кто? Частная личность? Нет, школа не только общее дело, это мое личное дело, школьный участок — мой кровный участок!..
Дегтярев вышагивал вдоль комнаты. Он привык бороться смело и открыто, а тут получается чорт его знает что. С кем спорить? Кому доказывать? Его ни в чем не обвиняют, а из школы — вон! Он представлял себе заброшенным и заваленным мусором школьный оросительный канал, заросшие травой делянки, где напрасно что-то пытается вырастить Егорушка Копылов, и директора школы Елизавету Васильевну, которая говорит председателю колхоза: «Возьмите, пожалуйста, от нас эту землю, она только глаза мозолит». Ему даже представилось, как канал, ставший местом для вывозки мусора, называют дегтяревской свалкой, делянки дегтяревскими зарослями, и как каждый раз, когда кто-нибудь из учителей захочет сделать что-нибудь новое, его будут пугать бесславно закончившимся экспериментом бывшего учителя Дегтярева.
И вдруг он понял, что совершенно напрасно боится всего этого. Не такой Елизавета Васильевна человек, чтобы забросить школьное поле, орошение, опыты. Она никому не уступит школьной славы. Он хорошо знает ее. Очень хорошо. В ней есть честолюбие. И не за опытное поле он должен бояться, а за ребят. Разве ее беспокоит сейчас судьба Оленьки? Она забыла о девочке; живет с матерью — и хорошо! А что там у них в семье — Елизавете Васильевне всё равно. Любят ли колхоз ее ученики или нет, останутся ли работать на колхозной земле — это не важно; ей главное — средняя высокая успеваемость, чтобы прежде всего ей самой поставили пятерку за директорство.
Ребята пришли все сразу. Володя, Оленька, Егорушка, Зойка, Петяй.
Дегтярев усадил их за стол и стал рассказывать о плане предстоящих весенних работ на опытном школьном поле. Всё было сложнее, чем в прошлом году: и опытов больше, да и через опытное поле надо пропустить три старших класса. Значит, каждый юннат должен уметь не только сам ставить опыты, но и руководить целой группой ребят. Ну как, Оленька, Зоя, Володя, Егорушка, справитесь? И так надо справиться, чтобы ребята заинтересовались работой на земле и стали мечтать о том, чтобы быть трактористами, комбайнерами, агрономами.
В разгар составления плана опытных работ пришел Семен Иванович.
Председатель колхоза не раз бывал у Дегтярева, но почему-то именно сейчас, войдя в комнату учителя, сказал, осуждая не то Дегтярева не то себя:
— Квартирку-то можно было бы подыскать и получше…
Дегтярев подумал: «Хитрит Семен Иванович. Не для того пришел, чтобы помочь найти более удобную квартиру. Нет, тогда бы начал разговор с чего угодно, а потом уже перешел к комнате. А если начал с комнаты, значит, дело в чем-то другом. Но в чем именно?» А Копылов продолжал:
— Алексей Константинович, а я к вам по большому делу.
— Мои юннаты не помешают?
— Пусть на улице побегают. — Семен Иванович подождал, пока ребята выйдут из комнаты, и сказал, подсаживаясь к Дегтяреву: — Вы уж извините меня, Алексей Константинович, что я лезу в ваши дела, но знаю, — не работать вам вместе с Елизаветой Васильевной, разного вы характера люди.
— Двух одинаковых не бывает. — Дегтяреву не хотелось вмешивать Копылова в свой спор с директором школы.
— Одинаковых, верно, не бывает, — согласился Семен Иванович, — а не сработаются, так врозь!
— И так бывает.
— А мне, по совести сказать, не хочется, чтобы вы уехали из Шереметевки. Не всякий агроном сумеет такой участок сделать, как ваш школьный.
Алексей Константинович весело рассмеялся.
— Вот меня уволят, я к вам агрономом-опытником и пойду. Примите?
— Вы смеетесь, Алексей Константинович, а я серьезно — переходите к нам!
— И дадите опытное поле, гектаров на тридцать?
— Да хоть все сорок возьмите, — охотно предложил Копылов.
— И людей, конечно, выделите.
— Не иначе. Такое дело — да не дать людей. К слову сказать, те же ребята помогут. Вот увидите — во всем колхоз пойдет навстречу.
— А про зарплату забыли? — прищурил глаза Дегтярев. — Я ведь дорогой: ботаник, зоолог, биолог! Да к тому же имею опыт по орошению.
Но, прежде чем Копылов успел его заверить, что и зарплата будет не меньше, чем в школе, а сверх того построят дом и дадут, как полагается по колхозному уставу, большую усадьбу, Алексей Константинович пододвинулся ближе и сказал уже совершенно серьезно:
— Семен Иванович, я, конечно, очень благодарен вам и за доверие, ну и, само собой, за сочувствие… Но если бы вы мне предложили в пять раз больше опытное поле и в десять раз больше зарплату, я бы предпочел всё-таки принять перевод в другую, в самую плохонькую, затерявшуюся где-нибудь в степи, школу, чем остаться в Шереметевке только агрономом. Вы, сами того не подозревая, предложили мне то же самое, что и Елизавета Васильевна: перестать быть педагогом. Вы поймите, Семен Иванович, что на опытном школьном участке я прежде всего учитель! А опытное поле для меня ценно тем, что помогает школе вырастить и воспитать настоящих, преданных колхозу людей. Но может быть, вы считаете меня плохим учителем? Тогда вы правы!
Копылов смущенно опустил голову. Нехорошо получилось. Думал помочь человеку, а вышло — обидел. И как это угораздило его предложить Алексею Константиновичу бросить свое любимое дело? Потом он поднялся и, стараясь не встретиться с Дегтяревым глазами, сказал:
— А всё же жалко будет, если вы уедете от нас.
— Меня не так-то легко выжить, Семен Иванович. Я еще повоюю!
И, проводив председателя колхоза до крыльца, крикнул своим юннатам, превратившим соседский забор в мишень для снежков:
— Заходите, ребята! — И, когда его маленькие друзья снова уселись за столом, Алексей Константинович оглядел их и спросил: — Так что же, продолжим, пойдем дальше?
Оленька вернулась домой вечером. Мать спала, и свет настольной лампы бил ей в глаза. Отгородив свет большим головным платком, Оленька вышла в кухню и растопила плиту. Ей предстояло много дел: подогреть ужин, переписать план участия всех старшеклассников в работе опытного поля, приготовить уроки. Она взяла книгу по географии и подсела к огню. В одной руке она держала учебник, в другой — кухонный нож, чтобы переворачивать картошку. И вдруг, бросив книжку и забыв про картошку, она поспешила к двери, сбоку которой висела роба матери. Оленька потрогала холодный мокрый брезент и с укоризной проговорила, словно мать была рядом:
— Ну, разве так можно! Завтра на работу, а роба не просушена.
49
Елизавета Васильевна рассчитывала, что Дегтярев узнает о переводе в другую школу после экзаменов, когда наступят летние каникулы. Это освободило бы ее от многих неприятностей. Теперь же Дегтярев, конечно, потребует объяснений, попытается привлечь на свою сторону учителей, поведет против нее борьбу, которую она заранее называла склокой. Иной, вообще, она не представляла себе борьбу в школе. Она считала, что уважающие себя педагоги всегда могут договориться по поводу своих разногласий, не будут подрывать авторитет друг друга. Она относила себя к поборникам всех этих правил, а что касается своего желания освободиться от Дегтярева, то, видит бог, разве можно терпеть такого учителя?
Однако Дегтярев не затевал никакой склоки и вел себя мирно. Порой Елизавете Васильевне казалось, что он доволен предстоящим переводом и ради этого старается показать себя поистине умелым воспитателем и хорошим педагогом. Его воспитательский класс, и до этого неплохой, теперь стал просто неузнаваем. Семиклассники были дисциплинированны, всегда подтянуты, внимательны. У Елизаветы Васильевны на истории даже самые шумливые и непоседливые ученики не смели шелохнуться. Но чтобы на немецком было тихо?!
Елизавета Васильевна наблюдала за Дегтяревым, за его классом и терялась в догадках. Дегтярев, как всегда, преподавал ботанику и зоологию, возился с юннатами. Он часто водил своих учеников на машинно-тракторную станцию, на гидростанцию, по колхозным фермам. Лучше желать было нечего. И хоть она смутно подозревала, что всё это не спроста, в конце концов пришла к выводу, что ботаник смирился со своею участью, может быть, рад, что его хоть не уволили, а его питомцы, семиклассники, повзрослели и поняли, что перед окончанием школы надо взяться за ум.
Солнце пригревало. Чернел снег на школьной усадьбе, оседала и бурела посреди улицы дорога, в низинах из-подо льда пробивались первые ручьи. Теперь классы, выходящие на солнце, не надо было топить. Они так нагревались за день, что тепло держалось до вечера. Можно было рассчитывать на благодарность района за экономию топлива. Пожалуй, всё было хорошо.
В один из таких дней, после уроков, Елизавета Васильевна сидела в своем директорском кабинете и, как всегда в такую пору, проверяла классные журналы. Она выписывала колонки цифр, производила подсчеты, одним словом, старалась заранее прикинуть, какой процент успеваемости будет по школе и не снизится ли он, упаси боже, по сравнению с предыдущей четвертью.
И вдруг по столу забарабанили капли. Классный журнал покрылся быстро лиловеющими водяными кляксами. Елизавета Васильевна подняла голову и увидела на потолке, над самым столом большое мокрое пятно. Неужели протекает черепичная крыша? Ведь школа недавно построена. Елизавета Васильевна захлопнула журнал, убрала всё со стола и поспешила на чердак, в мезонин, расположенный над ее кабинетом. И то, что она увидела в мезонине, ошеломило ее.
У полной бадьи стояли Егор Копылов, Ольга Дегтярева, Зоя Горшкова, Владимир Белогонов и окунали в воду изогнутые трубки сифонов.
Школьники не сразу ее заметили, и Елизавета Васильевна имела достаточно времени не только прийти в себя, но и внимательно разглядеть, во что ребята превратили мезонин. С одной стороны у стены лежали туго набитые какими-то семенами мешочки, с другой — были подвешены к стене снопы. Хорошо, это она сама еще летом разрешила устроить здесь склад семян. Но только семян! А кто разрешил втащить сюда бадью с водой? Кто разрешил ребятам над ее кабинетом испытывать сифоны? И к тому же бадья течет! Журнал испорчен.
— Это что за безобразие? — ледяным голосом сказала Елизавета Васильевна.
Ребята растерялись. Разве то, что они делают, безобразие? Верно, они ни у кого не спрашивали разрешения вести в мезонине зарядку сифонов, но ведь мезонин им отдан, и они тут хозяева.
— Молчите? Испортили в моем кабинете весь потолок и притворяетесь наивными!
Только сейчас ребята поняли, чем вызван гнев Елизаветы Васильевны. Как же они не доглядели, что бадья дала течь?
Оленька, сбросив с себя передник, стала вытирать на полу лужу…
— Я недоглядела…
— Дома безобразничаешь и в школе безобразничаешь!
— Дом здесь не причем, — заступился за Оленьку Егорушка.
— Изволь молчать, когда с тобой не разговаривают, — оборвала Елизавета Васильевна.
— Мы не безобразничали, — сказал Володя Белогонов, хотя с ним тоже не разговаривали.
— А вода — это чистая случайность, — пояснила Зойка, чтобы принять на себя, наравне с другими, гнев директора школы.
Елизавета Васильевна окинула взглядом ребят. Они смотрели ей прямо в глаза уже без смущения, смело, готовые защищать друг друга. И тут вдруг она поняла, что седьмой класс — это не просто один из классов школы, где она директор, а Дегтяревский класс, настроенный против нее и показавший себя в последнее время особенно дисциплинированным из желания поддержать Дегтярева, продемонстрировать свою любовь к нему. Так вот где причина тех необычных изменений, что произошли с семиклассниками! Она многое поняла в эту минуту. Но не всё и не самое главное. Любовь к Дегтяреву, желание поддержать его — да, это определяло поведение класса. Но разве была бы у ребят эта любовь к учителю, если бы они не чувствовали и не видели, что правда на его стороне? Они по-своему боролись за эту правду. Боролись, поддерживая своего учителя, боролись своими средствами.
Елизавета Васильевна внешне ничем не выдала себя, если не считать более чем сдержанного, но не терпящего никакого возражения, приказа:
— Убрать отсюда воду!
Она стояла и наблюдала, как ребята, раздобыв где-то ведра, носили воду, потом снова приказала:
— Убрать бадью, здесь не прачечная!
Теперь в мезонине был порядок. На полу аккуратно стояли мешочки с семенами, висели на стене прошлогодние снопы, да под окном была сложена куча поливных сифонов. Но Елизавета Васильевна уже не могла остановиться.
— И всё это — убрать! Чтобы я этого больше не видела!
Через час по Шереметевке двинулась необычная процессия.
Впереди, похожие на музыкантов, с сифонами через плечо, шли Оленька Дегтярева, Зойка Горшкова и еще несколько девочек; за ними, обвешанные снопами, словно живые суслоны, — Петяй, Володя Белогонов и другие ребята; сзади тянулась тройка борзых с коренником — сыном председателя колхоза, Егорушкой. Они впряглись в сани и везли целую гору разноцветных мешков и мешочков, которые могли принадлежать только школьному опытному участку.
Недалеко от правления колхоза процессия остановилась, и ребята стали обсуждать, куда же теперь девать всё юннатовское имущество.
— Везите к нам, — сказал Петяй, вызванный Егорушкой по случаю переезда из школы. — Дедушка Мирон пустит.
— Ты к деду своему всё село готов переселить, — ответил Егорушка. — А ну, заворачивай в правление.
— А где там складывать-то?
— Сифоны в сенях оставим, снопы в красном уголке повесим, а семена сложим у батьки в комнате. Он разрешит! — И, помогая сдвинуть с места сани, Егорка прикрикнул на своих пристяжных. — Но, трогай, поехали!
В правлении шло совещание. Услыхав шум в сенях, Копылов вышел, чтобы узнать, кто ворвался в контору. Через несколько минут он вернулся, вырвал из блокнота листок и, что-то написав, протянул записку выступавшему в то время Дегтяреву.
«Ох, и зол я на вашу педагогику!»
Копылов имел в виду Елизавету Васильевну. «И почему на Шереметевку такая напасть, — подумал он. — Дегтярева убирают, а Елизавету Васильевну оставляют?»
50
Теплым весенним днем Копылов ехал верхом по степи. Он был в райкоме партии, там говорил о директоре школы и теперь окружным путем возвращался в Шереметевку, трассой канала. В низинах еще лежал снег, но насыпи канала уже чернели оголенной землей. Копылов ехал не спеша, опустив повод. Поджарая пегая кобылка усердно месила еще непросохшую полевую дорогу и сама поднималась к бетонным сооружениям, откуда шло очередное ответвление канала в глубь степи.
Всё было готово к орошению: русла каналов, водоспуски, хлопушки, трубы, по которым вода хлынет к временным оросителям, а дальше уже прямо на посевы. Казалось, что всё в порядке и дело только за солнцем, под лучами которого должен стаять ледок на дне канала, тогда поливай, расти. Но Копылов знал, что при всей кажущейся возможности легко получить воду на самом деле вряд ли всё обойдется без серьезных затруднений. На десятки километров растянулось русло канала: каждый метр может дать прорыв, фильтрацию — и вот уже вода пошла не туда, куда надо! Он понимал, какие грозят ему опасности. Он знал, откуда их ждать, и в то же время явно преувеличивал эти трудности. Все, казалось ему, грозило опасностью, начиная от водохранилища, где вода брала свое начало, и до последней поливной борозды, куда она должна была добраться, чтобы вспоить будущий урожай. Но, думая обо всем этом, он нет-нет, да возвращался к своему разговору с секретарем райкома, разговору о Дегтяреве и директоре школы Елизавете Васильевне. Он всё рассказал, не таясь, и не раскаивался в этом. Он поступил так, как велела ему совесть коммуниста, и теперь пусть в райкоме решают, — как быть дальше… Бесспорно, должность директора куда выше, чем учителя. Но разве о пользе человека судят по должности? Только люди равнодушные к жизни колхоза, к его счастью, к его судьбе могут заступиться за Елизавету Васильевну и тем самым заставить уйти из школы Дегтярева. Нет, не может секретарь райкома встать на ее сторону. Не может…
Семен Иванович повернул к Шереметевке. В дымке весеннего дня за теплым струящимся воздухом пригретой земли Шереметевка вставала над степью, словно мираж. Но это ощущение длилось весьма недолго. Какой там мираж, когда, едва успев проехать каких-нибудь несколько сот метров, Копылов увидел жену, которая со своим звеном разбрасывала по полю навоз и весьма решительно заявила ему:
— Мне помощница по поливу нужна!
— Не тебе одной.
— Я Анисью возьму…
— Кого? — переспросил удивленно Семен Иванович. — Ты серьезно? А драки не будет?
— Одна-то против всех? — успокоила мужа Анна.
Он не стал спорить. Анисья, так Анисья! Тем более, что скоро суд, и не известно, чем он кончится. И тронул поводьями.
Хотя Копылов и обещал жене прислать в звено Анисью, всё же при встрече с дедом Мироном он предусмотрительно спросил:
— Как там твоя базарница?
— Чинит дорогу. Нынче весна-то какая — рывком взяла…
— А работает неплохо?
— Не тебе спрашивать, — вдруг расшумелся дед Мирон. — Она как на карьере работала, — плохо? Нет! Почему не премировал? «Подумаю, подумаю», — до сих пор думаешь…
— Значит, рано премировать, — ответил Копылов. — Может быть, она тоже рывком взяла.
— Да не сдала…
— Тогда придется премировать, — уступил Семен Иванович, — а тебе, дед Мирон, — расстаться с ней…
— Не отдам, — решительно отказал старик.
— Правлением решим…
— А я правлению разъясню, что ты мне на полдороге всё дело срываешь. — Пока с дочкой по-настоящему не помирю — не отдам.
— Вон как! — улыбнулся Семен Иванович. — Тогда думаю, что до правления мы с тобой не дойдем.
— Уступишь?
— Не я, а ты! Хочешь, чтобы на полдороге твое деле не сорвалось, отдай-ка лучше Анисью в звено Анны, — там они быстрей договорятся…
После разговора с Копыловым дед Мирон разыскал Олейникову ни дороге у электростанции и сказал:
— Тебе, Анисья, перемена наряда. В звено Анны Копыловой пойдешь.
Анисья присела на сваленный у обочины дороги гравий и, поправив платок, спокойно ответила:
— Нечего мне в ее звене делать.
— Правлению видней, — возразил дед Мирон, — а распоряжению не подчиняться не имеешь права. — Он присел рядом и сказал, нахмурив стариковские брови: — Я всё понимаю, Анисья, только ты себя переломи… Так надо!
Старик думал, что Олейникова его поймет с полуслова, поймет, что, чем ближе она будет к Анне, тем скорей она вернет себе любовь дочери, но Анисья даже не слушала, о чем он говорил ей. Ее обожгла обида, и кроме этой обиды она ничего не чувствовала. Что же это такое — издеваются над ней? Куда посылают, к кому? К разлучнице! И закричала на деда Мирона:
— Ты, старый, всё выдумал! Ты! Хоть из колхоза исключайте, всё равно не пойду! — И неожиданно заплакала: — За что же это меня так? Мало вам моего горя?
Старик разжалобился, он готов был сказать, что еще поговорит с Копыловым, может быть, другого человека пошлют в звено, но сделать это не успел. Анисья поднялась, утерла слезы и спросила зло, как бы грозясь, что она еще покажет, как над ней издеваться:
— Сейчас, что ли, идти?
— А чего тянуть, Анисьюшка? — обрадовался дед Мирон неожиданному ее согласию. — Худа не будет… Да и я в обиду тебя не дам. Чуть что — ты ко мне. Я ведь ревизионная комиссия.
Анисья, расспросив у деда Мирона, где работает звено, направилась на другой конец села. Увидев Анну Копылову, она подошла к ней и, не здороваясь, резко спросила:
— Чего делать-то надо?
Копылова оглядела поле:
— Думала, на разброску навоза поставить, да, пожалуй, сама справлюсь. — Ступай на парники, — поможешь Лукерье на теплых грядах.
— Далась я вам, что ли — взад и вперед гонять меня? С села и поле, с поля на парники. А с парников, гляди, еще куда погонят.
Но Анна лишь коротко приказала: «Ступай», — и Анисье ничего не оставалось, как двинуться в обратный путь…
Она шла на парники злая, раздосадованная. Надо было сказать Анне: «Не дам над собой измываться; не торговка теперь, не лодырь. И вообще ничем не испугаешь. Что мне выговор перед тюрьмой?» Но смолчала. Ну, ничего, еще скажет: все обиды припомнит ей.
На парниках весна была в разгаре. Зеленела рассада, дышала теплом земля, солнце, отражаясь в сотнях стеклянных рам, казалось, светило совсем по-летнему. То там, то здесь, склонившись над котлованами, овощеводки пикировали рассаду. Они так осторожно распутывали тоненькие корешки, так бережно опускали в землю почти невесомые, нежные стебельки, что со стороны могло показаться, что труд этот очень легок. Но Анисья знала, что пикировка растений требует большого напряжения, — она невольно остановилась, когда увидела, как быстро, четко и слаженно пикировщицы работают. Одни копали и подносили рассаду, другие подготавливали для пикировки лунки, третьи вели высадку. И, оглядывая своих знакомых односельчанок, видя, как они работают, Анисья скорее почувствовала, чем поняла, что в Шереметевку пришли какие-то новые времена. Она постоянно сталкивалась с их приметами. Никогда не было, чтобы люди сами требовали у бригадира наряды на работу, а сейчас требуют. И еще далеко до нового урожая, еще не известно, каков он будет, а все верят в него. Откуда эта вера в колхоз, в урожай? Прорыт канал? Будет орошение? И чувствовала, что дело не только в этом. Что-то изменилось в самих людях. Да и сама она какая-то другая. А какая, — сказать не может. Не понимает себя.
Анисья прошла на теплые гряды и увидела лежащую на соломенных матах Лукерью Камышеву. Лукерья спросила:
— Тебя Анна помогать прислала?
Анисья опустилась на соломенные маты и с усмешкой взглянула на Лукерью. Обида за то, что ее послали в звено Копыловой, загорелась в ней с прежней силой, и она была рада случаю выместить на ком-нибудь свою обиду.
— Лежать-то весь день, поди, не легко?
— Васька уехал за навозом, и нет его… — стала оправдываться Камышева. — Вот уж третий час.
— Значит, дело так поставлено, — полдня навоз везут.
Анисья ничего не имела против того, чтобы Камышиха не только два часа, — хоть весь день не работала бы. Но к ней ее послала Анна Копылова, послала та, которая отняла у нее дочь. Анисья была зла и раньше, а теперь ожесточалась всё больше и больше, и она заговорила о самой Копыловой. А что Анне тревожиться? Ей трудодней мужик наработает. И за звено ей нечего бояться! С нее разве спросят, коль она председателя жена? Анисья хотела еще как-нибудь «подковырнуть» Анну, но для этого у нее уже не хватило спокойствия, и, вскочив, она набросилась на свою беспечную односельчанку.
— Ишь, разлеглась — не устали бока? Поднимайся, нечего на солнышке загорать.
Анисья увидела неподалеку привязанную к бестарке лошадь, подвела ее к теплым грядам и приказала Лукерье ехать немедленно на поиски пропавшего Васьки. Один вид Олейниковой был так гневен, что Камышева не посмела ослушаться, поспешно села верхом на неоседланную лошадь и погнала вскачь к селу. Возможно, на этом бы Анисья успокоилась, но едва Лукерья скрылась, как неожиданно вновь появилась, и на этот раз еще усердней пришпоривая своего коня, чтобы уйти от едущей сзади бестарки. И теперь за всю нелюбовь Анисьи к Анне Копыловой пришлось расплачиваться Ваське.
— Ты где пропадал? — накинулась она на молодого вихрастого парня. — Халтурку сбивал? — Она приперла его к оглобле, а он, не зная как отбиться от нее, испуганно спрашивал:
— А ты кто, бригадир, что ли?
— Я вот тебе! — Анисья потрясла кулаком у носа Васьки. Узнаешь, как по три часа пропадать нивесть где. А ну, давай, срывай навоз на гряды. И чтобы через полчаса обратно. Я вам покажу!
Анисья даже не дала Ваське перекурить и, прогнав его обратно за перегноем, принялась за работу. Она ожесточенно орудовала то лопатой, то мотыгой, как будто воевала с врагом, с Анной.
— Разве так рыхлят, — придиралась она к Лукерье. — Сильней бей, не бойся, руки не отвалятся… А чего мусор не убираешь? Иль мне за тобой с метелкой ходить?
Чтобы умилостивить Анисью, а может быть для того, чтобы отвлечь ее внимание в другую сторону, Лукерья всплеснула руками и неожиданно спросила:
— Про море-то слыхала? Пересохло, говорят, море!
— Какое море?
— Ну, откуда вода в реку и по каналу пойдет…
— Когда у тебя в горле пересохнет и ты болтать языком перестанешь? — отмахнулась Анисья и тут же прикрикнула: — Сильней рыхли, рученьки не отвалятся.
Под вечер, еще издали, Анисья увидела идущую на парник Копылову и, подхватив подмышку свой ватник, демонстративно пошла стороной в Шереметевку.
Анна проводила ее глазами и спросила Камышеву:
— Как новенькая, ничего?
— Уж так-то всех честила, уж так-то честила! — пожаловалась Лукерья. — И тебе попало.
— Вижу, — ответила Анна, оглядывая набитые гряды и гору подвезенного перегноя. — Каждый бы день так!
51
Над степью гудели самолеты. Они делали заход и шли над озимью чуть ли не бреющим полетом. Сидя на крыльце полевого вагончика, Семен Иванович говорил Дегтяреву:
— Вот подкармливаем озимь с самолетов, не удивляемся этому, как будто век так было. Мало этого. Смотрю я на работу самолетов и критикой занимаюсь: не дело, что они находятся в ведении аэрофлота, пора уж передать их в МТС.
— Куда? А, в МТС… Что-то я не пойму. Как это вы еще рассуждаете, — удивился Дегтярев. — Меня сон с ног валит.
— После этой ночи, Алексей Константинович, только и рассуждать.
Последнюю неделю Копылов каждый день выезжал в степь. Всё смотрел, как солнце смывает остатки снега, как подсыхает еще не разбуженная весенним тракторным гулом земля. В один из таких дней он вернулся из степи и сказал Дегтяреву:
— Алексей Константинович, а что если полить некоторые поля до сева? И землю влагой зарядим и канал испытаем. В страду исправлять поздно, каждый час полива дорог.
На следующее утро трактора уже нарезали по зяби поливные борозды, а потом в канал дали воду. Она шла сначала медленно, пенясь ручейком по узкому руслу и смывая на ходу остатки донного ледка. Но чем дальше она продвигалась, тем всё выше поднимался ее уровень и быстрей становилось ее течение, пока, наконец, шумный поток не забурлил под щитами внутрихозяйственных каналов.
Копылов находился на одном из сооружений магистрального канала и, вместе с инженером участка и прорабом, через каждые полчаса получал донесения о ходе воды. На магистральной трассе канал был широк, и на зорьке здесь опустилась утиная стая, видимо, приняв его за речку у Шереметевки…
Семен Иванович не спал всю ночь. Теперь он знал, что под вечер степная вода багровая, ночью кажется стальной, а при свете солнца мутно-желтая. Он наблюдал за водой, такой необычной здесь, в степи, и ему казалось уже, что все его опасения были напрасны, — орошение действовало, тем более, что на отдельных участках уже велась влагозарядка. И вдруг галопом примчался посыльный и, спрыгнув на ходу с коня, протянул короткое донесение:
— Прорвало на повороте насыпь… Вода, что бешеная, ничем не удержать!
А следом сообщили с другого участка:
— Заупрямилась и не идет. Хоть кнутом ее бей!
И еще:
— Назад пошла!
Степная вода в одно и то же время была бешеная и неподвижная, она то пятилась назад, то, как вскоре донесли, просто исчезала на глазах, словно проваливалась сквозь землю. Она оказалась живой, с каким-то особым своим характером. Не так просто было ею управлять.
Весь день и всю ночь на трассе работали бульдозеры. Они заделывали размытые насыпи, едва успевая за натиском воды. Но уже чувствовалось, что с каждым часом она становится покорнее и всё больше слушается стальных табунщиков, загоняющих ее в русло канала. Еще кое-где она прорывалась сквозь бровку насыпи, но ее бег уже потерял свою буйность, да и не упрямилась она так, как вначале, не пятилась назад, а текла ровно, едва слышно урча во временных оросителях и выводных бороздах. Копылов, несмотря на усталость и бессонную ночь, был в самом лучшем расположении духа:
— Еще недельку придется нам повозиться со степной водицей, а потом, шалишь, взнуздаем, как полагается. Оно конечно, просачивания и прорывы могут быть всегда! Но не тот конь страшен, который норовист, а тот, которого повадки не знаешь!
Дегтярев поднялся со ступеньки вагончика и зашагал к коновязи.
— Давайте седлать — и к дому.
— Уроков сегодня у вас нет, — куда спешить? А нашему брату не часто приходится вот так сидеть и любоваться степью. Всё на рысях да в заботах.
— Мне в район надо, по делу Олейниковой.
— Это как понять?
— Я буду выступать на суде ее защитником, — ответил Дегтярев и, словно не заметив удивления Копылова, стал седлать свою лошадь.
Дегтярев и Семен Иванович ехали молча. Вскоре показалась Шереметевка, а потом на околице они увидели темносинюю «Победу» секретаря райкома. В селах ее знали не только председатели колхозов, но и все ребята. Они давно заметили, что у райкомовской «Победы» есть отличительная способность ходить по таким дорогам, где другие «легковушки» из опасения застрять в грязи возвращаются обратно, на большак.
Дегтярев несколько раз мельком видел секретаря райкома, но не был с ним знаком. Это был человек невысокого роста, с коротко подстриженной под ежик головой. Он ходил в длинном кожаном реглане, и звали его не по фамилии — Назаров — и не Сергеем Сергеевичем, а просто Сергеичем.
Копылов заметил, что машина секретаря райкома свернула на школьный двор, и, повернувшись к едущему сзади Дегтяреву, сказал:
— Начальство в школе. Езжайте туда, а то наговорит на вас ваша Елизавета Васильевна.
— Не могу. Да и не к чему. Вот расседлаю — и спать!
Секретарь райкома Назаров сидел в кабинете Елизаветы Васильевны и, рассматривая чернильницу, спрашивал:
— А где ваш биолог?
— Не могу сказать. Возможно, в степи, а возможно, в суде. Ведь он у нас стал адвокатом… То оправдывал бегство девочки от матери-спекулянтки, а тут вдруг стал на защиту самой спекулянтки. Нет, мне с ним вместе не работать.
— Да, я кое-что слыхал об этом… Так, значит, в школе Дегтярева нет? Жалко…
— Вы, может быть, хотите побывать на уроках?
— Нет, нет, благодарю, — поспешно отказался Назаром и стал прощаться с Елизаветой Васильевной. — Без особой необходимости в классы не хожу. Стараюсь делать это как можно реже. Знаете, мне почему-то кажется, что каждое вот такое неожиданное посещение класса стоит здоровья учителю.
Назаров разыскал Дегтярева на колхозной конюшне. Алексей Константинович расседлывал свою лошадь.
Они присели в сторонке на старые дрожки, и секретарь райкома сказал:
— Наконец поймал. Из степи?
— Надо когда-нибудь отдохнуть от школы, в другом месте побывать, — весело ответил Дегтярев.
— Так, — понимающе кивнул Назаров. — Ну, а предстоящее выступление на суде в качестве защитника Олейниковой, это тоже для разнообразия?
— Правда, выходит как-то не так: учитель, коммунист и вдруг в роли защитника спекулянтки… Но вот верно — нужно. А вы, что, против?
— Да как вам сказать…
— И приехали, чтобы предупредить, предостеречь меня?
— Нет, просто узнать, почему вдруг решили ее защищать.
Это решение возникло у Дегтярева недавно и, как показалось ему, даже внезапно. Но на самом деле он шел к нему давно, сложным, извилистым путем, с того дня, как Оленька пыталась бежать в Ладогу. Да, он оправдывал бегство девочки. И считает, она поступила правильно. Но сейчас ему важно другое. Не кто прав: он или Елизавета Васильевна, а судьба Оленьки, судьба многих Оленек и судьба их отцов и матерей. Как случилось, что колхозница Олейникова, движимая лучшими чувствами дать счастье своей дочери, принесла ей много горя, разрушила свою маленькую семью? Произошло это потому, что она пошла за Юшкой. Он подбил ее бросить колхозную работу, втянул в спекуляцию.
А кто такой Юхов? Спекулянт. Он очень быстро приспосабливается ко всяким новым условиям, находит в них какую-то лазейку и использует в своих интересах. Подобного рода люди могут открыть под государственной вывеской частную торговлю или взять государственные дефицитные товары и продать их как свой товар. Но вот этот делец почувствовал, что усадьбы колхозников создают излишки товарной продукции, и он бросился в эту сторону. Если хотите, тут действовать спекулянту даже не так опасно, хотя здесь, как мне кажется, он особенно опасен. Он подрывает самое главное — веру в колхоз.
— Но всё это еще не оправдывает Олейникову, — сказал Назаров, — и не делает ясным вопрос, — почему вы решили выступить на суде на ее стороне.
— На суде я не думаю во всем ее оправдывать, но на суде я буду вправе задать такой вопрос: а не толкнули ли мы Олейникову в лапы Юшки? Я говорю о себе, о Копылове, о вас, Сергей Сергеевич. Вы посмотрите, что у нас получается. Раньше вот мы беспокоились, как бы усадьба не отвлекла колхозника от колхоза, а теперь отстранились от нее и как бы говорим колхозникам: что хотите, то и делайте! Торгуйте своим, а колхозная торговля — дело председателя. Вместо того, чтобы взять в колхозные руки торговлю излишками приусадебного хозяйства, мы отдаем ее всяким Юшкам. И вот вам — Олейникова! Простая колхозница! Разве наша цель не в том, чтобы жизнь таких простых людей, как она, сделать лучше, счастливее? Но по дороге к этой лучшей жизни, на крутом повороте Анисью Олейникову вышибает из коляски. И не потому, что не по седоку коляска или не приспособлена коляска к поворотам, а потому, что мы с вами такие возницы: о седоке частенько забываем! Знай гоним да на повороты всю вину валим!
Они некоторое время сидели молча. Потом Дегтярев сказал:
— И еще, Сергей Сергеевич, учтите одно новое обстоятельство: нынче трудодень будет большой! Так что же, по-вашему, пусть и здесь как кто хочет торгует своим товаром? Зачем это? Чтобы было где развернуться таким спекулянтам, как Юшка?
— Когда суд?
— Следствие закончено. Думаю, недели через две-три. Моя цель не столько оправдать Олейникову перед судом, сколько защитить в жизни от Юхова. И я тем более обязан выступить, что вижу, как хорошо работает Олейникова в колхозе сейчас. Я вижу перед собой уже не спекулянтку, а настоящую колхозницу.
— А может быть, она из страха?
— Работает-то? Нет! Много пережила, перечувствовала, передумала. Не может не ценить труд тот, кто познал в нем радость. Но он в два раза ценнее для того, кому он помог в горе.
Назаров спрыгнул с дрожек и, прежде чем направиться к своей машине, сказал:
— Я-то приехал по другому делу. На днях мы занимались вашим конфликтом с директором школы. Елизавета Васильевна считает, что вам вместе не работать. Что ж, она права! Ее, пожалуй, переведут в другую школу. — Назаров помолчал: — А вас вот директором, — как вы думаете?
52
Весна в степи была иной, чем в Ладоге. Без привычных для Оленьки заморозков и холодов, буйная в цвету, но короткая и опаленная солнцем. За всю весну не было ни одного дождя. Только по ночам спадала жара. Но они проходили, как в тумане. Беспокойные и тревожные. На улице среди ночи вдруг поднимался шум, и по взволнованным голосам можно было понять, — опять что-то случилось. То канал прорвало, то вышел из строя трактор, то с вечера уехал куда-то кладовщик, и не у кого получить семян для посева. И тогда в сон врывалось беспокойство о колхозе, и Оленьке чудилось, что она то на самолете срочно доставляет в колхоз трактор, то копает землю и ищет там куда-то запропастившийся дождь, то поднимает к небу подсолнух и не знает, что с ним делать, потому что этот подсолнух жжет немилосердно землю, и, вообще, это не подсолнух, а солнце.
Близились выпускные экзамены. Оленьке нравилось заниматься в большом шереметевском саду. Там, у воды, в тени недавно распустившихся кленов и старых ив можно было спастись от жаркого солнца и знойного дыхания степи. Готовилась она к экзаменам то одна, то с Зойкой. Однажды к ней подсел Камыш.
— Эх ты, — сказал он не то с сочувствием, не то с насмешкой, — бежала, бежала из дома и обратно в дом вернулась.
— Не твое дело! Захотела и вернулась!
— Ну и дура! — изрек, не задумываясь, Камыш. — Я бы никогда не вернулся.
В это время на повороте аллеи показался Дегтярев. И когда он поровнялся со скамьей, Камыш поспешно поднялся и сказал уже не так храбро:
— Алексей Константинович, мне ответ пришел из лесной школы. Там с семилеткой принимают, только характеристика нужна.
— Сдашь экзамены, обо всем договоримся.
Дегтярев постепенно входил в обязанности директора школы.
Теперь ему приходилось преподавать, вести опытное поле, заботиться о предстоящем летнем ремонте школы и даже лодочной станции, куда он сейчас шел через сад. Но при всей своей занятости он не мог не думать о Камышеве. Судя по четвертным отметкам, «птичий царь» всё же закончит семилетку. Но именно это и беспокоило Дегтярева. Нет, не познания Камышева в математике, ботанике или литературе, — другое тревожило: судьба будущего лесника. У Дегтярева было такое ощущение, что впереди Кольку Камыша ждет несчастье, и в этом будет виноват он, его классный воспитатель, человек, который, не научив его жить, бросил в самую гущу жизни. И чем ближе был день окончания школы, тем это чувство ответственности за Камышева становилось всё сильнее, и сейчас Дегтярев не знал, — что же ему делать? Выпустить его из школы вот таким, как он есть, не любящим свой колхоз, презрительно относящимся к его людям, одиночкой, мечтающим уйти в лес лишь потому, что там над ним не будет агронома или председателя колхоза, означало обречь его на многие беды, которые будут идти за ним по пятам всю жизнь. Нет, он не даст ему характеристики! Парня не успела и не сумела воспитать школа, значит, надо воспитать в колхозе. Но обязательно дома, где все его знают и где его проступки не будут казаться преступлением, а отсталость — враждебностью.
Когда Алексей Константинович ушел, Колька Камыш спросил Оленьку:
— А ты что будешь делать, когда кончишь школу?
— Не мешай мне заниматься.
— Хуже нет, как остаться в Шереметевке. Всё над тобой батька с маткой! Покурить и то нельзя. А один, — сам себе хозяин…
Оленька не ответила. Она смотрела куда-то вдаль сада. Там по аллее шла возглавляемая Егорушкой ватага ребят. Они, словно под конвоем, вели Петяя и, увидев Оленьку, издали замахали руками.
— Дегтярева, давай сюда! Петяй изобрел, как заряжать настоящий сифон.
Оленька закрыла книжку и вместе со всеми двинулась на колхозное овощное поле, где было решено провести испытание открытия Петяя. Что он придумал, — ни она, да и никто из ребят не знали. Петяй на все вопросы отвечал: «Придем, покажу, увидите».
В эту пору начала лета ребята очень болезненно воспринимали свою беспомощность там, где, как казалось им, они должны были быть особенно полезны колхозу. Хоть теперь вода канала была покорна человеческим рукам, но их-то, этих рук, явно не хватало, чтобы поливать поля. И хотя шутя, но нет-нет колхозники спрашивали юннатов:
— Что же вы, ребята, не поможете? А еще опытники.
Юннаты хорошо понимали, что в этом они совсем не виноваты, и всё же чувствовали себя неловко. Ведь каждый из них умеет хорошо поливать, иные даже куда лучше, чем взрослые колхозницы, которые окончили специальные курсы. А вот помочь колхозу они не могут. Не выйдешь же на поле с маленькими школьными сифонами. И вдруг Петяю удалось зарядить большой сифон! Да еще своей маленькой рукой. Что же он придумал? Крышку, заслонку, что-нибудь вроде пробки?
По пути в поле они зашли за Дегтяревым на лодочную станцию.
— А может быть, испытаем у себя на опытном участке? — предложил он.
— В поле! Обязательно в поле! А то еще скажут, что у нас борозды не такие…
— В поле так в поле. Это еще лучше, — не стал возражать Дегтярев. И, поманив к себе Петяя, спросил у него тихо, словно по секрету: — Помнишь, как мы однажды оскандалились на речке, помнишь? Так не выйдет?
— Нет, — успокоил Петяй. — Я бы вам и сейчас показал. Только мой способ не научный. В корыте не покажешь. А в поле — другое дело…
Дегтярев шел с ребятами и думал, — неужели они смогут заряжать сифоны? Он улыбнулся. Да разве важно само изобретение? Разве обязательно, чтобы Петяй что-нибудь открыл? Разве это больше страстного желания ребят проникнуть в неведомое, их преданности и любви к родной земле? Так вот когда он увидел, наконец, первые плоды своих трудов! Вот он уже видит, он ощущает их в большом и настоящем, в самом характере ребят.
Овощеводки были удивлены и не совсем довольны нашествием ребят. Чего глазеть, когда люди сбиваются с ног. Но, когда узнали, что ребята еще раз хотят попробовать зарядить сифоны, не без любопытства окружили их. А Дегтярев уже командовал Петяю.
— На выводной борозде двадцать труб! А ну, начинай с первой!
Петяй минуту стоял в нерешительности. Казалось, он старается справиться с охватившим его волнением. Но вот он круто повернулся и, ничего не говоря, нагнулся к крайнему сифону, отверстие которого было куда больше его ладони. Все видели, как он опустил изогнутую трубу в воду и, когда один конец вынырнул на поверхность, вода хлынула в поливную борозду. Всё это произошло так быстро, что никто не заметил, как всё-таки Петяю удалось зарядить сифон. Для ребят это было значительней, чем открытие. Это было настоящее чудо! Петяй, у которого руки меньше, чем у иной девчонки, — и вдруг зарядил трубу. А Петяй, пока ребята да и сам Дегтярев не опомнились от изумления, уже успел зарядить второй сифон, за ним сразу третий. И самым удивительным было то, что действительно он прикрывал отверстие трубы рукой и только держал ее как-то по-чудному — горстью — и почему-то она у него была вся в грязи…
— Да подожди ты, — пытался остановить Петяя Егорушка, чтобы разглядеть, как тот делает зарядку сифона. Но Дегтярев сделал знак Егорушке не мешать и сказал Петяю:
— Заряжай на всю силу! Что к чему — потом разберемся.
И Петяй постарался показать себя. Согнувшись над бороздой, он быстро опускал в нее сифон, мгновенно вытаскивал один конец и, словно волшебник, вызывал из трубы воду.
Наконец он дошел до конца борозды и разогнулся усталый, раскрасневшийся, счастливый, что хорошо выдержал испытание. Все двадцать сифонов подавали в поле воду, словно она шла из кранов водопровода. И вместе с Петяем, словно зачарованные, смотрели, как идет вода, ребята.
Но вот изобретатель немного отдышался, и Дегтярев сказал ему:
— А теперь раскрой свой секрет ребятам.
— Тут и раскрывать нечего, Алексей Константинович. Сами видели, какую задвижку я придумал.
— Да у тебя ее и не было, — закричали ребята.
— Нет, была.
— Какая такая задвижка?
— Сама земля! Я ее со дна в горсть возьму, прикрою трубу — и всё в порядке! Плотнее всякой ладони. А вытащу трубу, пальцем проткну — вода и землю выбивает, и сама хорошо идет. Осенью я так случайно зарядил, а теперь всё понял. Да вы сами попробуйте.
Теперь Оленька вела полив. Хоть с меньшей сноровкой, чем Петяй, но всё же достаточно быстро она заряжала сифоны, и овощеводки, следуя за ней вдоль борозды, весело подбадривали:
— С матерью вас будет пара. Одна теперь у нас водой в звене ведает, а другая поливать будет.
Из-за крайнего дома на околице Шереметевки показался верховой.
Он ехал не спеша, оглядывая поле и словно высматривая кого-то. Все сразу узнали в нем участкового.
— Анисьи Олейниковой нет тут?
— В правление пошла, — ответила одна из овощеводок.
— Нет ее там.
— Тогда на парниках ищи!
— Есть у меня время за ней ездить! — Он хотел было сказать: «Передайте Олейниковой, завтра ей суд»; но увидев Оленьку, повернул своего коня в Шереметевку и совсем не строго проговорил:
— Да уж ладно, заверну и на парники.
53
Шереметевка изнывала от жары. Всё дышало зноем: крыши домом, земля, воздух. От солнца не спасали ни ставни, ни тень деревьев. Даже вода на реке не освежала, она была теплая.
А вот в степи только дорога с пожженными травами обочин и потрескавшейся землей кюветов напоминала о жаре и засухе. Вокруг всё зеленело, буйно росло, за пределами дороги знойная жара уже потеряла власть над степью.
Анисья шла краем овощного поля, и ей было странно сознавать, что, не будь вот этих узеньких оросительных каналов, по которым уже дважды давали воду, огромная степь выглядела бы совсем иначе. И, пожалуй, самым странным было для нее то, что она, Анисья, которая боялась орошения, не верила в него, теперь ведет в степь воду, обманывает палящее солнце. Днем слишком много солнца, оно быстро уносит из земли влагу и, образуя корку, лишает растение не только воды, но и воздуха. Анисья решила вести полив ночью, вернее, начинать предвечерними сумерками и кончать к утру. Ночью вода не будет так быстро испаряться, глубоко пропитает землю, и, когда взойдет солнце, растения уже напьются.
С того дня, как Анисья вернулась в Шереметевку и снова начала работать в колхозе, она стала задумываться над такими вещами, мысль о которых раньше совсем не приходила ей в голову. Она испытала тяжелый труд карьерщицы на добыче гравия и познала не одну беспокойную, бессонную ночь на поливе овощей… И хоть всё это не приносили ей особых заработков, таких, как те барыши, которые сулил ей Юшка, было в ее новом положении нечто такое, чего не могла ей дать самая большая базарная прибыль: уважение среди своих односельчан. Только тот, кто испытал настоящее большое горе, может понять, как важно это и что для человека не всё равно: трудится он в колхозе или что-то скупает, что-то продает и всегда наедине со своими боязливыми мыслями, а вдруг завтра всё рухнет? Так оно и случилось. Барыши высокие, да ножки у них тонкие! Подогнулись, сломались. И не увидела она того, на что рассчитывала.
Анисья попрежнему считала, что Оленька не любит ее. Но теперь бегство дочери представлялось ей в ином свете. Всё, что Анисья старалась делать ради дочери, потеряло свое значение и уже не казалось чем-то важным, что должно было принести счастье Оленьке. Всё вышло совсем не так. Деньги, Юшка, торговля принесли с собой несчастье, лишили ее дочери.
Теперь ей было ясно, почему так неудачно сложилась ее жизнь с Оленькой. Разве правда Оленьки не была и ее правдой? Но она изменила ей, отказалась от нее и тем самым оттолкнула дочь. Как могла она забыть, что пережила сама в оленькины годы! Она была пионеркой, а отец долго и упорно не хотел вступать в колхоз. А потом, перед самым вступлением зарезал корову и продал лошадь. Сколько горя было в этом для нее! И всё забыла. Забыла и сама не поняла дочь.
Анисья жила надеждой, что пройдет время, и Оленька забудет и тот вечер, когда она ее ударила, и Юшку забудет, и всё, что привело ее к бегству от родной матери. Она хотела выстрадать свое право на любовь, и страдание облегчало ее душу, принималось ею безропотно, как искупление своей вины.
Анисья миновала последний овощной участок и уже свернула было на тропку, ведущую к парникам, когда услышала сзади конский топот. Оглянувшись, она увидела участкового и сразу всё поняла, еще до того, как тот протянул ей повестку. Участковый давно скрылся из виду, а она всё стояла ошеломленная, хотя ничего неожиданного в повестке с вызовом на суд для нее не было.
Анисья знала, что ее будут судить. Но заботы о поливах и та повседневная жизнь, что сразу окружила ее в Шереметевке, отодвинули суд на задний план, он как-то не тревожил ее и представлялся ей чем-то таким, что не имело отношения к ее настоящей жизни. Это ощущение было понятно, потому что ведь под суд была отдана совсем другая Анисья, та, которая помогала Юшке, а не та, которая давала воду на поля и поливала овощные участки. И вдруг оказалось, что ей надо предстать перед судом после того, как она сама осудила себя. Рушилась жизнь, добытая ею на вьюжном карьере и в беспокойстве за воду, заставлявшую ее метаться по насыпям каналов. И только теперь, когда она подумала о том, что, может быть, через день она на годы покинет Шереметевку, расстанется с дочерью, ей стало ясно, что счастье было с ней и что она сама его потеряла. Но как же без нее останется Оленька? Одна, без матери, среди чужих людей? И впервые с надеждой Анисья подумала о Ладоге. Есть Ладога, есть бабушка Савельевна. Оленька не пропадет. Только надо, чтобы скорее написали туда, вызвали Савельевну, пусть быстрее приезжает. Кого бы попросить? Анну, Алексея Константиновича, Катю? Ближе всех жила Катя, и Анисья забежала к ней.
— Господи, Катенька… Позаботься об Оленьке. В Ладогу напиши. — Анисья с трудом выговаривала слова, мысли ее путались и, упав на постель, она разрыдалась. — Пусть я виновата, а Оленька за что? За меня?
Катя подняла ее и сказала:
— Я написала в Ладогу.
— Уж ты не оставь Оленьку, пока Савельевна не приедет. Обещаешь? И пусть худо она обо мне не думает. Себе ничего не хотела. Всё Ольге! Счастья ей хотела. Только не знала, как оно добывается.
Катя проводила плачущую Анисью до правления колхоза. На крыльце их встретил Дегтярев. Он был озабочен и спешил.
— Приготовьтесь к дороге, Анисья Петровна. Чуть свет с попуткой поедете со мной в район.
Анисья вышла на улицу. Куда идти? Домой? Конечно, домой, к Оленьке. Хоть последний день побыть с ней, насмотреться на нее! Но на полдороге она свернула к реке и просидела там до сумерек, думая о дочери и словно боясь увидеть ее в тот последний день перед долгой разлукой. А когда она поднялась, чтобы, наконец, вернуться домой, то увидела у переправы блики огоньков, раскрашивающих воду желтокрасными полосами. Только после этого Анисья вспомнила, что на ночь назначен полив овощей, и, на минуту забыв о завтрашнем суде, о предстоящей разлуке с дочерью, она поспешила домой за фонарем и бросилась догонять поливальщиц.
В степи, у канала она столкнулась с Анной.
— Надо еще дать воды…
Анна узнала ее в темноте.
— Ступай поспи, у тебя завтра день не легкий будет…
Анисья молча покачала головой и исчезла в темноте. Она зажгла фонарь, подняла щит и с высоты насыпи канала окинула ночную степь. В темноте по степи разбрелись огоньки. Мерцая, они то стояли на месте, то двигались навстречу друг другу, то вдруг исчезали, словно раздавленные темной громадой ночи. И по огням Анисья знала, что сейчас делают вышедшие в ночное поле люди, — чтобы перехитрить солнце, не дать ему иссушить влагу орошения. Вон с краю, переставляя с места на место фонарь, движется Анна. Она звеньевая, ее всё поле, но в нем у нее есть свой участок. И она поливает сейчас этот участок, заряжает сифоны. А рядом с Анной — мать Зойки Горшковой, а дальше — мать Володи Белогонова. И стоит фонарю звеньевой переместиться в темноте, как следом за ним снимаются с места их огоньки.
Анисья двинулась вдоль канала. Она шла, прислушиваясь к воде, и освещая ее тусклым светом своей «летучей мыши». Потом она свернула в поле и по временному оросителю вышла на овощной участок.
Анна ее окликнула:
— Так и не пошла домой?
— Дай я за тебя тут присмотрю, а ты проверь, дошла ли вода на верхний участок.
— Дошла, — уверенно ответила Анна. — Воды много. А не было бы, уж давно сами прибежали.
— Нет, я всё-таки проверю, — сказала Анисья и направилась дальше в темную степь. Она шла, то освещая узкую тропку, извивающуюся вдоль поля, то высоко поднимая фонарь, чтобы вырвать из темноты больший участок земли и проверить, хорошо ли подают воду сифоны. Из темноты окликали, с ней заговаривали.
— Здо́рово ты, Анисья, придумала с ночным поливом. Осторожней только надо…
— И ночь нипочем! Отоспаться и днем успеем.
Люди были веселы, радостны. Анисья не могла не чувствовать, не видеть этого, и ей хотелось быть рядом с ними, чтобы пропускать застоявшуюся воду, поправлять сифоны и перекликаться в ночи, покачивая в темноте свой фонарь. И теперь она понимала, откуда пришла к людям радость, почему так легко и с такой охотой они работают ночью, хотя почти весь день провели в поле. Когда есть вера в свой колхоз, самым тяжелый труд тоже радостен… Работать в поле, вот так вести воду от борозды к борозде, видеть, как всё вокруг растет, ждать урожая — как всё это ей сейчас дорого и близко! И как бы была она счастлива, если бы не завтрашний суд! Что ждет ее? Увидит ли она родную степь? А что будет с Оленькой?
— Анисья, шла бы ты отдохнуть.
Анна нашла ее на верхнем участке и гнала домой.
— Не могу…
— Ну хоть здесь сосни… Постели мой ватник и вздремни. Я разбужу…
— Дай хоть напоследок степью надышаться. Истоскуюсь я по ней за каменной стеной…
Всю ночь Анисья провела на поливе. А рано утром выехала из Шереметевки. И ничего не сказала Оленьке. Только подошла, поцеловала ее спящую и выбежала из комнатки.
Оленька ничего не знала о предстоящем суде. Она даже не обратила внимания на то, что вслед за Алексеем Константиновичем в район уехали председатель колхоза Семен Иванович, мать Кольки «птичьего царя» Лукерья Камышева, Анна Степановна, Юха. Да ведь каждый день люди ездят по делам в район, и на базарной площади можно в любое время видеть пассажиров, ожидающих попутной машины.
И в тот солнечный день, когда в зале суда милиционер промчите «Встать! Суд идет!», и, встрепенувшись от своих горестных дум, со скамьи подсудимых поднялась Оленькина мать, сама Оленька, ничем о не подозревая, сидела с Катей в саду и весело говорила:
— Как красиво здесь! Верно, Екатерина Ильинична? Когда люди со всем победят природу, они сделают так, чтобы всегда была весна.
— А когда же тогда будут созревать плоды?
— Хорошо, я согласна на весну и на жаркое лето.
— Значит, ты против зимы? Против снежной горы, лыж, коньков? Давай, Оленька, оставим природе все ее времена.
— И осень? Дождливую, холодную, грязную?
— Ладно, осень ликвидируем. Только не раннюю, а позднюю…
— А скажите, когда вы кончали семилетку, вам было весело или грустно?
— Тогда, Оля, немцы были под Сталинградом. Ни грусти не было, ни веселья. Были горе и ненависть. Мы жили войной, да и сами помогали воевать.
— Вот сейчас войны нет, а у меня такое чувство, как будто я всё время воюю. Я с Юшкой воюю. Его уже нет в Шереметевке, знаю, что мама не выйдет за него, а всё равно воюю… Но грустно мне не потому. Я привыкла к Егорушке, люблю слушать, как играет Володя, мне нравится Зоя Горшкова. А пройдет немного времени, и мы расстанемся. Егорушка, я знаю, уедет учиться в сельскохозяйственный техникум, Володя — в музыкальную школу, Зоя, наверное, поступит в педучилище…
— А что ты думаешь делать после семилетки?
— Не знаю.
— Как, не знаешь? А восьмой класс?
— Может быть. Но когда мы снова встретимся, мы будем опять друзьями?
— Видишь ли, Оленька, когда вы станете взрослыми, у каждого будет своя жизнь, своя профессия и своя судьба. Один будет простым колхозником, другой агрономом, третий учителем. Может быть и так, что в один прекрасный день мы узнаем, что Володя Белогонов стал известным музыкантом, а Егорушка, вернувшись в Шереметевку, прославится как агроном… Многое будет отличать вас друг от друга. Но, знаешь, что может сохранить вашу дружбу? Любовь к своей работе, пусть разной. Мы, Оленька, не просто люди, а советские люди. И нас всех, известных и неизвестных, роднит, прежде всего, творчество…
Скрипнула калитка, и на дорожке показался Колька Камыш. В руках у него была книжка. Катя, улыбнувшись, спросила Оленьку:
— Помогаешь готовиться к экзаменам? — И, не ожидая ответа, поднялась: — Не буду вам мешать — пойду!
Колька Камыш присел на скамейку, положил рядом с собой учебник по литературе и тоскливо проговорил:
— Учись — не учись, а ходу нет мне. Алексей Константинович характеристику не дает, батька в лесную школу не пускает. Заладили оба: поработай в колхозе, а там видно будет. А что мне колхоз? Я самостоятельной жизни хочу. Чтобы сколько ни получил — всё мое. А в колхозе всё больше хлеб да хлеб. Ссыпай в одну клеть. Думаю, может, и не стоит экзамены держать, семилетку кончать?
— Попробуй только, — пригрозила Оленька. — Весь класс хочешь подвести?
— Ну, вот разве чтобы не подвести, — тяжело вздохнул Камыш и неожиданно проговорил с завистью и удивлением: — А ты хитрая, ох и хитрая!
— Почему ты так думаешь?
— Меня не обманешь. Теперь понятно, почему домой вернулась. Мать в тюрьме, а дома ты сама себе хозяйка.
— Ты что, с неба свалился? — рассмеялась Оленька. — Ее давно выпустили!
— Это до суда выпустили, а по суду опять посадят. Юшке, говорят, лет десять дадут, а матери твоей тоже достанется…
— Врешь ты! — закричала Оленька. — Врешь!
— Сегодня и суд! Ты что же, иль не знаешь? Вся Шереметевка в район уехала. Полный грузовик. Матку мою и ту в свидетели вызвали, только она правду не скажет. Боится, — статью дадут. А Алексей Константинович вроде как против прокурора выступать будет… Только что не поможет. Не меньше пяти годов твоя мать получит!
Оленька бросилась из сада на улицу. Ей навстречу бежала Катя.
— Оленька, тебе телеграмма!
— Катя, это верно? Маму судят?
— Бабушка сегодня вечером приезжает.
— Маму в тюрьму посадят! Я пойду в суд. Я хочу видеть маму.
— Успокойся, Оленька. — Катя взяла ее за руку. — Всё будет хорошо.
— Я поеду… Пустите.
— Разве ты не хочешь встретить бабушку?
И прежде чем Катя успела подумать о том, ну, чем она еще может задержать Оленьку, та вырвалась и юркнула во двор.
Катя сначала растерялась, а когда через несколько минут она по спешила за Оленькой, той и след простыл. Девочки не было ни во дворе, ни в саду. Наверно, перемахнула через забор и уже на базарной площади. Однако там тоже Оленьки не оказалось. Пассажиры, ожидающие попутки, сказали, что никакой девочки они не видели. Катя облегченно вздохнула и стала ждать. Но прошло полчаса, а Оленька не показывалась. Катя подождала еще минут двадцать и повернула обратно к дому. Нет ли Оленьки на берегу реки? Наверное, сидит там и плачет. Берег был пуст. И тогда Катя, не зная, что ей делать, поспешила к Копыловым. Либо Оленька там, либо Егорушка поможет найти ее.
54
Егорушка сидел на крыльце, и трудно было сказать, не то он сам готовился к экзамену, не то экзаменовал какую-то собачонку. Во всяком случае, он каким-то образом ухитрялся одновременно читать и заставлять собачонку служить и ловить на лету кусочки сахару. Узнав, что исчезла Оленька, он не на шутку забеспокоился.
— А с попуткой не могла уехать?
— Нет…
— Ну пешком пойти?
— Я бы ее на дороге увидела.
Егорушка подумал и неожиданно решительно сказал:
— А всё-таки пешком ушла. Только не по дороге, а по тропке через балки… И сразу же проулком за своим двором. Екатерина Ильинична. Давайте я следом пойду!
— Если она через балки пошла, то теперь ее не догнать, — покачала головой Катя, но тут же решила: — Нет, всё равно надо идти. А вдруг с ней что-нибудь в дороге случится?
— И я с вами, Екатерина Ильинична. — И, не ожидая согласия, первым выбежал на улицу.
Егорушка не ошибся, что Оленька направилась в район наиболее короткой дорогой, через балки. В прежние годы, когда по большаку не ходили автомашины и ездили только в телегах и арбах, путь через балки избирали пешеходы, конники да странники, бродившие по миру в поисках подаяния. Но теперь этот путь заброшен. Едва заметная тропка порой терялась в овражьих зарослях, то обрывалась ручьем, то извивалась по крутым склонам.
Оленька сама не знала, почему выбрала эту короткую, но трудную дорогу. Может быть, она боялась, что ее быстро разыщут у базарной коновязи и не пустят в район? Так или иначе, когда Катя и Егорушка двинулись ей вслед, она уже была довольно далеко. Идти осыпающейся кромкой ручья, через заросли ивы и по крутым подъемам было тяжело. Но она не замечала ничего, шла и думала о матери, о суде, о Дегтяреве, Неужели мать осудят, и она даже не увидит ее? Неужели Колька Камыш окажется прав? Она забыла все свои обиды и жила страхом перед угрожающим матери несчастьем.
Степное солнце клонилось к закату, когда вдали Оленька увидела знакомый уже ей районный поселок. Маленькие домики, ближе к центру сменялись большими каменными зданиями. Она увидела зеленую остроконечную крышу не то райисполкома, не то Дома культуры и подумала: а не опоздала ли она на суд? Может быть, он давно уже кончился, и маму отвели в тюрьму? Эта мысль была так неожиданна, что Оленька растерялась и от сознания своего бессилия чем-нибудь помочь матери присела на землю. Но тут же вскочила и зашагала дальше. Сзади послышались голоса. Ее догоняли Катя и Егорушка. Обрадованная и смущенная, Оленька остановилась. Она ждала, — Катя подойдет и начнет ее стыдить при Егорушке: убежала, заставила всех беспокоиться, искать себя. Но Катя, переводя дыхание, сказала:
— Быстро ты ходишь…
— Ты смелая, — тихо проговорил Егорушка, зашагав рядом с Оленькой. — В балках волки встречаются.
— Волки? — Оленька боязливо оглянулась.
— Здесь-то нет, — рассмеялся Егорушка.
Пока шли до поселка, говорили о школе, об экзаменах, юннатовском кружке, и Оленька, казалось, забыла о суде. Но едва они миновали окраину и направились вдоль широкой улицы, Оленька сразу забеспокоилась; а ее в суд пустят? И вдруг, увидев знакомый одноэтажный дом, Оленька вбежала на крыльцо, миновала сени и, распахнув дверь, остановилась на пороге большой, освещенной комнаты. Так по и есть суд?
Прямо перед ней, в глубине комнаты стоял стол, покрытый красной материей, но за ним никого не было, а перед ним на скамьях сидели какие-то негромко разговаривающие люди. Может быть, она ошиблась? Оленька уже хотела было повернуть назад, когда неожиданно увидела слева от стола отдельную скамью, а на ней Юшку, каких-то двух незнакомых мужчин и мать. И, ничего больше не замечая, она бросилась в комнату и, оттолкнув пытавшегося ей преградить дорогу милиционера, ощутила такие ласковые и знакомые руки.
Оленька не проронила ни слова. Каждым движением, каждым взглядом, каждой черточкой лица она говорила о возвратившемся к ней счастье, о радости снова быть рядом с матерью. Анисья без слов, той же лаской отвечала дочери: «С тобой мне ничего не страшно. Я всё выдержу и перенесу. И суд, и приговор, и разлуку. Я знаю, тебя никто сейчас не может оторвать от меня, и я счастлива, хотя, может быть, скоро не смогу вот так обнимать и целовать тебя, моя Оленька».
Оленька не видела ни притихшего зала суда, ни Алексея Константиновича, вставшего из-за маленького столика, ни растерявшихся Катю и Егорушку. Она даже не слыхала, как Алексей Константинович, подойдя к ней, сказал: «Пойдем, Оленька, со мной». Она пришла в себя от громкого голоса, прозвучавшего в комнате.
— Встать! Суд идет!
Оленька встала вместе с матерью. Милиционер подошел к ней, чтобы увести ее со скамьи подсудимых, но судья, слегка подняв руку, остановил его, и она осталась рядом с матерью, словно разделяя с ней ее вину.
— Приговор!
Оленька выпрямилась, как на линейке, подняла голову и приготовилась услышать страшное слово, означающее годы разлуки. Но слова приговора сразу потеряли для нее свой смысл. В ее голове всё спуталось. К десяти годам, к восьми годам, к пяти годам! Стой, Оленька, крепись и держись. Нет, она никуда не отпустит от себя маму! Но что это такое? Почему Юшку и двух незнакомых ей мужчин, которые сидели рядом с ним, выводят куда-то на улицу, а мать и ее никто не трогаем, и она видит рядом с собой веселого Егорушку, усталого, но улыбающегося Алексея Константиновича и Катю, обнимающую мать. И вот сам судья подходит к ним и снова говорит:
— Суд учел смягчающие вашу вину обстоятельства, Олейникова, и приговорил вас к наказанию условно.
В Шереметевку все возвращались уже поздно. Майская ночь в степи темна, но коротка, и, едва коснувшись земли, она уже рассеивается в предутренних сумерках. И вместе с ночью бледнеют в небе звезды, а в степи — огни. Но до солнца ничто не нарушает степного покоя. Будут дремать птицы, стоять поникшие травы, и не пробежит по озимым спрятавшийся в балке ветерок… Пусть же после дня трудов и волнений отдыхает степь, а с ней и люди, возвращающиеся в Шереметевку. Закрыв глаза, сидит в кабинке Семен Иванович, сидит и думает о своей беспокойной должности. Суд отметил в приговоре, что он обязан вовлекать колхозников в колхозную торговлю. Дегтярев мысленно спорит с прокурором, — является ли Анисья жертвой Юшки или его помощницей? Спит Катя, спит Егорушка, сидя рядом с матерью. Он отмахал в этот день добрых двадцать километров да переволновался. И волки, которые не встретились ему в балках днем, чудятся во сне.
Анисья и Оленька стоят, обняв друг друга и, держась за крышку кабинки, мчатся через степь, навстречу утреннему солнцу.
— Мама, а ты знаешь, нас бабушка ждет.
Едва машина останавливается у ворот дома, Анисья первая бросается к калитке. Она видит Савельевну, сидящую на крыльце, опускается на землю и, пряча лицо в ее широкой юбке, плачет. Савельевна одной рукой обнимает подбежавшую Оленьку, а другой гладит голову Анисьи.
— Всё знаю, Анисья, всё. Ну, да не горюй, теперь беда позади! Теперь мы заживем!
Оленька слушает спокойные, добрые слова бабушки и смотрит в предутреннюю степь.
Солнца еще не видно, но оно уже разгорается и похоже на огромный пионерский костер, который как бы освещает ей дорогу и юность.
А. Голубева Заря взойдет
Главы из повести о С. М. Кирове
Рис. В. и Л. Петровых
В ПОЕЗДЕ
До Казани Сергей и студент Иван Никонов доехали пароходом. В Казани они пересели на почтовый поезд, который шел через Екатеринбург в Томск. Как только поезд тронулся, Сергей вышел на площадку.
Было жарко. Солнце припекало по-летнему, и если бы не пожелтевшие кое-где деревья да сухая по-осеннему темная трава, — нельзя было и подумать, что уже конец августа.
Сергей стоял на площадке, взволнованно глядя по сторонам. Эти места были ему хорошо знакомы. На второй остановке, после Казани, на платформе «Арское поле» жил его товарищ по училищу — Коля Крюков С ним Сергей не раз ходил пешком до разъезда Дербышки. Там был густой лес и полно грибов. Одно было плохо — в Дербышках каждым год снимал дачу школьный надзиратель Макаров, придира и ханжи.
Сергей улыбнулся, вспомнив, как они, боясь встретить Макарова, обычно чуть не бежали мимо дачного поселка к станции. Ни «Арское поле» возвращались на паровозе. Их подвозил Колин отец Иван Петрович, добродушный человек, с длинными, обвисшими усами. Помогая им взобраться на тендер и лукаво подмигивая, он обычно спрашивал: «Ну, много, хлопцы, поганок набрали?»
Всё это было совсем недавно — осенью прошлого года, когда он учился в Казанском промышленном. Теперь училище окончено, и вот он едет в Томск. Что-то ждет его там?!
«Ничего, — ободрял себя Сергей. — Устроюсь на работу. Стану по вечерам учиться на общеобразовательных, выдержу экстерном экзамены за восемь классов гимназии… Студенты подготовиться немножко помогут!. Получу аттестат зрелости и поступлю в Технологический!.. А вдруг не поступлю?!.» Может быть, недаром так туманно и зловеще сказала ему в день отъезда Анна Степановна, их соседка по дому.
— Ишь ты!.. Поедет он!.. Хорошо там, где нас нет, а как там, — вилами еще по воде писано!..
Вслед за Анной Степановной начала отговаривать и бабушка:
— И верно; зачем этакую даль ехать? В Уржуме устроиться можно. Сходить только к чиновнику Перевозчикову да попросить хорошенько, — враз и определит в Управу.
Пришлось упорно и горячо доказывать необходимость своей поездки.
Ведь бессмысленно же, получив после окончания училища диплом на звание техника, сидеть в Уржумской Управе за перепиской разных бумажек!.. Так вся жизнь и пройдет, а ему хочется дальше учиться на инженера или на какого-нибудь строителя. А ведь в Уржуме институтов нет.
— Ну, уж бог с тобой!.. Поезжай, — сдалась под конец бабушка. — Кто знает? И верно, может, инженером станешь!.
Мимо Сергея прошел рыжий кондуктор с флажками, засунутыми за широкий пояс.
— В тамбуре стоять не полагается. Пройдите, молодой человек, в вагон, — сказал он хриплым голосом. Но Сергей остался на площадке. Ему хотелось взглянуть еще на разъезд «Чурилино». Сюда он ездил на парафиновый завод с училищем на экскурсию.
Через час поезд подошел к Чурилину.
Ничто здесь не изменилось за год. Всё также была обломана деревянная ограда у вокзала, всё также уныл и грязен был сам разъезд. Поезд стоял тут недолго. Белобрысый парень три раза ударил в вокзальный колокол — и Чурилино осталось позади.
Сергей вошел в вагон. Иван Никонов уже расположился по-домашнему: сбросил студенческую тужурку и лежал на верхней полке, закинув руки под голову.
— Что нового узрел ты в сих местах? — продекламировал он.
— Всё по-старому! — ответил Сергей. — Только в Чурилине водокачку покрасили.
— И то прогресс, — засмеялся Иван.
В вагоне было душно и шумно. Соседи по купе пили чай и разговаривали. Говорили о войне с японцами. Старушонка, повязанная по-монашески черным платком, рассказывала о сыне, которого взяли во флот в первые же дни мобилизации, о его письмах из Владивостока.
— Крейсер «Рюрик», слышали, может? Вот туда моего Петрушу и определили. Пишет: «Не сомневайтесь, мамаша, кормят хорошо, а япошек обязательно победим».
— Дай-то бог! — вздохнула молодая женщина с грудным ребенком. — А только за эти полгода немало поубивали да покалечили народа. И еще, чай, поубивают…
— За царя-батюшку и веру христову православный человек, милая, и жизнь отдаст, не пожалеет, — назидательным тоном сказала сидевшая с ней рядом пожилая мещанка в зеленой канаусовой кофте и в золотых дутых серьгах. Молодая, ничего ей не ответив, пододвинулась поближе к окошку, возле которого хмурый старик татарин, громко причмокивая, пил чай из жестяной кружки.
— Не хотите ли, молодые люди, с нами чайку за компанию? — предложила старуха.
Сергей и Иван, поблагодарив ее, отказались. Сергей залез на свою полку напротив студента.
— Вы сами-то сибиряки будете? — поинтересовалась старуха.
— Нет, бабушка. Мы не тутошние, — шутливо ответил Никонов. — Мы из-под Вятки — уржумские.
— А в Томске где квартируете?
— На Кондратьевской.
— А мой-то дом на Магистратской. Почти соседи. До прошлого года у меня тоже один студент квартировал. На присяжного учился. Уважительный такой был. Скромный молодой человек.
— Редко нынче скромные попадают. Всё больше образованные, — вставила тем же назидательно-строгим тоном мещанка в зеленой кофте и поджала губы.
— Бывало домой позже двенадцати часов только случаем приходил, а на гитаре как играл, — ровно артист, — продолжала старуха. — Трех дней он у меня до полного года не дожил, — арестовали.
— Вот тебе и скромный! — обрадовалась мещанка. — Посадили, бабка, значит, твоего скромника-то? А?…
На бледном скуластом лице ее с тонкими губами появилось торжествующее выражение: «За дело! Не бунтуй!..»
Сергей и Иван переглянулись. По рассказам Никонова, Сергею уже было известно о прошлогодней студенческой демонстрации, за участие в которой потом полиция выслала из Томска около сорока человек.
— Сибирь больша, мошка зла, народ бешеный, — сказал вдруг молчаливый старик татарин.
— А знаете, милые мои, что нонешней весной на Федосеевском прииске случилось? — сказала старуха.
— Знаем, знаем, — нахально перебила мещанка. — На Прокопьевском и на Крутом тоже бунтовали. На забойных работах прибавку вздумали просить. Дали им всем там «прибавку» по первое число, — усмехнулась она и, зевнув, истово перекрестила рот.
— А я, милая, о другом, — сказала старуха. — Ко мне брат в марте приезжал, так страшную историю об одном старателе рассказывал. Напал этот старатель со своим товарищем на богатую жилу, и стало ему вдруг жалко найденным золотом с товарищем делиться. Он взял его да и убил. А то такой еще случай был…
День клонился к вечеру и за окном мелькали холмы, перелески, станции, полустанки.
Сергей лежал на полке и, глядя в окно, рассеянно слушал рассказ старухи, в котором нельзя было разобрать, где выдумка, где явь. На одной из станций провожали большую толпу новобранцев.
Последний нонешний дене-е-е-чек Гуляю с ва-а-ми я друзья-я-я А завтра рано, чуть свето-о-чек Заплачет вся моя семья…—истошно выкрикивал кто-то в толпе под гармошку. Прощаясь с мужьями и сыновьями, плакали, причитая, женщины. Какую-то молодайку в розовом полушалке, съехавшем на спину, плечистый унтер силком оттаскивал от круглолицего, румяного парня.
— Миленький ты мой!. Ой! Миленький ты мой!.. — голосила в отчаянии женщина, судорожно уцепившись обеими руками за пиджак мужа.
Поезд был далеко, а Сергей всё не мог забыть эту картину.
— Не знаете ли, молодой человек, какая станция сейчас будет? — спросила мещанка.
— Не знаю, — ответил Сергей.
Следующая остановка оказалась маленьким безлюдным разъездом, на котором, к удивлению Сергея, поезд остановился.
— Встречного ждем, — пояснил, проходя через вагон, рыжебородый кондуктор.
И действительно, минут через десять Сергей увидел, как мимо окон с грохотом и ревом прошел паровоз. Мелькнули его огромные колеса с красными спицами и потное черное лицо кочегара. Затем потянулись один за другим белые с красным крестом вагоны санитарного поезда. Раненые солдаты с забинтованными головами и руками выглядывали из вагонных окон. На плечах у них были накинуты серые байковые халаты, некоторые стояли у окон запросто в одних нижних полотняных белых рубахах.
— Ой, — батюшки, какие бледные да худые! — пригорюнилась старуха, видимо вспомнив своего сына Петрушу.
— От моего уж месяц, как писем нет, — ни к кому не обращаясь, тревожно сказала вслух молодая женщина с ребенком на руках.
«Сколько еще будет длиться эта проклятая война!» — с гневом подумал Сергей.
Промелькнул последний вагон санитарного поезда.
— Сейчас, наверное, и мы поедем, — сказал Иван.
Раздался свисток — и поезд тронулся.
Сквозь пыльные стекла фонаря замерцал тусклый и печальный свет.
Сергея укачивало однообразное постукивание колес, пришептывание старухи и колыбельная песня, которую тихонько напевала молодая женщина.
«Ехать еще четверо суток! Завтра под вечер, кажется, будет Сызрань… А потом — город Екатеринбург, — медленно и сонно тянулись мысли Сергея. — Начнется Уральский хребет. Там, по рассказам Никонова, стоит каменный столб, где с одной стороны написано: „Европа“, а с другой — „Азия“. Азия! — уже совсем засыпая, думал Сергей. — Я еду в Азию!.. А перед Томском будет Омск. — „Ученик Костриков, на какой реке стоит Омск?!“ — спросил кто-то строго над самым его ухом. — „Город Омск стоит на реке Иртыше“, — стал отвечать Сергей… „На диком бреге Ир-ты-ша си-дел Ермак, объя-тый ду-мой“, — запел, наклонившись над ним, учитель Морозов…»
Сергей спал.
ТОМСК
На пятые сутки, рано утром, поезд прибыл на станцию Тайга.
— Ну теперь мы дома. Отсюда до Томска рукой подать, — сказал Сергею Никонов, слезая с полки.
Когда в Томске они вышли с вещами на перрон, там уже царила шумная сутолока, которая обычно сопровождает отходы и приходы дальних поездов в больших городах. Носильщики в белых фартуках тащили багаж, со всех сторон раздавались приветствия, восклицания, смех. Кто-то в толпе раздраженно ругался, кто-то плакал. Мальчишка-подросток в рваном картузе, с большим плетеным коробом, толкаясь и мешая всем, предлагал купить у него кедровые шишки.
У входа в вокзал стоял высокий носатый жандарм, заложив руки за спину. Он сонно и равнодушно рассматривал проходящую публику. Среди приехавших в это ясное августовское утро было много молодежи. Одни возвращались после летних каникул, другие приехали в Томск поступать в университет и в технологический институт.
Никонов только успевал раскланиваться. Он учился на третьем курсе института, и на вокзале у него оказалось немало знакомых студентов.
То и дело слышалось:
— А! Иван, здорово!
Увидев в толпе некрасивого, болезненного студента в очках, Никонов приветливо махнул ему рукой и громко крикнул.
— Павлуша! Дружище, как себя чувствуешь?
Студент в ответ виновато улыбнулся, поправил очки и хотел что-то сказать, но в это время какая-то румяная толстуха с лиловым зонтиком заслонила его. Когда она проплыла мимо, сопровождаемая высоким рыжим семинаристом, который нес на плече огромный узел, студента в толпе уже не было.
— Прекрасный товарищ! Я с ним вместе в одной комнате больше года прожил, — сказал Никонов. — А какой замечательный оратор! Жалко парня: долго не протянет — чахотка у него!
Когда они уже выходили из вокзала, их обогнал кряжистый усатый студент-технолог. Он с трудом тащил большую ручную корзину, из которой торчал край вышитого цветами полотенца. Увидев Никонова, студент закланялся и заулыбался. Никонов сухо ответил на его поклоны.
Сергей узнал, что фамилия этого студента Крестовоздвиженский. За неповоротливость и тупость его в институте прозвали Тюленем. Тюлень жаден и очень любит угощаться за чужой счет.
— Одним словом, — кутья, — отрезал Никонов.
Разговаривая и медленно продвигаясь в толпе, они, наконец, вышли на площадь. Неширокая улица, вымощенная булыжником, вела в город. Называлась она Вокзальной. Таких улиц, параллельных друг другу, было пять, и все под номерами. Отличались они от главной Вокзальной только тем, что были немощеные, с глубокими канавами, заросшими травой и лопухами, с узенькими деревянными мостками.
Сергей шагал рядом с Никоновым, с любопытством глядя по сторонам.
Вот он, Томск, сибирский лесной Томск — город, где он теперь будет жить, работать и учиться.
Недаром Никонов сказал, что «тайга ворвалась» в город.
За высокими бревенчатыми заборами, похожими на крепостные стены, по обочинам мостовой и перед окнами домов — всюду росли вперемежку пихты, сосны и липы. Попадались целые кварталы нетронутого сплошного леса, обнесенного низкой, полуразрушенной изгородью.
Всё было ново и интересно Сергею: громоздкие деревянные дома, с частыми окнами и со ставнями в нижних этажах; старинная кержацкая церковь с разноцветным деревянным куполом; громкий сибирский, окающий говор прохожих и студенты, студенты на каждом шагу, бородатые и безусые, в тужурках и в черных суконных крылатках.
Как всегда бывает с человеком, впервые попавшим в новое место, Сергей не успевал как следует разглядеть одно, как уже перед ним возникало другое.
Сергей не заметил, как дошли до Болота: так называлось низкое, сырое место, где каждую весну вода заливала кривые и грязные улочки. Эта часть города считалась окраиной; здесь жили мастеровые, рабочий люд и неимущие студенты. Тут, на Кондратьевской, обитал и студент Никонов.
Квартирная хозяйка, пожилая, благообразная вдова, встретила их на пороге:
— Здравствуйте, здравствуйте, Иван Александрович! А я думала, что вы послезавтра приедете!.. Как хорошо, что вчера Паша у вас пол вымыла… А это кто же такой молоденький, не брат ли ваш?
— Товарищ, Сергей Костриков… Он со мной будет жить!
Она вышла из комнаты и тотчас же вызвала Ивана в коридор.
Минут через пять Иван вернулся.
— Ну, всё улажено! Трешку придется в месяц прибавить, а спать ты будешь на этом ложе! — Иван похлопал рукой по широкой ситцевой кушетке и, покосясь на дверь, с улыбкой добавил: — о твоей благонадежности справлялась… У нее два взрослых сына… Понимаешь?!
Вечером к Ивану пришли трое студентов. Высокий, сутулый технолог — Лобанов — однокурсник Ивана, химик Гришин и курчавый медик Кипятоша.
В небольшой комнате Ивана сразу стало шумно и тесно. Все, кроме Сергея, закурили.
Химик уселся на подоконник, а живой и подвижный Кипятоша принялся расхаживать по комнате с папиросой, роняя пепел на пол. Полное его имя было Капитон, но товарищи звали его Кипятоша и даже Кипяток. Медик был веселый, вспыльчивый и любил поговорить.
Никонов попросил Пашу поставить самовар. Пока грелся самовар, завязалась оживленная беседа. За три месяца летних каникул у каждого накопилось немало новостей.
Технолог Лобанов лето проработал на стройке железной дороги и сумел, по его словам, скопить немного денег.
— Знаем мы это «немного», — подмигнул Никонов. — Небось, капиталистом стал?!
— Ох, не утаивай, Кинкстинтин Палыч, не утаивай, — нарочито крестьянским говорком подхватил Кипятоша.
— Да и утаивать-то, Капитон Федорович, нечего, — засмеялся Лобанов и уже серьезно добавил: — На эти «капиталы», друзья, я смогу спокойно два месяца слушать лекции, не бегая по урокам.
— А вот мне не повезло, — вздохнул химик.
Он устроился репетитором к сыну земского начальника. Во время одного опыта его ученик, вертлявый, избалованный мальчишка, прожег свои новые брюки. Возмущенная мамаша прогнала Гришина, не заплатив ему ни копейки.
— За это и прогнала? — не без ехидства спросил Кипятоша.
— Я, кажется, ясно сказал, — обиделся Гришин.
— А не водил ли ты, друже, невинного отрока в портерную и не учил ли ты его вместо физики играть на биллиарде?!
— Ну что ты, что ты! — неожиданно сконфузился Гришин.
Увлечение Гришина биллиардом было излюбленной темой для постоянных анекдотов среди знакомых студентов; некоторые утверждали, что Гришин не только хорошо знаком со всеми маркерами города, но даже собирается жениться, из любви к биллиарду, на дочери одного из них, кривобокой, перезрелой девице по прозвищу Коза.
Сам Гришин сознавал, что если половину времени, которое тратилось на игру в биллиард, он уделял бы лекциям, — ему не пришлось бы на последнем курсе остаться на второй год.
— Чорт возьми, прискорбно, что тебе ни копейки не заплатили, — посочувствовал Кипятоша. — Деньги нужно, дружок, сразу получать, когда договариваешься. Брал бы вот пример с меня.
И Кипятоша начал рассказывать, как он удачно в прошлом году репетировал в доме губернатора. Ему не только деньги заплатили, но сама губернаторша подарила замечательный кожаный портсигар, который, к сожалению, он потерял.
Студенты слушали Кипятошу, переглядывались и хохотали, все знали, что история с губернатором с начала до конца выдумана. Хохотал и сам Кипятоша.
Сергей сидел на кушетке, еле сдерживая улыбку. Маленький и толстый Кипятоша бегал по комнате, ерошил свои курчавые волосы, представляя в лицах новую историю, которая якобы случилась с ним в Нижнем, где он гостил у дяди. Будто бы загорелась баржа, и Кипятоша изображал растерявшегося от страха подрядчика, дюжего парня рулевого, метавшегося по барже с пустым ведром, и хозяина баржи, который бестолково суетился и кричал бабьим голосом: «Ай, батюшки! Ай, родимые? Застраховать не успел!.»
— Если бы не я, — погибла бы баржа, не потушили бы! — закончил свой рассказ Кипятоша и, присев на кушетку рядом с Сергеем, спросил:
— Вы куда думаете поступать?
— В Технологический! Да не знаю, удастся ли.
— Медиком вам нужно быть, — прищурил глаза Кипятоша. — И наружность у вас докторская и комплекция… Таким больные охотно доверяют. Отрастите только себе бородку. Это, знаете ли, придает солидность. У нас все молодые врачи после университета бороды отпускают.
— А вам, по-моему, нужно быть актером, — сказал, улыбаясь, Сергей.
— И верно, Кипятошка; вали в актеры. Контрамарки нам будешь давать, — подмигнул Иван.
— Нельзя мне в актеры идти. Дома проклянут… Мать хочет, чтобы я врачом был, — хмуро ответил Кипятоша.
В это время Паша внесла самовар, и студенты сели пить чай. Никонов вытащил из своей корзинки банку с домашним малиновым вареньем и торжественно поставил ее на стол.
После чая решили пойти погулять, а заодно и показать Сергею город. Лобанов и Гришин предложили начать осмотр города с Томи.
— Почему с Томи? — сразу же загорячился Кипятоша, — разве он никогда в жизни не видал реки?
— Видел, — сказал Сергей, — целых три: Уржумку, Казанку и Волгу.
— Ну вот, слышали? Ему обязательно нужно показать наш старый Томским университет, технологический институт, Королевским театр… и…
— И прежде всего Томь, — продолжал упорно настаивать Гришин.
— Правильно, Коля, — поддержал Лобанов: — И само название города от реки идет: Томск!
— Пошли, братие, пошли, — пропел Кипятоша, и вся компания с шумом и восклицаниями вышла на улицу.
Несмотря на поздний для провинции час, на улице было много гуляющих. Всюду у ворот на скамейках сидели женщины и, судача, грызли кедровые орешки. В этот лунный, теплый вечер Кондратьевская улица, такая жалкая утром, была сейчас неузнаваема. Покосившиеся старые дома и густые сады за бревенчатыми дощатыми заборами, облитые голубоватым лунным светом, казались таинственными и живописными.
Миновав Кондратьевскую, компания вышла на Почтамтскую улицу, где гуляло особенно много студентов.
В тужурках нараспашку, а иные запросто в косоворотках, подпоясанные шнурками и кожаными ремнями, студенты, видимо, чувствовали себя свободно.
Они громко смеялись, шутили, угощали друг друга папиросами.
Пожилой усатый городовой, на углу Садовой и Почтамтской, неодобрительно покосился на студентов, но сделать с ними ничего не мог.
«Явных беспорядков» налицо не было.
Поровнявшись с городовым, Кипятоша многозначительно подмигнул спутникам и томно запел из ариозо Онегина: «Везде, везде он предо мной, образ желанный, дорогой».
Студенты громко засмеялись.
Городовой, не поняв, в чем дело, на всякий случай угрожающе крякнул и повернулся к студентам спиной.
Миновав Соборную площадь, компания дошла до Университетской улицы. С правой стороны ее тянулся сад, обнесенный невысокой железной решеткой. В глубине сада возвышалось белое величественное здание университета — с колоннами. Кипятоша остановился возле решетки и протянул руку вперед.
— Вот она, Сережа, — торжественно сказал медик, — наша «Альма матер», что в переводе с латыни означает: «Питающая мать». Сей храм науки был заложен в 1880 году и открыт в восемьдесят восьмом.
— Товарищи, спасайтесь! Сейчас будет лекция о пользе просвещения, — Гришин сделал испуганное лицо.
— Эх, Коля, Коля! — укоризненно покачал головой Кипятоша. — Зря ты науку не любишь! Науки юношей питают, отраду старцам подают, в счастливой жизни украшают… от биллиарда берегут.
— Юношей нужно беречь только от одного, — от твоего гнилого либерализма, — обозлился вдруг Гришин.
Кипятоша на мгновение даже опешил. Сдернув зачем-то с головы фуражку, он пригладил свои густые курчавые волосы и, снова надев ее, сказал громко и раздельно:
— Врач должен заниматься прежде всего медициной, а не политикой. Я лично после окончания университета поеду в деревню лечить больных крестьян. Это в высшей степени благородно и гуманно!.
— А почему в большинстве случаев в деревнях болеют? Ты об этом, господин гуманист, подумал? — язвительно ответил Гришин. — Болеют от недоедания, — с голодухи. Народу в первую очередь нужен хлеб, а не твоя аверина мазь и свинцовая примочка.
— Почему голодают? — запальчиво возразил Кипятоша. — Земли в Сибири много, — только сей.
— «Сей»! — передразнил Гришин. — Для обработки земли, господин сеятель, еще капитал нужен, тягловая сила нужна, а всего этого у ваших будущих пациентов и нет. Я имею в виду деревенскую бедноту. Или вы, господин гуманист, собираетесь одних мироедов лечить?!.
Гришин хотел добавить еще что-то более резкое, но Лобанов схватил его за плечи и начал трясти.
— Колька! Капитон! Да вы, хлопцы, совсем сдурели, — раскатисто басил на всю Университетскую Лобанов. — Нашли время и место для обсуждения аграрного вопроса!
— Пусти, — сказал угрюмо Гришин, снимая руку Лобанова со своего плеча. — Пошли на Томь.
— Пошли! — как ни в чем не бывало отозвался Кипятоша. — А всё-таки, знаешь, Николай, ты не совсем прав, — начал было он снова.
— Да ну вас к чорту, хватит! — сердито оборвал его Никонов.
— А вот и наш Технологический, — сказал Лобанов и, взяв Сергея под руку, перешел с ним через улицу; за ними последовали и остальные.
Сергей не мог наглядеться на здание Технологического института. Четыре каменных корпуса с зеркальными окнами и высокими подъездами тянулись почти на целый квартал.
«Какие, наверное, удобные, светлые чертежные, какие широкие коридоры, какие огромные лекционные залы в этом Технологическом!» — думал он. И вместе с тем его не оставляла мысль о только что происшедшем споре. Он считал, что всё-таки прав Гришин, но вместе с тем ему было по душе и желание Кипятоши ехать врачом в деревню.
— Ну, пойдемте на реку, — нетерпеливо сказал Гришин, которому надоело стоять у знакомого ему института.
На Томи они пробыли долго. Сначала гуляли, а потом уселись на высоком берегу. С реки тянуло холодком. Приятно было сидеть вот так, молча, и глядеть на темную Томь. Дрожа и сверкая, протянулась по ней от одного берега к другому лунная, серебряная дорога.
Шлепая плицами, медленно прошел вверх по Томи буксирный пароход, отразившись всеми своими сигнальными огнями в черной воде. На какое-то мгновенье протяжный пароходный гудок всколыхнул сонную речную тишину.
— Ду-уу! Ду-уу! — вторя гудку, неожиданно, по-мальчишески загудел Кипятоша и, засмеявшись, повалился на спину. — Эх, хорошо, братцы мои!
— Прохладно становится, — поежился Гришин и, обращаясь к Никонову, добавил: — А не пора ли нам по домам?
Было около двух часов ночи, когда Сергей с Никоновым вернулись к себе на Кондратьевскую. Не зажигая огня, они улеглись спать. Никонов уснул сразу, а Сергей долго еще лежал в темноте не смыкая глаз. Он видел перед собой белое здание института.
Неужели он никогда не откроет его тяжелые двери?!
МЕЧТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Квартирная хозяйка Устинья Ивановна походила чем-то на просфору. Это была маленькая, пухлая женщина с широким, бесцветным, мучнистым лицом.
Устинья Ивановна занимала квартиру из четырех комнат. Две из них она сдавала жильцам, а в двух других жила сама с сыновьями и с племянницей Пашей — хромоногой старой девой.
Старший сын, коренастый рыжий здоровяк Онуфрий, служил лесным кондуктором и в доме бывал редко.
Второй — семнадцатилетний Петенька, длинный и рассеянный юноша — учился в восьмом классе Томской мужской гимназии.
Опасаясь, как бы жильцы не втянули ее сыновей в политику, Устинья Ивановна, прежде чем сдавать комнаты, постаралась разузнать всю подноготную о будущих квартирантах.
Никонов был технолог и не внушал ей подозрений.
— Тихий молодой человек, скромный; сидит да знай себе разные котлы да машины рисует!.. Не то, что медик!
Медиков Устинья Ивановна считала главными бунтовщиками.
— Живых и мертвых режут! Ни бога, ни чорта не боятся! От них добра не жди.
И Устинья Ивановна даже своих приятельниц-соседок предостерегала сдавать комнаты медикам.
Второй же жилец — Василий Ананьевич, белобрысый, детина 23 лет, — служил писарем в Городской управе.
Хозяйка называла его запросто Васенькой и всегда ставила в пример сыновьям. Писарь был бережлив, рассудителен, не курил, к тому же не ел мясного и не пил вина.
— Хороший человек Васенька — вегарьянец! — хвасталась на всю Кондратьевскую Устинья Ивановна.
Приезд Сергея обеспокоил хозяйку.
Хотя она расспросила у Никонова всё, что могла, о Сергее, но этого ей показалось мало.
На второй день, когда Сергей вышел на кухню налить керосин в лампу, Устинья Ивановна завела с ним разговор.
Посреди кухни была разостлана холстина, на ней возвышалась куча перьев. Устинья Ивановна, повязанная ситцевым платком, сидела на полу и перебирала перья для подушек.
— Нельзя ли керосину налить? — сказал Сергей, ставя лампу на край табуретки.
— Подождите! Сейчас Паша из лавки придет; а я вся в перьях, — ответила Устинья Ивановна.
— А зачем мне Паша? Я сам налью.
— Ну, уж раз вы такой простой, — наливайте! Керосин в сенях стоит.
Сергей пошел в сени, принес оттуда четверть с керосином и стал наливать лампу.
— Это верно, что вы на клиросе пели? — спросила Устинья Ивановна и выжидающе поглядела на Сергея.
— Пел, — коротко ответил он, удивляясь и сердясь на Ивана, который неизвестно зачем рассказал о нем такие подробности хозяйке.
— Я рылигию превыше всего ценю, — продолжала Устинья Ивановна, — а церковное пенье так просто до ужаса обожаю. Особенно когда «Иже херувими» поют. Уж до чего же сладостно и умилительно! — и, склонив голову набок, Устинья Ивановна вдруг тихонько запела речитативом: «Иже херувими тайно образующе»; не допев, она, вздохнув, добавила: — А еще всякие притчи божественные люблю очень слушать. Вы притчу о блудном сыне знаете?
— Знаю. Как он из отчего дома ушел?
— Вот именно, — обрадованно подхватила хозяйка. — Сытый, здоровый, одетый был, а вернулся зимогор-зимогором, больной, оборванный, нищий. Нынче немало блудных сыновей развелось. От церкви христовой отрекаются, против царя бунтуют… А их, конечно, в тюрьму за это, — неожиданно закончила хозяйка.
«Вот оно что», — подумал Сергей и перевел разговор на другое.
— А ежик у вас есть, стекло почистить?
— Ежик? Есть! Вот у рукомойника в углу висит! Так как же, по-вашему, правильно блудный сын поступил, что раскаялся?
— На то он и «блудный», — усмехнулся Сергей и энергично принялся чистить стекло.
— А родителей вы своих уважаете? — спросила, помолчав, Устинья Ивановна.
— Я — сирота! — ответил Сергей.
Повесив на место ежик, он взял лампу и вышел из кухни.
«Парень скромный, а главное — закон божий знает», — подумала Устинья Ивановна.
После этого разговора прошло больше недели. Как-то раз под вечер в доме остались Сергей да хозяйка. Устинья Ивановна вздумала пить чай, но в ушате не оказалось воды.
— Не принесете ли мне водицы с колодца? — попросила она.
— Что же, можно.
Сергей взял два ведра и, что-то насвистывая, вышел во двор. Вскоре он вернулся и поставил полные ведра на скамейку.
— А это вам за услугу! Возьмите.
На краю кухонного стола лежал кусок пирога.
— Сироту накормить — бог сторицей воздаст, — по-монашески елейно, нараспев, сказала Устинья Ивановна.
Широкое мучнистое лицо ее со сложенными бантиком губами и скорбно поднятыми бровями выражало христианское смирение.
— Я сыт, — ответил Сергей и пошел к себе в комнату.
«Из простых, а с анбицией, — рассердилась Устинья Ивановна. — Знаю я твою сытость. На работу всё еще не устроился, а капиталов-то кот наплакал».
Устроиться на работу было нелегко.
Напрасно каждое утро ходил Сергей по городу из одного ведомства в другое. Везде ему равнодушно и кратко отвечали: «Не требуется», «Не нужен» или: «Вакансии нет».
Только в губернской канцелярии какой-то лысый старичок чиновник оказался более многословным и даже прочитал целое наставление:
— Для устройства на службу, молодой человек, рука нужна. Вот на той неделе делопроизводитель к нам поступил. Пень-пнем и почерк куриный. А взяли. Почему? Полицмейстер рекомендовал!
Сергей повернулся и молча вышел из канцелярии. У него таких рекомендаций быть не могло.
«Что ж! Не устроюсь чертежником, еще какую-нибудь работу найду, а не найду, пойду в грузчики!» — думал он.
Каждое утро Сергей просматривал публикации в газете «Сибирская жизнь». Они были немногочисленны:
«Нужен кучер». «Нужен хороший пианист — справляться Ванный переулок, дом 6».
«Нужен служащий с обеспечением в 300 руб.». «Нужна одинокая старушка — няня к грудному ребенку. Духовное училище, квартира Дмитриева».
Зато объявлений о желании получить работу было более чем достаточно. И кто только не искал работы! Приезжая, интеллигентная солидная дама, приезжий из России молодой человек, студент университета, ищущий уроков, пожилой отставной чиновник с безупречным прошлым, проживающий в Томске с 1893 года, конторщик, бывший волостной писарь, и прочие и прочие.
Кроме того, в газете были и прямые обращения за помощью: «Очень нуждаюсь в 25-ти рублях, недостающих для взноса платы в институт; выплатить могу только уроками или другой подходящей работой», — писал какой-то студент под инициалами А. В. С.
«Помогите! — начиналась другая заметка, — больная, имеющая при себе дочку 5-ти лет, не имею средств прокормиться! Прошу не оставить меня, добрые люди. Мухинская ул., д. 38. Во флигеле».
Сергей молча клал просмотренную газету на этажерку.
— Есть что-нибудь подходящее? — спросил как-то Никонов, застав Сергея за чтением публикаций.
— Есть, да залог нужен.
— Много?
— Триста пятьдесят! У меня пустяков не хватает, — усмехнулся Сергей, — всего только трехсот сорока семи рублей!
— Да, — протянул Никонов, — дела твои, прямо сказать… — но, увидев хмурое лицо Сергея, Иван осекся и принялся неумело его утешать:
— Ты, главное, Сергей, не вешай носа. Не может быть, чтобы никуда не устроился. Куда-нибудь да устроишься! Ведь не на каждом же месте залог требуется. Может так получиться, что буквально, вот-вот и найдешь на днях работу.
Но дни шли, а Сергей всё никак не мог устроиться.
За три недели ежедневного хождения по городу в поисках заработка он уже ничуть не хуже любого коренного жителя знал Томск, начиная с Соборной площади, где в белом каменном доме с колоннами помещалась канцелярия генерал-губернатора Азанчеева-Азанчевского, вплоть до рабочей окраины на Воскресенской горе и местечка Заисточья, населенного преимущественно татарами.
В отличие от Уржума и Казани, главная улица в Томске называлась не Воскресенской, а Почтамтской. Но так же, как и в других городах Российской империи, здесь, в Сибири на главной улице было сосредоточено всё, что составляло мозг и душу этого большого губернского города: клуб дворянского и купеческого собрания, комендатура и приемная градоначальника, пассаж купца-миллионера Второва, управление Сибирских железных дорог, почта с телеграфом, здание классической мужской гимназии, дом архиерея и собственные дома местных богатеев, «отцов города».
Будучи наблюдательным, Сергей замечал подчас такие мелочи, мимо которых другой бы на его месте прошел совершенно равнодушно.
Как-то на его глазах краснорожий приказчик вытолкнул из лабаза немолодую, бедно одетую женщину.
— Чего толкаешь!? Правду говорю. Ведь не щепки, а трудовые денежки за масло плочены, — упираясь, кричала она возмущенно, — только и знаете, живодеры, что обирать да обвешивать народ!
— Ишь, тварь фабричная, как язык распустила! В полицию, видно, захотела?!
— Не грози, не боюсь… Ой, ирод прроклятый, сколько недовесил! — испуганно ахнула женщина, взглянув на свету на свою бутылку с подсолнечным маслом.
Приказчик ухмыльнулся и, ловко сплюнув через плечо, вошел в лабаз.
В этот же день на соседней Ярлыковской улице Сергей увидел другую сцену. Около забора стоял лет двенадцати мальчишка, в рваном фартуке из дерюги, и плакал, размазывая по грязному лицу слезы. Повидимому, это был ученик какого-нибудь сапожника или лудильщика.
— А ты терпи, милый, терпи, — утешая, поучала его какая-то сердобольная старушонка. — Для порядка хозяин учеников всегда бьет.
— Хозяин редко дерется, это меня хозяйка. Совсем житья не дает, — всхлипывал мальчишка. — За чугун… Говорит, плохо вычистил. Выгнала на улицу — и всё тут. Иди, куда знаешь. С самого утра ничего не ел.
— Побила — не убила, — наставляла старушонка. — Раз отдали в люди, — терпи.
«Одним полная безнаказанность, для других полное бесправие, — думал Сергей. — Ох, как подло и как жестоко устроен мир!»
Эти мысли не впервые пришли ему в голову. Они уже давно мучили и волновали его. И если их на какое-то время заслонила экзаменационная горячка, перед окончанием училища, затем поездка к бабушке и сестрам в Уржум и, наконец, его собственные сборы в Томск, то теперь эти мысли снова возникли с невиданной силой.
Нет! Он не может безучастно и молча стоять в стороне. Его также близко касалось лицемерие и жестокость царских законов. Он, как и тысячи других «неимущих», был обречен на бесправное и жалкое существование.
Разве не было вопиющей несправедливостью, почти издевательством уже одно то, что он молодой, здоровый и грамотный, с дипломом в кармане, ежедневно был вынужден ходить по городу, тщетно ища работы, и от него отмахивались везде, как от назойливого нищего!..
ВРЕМЯ ИДЕТ
За пять недель жизни в Томске у Сергея благодаря Никонову появилось столько знакомых студентов, что Иван даже по этому поводу как-то пошутил.
Но Сергею было не до шуток. Усталый и расстроенный, он только что вернулся домой. Сегодня в поисках работы он исходил вдоль и поперек весь Томск. На Кухтеринской пристани пытался наняться в грузчики, но старик артельщик даже не стал с ним разговаривать. Оглядев его мельком, он коротко кинул ему на ходу:
— Ростом мал и жидковат. Вон у меня какие апостолы!..
Сергей посмотрел в ту сторону, куда указывал артельщик. Огромные, бородатые мужики грузили на пароход муку. Их было человек восемь, но погрузка шла быстро, без перебоев, и Сергей невольно загляделся на то, как ловко и умело орудовали грузчики «пятериками», особенно двое бородачей, работавших на подаче мешков с крупчаткой.
— Хоп-п! — вскрикивали они разом и одним махом клали пятипудовый мешок с мукой на согнутую спину грузчика, который, крякнув, тотчас же тащил этот мешок в трюм парохода.
— Хоп-п!.. — раздавалось снова — и вслед за первым, согнувшись под тяжестью ноши, бежал уже второй, хрипло ругая какую-то старуху, подвернувшуюся ему на сходнях.
— Хоп-п!.. Хоп-п!.. — и как автоматы, один за другим, бегали с мешками на пароход грузчики.
— А ну, орлы, давай, давай! — поторапливал их артельщик. — Капитан ругается. Давай веселей!..
В тяжелом раздумье отошел Сергей от пристани. Он хорошо понимал, что без сноровки и навыка неопытный новичок, наверное, свалился бы замертво, таская ежедневно вот этаким манером «пятерики» с крупчаткой. И всё-таки если бы только артельщик взял его, он нанялся бы в грузчики. Привезенные из Уржума и рассчитанные все до копейки, деньги с каждым днем таяли.
И если первые дни по приезде в Томск он обедал и ужинал в кухмистерской, надеясь сразу же устроиться на работу, то в начале второй недели он брал только неполный обед, а на ужин и завтрак покупал в угловой лавочке черный хлеб и студень.
«Теперь, очевидно, придется обедать через день, а вместо студня покупать коровий сычуг. Он на целых три копейки дешевле», — думал Сергей, шагая по пыльной набережной. В этом удрученном настроении он вернулся домой, и сейчас, конечно, ему было не до никоновской шутки.
— Ой, Сергей, ведь я чуть было не забыл, — сказал Никонов, ударив себя по лбу. — Павел тебе обещанные книги достал.
— Спасибо, я завтра к нему зайду.
Павел Троянов был тот самый студент в очках, о котором так восторженно отозвался Никонов на вокзале, в день их приезда. Познакомившись с «душой человеком», как Иван называл не раз Троянова, Сергей, и вправду, нашел в нем умного и доброго товарища.
Будучи почти на пять лет старше, Павел не подчеркивал своего возраста, как это нередко делал химик Гришин, считавший Сергея «еще мальчиком», которому до совершеннолетия нужно ждать еще целых три года.
Павел как-то сразу нашел с Сергеем простой и естественный тон, располагающий не только к сердечным шуткам, но и к серьезным разговорам. Поэтому в одну из бесед Сергей рассказал ему о своих дорожных впечатлениях и думах, возникнувших у него при виде проводов новобранцев и раненых солдат на встречном поезде.
— Ты спрашиваешь, когда кончится эта проклятая война? — Павел закурил и прошелся по комнате. — Видишь ли, на такой серьезный вопрос одной фразой не ответишь.
Он сел напротив Сергея и, сняв очи, потер покрасневшую переносицу.
— А почему началась война, — ты знаешь?!
— Да.
— Всё это так, — сказал Павел, выслушав Сергея. — А самое главное заключается в том, что народ войны не хочет. Ты вот сейчас рассказывал, как провожали на станции новобранцев матери и жены. А сколько из этих женщин останется вдовами, с малолетними детишками на руках?! А что ждет самих солдат, которые вернутся домой калеками?! Многие из них уже не смогут работать, как работали раньше, и, конечно, окажутся в тягость для своих семей. На постоянную помощь правительства этим несчастным калекам рассчитывать нечего. Война выгодна и нужна, Сергей, царю, его министрам и фабрикантам, но отнюдь не простому народу; народ, повторяю тебе, войны не хочет!.. Не хочет!
Павел вдруг сильно закашлялся, и на его лбу и носу выступили крупные капли пота. — Ну вот прошло…. — сказал он, отдышавшись.
Закончить им разговор не удалось, — кто-то постучал в дверь.
— Войдите. Это Виталий, я его готовлю по словесности, — сказал Павел.
Дверь отворилась, и в комнату вошел высокий смуглый гимназист с картонной папкой в руке.
— Здравствуйте, Павел Михайлович; простите, что я немного запоздал, — покупал сестре ноты.
— Мы с тобой увидимся в субботу, часов в девять вечера, — прощаясь с Сергеем, сказал Павел.
В субботу в назначенное время Троянова не оказалось дома.
«Наверное, ушел к кому-нибудь из своих учеников. Зайду завтра днем», — решил Сергей.
Но и в воскресенье он не застал Павла дома.
— С утра на станцию Тайгу уехал, — сказала квартирная хозяйка.
В понедельник Павел сам пришел к Сергею. Но обстановка у Никонова была вовсе не для серьезных разговоров. У Ивана собрались Кипятоша, Лобанов и Гришин — вся «теплая компания».
— Ур-р-ра! Нашего полку прибыло! — закричал при появлении Павла Кипятоша и, вскочив со стула, бурно зааплодировал.
— Чего ты хлопаешь? Я ведь не примадонна, — сказал Павел и сел за стол рядом с Сергеем.
— Понимаешь, как нескладно получилось. Назначил, а сам уехал.
— Наверное, необходимо было?!
— Вот именно, Сережа, — необходимо! Мы можем наш разговор продолжить сегодня. Хочешь, пойдем сейчас ко мне?!
Но Иван не пустил Павла.
— Никуда не пойдешь. Сейчас будем пить чай с домашними коржиками и вареньем. Я получил посылку из Уржума.
— Ну, что ж, выпьем по чашечке, — сказал Павел.
Но чаепитие затянулось. Лобанов предложил купить в складчину бутылку какого-нибудь вина.
— Где же это, братцы, видано! — шутливо запричитал плачущим голосом Кипятоша. — Одну бутылку на всю компанию! Это же только облизнуться. Минимум надо две. А лучше всего, братцы, достать «спиритус-вини».
— Я возражаю, — сказал Иван. — Это будет уже не чаепитие, а винопитие.
— А почему не выпить!? Еще Владимир Мономах говорил: веселие Руси есть: пити. Пить, Ваня, можно по любому поводу, — было бы только желание. А сегодня нужно обязательно обмыть твою посылку.
Но предложение Кипятоши никто не поддержал.
— В другой раз как-нибудь выпьем! — сказал Гришин, — а сейчас, давайте, господа, что-нибудь споем хором!
— Вот-вот! С твоим слухом только и петь! — заметил насмешливо Кипятоша, — в тон никогда попасть не можешь. Певец тоже!
У Гришина действительно совершенно не было слуха, но это обстоятельство нисколько не смущало его. Он очень любил петь и никогда не обижался, если ему делали замечание.
— Первую споем нашу студенческую, — сказал Никонов, сняв со стены гитару. — Ну, начинай, Миша, — кивнул он Лобанову, перебирая струны.
— Золотых наших дней уж немного оста-алось, — приятным и чуть хрипловатым баритоном запел Лобанов.
— А бессонных ночей половина промча-ала-лось…
— Проведемте ж, друзья, эту ночь веселе-е-й!
— Пусть студентов семья соберется тесней! — дружно подхватили остальные.
— Налей, налей бокалы полней! — с увлечением вместе со всеми пел Сергей, разливая по стаканам чай.
Вслед за студенческой спели: «Вниз по Волге-реке», затем «Вечерний звон», «Из страны, страны далекой» и под конец «Реве, тай стогне Днипр широкий». Эту песню на украинском языке пели только Павел и Никонов. Остальные не знали слов. Не знал текста и Гришин, но это ему не мешало подтягивать им.
Простором и бурей веяло от песни:
Реве тай стогне Днипр широкий. Сердитый витер завива, Додолу вербы гне високи, Горами хвилю пидийма.«Пид-и-й-ма», — как-то особенно жалобно и, по обыкновению, не в тон тянул за певцами Гришин.
— Чшш! — сердито шикал на него Кипятоша, — перестань!
Но Гришин, как глухарь на току, ничего не слыша, продолжал петь, выводя с упоением своим небольшим тоненьким тенорком последнее слово каждой строчки.
Напевшись вдоволь, компания принялась наперебой вспоминать всякие анекдотические случаи из студенческой и профессорской жизни. Самые смешные истории рассказывал Кипятоша. Слушая его, невозможно было не смеяться.
— Ой, не могу!.. Ой, умру! — хохотал во всё горло Гришин, совсем позабыв в эту минуту о своих вечных пререканиях и спорах с Кипятошей по аграрному вопросу. — Артист, чорт тебя побери, настоящий артист!
Кипятоша, очень довольный произведенным им впечатлением, закончил рассказ и, присев к столу, попросил у Сергея стакан крепкого чаю.
— А ты, Капитон, сегодня действительно в ударе, — заметил Никонов, — может, что-нибудь продекламируешь? А?!.
— Что ж, можно! — Кипятоша выпил чай, встал из-за стола, откашлялся и, опершись обеими руками на спинку стула, резким движением, явно кому-то подражая, откинул голову назад.
— Стихотворение Апухтина, — объявил он.
— Только не «Сумасшедшего» и не «Утро любви». В зубах навязло, — скороговоркой попросил Лобанов.
И это было верно: Апухтинского «Сумасшедшего» и стихотворение Надсона «Только утро любви хорошо» читали неизменно на всех студенческих и благотворительных вечерах не только профессиональные артисты, приезжавшие на гастроли в Томск, но и свои доморощенные Каратыгины. В ответ на просьбу Лобанова Кипятоша вздернул плечи и сделал то надменно-презрительное, застывшее лицо, с каким почти всегда самоуверенные и самовлюбленные люди выслушивают чужое мнение, считая только себя одних образцом авторитета и вкуса.
— Стихотворение Лермонтова «Умирающий гладиатор»…
Кипятоша шагнул вперед и с большой уверенностью, совсем почти не волнуясь, начал декламировать. Сергей не отрываясь жадно следил за каждым его словом. Он любил стихи Лермонтова, многие из них знал наизусть, и ему очень хотелось, чтобы Кипятоша после «Гладиатора» прочел «Мцыри».
Но в ответ на одобрительные возгласы и аплодисменты Кипятоша начал декламировать стихи Бальмонта, попросив Никонова поаккомпанировать ему на гитаре.
«Какое знакомое название „Умирающий лебедь“! — подумал Сергей. — Где же я это слушал или читал?! Умирающий лебедь! Вспомнил, вспомнил, — чуть не вскрикнул он вслух… — Это было прошлой зимой в Казани. На концерте в пользу неимущих студентов. В городском казанском театре. Ну, конечно, там». Это стихотворение объявил студент-распорядитель с розеткой на груди. Затем на сцену вышла девица в черном платье с красной гвоздикой, и с нею высокий белокурый студент. Девица села за рояль, а студент подошел к самой рампе и вместо объявленного «Умирающего лебедя» начал читать «Буревестника» Максима Горького. И кто-то еще тогда в зале, припомнилось Сергею, сказал изумленно и очень громко:
— Птица, да не та!..
Вот при каких обстоятельствах он год тому назад услыхал заглавие неизвестного ему стихотворения. Между тем Кипятоша декламировал уже второе четверостишие.
«Непонятно, для чего написал поэт такие унылые стихи?! Неужели они нравятся Кипятоше? — удивлялся Сергей. — А знает ли он „Буревестника“?! Там слова, как набат, слушаешь их — и распрямляются плечи и от восторга захватывает дыхание». «Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем», — сразу же пришли Сергею на память отдельные, особенно запомнившиеся строчки.
— «Это плачет лебедь умирающий. Он с своим прошедшим говорит!» — полузакрыв глаза, медленно покачиваясь, томно тянул нараспев Кипятоша.
«Сила гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике, — вспоминал Сергей „Буревестника“. — Буря, скоро грянет буря!»
— «А на небе вечер догорающий… И горит и не горит!» — почти стоном закончил декламатор.
— Ну как можно! После Лермонтова читать этого пошляка!? — возмутился Павел.
— Ты хотя и филолог, но в поэзии Бальмонта ни чорта не понимаешь, — вскипел Кипятоша.
— А неужели эта гусиная панихида вам нравится? — спросил Сергей.
— Действительно гусиная панихида, в самую точку попал!.. — захохотал Лобанов.
— Ничего смешного нет. На Сергея я не в претензии, он очень молод и не имеет еще понятия, что такое хороший литературный вкус. Ну уж ты-то должен уметь разбираться в поэзии, господин филолог. А может быть, для тебя эти строчки тоже пошлость?! «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя…»
— Одежды будешь срывать у себя дома, — перебил его Никонов. — Уже поздно!
— Да, время час ночи, — потянулся зевая Гришин.
— Попаду ли я сегодня домой? — сказал вздыхая Лобанов и стал надевать шинель. — Позавчера так и не достучался, — пришлось ночевать у Стрельцова.
Лобанов снимал в Заисточье комнату у какой-то старухи бобылки, которая, по его словам, часто запивала и, захмелев, обычно так крепко спала, что разбудить ее можно было разве только стрельбой из пушек.
— Пойдем, Михаил, ночевать ко мне, — предложил Кипятоша, когда вся компания оделась и в сопровождении Сергея и Никонова вышла в переднюю.
— Боюсь, — явно подшучивая, зашептал испуганно Лобанов. — Ты меня Бальмонтом замучаешь!
Все, кроме Кипятоши, засмеялись.
— Ну и чорт с тобой! — сказал Кипятоша сердито. — Ночуй тогда на Томи.
НОВОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ
Сергей устроился на работу как раз в тот момент, когда уже потерял всякую надежду.
В этом помог ему Лобанов. Однажды в середине недели он забежал на Кондратьевскую.
Сергей сидел у стола и чинил сапоги. Перед ним горела настольная лампа под стеклянным зеленым абажуром. Он прибивал подошву и не слышал, как вошел Михаил.
— Здравствуйте, Сергей.
— Здравствуйте, а Ивана нет дома, он в библиотеку ушел, — ответил Сергей, думая, что технолог пришел к Никонову.
— А я к вам, — Лобанов снял фуражку и присел на стул. — Я тоже вчера починкой занимался. Брюки, чорт бы их взял, здорово проносились. Тужурка совсем еще почти новая, а вот брюки подвели…
— А зачем я вам понадобился? — нетерпеливо спросил Сергей.
— Мне сейчас сказал знакомый, что у них в Городской управе один чертежник заболел, сегодня его в больницу увезли. Говорят, брюшной тиф. Пойдите-ка завтра в Управу, может, и возьмут.
— Спасибо, — сказал Сергей. — Только возьмут ли? Я вот уже без толку месяц с лишним по разным канцеляриям и палатам хожу.
— Да! Нелегко найти работу, — согласился Лобанов. — Ну, авось, завтра посчастливится.
— А чертежи там не очень сложные?
— Да нет, чертежи обычные.
На следующий день Сергей пошел в Управу, и его сразу же приняли на работу чертежником. С этой новостью он после службы отправился на Пушкарскую.
На радостях он совсем позабыл, что сегодня вечером Павел работает в университетской библиотеке, и, только уже подойдя к дому Троянова, вспомнил об этом.
Он оставил Павлу записку, в виде самодельной визитной карточки. На месте дворянской короны Сергей нарисовал раскрытый циркуль и треугольник, а внизу под именем и фамилией написал печатными буквами свой полный титул:
КОСТРИКОВ СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ
Чертежник Томской Городской Управы.
Занятия в Управе начинались в 9 часов утра. До Управы ходьбы было около получаса. Сергей вставал, когда еще в доме все спали. Вслед за ним поднималась племянница квартирной хозяйки — Паша. Она сразу же принималась хозяйничать на кухне. У нее была смешная привычка разговаривать сама с собой.
— Вот сейчас посуду соберу на стол, — и, гремя чашками, Паша доставала из шкафа чайный прибор. — А вот как самоварчик поспеет, чайку заварю. Сахарку наколю.
Ходики на кухне показывали половину восьмого, когда вставала сама квартирная хозяйка Устинья Ивановна и шла будить сына.
Через стенку Сергею было слышно, как настойчиво она упрашивала:
— Проснись! Слышишь, Петя? Проснись! В гимназию пора.
В ответ доносилось сонное невнятное бормотание.
— О, господи! Тиран моей жизни! Каждое утро одно и то же! — сердилась Устинья Ивановна. — Кому я говорю! Проснись! Слышишь?
В комнату гимназиста заглядывал писарь Васенька, причесанный на прямой пробор и пахнущий дешевым земляничным мылом.
— Петр Матвеевич, вставайте, не то холодной водой окачу-с, — грозился писарь.
— При-ста-а-а-ли! — слышался, наконец, сладкий и длинный зевок Петеньки.
В тот момент, когда Сергей уходил на работу, на кухне появлялся злой и заспанный Петенька, с полотенцем через плечо.
— Вы уже уходите? А я хотел вас спросить насчет одной задачки. Дается, понимаете ли, поверхность усеченной пирамиды… — говорил он, потягиваясь.
— Поздновато вы спохватились! — отвечал Сергей, захлопывая за собой входную дверь на улицу. Его возмущал этот семнадцатилетний балбес, которого мать, словно маленького, заставляла идти в гимназию. На месте Петеньки он каждое утро не шел, а летел бы на уроки!
«Неужели так и не удастся поступить в Технологический?» — с тревогой думал Сергей.
На общеобразовательных курсах, куда он отправился на другой же день после своего устройства на работу, к его большому огорчению, не оказалось свободной вакансии.
— Подайте на всякий случай прошение, — сказал ему делопроизводитель, унылый человек средних лет. — Мало ли какой выйдет случай: может, кто из курсистов уедет или помрет. — Писать прошение нужно вот по такой форме, на имя его превосходительства.
Делопроизводитель протянул Сергею чье-то прошение и лист чистой бумаги.
— Поразборчивей пишите!
Присев на край стула, Сергей написал четким почерком:
«Его превосходительству
Господину Томскому Губернатору
Проживающего в г. Томске
мещанина г. Уржума Вятской губ.
Сергея Мироновича Кострикова
ПРОШЕНИЕ
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство выдать
мне свидетельство о политической благонадежности для поступления на
Томские общеобразовательные курсы.
Октябрь 15 дня 1904 г.
Сергей Миронович Костриков
Жительство имею в 4 уч. г. Томска по Кондратьевской ул. д. № 7.».
— Наведывайтесь, — сказал на прощание делопроизводитель и положил прошение Сергея в толстую картонную папку. — Ваше сорок восьмое будет-с.
Огорченный возвращался Сергей из канцелярии к себе на Кондратьевскую. «Вот тебе и аттестат зрелости!»
А навстречу, как нарочно, шли студенты-технологи в черных шинелях с синими кантами, с бархатными наплечниками, на которых блестели выпуклые вензеля из трех букв: «ТТИ».
Они шли группами, по два, по три человека, оживленно разговаривая о лекциях и о профессорах. Может, не каждому из них сегодня придется пообедать, а многие побегут в другой конец города давать уроки. Но всё-таки они счастливцы, они учатся!
Начинало смеркаться. В соборе звонили к вечерне. На Думском мосту, с обелисками, украшенными золочеными двуглавыми орлами, Сергея обогнала рота. Солдаты шли в баню, у каждого подмышкой торчал сверток с бельем, а кое у кого — и березовый веник. Солдаты пели во всё горло знакомую ему еще по Уржуму песню.
На морозном воздухе из их раскрытых ртов клубами валил пар. За солдатами бежали мальчишки, стараясь попасть в ногу.
На углу Благовещенского переулка Сергей увидел инвалида в серой затрепанной шинели. Он стоял, опираясь на костыли, и глядел исподлобья на проходившую роту. На его бледном бородатом лице было выражение какой-то затаенной печали и в то же время гордости, словно он хотел крикнуть: «Эх, дружки мои служивые!»
Когда Сергей поровнялся с инвалидом, тот тихонько кашлянул:
— Не найдется ли у вас папиросочки, господин студент?
Сергей вытащил из кармана купленную им, по просьбе Никонова, коробку «Трезвона» и, раскрыв ее, протянул солдату.
— Премного благодарствую! — козырнул солдат, бережно взяв папиросу двумя пальцами. Затем он снял мохнатую папаху и, спрятав в нее папиросу, снова нахлобучил папаху на глаза.
— Ну, пошли наши солдатушки-ребятушки в баню. Попарьтесь, милые, всласть! Скоро, небось, отправят. А там уж!.. — инвалид, не договорив, покосился на Сергея. «Хоть и студент и папироской угостил, а кто его знает?!»
Но, посмотрев на Сергея, инвалид почувствовал к нему доверие. Его расположило юношеское открытое лицо с небольшими мягкими, не иначе, как специально отпущенными, для солидности, усиками.
«Видать, на медные деньги учится», — посочувствовал инвалид, заметив изрядно поношенную ватную куртку Сергея со светлыми пуговицами и синими кантами и старую выцветшую форменную фуражку.
— Это что ж, новобранцы пошли? — спросил Сергей о роте. И его манера во время разговора глядеть в глаза прямо собеседнику тоже понравилась инвалиду.
— Ошиблись вы малость, господин студент, — ответил инвалид с доброжелательной улыбкой, — не новобранцы это. Те совсем молодые, вроде вас, а этим не меньше, как лет под тридцать будет. По призыву они…
— Какие рослые и здоровые! Точно на подбор.
— Да, крепкий народ, — сказал инвалид и поглядел вслед солдатам. — Эх, господин студент, — вздохнул он. — Я полгода тому назад тоже был молодец хоть куда! А вон как меня японцы-то отделали! — он снова вздохнул и покосился на свою пустую штанину.
— Где же вас ранили?
— Под Хаяном, — ответил инвалид и, опираясь на костыли, медленно пошел рядом с Сергеем. — В атаку послали. Командуют: наступать сомкнутым строем! Ну и пошли мы, рабы божие, а не у каждого солдата и винтовка есть. Как начал нас японец с трех сторон из пулеметов да шрапнелью косить — ой, что тут было! Дай бог, если полроты от нашего третьего стрелкового уцелело.
Сергей внимательно слушал инвалида, а тот, обрадовавшись неожиданному собеседнику, рассказывал, с трудом ковыляя рядом с Сергеем, о неполадках в армии: о противоречивых приказах, о нехватке патронов и о том, как однажды на его глазах японцам без единого выстрела отдали отлично укрепленную позицию.
— Эй, дяденька, посторонись, задавлю! — раздался позади звонкий детский голос, и какой-то мальчишка, обгоняя их, лихо промчался на одном коньке, накрест привязанном веревкой к стоптанному валенку.
Неожиданно оборвав свой рассказ на полуслове, инвалид остановился, тяжело дыша.
— Господи боже мой, никак не могу к костылям привыкнуть. Кровавые мозоли подмышкой натер.
— А давно ли вы из госпиталя выписались? — спросил Сергей.
— Позавчера. На родину отправляют. Барнаульский я сам, трое ребят у меня. Старшему Мишке восьмой год пошел. Вернусь домой, а какой я теперь им кормилец!. Да и лошадь перед самой войной пала. А в крестьянстве без кобылы хоть вой! Раньше я плотничать мог, тоже в хозяйстве большая подсоба была, а сейчас как с одной ногой на сруб влезешь? Да и правая рука не шибко сгибается, — у локтя пулей пробита. А ведь я, господин студент, в своей деревне, скажу не хвастаясь, лучший плотник был… Да, был! А за что, спрашивается?! За какого чорта лысого ногу потерял? Увечье получил? А?! — инвалид сплюнул и злобно выругался.
Всё, что сейчас он говорил, целиком подтверждало слова Павла о войне.
— Так вот теперь, господин студент, надо думать да гадать, — как дальше жить? А брата у вас, случаем, нет? — спросил инвалид Сергея, когда они свернули на Монастырскую улицу.
— Нет; а что?
— У нас в роте офицер один был молодой — прапорщик Соловьев. — Очень личностью на вас похож. Он кой-чего нам объяснял!.
— А что же именно?
Инвалид замялся на какое-то мгновение, но, еще раз посмотрев на Сергея, решился.
— Да насчет этой самой войны. Кому, значит, от нее выгода. Ну и, конечно, про то, как на эту войну силком народ гонят. А на кой лях она народу нужна!.
— Всё, что он сказал вам, это истинная правда. Вы верьте ему, — горячо отозвался Сергей, чувствуя невольную симпатию к этому молодому и совсем незнакомому ему офицеру.
— Я об этой правде, господин студент, еще раньше, до их благородия листок читал, — понизив голос, поделился инвалид.
«Что же это ему за прокламация попала? — подумал Сергей: — Сибирского Союза или Томского Комитета?!»
— А дело было, господин студент, так: в середине марта взяли меня на войну. Сформировали, значит, у нас в Барнауле эшалон. Показали солдатам, как винтовку держать, и повезли нас в Маньчжурию. Извините, устал я немножко. Передохнуть надо!..
Они остановились, и инвалид, сняв с головы папаху, вынул осторожно оттуда спрятанную папироску и с наслаждением закурил ее.
— Хотел после переклички выкурить, да вот не утерпел, — улыбнувшись по-детски, признался инвалид.
И от этой доверчивой простодушной улыбки желтое, измученное лицо его похорошело и словно даже помолодело.
«А я его с первого взгляда за пожилого принял, — подумал Сергей, — а ведь он совсем молодой. Видно, так его состарила война!»
— Ну, вот теперь можем дальше идти, — сказал инвалид, докурив почти до самого мундштука папиросу. Он кинул окурок в наметенный около тротуара высокий сугроб и, опираясь на костыли, пошел опять рядом с Сергеем.
Привыкший ходить быстро и широким шагом, Сергей старался сейчас идти медленно, в ногу с инвалидом.
— Ну так вот, погрузили, значит, нас в теплушки и повезли в Маньчжурию, — продолжал свой рассказ инвалид. — Поехали! И как только подходит наш поезд к большой станции, там уже, глядим, толпа стоит: господа всё, барыни разные, гимназисты, простого народа, скажу прямо, было почти не видать. На станции флаги висят, музыка играет, публика «ура!» нам кричит, шапками, носовыми платками машет, а гимназисты царский портрет держат. Вон как нас любят! Ну и мы, значит, в ответ, как дурачки, рады стараться: «У-р-р-рааа!» — Инвалид поправил съехавшую на глаза папаху и сказал, зло усмехнувшись: — Вот в таком шуме, и как ровно в угаре, ехали мы до самого почти Владивостока!.. А может быть, вам, господин студент, всё это и слушать неохота?
— Что вы, пожалуйста, рассказывайте, — попросил Сергей. — Я ни одного вашего слова не пропустил.
— Ну раз так, тогда слушайте. Так вот, значит, как поезд остановится, сейчас же барыньки начинают солдат иконками и крестиками оделять, чтобы на войне японская пуля не взяла. Тьфу ты, господи, и смех и грех! А на одной станции, верите ли, в теплушку к нам какой-то барин залез и стал с солдатами целоваться. «Братцы, — кричит, — помните, за что воевать едете, — за батюшку-царя, за православную веру, за отечество! А на япошек, — кричит, — вам плюнуть и растереть. Вы, братцы, — орлы, вы всех япошек в неделю расколышматите!» Эх, отправить бы его самого туда, гладкого борова!.. Ну вот, господин студент, и до места дошли, — сказал инвалид, остановившись у ворот углового каменного дома, где помещалась команда выздоравливающих. — А листок этот самый я на станции Иркутск получил. Какая-то одна молоденькая барышня солдат табаком оделяла ну и мне перед самым отходом поезда пачку махорки сунула. Развернул я ее, а там листок. И всё как есть в нем, — насчет войны напрямик написано. А в самом конце листка, значит, такие слова.
— Долой войну и самодержавие! Сибирский Союз РСДРП, — быстро сказал Сергей.
— Во-во! — зашептал обрадованный инвалид. Он хотел было что-то рассказать еще Сергею, но в это время из ворот дома вышли два чернобородых солдата, похожих друг на друга, словно родные братья.
— Евстигнеев, — позвал один из них. — Тебя только что выкликали. Иди на поверку скорей.
— Ну, счастливо оставаться, господин студент, — сказал Евстигнеев. Откозыряв, он скрылся в воротах дома, тяжело припадая на своих новеньких желтых костылях.
«Сколько горьких жениных слов, а может быть и попреков, ждет его в деревне! — подумал с грустью Сергей, глядя ему вслед. — Все заботы о семье лягут теперь на бабьи плечи. С самого утра до поздней ночи будет она одна бессменно ворочать всю тяжелую мужскую работу в поле да ездить в лес за дровами, ухаживать за скотиной, работать на огороде, а дома шить, варить и убирать. Одурев и выбившись из сил от этой каторжной жизни, побьет не раз она под горячую руку ни в чем не повинных ребятишек и обзовет всердцах дармоедом своего калеку мужа, того самого, что до этой проклятой войны был первым плотником на деревне».
И тотчас грустную мысль эту сменила другая. Нет, не напрасно солдат Евстигнеев читал листовку Сибирского Союза и слушал на далеких полях Маньчжурии правдивые слова молодого офицера о войне. Всё это запало глубоко ему в сердце, и семя уже дало ростки. Разве не захочет он теперь, вернувшись к себе в деревню, поделиться своими мыслями с такими же обездоленными, как и он сам, односельчанами? Но не только станет он плакаться и жаловаться на свою судьбу, — захочет и изменить ее! И там, в Барнауле найдутся люди вроде Павла Троянова, они помогут и научат бывшего рядового Третьего Сибирского полка Евстигнеева и его неимущих земляков — бороться за свои права и счастье.
СИБИРЬ — ДАЛЬНЯЯ СТОРОНА
До своей поездки в Томск Сергей знал о Сибири только понаслышке да из прочитанных книг. Поэму Некрасова «Русские женщины» он прочел впервые в четырнадцать лет. Поразившие его воображение строчки о страшном руднике, где закованные в кандалы декабристы рыли под землей золото, запомнились Сергею сразу.
О современных ссыльных, русских социал-демократах Сергей узнал от Ивана Никонова еще в Уржуме. В ссылке социал-демократы не сидели сложа руки, они не только организовывали тайные марксистские кружки, но и вели, при каждом удобном случае, агитацию среди населения.
— Это делается везде, где только есть ссыльные. В том числе и в Томске, — сказал Иван.
— А разве в Томск ссылают? — удивился Сергей.
До этого Никонов не называл Томск иначе, как просвещенным центром всей Сибири.
— Если судить по Брокгаузу, то в Томске имеется около трех с половиной тысяч ссыльных, — ответил Никонов.
Приехав в Томск, Сергей понял, что знакомство с ссыльными завести не так-то просто. Никонов в этом деле ничем не мог ему помочь. Он не знал никого из политических ссыльных; его многочисленными знакомыми были в основном студенты-технологи, однокурсники Никонова. Но из всех никоновских знакомых Сергею пришлись по душе лишь Павел и Лобанов. Правда, при первом знакомстве ему очень понравился еще Кипятоша, но за последнее время Сергей не только перестал восхищаться медиком, но временами не мог терпеть его. У Кипятоши была одна скверная черта, которая коробила и отталкивала Сергея.
Почти все жизненные явления Кипятоша расценивал с точки зрения грубой физиологии. Цинично называя вещи своими именами, он хвастался тем, что не признавал «никаких дурацких нежностей и всяких там психологий». Даже знакомство с девушкой он рассматривал как «только особо интересный, клинический случай». Ко всему этому Кипятоша позволял себе «на правах медика» рассказывать скабрезные и пошлые анекдоты.
Гришина Сергей тоже не уважал. Каждый раз его возмущали нравоучительно-долгие рассуждения химика, за стаканом чая, о тяжелом положении русского народа.
«Говорит, говорит, а вот чтобы как-то помочь делом этому народу, тут его и нет, — с досадой думал Сергей. — Ему только бы на своем любимом биллиарде играть! Стыдно сказать, — почти инженер, а на второй год, как последний приготовишка, остался!»
И Сергей невольно сравнивал его с Михаилом Лобановым, которому почему-то ни игра в шахматы, ни свидания с девушками не мешали хорошо учиться и аккуратно посещать все лекции.
О Никонове Сергей не знал, что и думать. В Уржуме он был иным человеком: резко отзывался о существующем строе, усиленно критиковал институтское начальство и с гордостью рассказывал, что участвовал в февральской демонстрации. А теперь его словно подменили. Добродушен, невозмутим, а главное — упорно избегает всяких разговоров на серьезные темы.
Особенно рассердило Сергея, когда он случайно, уже спустя почти две недели, узнал, о студенческой сходке, бывшей 25 сентября в Технологическом институте.
— Ну, была, — невозмутимо подтвердил Иван, когда Сергей спросил его об этом. — Тебе совсем незачем о ней знать. Ты приехал в Томск учиться, а не политикой заниматься, — менторски строгим тоном сказал Иван и начал ходить по комнате. — Я знаю, под чье влияние ты попал!. На Павла ты не смотри. Он человек взрослый и уже совершеннолетний! Вот поступишь в институт, стукнет тебе двадцать один, тогда и пускайся во все тяжкие. Отращивай бороду и записывайся сразу в социалисты!.
С изумлением и негодованием Сергей смотрел в упор на Ивана:
— Вот ты как запел!
— Что ты на меня так уставился! Ты живешь со мной, и я до некоторой степени отвечаю за тебя перед твоими сестрами и бабкой, которая, кстати сказать, просила меня за тобой приглядеть. Конечно, мне не нужно было знакомить тебя с Павлом. Теперь, к сожалению, я вижу, к чему всё это привело. — Иван остановился перед Сергеем и, неизвестно для чего передвинув на столе с одного места на другое флакончик с чертежной тушью, принялся снова расхаживать по комнате. — Ты занимаешься не тем, чем надо! А я, как взрослый человек, вижу всё это и не могу молчать. Я обязан наставить тебя на путь истинный!.
— С таким наставником с истинного пути только собьешься, — сказал резко Сергей. — В одном городе он поет одно, а здесь уже совсем другое!
Иван вспыхнул. Это был явный намек на его разговоры в Уржуме.
Круто повернувшись к Сергею и скрестив руки на груди, он сказал запальчиво и вызывающе:
— Я, дорогой мой, имею право говорить что хочу! Запомни только вот что: если я завтра стану социалистом, то у меня, кроме этого, еще есть профессия. Я, брат, почти что инженер!.. А у тебя что за спиной? — он сердито почесал бровь и, присев на край кушетки, закурил. — Я даю тебе разумный и совершенно правильный совет. Тебе удалось, наконец, поступить на работу — это очень хорошо!. Вчера ты подал заявление на курсы — тоже правильно. Там у тебя потребуют свидетельство о благонадежности. Так ты вот об этом и думай, если хочешь в институт попасть, а не о студенческих сходках и рабочих забастовках!
— Может, по-твоему, для поступления в институт я должен еще «Боже царя храни» петь?! — возмутился Сергей. — Чорт с ним тогда, с этим ученьем!..
— Ну и лезь, пожалуйста, головой в самое пекло, — повысил голос Иван. — А я умываю руки. — Бросив в раздражении недокуренную папиросу, он стал собираться в библиотеку, хотя до этого думал провести весь вечер дома.
Сергей взял рекомендованные ему Павлом «Губернские очерки» Щедрина, молча улегся на кушетку.
Никонов оделся и, хлопнув дверью, вышел из комнаты. Это была их первая серьезная размолвка за два месяца совместной жизни.
«Наставник! Ушел и дверью хлопнул!» — с горечью думал Сергей, машинально скользя глазами по строчкам и не понимая того, что он читает.
Конечно, неприятно и тяжело жить в одной комнате, не разговаривая друг с другом, но не может же он, в угоду Ивану, думать только о своем благополучии и не видеть всей страшной несправедливости, что творится кругом. И дружить с Павлом он тоже не перестанет! Это единственный его друг и настоящий советчик!
Сергей встал с кушетки и подошел к окну. За окном, в наступающих зимних сумерках, хлопьями валил снег. Двое мальчишек из соседней квартиры сгребали во дворе снег в кучу, собираясь делать гору. Постояв в раздумье у окна, Сергей решил пойти погулять и немножко подышать свежим воздухом. Чего, действительно, сидеть в душной и жарко натопленной комнате, когда на улице такая благодать! Надев пальто и зимнюю шапку, он взял с этажерки свои, домашней вязки, рукавицы и, взглянув еще раз на мальчишек, сгребавших во дворе снег, пошел помогать им.
Примирение состоялось в тот же вечер. Вернувшись из библиотеки, Иван, как ни в чем не бывало, сказал своим обычным спокойным тоном:
— Замечательная погода! Подморозило, и полная луна! — А потом, помолчав, добавил. — Самостоятельность — дело хорошее, но как бы только она тебе не повредила!. А в общем у тебя у самого голова на плечах.
У КОНОНОВЫХ
Наконец Сергею удалось поступить на общеобразовательные курсы. Здесь он познакомился, а вскоре и крепко подружился с одним молодым наборщиком.
Иосиф Кононов, как звали нового друга Сергея, жил на Тверской улице, в маленьком зеленом домике в три окошка, со своей старушкой матерью, Аксиньей Веденеевной, и старшим братом Егором, который тоже работал в типографии Макушина.
Иосиф был смышленым, начитанным, но очень застенчивым парнем. Малейший пустяк заставлял его краснеть; стоило, например, рабочим наборщикам подшутить над ним, сказав, что у ворот типографии его поджидает какая-то девушка, как Иосиф смущался и густо краснел:
— Будет зря языки-то чесать!
— Ишь! Весь зарделся, — смеялись рабочие. — А почему девушке тебя не ждать? Парень ты красивый!
Действительно, высокий, стройный и кудрявый, Иосиф был недурен.
Особенно хороши были у него глаза — спокойные, серые, вдумчивые, а белокурые вьющиеся волосы были такой густоты, что Егор говорил:
— Тебе, Осип, с эдакой копной можно и зимой без шапки ходить.
Братья Кононовы жили дружно, несмотря на разницу в десять лет.
Соседки завидовали старухе Веденеевне:
— Оба сына, как на подбор, не пьянчужки, не озорники.
Хвалила Веденеевна обоих, но больше любила Иосифа. Оттого ли, что Иосиф был ласковее молчаливого и грубоватого Егора, или потому, что был красив и застенчив, как девушка, — мать сама хорошенько не знала. Любила — да и только. Любовь эту она особенно не выказывала, была с обоими сыновьями строга и одинаково заботилась о том и о другом. Разве только изредка делала поблажки младшему, как это было четыре года тому назад.
Зимним морозным вечером Иосиф притащил домой щенка. Веденеевна терпеть не могла собак.
— На кой леший пса домой принес? — рассердилась она на сына.
— Его, мамань, подкинули. Выхожу из бани, а он у забора скулит, — озяб, видно. Гляди, как трясется!
— И смотреть не хочу, — сказала, отворачиваясь, мать. — Собак я, что ли, не видала? Жалельщик какой нашелся! Самим есть нечего.
— Маленький он, немного съест.
— Не век маленький будет — вырастет, — уже сдаваясь, сказала Веденеевна, искоса поглядев на сына.
Он стоял перед ней — длинноногий четырнадцатилетний парень, держа подмышкой сверток с мокрым бельем и прижимая другой рукой к себе щенка.
Щенок чуть-чуть поскуливал и дрожал.
— Ну ладно уж, оставляй, — буркнула мать. — В сенях пускай спит, чтоб дома псиной не воняло!
Вернувшись из типографии и увидя щенка, Егор подшутил:
— Видать, вы, мамаша, добро наживать собираетесь, раз сторожа взяли!
Иосиф назвал щенка Шариком. Шарик стал провожать и встречать Иосифа с работы. Только тот входил во двор, как Шарик вылетал из сеней навстречу, заливаясь радостным лаем.
Иосиф выучил Шарика разным штукам: он умел стоять на задних лапах, приносил Иосифу по его приказанию из кухни сапоги и при слове «умри» падал на пол и, закрыв глаза, лежал так не шевелясь. За четыре года Шарик вырос в большого кудлатого рыжего пса.
Когда Сергей впервые пришел к Кононовым, Шарик, яростно залаяв, бросился навстречу. Но в следующие приходы Шарик встречал Сергея уже как доброго знакомого. С радостным визгом кидался к нему на грудь, порываясь лизнуть Сергея в лицо.
Сергей снимал с своей груди лапы Шарика и, потрепав его мохнатый загривок, говорил:
— Ну, хватит нежностей, хватит. Поздоровались — и ладно.
— Скоро он к вам привык, — удивлялась Веденеевна. — А вот на Варюшку нет-нет, да заворчит.
— Это он любя, — сказал Иосиф. — Когда разыграется, так и на меня ворчит.
— Ну уж ладно, заступайся, — улыбнулась Веденеевна, лукаво поглядев на сына.
Иосиф вспыхнул, но ничего не ответил.
— А кто это такая — Варя? — спросил Сергей.
— Наша дальняя родственница. Хорошая девушка. Я ее дочкой зову, — ответила Веденеевна.
И Сергей узнал от нее, что Варя Таганкова работает на табачной фабрике и живет с отцом, старым наборщиком, на Воскресенской горе.
Мать умерла, когда Варе было десять лет, и с тех пор она стала хозяйкой в доме. Правда, хозяйство было, по словам Веденеевны, «немудреное», но у Вари дел хватало — постирать на себя и на отца, поштопать, помыть пол, сварить обед.
— Она к нам частенько забегает; вот познакомитесь, сами увидите, какая девушка, — закончила Веденеевна.
Но познакомился Сергей с Варей не сразу. Как-то так получалось, что Варя приходила раньше или позже его, и когда являлся Сергей, то Веденеевна обычно говорила:
— А у нас опять Варюшка была.
И только спустя месяц, как-то в воскресенье вечером, Веденеевна, открыв Сергею дверь, смеясь сказала:
— Ну вот, наконец-то встретились! Варюшка здесь. Чай пить собираемся. Проходите.
Из темных холодных сеней Сергей вошел следом за Веденеевой в кухню и увидел темноволосую девушку в голубой кофточке, хлопотавшую у самовара. С первого же взгляда ему понравилась эта маленькая краснощекая сибирячка. Всё в ней было просто и как-то особенно мило: причесанные на прямой пробор и заплетенные в толстую косу волосы, голубая сатиновая кофточка с баской, открытая приветливая улыбка.
Сергей поздоровался с Варей и тут только заметил, что Иосифа нет дома.
— А где же Иосиф? — спросил он.
— В читальню пошел книжки менять, а оттуда на Апполинарьевскую собирался к крестному пройти, навестить. Что-то болеет старик…
Веденеевна не договорила.
— Ой, батюшки, самовар убежал!
Сняв с самовара трубу и подтерев около него лужу, Веденеевна поставила самовар на стол. Но и на столе он продолжал сердито фыркать и плеваться горячим белым паром.
— Ну, садитесь чай пить, — сказала Веденеевна.
Сергей и Варя сели за стол.
— Берите пироги, угощайтесь. Жалко только, — простыли: утром пекла.
— А с чем они, тетя Веденеевна, с картошкой? — спросила Варя.
— И с картошкой, и твои любимые, с капустой, есть. Вон сверху бери, у которых краешки гребешком, — улыбнулась Веденеевна, видя, как Варя, протянув руку к большой глиняной миске с ржаными пирогами, не знает, какой пирог взять.
Налив всем вровень чашки и наколов маленькими кусочками сахар, Веденеевна принялась за чаепитие. Молча, словно священнодействуя, она не спеша пила чашку за чашкой, изредка шумно вздыхая и вытирая раскрасневшееся, потное лицо.
После чая Варя стала убирать со стола посуду.
«До чего же похожа на сестренку Лизу — и такая же бойкая, хозяйственная!» — подумал Сергей, наблюдая, как быстро и ловко Варя моет и вытирает чашки, а затем выметает из-под стола крошки.
— Ты бы, Варюшка, спела, — сказала Веденеевна, когда Варя убрала всё со стола.
— Ладно, тетя Веденеевна, спою, — согласилась Варя.
Это тоже понравилось Сергею.
Другая на ее месте начала бы отказываться и нашла бы не одну отговорку: и не в голосе она, и что спеть ей, не знает, и при посторонних петь стесняется…
Сергей с любопытством поглядывал на Варю. Он сам пел не плохо и любил слушать хороших певцов. «Что же она будет петь? И какой у нее голос?»
— Давай-ка мою любимую, дочка, — попросила Веденеевна.
Достав из зеленого сундучка рваную косоворотку Иосифа, она села с работой у стола.
Прислонившись к дверному косяку, Варя поправила накинутый на плечи белый шерстяной платок и, постояв так с минуту в раздумье, запела. С первых же слов Сергей узнал песню.
«Не для женского это голоса, — с огорчением подумал он. — Ей бы лучше спеть „Выйду ль я на реченьку“ или „Лучинушку“».
Но в следующее мгновение он уже ни о чем не думал, а, затаив дыхание, с изумлением слушал Варю. И если бы она пела на чужом, непонятном для него языке, то, не понимая слов, он всё равно с восхищением слушал бы ее, — такой необычайной силы и красоты был у нее голос и так выразительно она пела.
Веденеевна, позабыв о шитье, с наперстком на пальце сидела задумавшись за столом, а Варя пела о том, как среди снежного поля, в метель и вьюгу, у дороги нашел ямщик свою замерзшую невесту.
«Под снегом тем, братцы, лежала она, Закрылися карие очи… Налейте, налейте скорее вина, — Рассказывать нет больше мочи».Тоской и жалобой звенел Варин голос, и тесно было ему в этой маленькой низкой комнате, оклеенной дешевыми обоями.
— Ой, Варька, с таким голосом тебе б только в соборе на клиросе петь! — сказала Веденеевна, когда Варя умолкла.
— Меня подружки и дома хорошо слушают, — засмеялась Варя и, сияв с плеч шерстяной платок, повязала им голову.
— Ты куда же это?
— Домой пора, тетя Веденеевна, — сказала Варя, показывая Веденеевне глазами на ходики. — Папаня обещался в десять часов вернуться.
— Ну как, дочка-то понравилась? — спросила Веденеевна после ее ухода.
— Да, хорошая девушка и поет замечательно, — сказал Сергей.
— Я ее ведь дочкой неспроста зову, — призналась, помолчав, старуха. — Всё втайне мечтаю, что годика этак через три-четыре Оська и Варя поженятся. Сейчас еще молоды: ей — семнадцать, ему — восемнадцать. Да и деньжат на свадьбу нужно подкопить.
СЛУЧАЙ В «КЕФАЛОНИИ»
Подпольный революционный кружок, в который Павел Троянов ввел Сергея, состоял большей частью из томских наборщиков. Были в кружке и студенты: технолог Раевский, юрист Коган и медик Николай Большой. Так звали его в отличие от наборщика — Николая Маленького.
Кружком руководил бежавший из нарымской ссылки студент большевик, которого все называли запросто товарищем Григорием.
В кружке читали «Манифест коммунистической партии» Маркса, «Экономические этюды» Ленина и другие его работы.
Кружковцы занимались не только изучением теории, но и практической революционной работой: выступали на рабочих массовках, печатали листовки, шрифт для которых потихоньку доставляли из типографии наборщики.
Молодежь кружок посещала аккуратно, с нетерпением ожидая очередного занятия. Только Борис Коган к занятиям относился равнодушно и даже пренебрежительно. Сергея это удивляло и сердило. И однажды он спросил Бориса:
— Почему вы не были? Мы вчера читали «Перлы народнического прожектерства».
Коган слегка усмехнулся:
— Вам в новинку, а я эту статью чуть не наизусть знаю.
Сергей не мог понять, говорит ли это Коган серьезно или только рисуется.
Коган любил оригинальничать. Он жил во второразрядных заезжих номерах «Кефалония» на Дворянской улице, хотя по своим средствам мог бы снимать номер в первоклассной гостинице.
Отец его был известный адвокат в Харькове и ни в чем не отказывал сыну.
Борис часто получал крупные денежные переводы, и у него всегда имелись свободные деньги, которые он охотно давал взаймы товарищам.
— Почему ты не снимаешь себе хорошую комнату? — удивлялись студенты.
— Я хочу жить, как рядовой студент.
Но это не мешало «рядовому» студенту покупать билеты в театр только в ложу и ходить на спектакли в студенческом мундире на белой шелковой подкладке.
У этого «рядового» студента была тысячная скрипка, которой позавидовал бы любой знаменитый скрипач. Он получил ее в подарок от отца еще ребенком.
Играл Борис с душой, весь отдаваясь музыке.
Бледное некрасивое лицо его во время игры хорошело. А большие блестящие черные глаза, обычно лукавые и быстрые, становились печальными и казались полными слез. Окончив игру, Борис некоторое время стоял, опустив смычок, не понимая, что вокруг него происходит. Сергей любил слушать его игру и ходил бы к Когану часто, если бы за Борисом не водилась одна глупая и неприятная черта: Коган очень любил спорить и спорил обычно азартно и дерзко, не слушая никаких возражений и доводов собеседника.
А когда видел, что противник оказывается прав, начинал говорить дерзости.
Первая встреча Сергея с Коганом тоже не обошлась без спора. Это случилось вскоре после приезда Сергея в Томск. В поисках работы он попал как-то на Соляную площадь. Почти половину ее занимало длинное двухэтажное каменное здание, украшенное гипсовой фигурой. В правой руке фигура держала поднятый меч, а в левой — весы. На ее глазах была повязка.
Здание оказалось Томским окружным судом, но для чего на фронтон взгромоздили алебастровую женскую фигуру, Сергею было непонятно.
— Это греческая богиня Фемида, — сказал вдруг кто-то за его спиной.
Сергей обернулся и увидел черноволосого, курчавого студента. Они разговорились и познакомились. Студент назвал себя:
— Борис Коган.
Он тут же объяснил значение «атрибутов» Фемиды, как назвал он меч, весы и повязку богини.
— Фемида не случайно украшает здание суда, — пояснил Коган. — Повязка на ее глазах является эмблемой правосудия. Перед Фемидой одинаково равны знатный сановник и безымянный бродяга. Богиня судит проступки, а не самих людей. Их она не видит!
Ничего не ответив, Сергей снова поглядел на белевшую вверху богиню.
Может быть, в древней Греции и существовало подобное правосудие, но что касается Казани и его родного города Уржума, то там, как ему известно, судьи отлично видят, кого они судят. Недаром столько историй о судейской несправедливости и алчности наслушался он вокруг. «Без барашка в бумажке к судье лучше и не ходи, а уж коли бедный в суд пойдет, — так правды не найдет», — не раз говорила при нем бабушка.
То же самое слышал он и в Казани от старого рабочего Акимыча, единственного сына которого осудили безвинно на два года в тюрьму.
— Вы, кажется, юноша, со мной не согласны? — спросил Коган, стоя рядом с Сергеем и довольно бесцеремонно разглядывая его.
— По-моему, эта баба с безменом подглядывает, — отвечая на свои мысли, сказал вслух Сергей.
Этот ответ очень понравился Когану. Он расхохотался чуть ли не на всю Соляную площадь.
Сергей торопливо зашагал прочь.
Спустя месяц Сергей неожиданно встретился с курчавым студентом в подпольном кружке. Коган держался замкнуто и с холодком, но когда они возвращались домой (им оказалось по пути), Борис так увлекательно рассказывал о забастовке, в которой он участвовал в Харькове, еще будучи гимназистом, что Сергей заслушался его. О подпольной работе Борис рассказывал, как бывалый революционер, но в последующие встречи Сергей понял, что рассказ Бориса ничего не имеет общего с ним самим. В рассказе Коган фигурировал как человек с выдержкой, а главное — преданный делу. В жизни же он был честолюбив, болтлив и больше всего на свете любил самого себя.
Однажды они поспорили о том, имеет ли право марксист мечтать.
— Ни в коем случае, — сразу загорячился Борис. — Настоящие марксисты — не барышни, чтобы им заниматься мечтаниями.
— Да что же, марксисты — каменные глыбы, что ли?! — рассердился Сергей. — Отчего бы им не мечтать? Мечтают, да еще как! И о грядущей революции мечтают, и о счастье народа, и о свободе!
— Может, еще при луне под звуки мандолины? А?! — жестикулируя и уже переходя почти на крик, спорил Коган. — Занятная картинка!..
Сергей махнул рукой и ушел.
Через три дня, поздно под вечер, Сергей явился к Когану.
— Я к вам прямо с кружка, — сказал он, улыбаясь и еле переводя дыхание. — Послушайте, что мне дал товарищ Григорий.
Не снимая ватной тужурки, Сергей подсел к столу. Вынув из кармана голубую ученическую тетрадку, он начал читать вслух:
«…Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать таким образом, если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим в цельной и законченной картине то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками, — тогда я решительно не могу представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни… Разлад между мечтой и действительностью не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядываясь в жизнь, сравнивает свои наблюдения со своими воздушными замками и вообще добросовестно работает над осуществлением своей фантазии».
— Это из ленинской брошюры «Что делать?». Ленин приводит слова Писарева, а потом говорит: «Вот такого-то рода мечтаний, к несчастью, слишком мало в нашем движении».
Лицо Сергея сияло, и он выжидающе поглядывал на Бориса.
— Я с этой статьей знаком, — резко сказал Борис.
— Почему же в прошлый раз, когда мы спорили, вы ничего не сказали о брошюре? — удивился Сергей.
— А почему я должен был об этом говорить? Это первое, во-вторых, — в спорах рождается истина! И, в-третьих, у нас в университете скоро будет студенческий вечер. Хотите пойти?
— Спасибо, — сухо поблагодарил Сергей, очень обиженный таким равнодушием к статье, которая поразила его ясностью и глубиной мысли. Они оба замолчали. Коган понял, что Сергей сейчас уйдет, если как-нибудь не исправить положения. Он изменил тон:
— Меня просили сыграть на скрипке. Не знаю только, что бы сыграть? Посоветуйте, Сергей.
— Играйте «Юморески». Это у вас хорошо получается, — сказал Сергей, пряча в карман брюк тетрадку.
— А может быть, лучше сыграть баркароллу Шуберта? Послушайте.
Вынув из футляра скрипку, Коган начал играть. После баркароллы он играл «Юморески», затем «Цыганские напевы» Брамса. Играл до тех пор, пока в дверь не постучал коридорный и не сказал приглушенным голосом:
— Господин студент, время позднее — соседи спят!..
Сергею пришлось остаться ночевать у Бориса, потому что было неудобно среди ночи будить квартирную хозяйку и беспокоить жильцов.
Утром, когда Коган нежился в постели, Сергей оделся и, взяв полотенце, пошел умываться.
Чтобы попасть в умывальную, нужно было пройти узким полутемным коридором, освещаемым двумя керосиновыми лампами, мимо длинного ряда номерных дверей.
Перекинув полотенце через руку, Сергей шел по коридору.
Не успел он поровняться с лестницей, ведущей в вестибюль первого этажа, как увидел двух жандармов. Они поднимались на площадку, навстречу ему.
— Вы кто такой, молодой человек? — спросил высокий, седоусый, загораживая ему дорогу.
«Что делать?» — пронеслось в голове Сергея… Видимо, он чем-то вызвал подозрение… Могут арестовать!.. А в кармане выписка из нелегальной брошюры. Тут уж никакие отговорки не помогут! Улики налицо.
— Чего молчишь? — грубо спросил второй жандарм. — Куда идешь?
— Куда? — переспросил Сергей. — За стерлядкой… В буфет.
— Официант?
Сергей молча кивнул головой.
— А скажи-ка, любезный, 43-й дома ночевал? — спросил другой жандарм, пристально разглядывая Сергея.
— Не могу знать! Справьтесь у коридорного, — ответил спокойно Сергей, а сам подумал: «Ишь, чорт, как уставился!»
— Какой же ты, брат, официант, если не знаешь, что в номерах делается?! — усмехнулся седоусый. — Вчера вечером к 43-му кто приходил?
— Помилуйте! Меня публика ждет, — из 15-го номера за стерлядкой послали. Не задерживайте, — перебил Сергей.
Сдернув с руки полотенце, он ловко расшаркался и, не дав жандармам опомниться, с деловитой торопливостью побежал по лестнице вниз.
— Дерзок, каналья! — сказал седоусый. — Ну, чорт с ним.
Официант как официант: и брюки навыпуск, и рубашка со шнурком, и полотенце через руку. Подозрений он не вызывал.
Выскочив во двор, Сергей увидел запряженную в сани лошадь. На санях стояла сорокаведерная бочка и рядом с ней лежал старый армяк, — видимо, кухонный мужик собрался ехать на Томь за водой.
Сергей раздумывал недолго; сунув полотенце в карман и накинув на себя армяк, он столкнул бочку и, вскочив в сани, ударил лошадь кнутом. Она так рванулась, что Сергей еле удержался на ногах.
Время было раннее, и редкие прохожие удивленно оглядывались на мчавшиеся по улице сани, на которых, туго натянув вожжи, стоял молодой парень в накинутом на плечи армяке и с непокрытой головой.
А какая-то старуха, переходя улицу, сказала вслед Сергею:
— Ишь ты, какой горячий нашелся, — без шапки катит!
Полозья с визгом скрипели по морозной дороге, а Сергей всё подхлестывал лошадь и улыбаясь думал про себя: «Не едать сегодня пятнадцатому номеру стерлядки».
Вскоре сани остановились на Тверской улице около зеленого домика Кононовых.
— Ну, спасибо тебе, саврасая, поезжай теперь за водой.
Сергей снял с себя армяк и, бросив его в сани, повернул лошадь по направлению к заезжему двору «Кефалония». Лошадь бойко затрусила по дороге, а Сергей, замерзший до того, что, казалось, ему никогда и не отогреться, побежал в дом.
На его счастье, дома оказался один Иосиф. Он сегодня работал в вечернюю смену.
— Ты что, с ума спятил? По такому морозу раздевшись бегаешь? — удивился Иосиф.
Сергей прислонился к печке и, оттирая замерзшие уши, сказал:
— Ох, Оська! Я сейчас чуть в жандармские лапы не угодил. Знаешь, что было?!
«АНТИХРИСТЫ ДЕЙСТВУЮТ»
По большим праздникам и царским дням богослужение в соборе свершал сам епископ Макарий.
Так было и 25 декабря.
По случаю праздника — рождества Христова — в храм собрались богомольцы не только со всего города, но и с Басандайки, что находилась за семь верст. На дворе был лютый мороз, а в соборе, полном народа, было так тесно и душно, что прихожане изнывали от жары. Они стояли в распахнутых пальто, женщины поснимали с себя теплые платки и полушалки.
— Ну, и духота сегодня! Чисто в парной! — говорили богомольцы.
У многих по лицам катился пот. Некоторым становилось плохо, и они пытались выйти на улицу. Но пробраться сквозь плотно стоявшую толпу было почти невозможно.
— Куда претесь-то? Стояли бы на месте! — злобно шипели старухи, пропуская сомлевших к выходу.
По случаю праздника на обоих клиросах пел архиерейский хор из мальчиков-подростков, одетых в черные суконные курточки со стоячими воротничками.
В храме горели три висячих паникадила, хотя на улице был день и сквозь высокие разноцветные стекла собора проникал зимний солнечный свет. Огонь от паникадильных свечей дробился и играл в граненых хрустальных подвесках.
Сияли дорогие старинные ризы на иконах.
У клиросов возвышались тяжелые хоругви, с золотыми кистями и бахромой. Среди всей этой церковной роскоши и благолепия главное место занимал преосвященный Макарий. Облаченный в золотую парчевую ризу, высокую митру, украшенную бриллиантовым крестом, в поручах и палице, вышитых жемчугом, маленький владыка казался величественным. Его окружали священники в праздничных облачениях. Они кадили перед ним, и из серебряных кадильниц поднимался горьковато-пряный дымок ладана.
С правой стороны амвона, рядом с женой и детьми, стоял Азанчевский. Губернаторша — пышная, румяная дама лет сорока пяти, с модной прической «валиком», — то и дело обмахивалась кружевным платком, и на ее маленьких белых руках сверкали дорогие перстни и кольца.
Хор грянул «Иже херувимы», и священники осторожно, под руки подвели владыку к царским вратам.
Обедня близилась к концу, когда из притвора вышел молодой красавец-иподьякон с подносом, покрытым лиловым шелковым «воздухом».
На подносе высилась стопка маленьких белых книжечек. Прихожане, стоявшие в передних рядах, зашептались: «Что это такое?»
Любопытные вытягивали шеи.
— Книжки какие-то!
— Видно, раздавать будут?!
— Проповедь-то владыка сегодня будет говорить? — приставала ко всем кривая носатая старуха.
— Тс! Тише! Ш-ш-ш! — зашикали и зашептались прихожане. — Владыка!
Из алтаря на амвон вышел владыка с крестом в руках. В соборе наступила тишина. Только у свечного ящика слышалось позвякивание денег, — церковный староста считал выручку.
— Православные христиане! — сказал Макарий гневным и резким голосом. — Большое испытание послал нам господь — войну! Японцы хотят победить Россию и взять нашу русскую землю себе! Но царь православный не допустит до этого; огромная рать послана на защиту нашей православной веры, царя и отечества. Весь народ готов положить живот свой за его императорское величество, за православную церковь. Но находятся смутьяны, рабочие и студенты, которые волнуют народ своими речами, отговаривают солдат идти на войну. Они разбрасывают всякие бумажки и листки с преступными словами!.. Будь они трижды прокляты, богоотступники, антихристы и крамольники!
С лица владыки не сходило злое, раздраженное выражение. Несколько раз он повышал голос до гневных выкриков. Но кое-кому из прихожан эта проповедь, видимо, нравилась.
Высокий лысый купец с рыжей бородой, стоявший слева у амвона, умиленно шептал:
— Мало нам за грехи наши тяжкие. О, господи! Мало!
Наконец владыка смолк, и прихожане стали подходить к кресту.
Макарий широко и размашисто заносил над их головами крест.
После благословения каждый из прихожан получал от дьякона маленькую белую книжечку, на обложке которой было напечатано «Воззвание к прихожанам от епископа Томского и Барнаульского — Макария».
Мало-помалу храм опустел, — прихожане расходились по домам.
* * *
После завтрака губернатор отдыхал у себя в кабинете.
Ее превосходительство, как прислуга называла в доме жену генерал-губернатора, полулежала в гостиной на диване, просматривая модный журнал, привезенный недавно из Петербурга.
Дети с гувернанткой были у себя в комнате. Лиля играла на ковре в куклы, а шестилетний Ника, сидя за столом, с увлечением переводил картинки.
Видя, что дети занялись, старушка гувернантка надела пенсне и, присев у окна, стала читать полученное сегодня за литургией «Воззвание». Она была очень набожна и читала «Воззвание» внимательно, не спеша, строчку за строчкой. Начало ей уже было знакомо. Эти же слова говорил владыка. Дочитав до последней страницы, гувернантка вдруг испуганно ахнула и выбежала из комнаты.
— Что с фрейлин? — спросил удивленно Ника.
Лиля, занятая своими куклами, даже не заметила исчезновения гувернантки.
— Всё тебе надо знать, Ника! Какой ты любопытный! — сказала она, вплетая в косички куклы ленты.
— Я знаю! У нее, наверно, живот заболел, — засмеялся Ника и, поплевав на картинку, стал осторожно тереть ее.
* * *
Владыка вернулся из собора очень усталый, и поэтому всё его раздражало. Войдя в прихожую своего дома, он быстро прошел по мягкому ковру и у входа в кабинет, не глядя назад, сбросил с себя мантию. Эта привычка осталась еще от офицерских времен, когда он, будучи ротмистром, с шиком сбрасывал свою шинель с бобровым воротником на руки подоспевших лакеев и денщиков.
Служка знал эту манеру и умел во-время ловко подхватывать падающую мантию, но на этот раз не успел — и мантия упала на пол.
Владыка круто повернулся и гневно сказал одно слово: «Болван!»
Не успел он войти в свой огромный мрачный кабинет, как зазвонил телефон. Владыка взял трубку и услышал взволнованный, срывающийся на визг, голос губернатора:
— Читаю, владыка, ваше воззвание. Там бог знает что напечатано. Это ужас, если ваша проповедь разошлась по городу! Вы все экземпляры просмотрели после типографии?
— А что там такое напечатано? — раздраженно спросил владыка.
— Вот что! — и губернатор быстро заговорил по-французски.
— Прошу вас сейчас же прислать мне этот экземпляр, — сказал Макарий.
Через десять минут от губернатора принесли запечатанный пакет. Прочитав свое собственное воззвание, владыка пришел в бешенство. Ловко его одурачили! Он метался по комнате, цепляясь развевающимися полами подрясника за стулья. В руках он держал книжечку с воззванием и не сводил глаз с последней страницы:
«Все бедные, униженные и оскорбленные на земле возвысятся на небесах! Их ждет царство небесное и сияющий чертог господен. Царь небесный вознаградит и возвеличит их», — перечитывал владыка свои слова. Да, это были его собственные слова, и все точки и запятые и знаки восклицания стояли на своих местах. Но под его словами тем же шрифтом были набраны строки, которые привели его в ярость:
«Не верьте этой поповской болтовне! Вы умираете в нищете и голоде! Ваши дети не имеют порой самого насущного — куска черного хлеба, в то время, когда богачи утопают в роскоши и удовольствиях!» Дальше шло разъяснение, почему царь начал войну и кому она выгодна. Последние слова звучали грозным призывом:
«Долой царя небесного и царя земного! Да здравствует революция! Томский комитет Р. С. Д. Р. П.»
— Листовка, самая настоящая листовка! Позор на всю губернию! До святейшего синода дойдет… Эта листовка — дело рук наборщиков.
Владыка не ошибся. Текст подверстали наборщики, и случилось это вот как.
В типографию Макушина было сдано «Воззвание» преосвященного Макария. Из первых ста напечатанных штук Иосиф взял один экземпляр и, возмущенный, побежал к Сергею.
— Полюбуйся, что наш пастырь духовный выдумал! Воззвание выпускает.
Сергей прочитал и усмехнулся.
— С чувством написано! Только жаль, — послесловия не хватает. Ну, уж так и быть — мы владыке поможем.
И помогли! В полночь Сергей и Иосиф ушли от товарища Григория с готовым послесловием, а через два дня в типографии Макушина при сдаче заказа Иосиф подложил в середину стопки несколько экземпляров с дополненным текстом.
ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЯНВАРЯ
Сергей стал своим человеком в семье Кононовых. А веселая и добрая Варя еще больше скрепила его дружбу с Иосифом. По воскресеньям с ее приходом в маленьком доме Кононовых всё оживало. Веденеевна любила, когда Варя и Сергей пели вдвоем русские песни, а Иосиф вполголоса им подтягивал. Особенно хорошо у них получалась песня: «Вниз по матушке, по Волге» и «Трансвааль».
Иногда к ним присоединялся и Егор, который пел на целую октаву ниже и хвалился, что у него бас лучше, чем у соборного дьякона Успенского.
Но последнее время, к немалому огорчению Веденеевны, молодежь, собираясь по воскресеньям, больше разговаривала да читала, нежели пела. Перед чтением Иосиф сам закрывал на крюк входную дверь. И если раздавался неожиданный стук, книжки сразу же прятали.
«Уж не про „политику“ ли книжки у них? Господи, не допусти до греха!» — думала Веденеевна и как-то, не выдержав, сказала о своей тревоге Иосифу.
— Что ты, мамань, какая там политика! Самая обыкновенная книжка, — ответил Иосиф.
Но Веденеевна поняла по его тону, что книжка не обыкновенная. Она молчала, но беспокойство и тревога охватили ее. Иосиф частенько по вечерам куда-то уходил и возвращался домой далеко за полночь, серьезный и какой-то задумчивый.
«Господи! Куда же это он ходит?» — раздумывала мать.
Если Егор не ночевал дома, то это было понятно и мало ее беспокоило.
«Парню двадцать восемь лет, года самые подходящие, — может, зазнобу какую завел, — думала она. — Но этот!.. И хоть бы раз пьяный пришел!»
Когда теперь из-за закрытой двери до нее доносилось чтение, она невольно прислушивалась. Однажды она услыхала, что чтение прерывалось странными стуками, то частыми, то редкими. Стучали не то карандашом, не то согнутым пальцем по столу.
— Какое же это «м»? Это «а», — слышался голос Сергея.
— Ой, опять ошиблась! Перестучи, — сконфуженно просила Варя.
— Слушай внимательно, — «там» тебе по пяти раз перестукивать не будут, — сердился Иосиф.
«Игра, что ли, у них такая? — раздумывала Веденеевна. — Ишь, какое развлечение затеяли, — сидят два кавалера с барышней и по столу стучат». — Перестав вытирать посуду и не выпуская из рук мокрое полотенце, она снова прислушалась. Стук раздавался попрежнему, то частый, то редкий.
«Непроста это они стучат! Ой, неспроста!»
Не понимая еще, в чем дело, но уже пугаясь от внезапно охватившего ее предчувствия беды, мать стояла у закрытой двери, не зная, что ей делать.
Этот странный и непонятный для нее стук она связывала с таинственным чтением книги, которую не иначе как Сергей принес в их дом. До знакомства с ним Оська был парень как парень. Как же ей поступить?! Просить сына пожалеть ее старость и себя поберечь, а то, неровен час, еще могут и в тюрьму посадить… «Да неужели ничего нельзя сделать, чтобы отвадить его от этой самой „политики“?» — спрашивала себя мать.
И только спустя три месяца Веденеевна поняла, что ни ее слезы, ни просьбы и даже угрозы не остановят сына.
…Это случилось в морозное январское утро, когда мать упрашивала Иосифа не ходить на демонстрацию.
— Не ходи, Оська, — слышишь? Стрелять будут, и Захар Иванович тоже говорит, — а уж ему ли не знать!. Сам не раз в забастовках участвовал да с красным флагом по улице ходил, — говорила Веденеевна про соседа, старика слесаря.
Иосиф, сидя на сундуке, молча надевал валенок.
— Да ты что, — оглох, что ли? Тебе я говорю или нет? — рассердилась мать. — Не смей ходить!
Веденеевна подбежала к стене и сорвала с гвоздя шапку, думая хоть этим удержать сына.
— Не пущу, — слышишь? Не пущу!
Иосиф надел валенки и, встав с сундука, подошел к матери.
— Давай, мамань, шапку, — без шапки уйду! — непривычно сурово сказал Иосиф.
Веденеевна заплакала и протянула сыну шапку.
— Полно-ка зря плакать, — Иосиф обнял мать за плечи. Затем он повернулся, надел шапку и вышел на улицу. Веденеевна, накинув на плечи платок, бросилась за ним.
«Ишь, пошел бунтовать, медведь косолапый! — уже не сердясь, а ласково и тревожно подумала она, глядя, как, засунув руки в карманы своей ватной тужурки и слегка загребая на ходу левой ногой, Иосиф размашисто шагает по узкой улочке. — Ну, теперь раньше полночи домой и ждать нечего».
Она вздохнула и пошла от ворот домой.
Иосиф не вернулся с демонстрации. Демонстранты были разогнаны полицией, которая пустила в ход не только нагайки, но и шашки. Раненых, подобранных на улице, демонстранты отправили в больницы, а убитых полицейские свезли на санях в покойницкую при Томском университете. Туда отвезли и Иосифа Кононова.
ВСТРЕЧА С ДРУГОМ
Ночь выдалась морозная и лунная. Тихо стояли оснеженные деревья университетского сада. Чугунная садовая решетка от инея казалась ажурной и легкой.
Запорошенный снегом сад был безлюден. В больших окнах университета было темно, только рядом с анатомичкой в маленьком окне сторожки мерцал огонек.
Сергей остановился у невысокой чугунной решетки и огляделся по сторонам; пустынная была Королевская улица. Такой же безлюдный тянулся впереди Московский тракт.
Сергей легко и бесшумно перемахнул через решетку сада. Проваливаясь по колено в снег, он добрался до узенькой дорожки. Здесь, стряхнув с сапог снег, он еще раз огляделся, — кто знает, может, городовые караулят не только у главных ворот университета, а шныряют по саду? Но никого не было видно.
Сергей почти бегом направился к часовне; здесь в подвале находилась покойницкая. На двери покойницкой висел замок. Что делать? Сергей в нерешительности постоял с минуту около часовни. А что тут долго раздумывать! Нужно идти к сторожу. Миновав длинное, похожее на барак, здание препаровочной, Сергей свернул к одноэтажному деревянному домику и постучался в дверь.
— Отперто! — донесся приглушенный старческий голос.
Сергей вошел в темные сени, нащупал дверную скобку и отворил дверь.
Маленькая с низким закоптелым потолком сторожка была жарко натоплена. Семилинейная керосиновая лампочка освещала стол, покрытый зеленой клеенкой, и деревянную кровать, на которой, свесив босые ноги, сидел широкоплечий седой старик. На коленях у него стояла железная банка с махоркой. Он крутил козью ножку.
— Чего надо, молодой человек? — спросил сторож, прищурившись.
— Брата ищу! Брат у меня пропал… С утра ушел и до сих пор нету. В больнице был, в участке был, у знакомых — нигде нет… Может, к вам в часовню привезли?.
Сергей не лгал, называя Иосифа братом. Они не были братьями по крови, но они боролись за одно общее правое дело. Оба были большевиками, и это роднило их.
— Не приказано, молодой человек, посторонних в часовню пускать, — насупился старик.
— Да я разве посторонний? — почти выкрикнул Сергей. — Никто не узнает. Пустите поглядеть.
Старик молчал, почесывая седую бороду. Сергей, бледный и взволнованный, стоял перед ним и мял свою шапку.
— Пустите, — сказал он еще раз настойчиво, каким-то хриплым голосом. — Пустите, дедушка!
— Брат, говоришь?.. Да-да! Не погладят ведь меня по головке, если узнают, — раздумывал вслух сторож. — Не погладят, молодой человек, а? — и вдруг неожиданно махнул рукой: — А ну, иди. Только быстро.
Старик слез с кровати, вытащил из-под лавки фонарь, зажег его и протянул Сергею.
— Погоди, я оденусь.
Старик накинул тулуп, надел валенки, и они вышли.
Луна всё так же сияла над садом.
— Ночь-то хороша! Царица небесная! Только бы гулять. Да разве от такой неладной жизни гулянье на ум пойдет? Сегодня, небось, полгорода плачет. Сколько народа покалечили да порубили! Ну, авось, твой брат в это крошево не попал, господь миловал! — спохватился старик.
Они пошли к часовне; три ступеньки вели вниз.
— Иди! — сказал сторож, сняв большой висячий замок с двери. — А я здесь похожу, покараулю, не заскочил бы кто грехом.
Но Сергей уже не слушал сторожа. Он вошел в покойницкую и, закрыв за собой дверь, остановился на пороге.
Через маленькое решетчатое окошко с выбитым стеклом в покойницкую лился ровный лунный свет, освещая половину подвала. Другая половина была в тени. Там, на длинных деревянных нарах, что-то белело. Сергей подошел и, светя фонарем, наклонился над нарами. Мертвецы, нагие и страшные, лежали рядами. Их трупы предназначались для анатомички. В прошлом это были безымянные бродяги, умершие в университетской клинике от белой горячки, бездомные старухи-нищенки, замерзшие под забором, парни чернорабочие, приехавшие на заработки и убитые во время поножовщин и драк.
Сергей быстро прошел мимо покойников, заглядывая каждому в лицо. Иосифа среди них не было. Где же он? Где? Сергей поднял высоко над головой фонарь, освещая подвал. И тут, неподалеку от нар, у стены он увидел Иосифа. Иосиф лежал навзничь на каменном полу.
Сергей поставил фонарь рядом и опустился на колени перед убитым товарищем. Левая рука Иосифа, откинутая в сторону, была сжата в кулак, правая судорожно уцепилась за борт пиджака. Две верхние пуговицы на ватном пиджаке Иосифа были вырваны вместе с сукном, Разорваны были и петли.
«Это он прятал знамя», — подумал Сергей.
И всё, что было сегодня утром на демонстрации, встало перед ним.
Они идут по главной томской улице — по Почтамтской…
Впереди Иосиф несет знамя.
«Вставай, поднимайся, рабо-чий на-род! Иди на вра-га, люд го-ло-дный», —звучит песня в январском морозном воздухе.
«Раздайся, клич мес-ти на-родной. Впе-ред, впе-ред, впе-ред!»Из калиток домов выбегают и присоединяются к ним люди. Всё растет и растет демонстрация. Это ответ на злодейский расстрел 9 января рабочих в Петербурге.
Сплошным потоком во всю ширину главной улицы идут рабочие с заводов и фабрик, гимназисты и гимназистки, бородатые и безусые студенты, пожилые и молодые женщины с детьми.
Они дошли до Уржатки. Здесь через речку Ушайку перекинут старый деревянный мост.
Первые ряды демонстрантов вступили на мост.
И вдруг с Воскресенской горы, с улюлюканьем и свистом, с шашками наголо помчались конные полицейские.
Во весь опор скачет на серой лошади жандармский ротмистр.
Всё ближе и ближе оскаленная морда коня и грузная серая фигура жандарма.
Жандарм стреляет! Стреляет в Иосифа!
Иосиф падает на снег, прикрывая своим телом знамя.
— Оська! Друг! — вырвалось стоном у Сергея.
Он стоял на коленях перед убитым. Вот он лежит, его товарищ и их знаменосец, Иосиф Кононов. Светлые волосы его спутаны и падают на лоб; мертвые, широко раскрытые глаза глядят мимо Сергея, куда-то вдаль.
— Эх, Оська, Оська! Мало ты пожил на белом свете!..
Огонь фонаря вдруг стал мутным, расплылся и замигал. Слезы заволокли глаза Сергея. Дрожащими руками он расстегнул на Иосифе пиджак и с трудом вытащил знамя, испачканное кровью. Распахнув тужурку, Сергей спрятал знамя у себя на груди.
Рядом с Иосифом лежали другие убитые на демонстрации.
Сергею бросились в глаза чьи-то ноги, в огромных стоптанных валенках, и белая женская рука с обручальным кольцом на безымянном пальце. Еще запомнился пожилой человек с острой седой бородой, с виду не то учитель, не то врач. Длинное черное пальто на нем было в нескольких местах располосовано шашкой. Клочья ваты торчали наружу.
Под окном послышались шаги и покашливание сторожа.
«Надо идти».
Сергей склонился над Иосифом и поцеловал его.
— Прощай, Осип! Прощай, мой дорогой товарищ! Клянусь, мы, отомстим!
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
После смерти Иосифа Веденеевну точно подменили. Глядя теперь на эту сгорбленную, молчаливую и часто плачущую старуху, трудно было представить, что совсем недавно, всего три месяца назад, сидя за столом с молодежью, она порой вставляла в их разговор такое меткое и острое словцо, что все смеялись, а Егор, приглаживая усы, говорил:
— Ой, маманя! Занозистая вы у нас!..
Не было минуты, чтобы Веденеевна не думала о сыне: полоскала ли она с соседкой белье на Томи, скалывала ли лед на крылечке дома, щепала ли по вечерам лучину на самовар. Почти каждая вещь в доме так или иначе напоминала ей об Оське. Вот эту бельевую корзину в прошлом году они покупали вместе на рынке; косарь, которым она щепала лучины и скалывала лед на крыльце, был очищен от ржавчины Оськиными руками; обычная сибирская форточка — круглая сквозная дыра в стене над столом — была заткнута деревянной втулкой, которую он раскрасил, ради потехи, в виде смеющейся носатой рожи.
А вот на стене висит его самодельная полка с книгами, а рядом — часы-ходики с засунутой за ними веткой кедровника, которую Оська принес из Басандайки, куда ходил на лыжах за четыре дня до своей смерти… И так без конца вспоминала Веденеевна о сыне.
В один из холодных апрельских дней, после обеда, Веденеевна катала на столе белье. Работа спорилась, но вот Веденеевна вытащила из бельевой корзинки синюю рубашку-косоворотку.
Оськина рубашка!
Вдруг, отяжелев, она опустилась на табуретку и заплакала. Так сидела она, задумавшись, не вытирая слез и не слыша, как в комнату вошла Варя, в жакетке и в белом вязаном платке.
— Здравствуйте, тетя Веденеевна, — сказала она, снимая с головы платок.
Веденеевна не ответила. Варя подошла и заглянула ей в лицо.
— Опять плачете?!
— Оськина рубашка, вот!.. — Веденеевна, не договорив, махнула рукой.
Варя разделась и повесила жакетку на гвоздь.
— Давайте-ка я белье покатаю.
— А я что буду делать?
— Прилягте отдохнуть.
— В могиле наотдыхаюсь.
Ласково, но настойчиво, Варя отстранила ее и принялась за работу. Веденеевна встала рядом и начала расправлять белье. Так работали они молча, ловко и быстро.
— Я ведь тебя, Варя, в мыслях невесткой считала, — сказала, помолчав, Веденеевна. — Бывало гляжу на вас и думаю: поженятся — и буду я, старуха, внуков растить… А вышло… — она горестно развела руками.
— Смерть вышла. Только не убить всех нас, не убить! — почти крикнула Варя.
— Тише ты, Варя! Поплачь лучше, — не совсем понимая, в чем дело, но пугаясь прорвавшейся Вариной тоски, зашептала Веденеевна.
— Не могу, — Варя круто отвернулась. — Не могу!
За окном уже начинало темнеть. Печально и глухо доносился колокольный звон, — в соборе звонили к вечерне.
— Лампу пора зажигать, — сказала Веденеевна и, чиркнув спичку, зажгла над столом висячую лампу.
Варя задернула ситцевую розовую занавеску на одном из окон. В другом окошке раздался стук. Прислонив лицо к стеклу, Варя пыталась разглядеть, кто стучит.
— Сергей это! Бывало Оська с работы идет — и тоже стук в окошко. Убирай, Варя, белье.
Веденеевна открыла дверь, ведущую в кухню, и не успела выйти в сени, как за дверью раздался грохот и голос Сергея.
— Ну, натворил я дел! — сказал Сергей, входя в кухню. — Дрова рассыпал.
— Сейчас подберем. Сам-то не зашибся?
— Целехонек, — засмеялся Сергей. — Можно лампу?!
— Возьми. Да давай я уберу.
— Я сам, — и Сергей стал ловко выкидывать дрова из сеней в кухню.
Веденеевна начала складывать дрова у печки.
— Все до единого подобрал! — сказал Сергей, появляясь в дверях с охапкой дров. — А эти, сухие, на растопку пригодятся.
Взяв из-под печки колун, он ловко расколол поленья и стал срывать с них кору.
— Экий я нескладный, всю поленницу развалил!.. А, Варя, здравствуй! Я тебя и не заметил. Ты давно пришла? — поздоровался Сергей и прошел в комнату.
Веденеевна взяла самовар и вышла, притворив за собой дверь.
— Слушай, Сергей, — косясь в сторону кухни, взволнованно зашептала Варя, — нынче ночью у наборщика Сизова обыск был…
— Я знаю об этом.
— И к Илье, видно, нагрянут… Знамя у меня.
— Где ты его спрятала?
— На чердаке под стропилами.
— Надежно там?
— Ни при каком обыске не найдут.
— А, может быть, лучше у меня.
— Что ты! Из тюрьмы не успел выйти, — за тобой следят, а на меня никогда не подумают.
— Чего, Варя, не подумают? — спросила Веденеевна, появляясь на пороге.
— Да у нас на фабрике форточку сделать; дышать нечем… — не растерявшись, ответила Варя, переглянувшись с Сергеем.
— Разве они о простом народе заботу имеют? — усмехнулась Веденеевна. — Батюшки, в сенях кто-то топчется. Пойти взглянуть.
— Кто там? — распахнув дверь и чиркнув спичкой, крикнула Веденеевна.
— Это я, Аксинья Веденеевна, здравствуйте! Сергея у вас нет?
В комнату вошел худощавый высокий блондин в пенсне, в студенческой шинели, запорошенной снегом.
— Здесь, здесь, Федор Петрович. Снимайте шинельку. Сейчас самовар закипит.
И пока Федор Петрович с медлительной аккуратностью снимал с себя шинель, стряхивая снег с барашкового воротника, между Сергеем и Варей шел тот торопливый разговор, который необходимо было закончить до появления нового гостя.
— Федор Петрович говорит, что оружие нужно перепрятать…
— К чему? — поморщился Сергей. — Оно спрятано в надежном месте.
— О явочной квартире всё беспокоится.
— Квартира не раскрыта, — с легким раздражением на излишнюю мнительность студента сказал Сергей.
— Как начались эти повальные аресты, так он совсем голову потерял. — Варя хотела было еще что-то сказать, но вошел Федор Петрович и, потирая руки, стал здороваться с Сергеем и Варей.
— Батюшки, я ведь ставни забыла закрыть! — заохала Веденеевна. — Порежь-ка, Варюша, хлеб, пока я во двор выйду.
Накинув на голову шаль, Веденеевна вышла.
— Ты знаешь, Сергей, что нынче ночью еще одного арес…
Но Сергей не дал договорить студенту:
— Да, знаю.
— Не кажется ли тебе, Сергей, что мы восемнадцатого января сделали большую ошибку, что выступили с оружием в руках?
— А что, по-твоему, мы должны были позволить полицейским расстреливать демонстрацию?
— Не очень-то мы напугали полицию нашими двенадцатью «бульдожками», — усмехнулся Федор, вытащив портсигар и закурив.
— Значит, надо, чтобы в дальнейшем оружия было больше. После восемнадцатого января полиция прекрасно поняла, что у нас есть организованная сила, с которой приходится считаться. Нам необходимо вооружаться, — резко сказал Сергей.
— А митинги, демонстрации, ты на этом ставишь крест? — не желая сдаваться, попробовал возражать Федор.
Варя, стоя у окна, заплетала растрепавшуюся косу и, не сводя глаз с Федора, пыталась вспомнить, кого напоминает ей его красивый, с тонко очерченными ноздрями, словно принюхивающийся, профиль… Но так и не вспомнила.
— Митингами одними ничего не добьешься, но отказываться от них никто не думает, — попрежнему резко продолжал торопясь Сергей, потому что с минуты на минуту должна была вернуться Веденеевна. — Я считаю, что нам необходимо устроить митинг на могиле Осипа. На могилу нужно возложить мраморную плиту и на ней высечь: «Здесь лежит рабочий, наборщик 18-ти лет, Иосиф Егорович Кононов, убитый 18 января 1905 года». На могилу его будут приходить рабочие.
— Такой шум на реке, — верно, лед ломает, — сказала Веденеевна, сбрасывая с себя шаль. — Давайте чай пить.
— Что ж, это хорошо. Скоро, значит, ледоход будет, — многозначительно переглянувшись с Варей, сказал Сергей. — Самовар нести?
— Неси!
В ЖАНДАРМСКОМ УПРАВЛЕНИИ
Писарь жандармского управления Матвеев сидел за столом и торопливо разбирал бумаги, нет, нет, да поглядывая с беспокойством на круглые стенные часы. С минуты на минуту должен был явиться начальник губернского жандармского управления, полковник Романов.
— Словно сквозь землю провалилась, — удивлялся Матвеев, разыскивая среди бумаг и разных циркуляров нужную ему выписку. — Телеграмма на имя министра внутренних дел. Переписка по 1-му арестному отделению… — пробегая глазами бумажки, читал писарь, — о заключении под стражу. Не то!
От волнения он даже вспотел, и длинное лошадиное лицо его выражало недоумение и тревогу.
— Наконец-то! — облегченно вздохнул Матвеев, раскрыв папку с выведенной на ней каллиграфической надписью: «Дело номер 1066». — Она самая, — и Матвеев перечитал еще раз хорошо известную ему выписку на имя начальника губернского жандармского управления о том, что мещанин Костриков Сергей Миронович участвовал в сходке 2 февраля сего года, от показаний по настоящему делу отказался и что при обыске у него найдено много нелегальной литературы, которую Костриков и распространял.
— Так!.. Ясно… распространял! — бормотал писарь.
Прочитав и отложив в сторону выписку, Матвеев стал приводить в порядок бумаги, разбросанные по столу. В полуоткрытую дверь из коридора доносился приглушенный смех и голоса солдат, пришедших на смену караула. Неожиданно всё смолкло и за дверью раздался звон офицерских шпор. Вскочив из-за стола, Матвеев вытянулся и замер. В канцелярию, разговаривая на ходу, вошли двое: начальник жандармского управления полковник Романов и рядом с ним его брат — высокий франтоватый подпоручик в летнем, отлично сшитом офицерском кителе.
Подпоручик только что вернулся из Петербурга, куда он ездил с новым томским губернатором, бароном Нольде, в качестве его личного адъютанта.
— Обедали только у Кюба, — захлебываясь от восторга, хвастал подпоручик. — Несколько раз с их превосходительством были на скачках. Если бы ты видел, Жорж, какие лошади в Петербурге! — Прищелкнул пальцами адъютант. — Богини! Особенно рекордистка Жанетта.
— Да, это тебе не Томск, а столица российский империи — Санкт-Петербург, — не без зависти протянул полковник, входя с братом в свой кабинет.
В кабинете скоро разговор перешел на скучную и давно известную адъютанту тему. Полковник, по обыкновению, начал жаловаться на свою жизнь. Тяжело отвалившись на спинку мягкого кресла и по-бабьи сложив короткие пальцы на толстом животе, он, вздыхая, ворчал на жену, которая вечно ноет и требует на туалеты деньги, негодовал на двух сыновей гимназистов, которые растут болванами, и сердился на бестолковых, полуграмотных приставов, не умеющих коротко и складно писать рапорты.
— Понимаешь, устал, как сукин сын.
Подпоручик рассеянно слушал брата, следя глазами за неторопливо плывущими по голубому июльскому небу легкими облаками, думая о том, как хорошо бы сейчас поехать верхом за Басандайку. Он знал, что жалобы брата явно преувеличены, потому что два раза в год, на пасху и рождество, а также в дни тезоименитств брат получает наградные. Да купцы подарки носят!
— Ты, Жорж, сегодня просто раздражен, — сказал подпоручик, желая перевести разговор на другую тему. Романов закурил и, позвав писаря, велел ему дать бумаги для просмотра.
— Будешь раздражен, — сердито дернул себя полковник за ус, когда писарь, положив папку, вышел. — Полюбуйся, вот у меня есть дело некоего мешанина Кострикова. — Полковник раскрыл только что принесенную писарем папку. — Парню восемнадцать с половиной лет, а он уже два раза был арестован. Первый раз — за нелегальную сходку. При обыске на квартире были найдены прокламации. После двухмесячного заключения был освобожден. А ровно через год, — перелистав дело и уже начиная сердиться, повысил голос полковник, — по донесению полиции, сего Кострикова снова арестовали уже по 132-й статье. Но и здесь пришлось выпустить на поруки одного либерального идиота. Представь себе, внес за Кострикова двести рублей!
— Двести рублей? — переспросил подпоручик, и на его молодом, свежевыбритом лице промелькнула досада. — Лучше бы на эти деньги шампанского купить!
— А вот теперь, совсем недавно, получаю агентурное донесение, — и Романов наклонился над раскрытой папкой, — на Аполлинарьевской имеется тайная типография, в устройстве которой, я убежден, этот Костриков, конечно, принимал самое деятельное участие.
При этих словах полковник резко выпрямился и весьма выразительно поглядел на пустое, стоявшее перед ним кресло, словно на этом кресле уже сидел арестованный Костриков.
— Ну что прикажете мне делать, господин подпоручик, а? — Язвительно спросил Романов и, не дожидаясь ответа брата, захлопнув папку, ответил сам, отчеканивая каждое слово. — А-рр-рестую, а на Аполлинариевскую пошлю саперов. Из-под земли достанут эту типографию. А ты вот говоришь, — уже обычным тоном добавил Романов, — «не раздражайся, будь спокоен!» При моей работе невозможно быть спокойным. Каторжная работа!..
— Ну, арестуй и посади, — зевнул подпоручик.
— Да, уж будь уверен, — посажу! — разъярился полковник. — В такую одиночку посажу, что… — Романов, не договорив, потянулся за портсигаром.
— В какую, Поль? — оживился подпоручик и даже перестал смотреть в окно.
— Да-а… уж! — осклабился Романов, — не ложа Мариинского театра!
* * *
Спустя полгода после этого разговора, в один из морозных февральских дней, у подъезда Томского окружного суда остановилась тюремная карета, в которой обычно привозили подсудимых. Молоденький солдат-конвоир поспешно отворил дверцу кареты, и из нее вышел Сергей. Одетый в черный ватный пиджак и дешевые темные брюки, заправленные в русские сапоги, он выглядел обыкновенным рабочим-ремонтником. На какое-то мгновение Сергей задержался около кареты и с жадностью вдохнул морозный февральский воздух.
— Чего встал, проходи! — сердито закричал конвоир, испуганно оглядываясь по сторонам. От бывалых конвоиров он наслышался немало страшных историй о побегах арестованных перед самым судом.
Сопровождаемый солдатом, Сергей вошел в подъезд и стал подниматься по затоптанной каменной лестнице, думая о том, что вот сегодня, 14 февраля, в этом самом здании его будут судить как члена Томского комитета РСДРП и что, конечно, надеяться ему на снисхождение нечего.
«Предъявленная статья — серьезная, 129-я, — шагая со ступеньки на ступеньку думал Сергей. — Но ведь явных улик нет, а главное — при обыске не обнаружена типография». От этой мысли Сергей повеселел, представив себе, как, может быть, в это самое время Смирнов и Павел печатают на Аполлинарьевской листовки.
— Здесь, — сказал конвоир, толкнув ногой высокую дверь, обитую черной клеенкой. Они вошли в длинный широкий коридор суда с тяжелыми казенными скамьями вдоль стен.
* * *
Дело разбиралось при закрытых дверях. Выступать и говорить при такой обстановке Сергею не было смысла.
Суд закончился к вечеру. Приговор был суровый: три года заключения в крепости. «Но, принимая во внимание несовершеннолетний возраст подсудимого, — было сказано в приговоре, — срок наказания сократить до полутора лет», и, хотя следовало бы из сокращенного срока вычесть семь месяцев предварительной отсидки, суд этого не сделал.
— Уведите осужденного, — приказал товарищ прокурора конвоиру.
На Пастуховском заводе и на спичечной фабрике Кухтерина во всю мочь ревели фабричные гудки, возвещая окончание дневной смены, когда конвоиры вывели Сергея.
Засунув руки в карманы своего ватного пиджака, Сергей шагал под конвоем к выходу.
«Вот тебе и правосудие! Вот тебе и богиня Фемида! — с усмешкой думал Сергей. — Правильнее было бы сегодняшний процесс назвать не судопроизводством, а расправой при закрытых дверях… Какой же приговор вынесли Михаилу и Ефиму Решетову? Как бы это узнать?!»
— Чего задумался?! А ну, прибавь шагу! — прикрикнул на Сергея конвоир слева, пожилой усатый солдат с угрюмым и обветренным докрасна лицом.
Сергея вывели на улицу.
В наступающих зимних сумерках он увидел опять ту же, хорошо знакомую ему Соляную площадь.
Она была пустынна, тиха и сильно запорошена только что выпавшим снегом, среди которого особенно резко выделялась своей чернотой тюремная карета с железной решеткой на крошечном окошке.
— А морозец-то сегодня знатный! — донеслось откуда-то сбоку до Сергея.
— В самый раз, масляничный.
Сергей повернул голову и увидел двух прохожих, неторопливо, вразвалку, пересекавших площадь.
Заметив тюремную карету, они остановились.
— Чего встали? — закричал угрожающе на них один из конвоиров. — А ну, проходи!
Прохожие, не оглядываясь, припустили вдоль площади.
— Садись, — приказал Сергею пожилой конвоир.
Сергей шагнул на подножку.
Первая вечерняя звезда блеснула ему на прощанье, и дверца кареты захлопнулась.
Лошади разом взяли с места.
За решеткой окошка промелькнули темные фонари перед зданием суда и остались позади.
В КРЕПОСТИ
Карета въехала в крепость и остановилась. Конвоир распахнул дверцу, и пожилой плечистый смотритель грубо выкрикнул уже знакомую Сергею фразу: «Выходи, не задерживайся!»
Взяв у солдата препроводительные бумаги и мельком взглянув на них, смотритель велел отвести Сергея в политический корпус.
Тюремный двор освещался большим висячим фонарем, который был укреплен посередине двора на высоком столбе.
Разглядеть крепость Сергею не удалось. Он успел заметить только длинные ряды скупо освещенных тюремных окошек и высокие каменные стены, теряющиеся во мраке.
Камера Сергея находилась в третьем этаже.
Когда дверь захлопнулась за ним, Сергей отвернул фитиль висячей жестяной лампочки и огляделся вокруг.
Это была мрачная, зловонная одиночка с неизменной для одиночек «парашей». Четыре шага в длину, три — в ширину. Каменные, неоштукатуренные стены от сырости были в темных подтеках. Справа у стены стояла узкая койка, покрытая грубым солдатским одеялом, а неподалеку от нее — маленький деревянный стол и табуретка.
Восемнадцать месяцев! Пятьсот сорок дней просидеть здесь! Кто был до него в этой камере? Кто проводил здесь бессонные ночи, полные тоски о воле? Кто мечтал о побеге, глядя на это полукруглое крепостное окно, за которым желанная свобода, любимое дело и верные товарищи?
И сразу в памяти встала недавняя жизнь на свободе. Горячие споры, смелые песни, тревожная ночная работа в типографии на Аполлинарьевской и последнее подпольное собрание, накануне ареста.
Сергей взволнованно прошелся по камере.
Товарищи! Но и здесь он не один. Нужно узнать, кто его соседи по камере; ведь это политический корпус, — значит, за стеной могут оказаться его друзья-единомышленники.
Перестукиваться Сергей умел. Он прислушался; за дверью было тихо. В «глазок» за ним никто не наблюдал.
Но постучать Сергею не удалось. Неожиданно за стеной, справа, раздалось громкое всхлипывание и протяжный, мучительный стон. Сергей насторожился.
Стоны и плач стали громче, — человек за стеной рыдал. Сергей знал, что жандармы при допросах избивают политических, когда те отказываются давать показания. Видно, и с этим товарищем случилось такое. Избитого, измученного привезли его с допроса и бросили в камеру.
— Пощадите! Простите меня! Я жить хочу! — закричал вдруг отчаянно и хрипло заключенный.
Сергей оторопел. Кто же это так кричит в политическом корпусе? Не подсадили ли ему провокатора, который устраивает эту инсценировку?
Сергей подошел к стене и постучал:
— Что случилось? Кто вы? За что посажены?
Вместо ответа за стеной раздался вопль.
— Пощадите меня, простите!
Сергей постучал громче, думая, что сосед его не расслышал, но и на этот раз, кроме отчаянно исступленных криков, ничего не последовало.
Кто же он? Почему не отвечает?.. Не хочет… или не умеет перестукиваться? Не знает ли что-нибудь о нем сосед слева? И Сергей постучал к соседу.
— Это очень молодой парень, — выстукивал тот в ответ. — Кажется, железнодорожник, приговорен к повешению; об остальном договоритесь сами. В Петербург послано ходатайство о помиловании. Ответ еще не получен.
О себе сосед сообщил, что он сельский учитель и приговорен к трем годам крепости за распространение и хранение нелегальной литературы.
Сергей задумался, стоя у стены.
«Да, поговорить с парнем необходимо. Нельзя, чтобы человек так вел себя. Нельзя, чтобы он унижался перед жандармами, просил у них пощады. Видно, он попал в тюрьму впервые и растерялся. Нужно поддержать его. Но весь вопрос в том, как поговорить, когда заключенный не умеет перестукиваться. Как?»
И Сергей зашагал по камере взад и вперед, то медленно, словно после тяжелой болезни, то взволнованно, почти бегая.
Не попробовать ли крикнуть?. Пожалуй, не услышит, да и в тюрьме не позволяют кричать. Передать записку? Но с кем и как, да и где возьмешь бумагу с карандашом?… А что если провернуть в соединении между кирпичами сквозную дырку, хотя бы самую крохотную? Тогда можно было бы шепотом переговариваться с соседом. Осуществимо ли это?
Сергей внимательно осмотрел стену. Она была сложена, и видимо, недавно. Кирпичи соединены были между собой обыкновенной глиной.
Попытаться продолбить эту глину! Только надо поторапливаться, — каждый день приговор могут привести в исполнение.
И, словно в ответ на его мысли, за стеной раздалось невнятное бормотание и выкрики:
— Не надо! Не хочу!.. Пощадите!..
На улице уже стало светать. Через маленькое решетчатое окошко в камеру пробивался предутренний зимний свет. Огонек в жестяной лампочке мигал и почти гас. В камере запахло керосином. Сергей погасил лампочку. За окном становилось всё светлее и светлее. Начинался день, но Сергей не был ему рад: он был готов хоть сейчас ковырять стенку. Но днем тщательно следили стражники, и приходилось ждать вечера и даже ночи.
И когда настала ночь, Сергей поспешно и осторожно начал отковыривать ногтями глину между кирпичами, расположенными как раз на уровне его подушки.
«Так даже будет удобнее и безопаснее переговариваться», — подумал Сергей.
Но до разговоров было еще далеко. Работа шла так медленно! Ковырять глину ногтями было больно и неудобно.
«Нет, надо придумать что-нибудь другое, — пустыми руками ничего не добьешься».
Сергей вытер выступившую из-под сломанного ногтя кровь.
В шесть часов утра явился стражник убирать камеру. Сергей взглянул на метлу, торчавшую у него подмышкой, и усмехнулся про себя: «Вот он, выход!»
— Хорошо ли спалось, господин студент, на новом месте? — спросил стражник.
— Я не студент. А спалось отлично, — ответил Сергей.
— Ну вот, а все жалуются, что в тюрьме плохо.
Он взял «парашу» и, что-то бормоча себе под нос, вышел из камеры.
Сергей только этого и ждал; когда захлопнулась дверь и стихли шаги стражника, метла очутилась у Сергея в руках. Он сильным рывком выдернул из нее три толстых прута и спрятал их под тужуркой.
Вскоре явился стражник, поставил «парашу» на место и, ничего не подозревая, начал подметать камеру.
В этот вечер дело пошло быстрее, — работать прутом было удобнее.
С тихим шуршанием сыпалась по стене глина и падала на кровать, Сергей подбирал ее и прятал в карман.
Что же делал в это время смертник?
Два дня и две ночи за стеной не смолкали крики и стоны; осужденный ждал, что за ним придут с минуты на минуту. Он то вскакивал с постели и метался по камере, то забивался в углы, словно это могло его спасти. Но на третью ночь его болезненно обостренный слух уловил за стеной странный шорох.
Он приложил ухо к стене. Кто-то настойчиво и упорно царапался в его стену.
И в следующие ночи, после вечерней поверки, за стеной опять слышался шорох, который не смолкал до самого рассвета.
— Может быть, мне хотят устроить побег? Нет! Это невозможно!!. А вдруг?!
И, позабыв о том, что каждую минуту может войти стражник, он с исступлением и яростью начал царапать каменную стену. Скоро он обломал все ногти и, выбившись из сил, охваченный тупым отчаянием, повалился на койку и заснул. Заснул впервые за эти дни.
Осужденный проснулся на рассвете, оглянулся вокруг и вздрогнул, — из стены, как раз над его подушкой, торчал тонкий черный прутик. Может быть, ему померещилось? Но нет, прут шевелился. Кто-то проталкивал его из соседней камеры.
Осужденный дернул прут к себе и припал ухом к крохотной дырочке в стене. Он услышал шопот:
— Как ты сюда попал? Кто ты?
— Меня зовут Алексей. Я железнодорожник со станции Тайга.
Прижавшись губами к стене, задыхаясь от волнения, Алексей шопотом рассказал о том, как два месяца назад к ним на станцию приехала карательная экспедиция и стала пороть рабочих. Он стоял в толпе и смотрел, как расправляются с железнодорожниками. Когда очередь дошла до его дружка — кочегара Володьки, — Алексей не выдержал, бросился на жандармского офицера, наблюдавшего за поркой, и ударил его по лицу.
— Не так надо было действовать, Алексей! Не так! — вырвалось у Сергея.
— Так или не так, а вздернут меня за жандарма. Вздернут! И статью подобрали, чтоб обязательно повесить: за открытое противодействие военным властям… А ведь мне только… — он, не договорив, всхлипнул.
Сергей понял, что прежде всего Алексея нужно отвлечь от этих проклятых мыслей о смерти. Нужно сделать так, чтобы он перестал об этом думать.
— В тебе заговорило человеческое достоинство, возмутилась твоя гордость, когда ты ударил жандарма. А почему же ты теперь плачешь и умоляешь о пощаде жандармов?
— Умирать страшно. Повесят ведь, а мне только восемнадцать лет!
— Перестань! И не стыдно тебе? Рабочий парень, а ведешь себя, как трус.
Алексей молчал.
— Слушай, — снова заговорил Сергей, — не плачь, не надо. Где ты работал?
— В паровозном депо.
— Я на вашей станции бывал. У меня среди железнодорожников знакомые есть, — сказал Сергей и стал расспрашивать Алексея, строгое ли у них начальство, работает ли сейчас на станции помощник машиниста Гаврилов. А под конец задал вопрос, который особенно удивил Алексея: Сергей спросил, есть ли у них речка и любит ли Алексей купаться.
Вначале Алексей отвечал нехотя и безразлично, но потом понемногу разговорился. Этого только и хотелось Сергею, — отвлечь его от мрачных мыслей.
И этот разговор не пропал даром.
На следующую ночь Алексей первый постучал в стену.
— Не спишь, сосед? Ты уж прости. Как тебя звать-то? Я вчера не спросил.
Сергей ответил. И беседа продолжалась.
Они лежали, скорчившись на своих койках, прильнув лицами к отверстию в стене и натянув поверх голов одеяла. Они условились разговаривать по ночам, а днем отсыпаться.
— Теперь я вроде как и не один, — сказал на третью ночь Алексей. — А жаль, что мы с тобой раньше не познакомились. Я ведь тут с пятнадцатого февраля, а сегодня уже третье марта. Весна на носу.
И верно, приближение весны чувствовалось и тут, за стенами крепости. В камеры третьего этажа, выходившие на юг, по утрам заглядывало солнце; снег, лежавший пластами на подоконниках, потемнел. Он таял и с шорохом падал вниз. Маленький кусочек неба, что виднелся в тюремное окно, с каждым днем становился всё прозрачнее, голубее. Пушистые облака, проплывавшие в вышине, были по-весеннему легки и воздушны.
— Весна на дворе. Скоро реки вскроются. Тайга зазеленеет, — с тоской повторял Алексей.
— Да, ледоход скоро пойдет, — задумчиво сказал Сергей.
— Ледоход? — вдруг обозлился Алексей. — Не увижу я ледохода… Ничего не увижу.
— Ну, полно, Алеша!
— Тебе хорошо рассуждать! Не тебе болтаться в петле.
— Слушай, Алексей! Если и на мою шею накинут петлю, то всё равно я не буду просить у них пощады. Слышишь? Не буду. И клянусь тебе, я со своей дороги не сверну!..
— Ну и не свертывай! А я жить хочу! — Закричал Алексей. — Жить!. И замолчи!.. Замолчи!..
На оклики Сергея Алексей больше не отвечал.
Среди ночи Сергея разбудил осторожный стук в стену.
— Это я, — сказал Алексей. — У тебя память хорошая?
— Да, Алеша! А что? — ответил Сергей, не совсем понимая, в чем дело.
— Дай мне слово, что исполнишь мою просьбу.
— Исполню.
— Если меня… — он не договорил страшное для себя слово «повесят»… — так вот, как только тебя выпустят из крепости, поезжай сразу же на станцию Тайга, разыщи там мою мать и расскажи обо мне. Сделаешь?…
— Да, говори адрес.
— Запоминай.
Сергей за Алексеем повторил адрес.
— Может быть, у тебя товарищи есть? Говори, я и к ним зайду.
Алексей сказал адреса кочегара Володьки и кондуктора Никитина, что живет за зеленой водокачкой.
— Ну, спасибо Сергей, я тебе тоже слово даю: больше я кричать не буду, только не оставляй ты одного меня с этими проклятыми мыслями о смерти. И что они мне в голову лезут?!
Последние слова он сказал сквозь стиснутые зубы.
— Ты думаешь, я не знаю, как тебе тяжело? Знаю, Алексей, знаю, дорогой мой товарищ!
В эту ночь они больше не разговаривали. Но каждый, лежа на койке, думал о соседе.
На рассвете к Сергею постучал его сосед слева — старый учитель.
— Из Петербурга получен ответ. По тюрьме идут упорные слухи: сегодня ночью Алексея должны повесить, — выстукивал учитель.
Сергея ошеломило это известие, несмотря на то, что со дня на день он ожидал его и знал, что на помилование рассчитывать нечего.
«Повесят! Повесят Алексея!» — думал он, и эти мысли заставляли тоскливо сжиматься его сердце.
Сергей взволнованно ходил по камере.
«Сказать Алексею или нет?»
Он подошел к койке, присел на нее и прислонился ухом к отверстию.
За стеной раздавалось ровное и глубокое дыхание спящего Алексея.
«Нет, не скажу. А когда Алексея поведут, в последний раз я призову его к мужеству».
Алексей в это утро спал долго. А как проснулся, сразу же постучал Сергею:
— До чего я сон сейчас хороший видел! Будто в речке купаюсь. День такой жаркий, солнечный, а вода прохладная, чистая. И Володька со мной купается, на перегонки мы плывем. Люблю я купаться, — прямо из воды бы не вылезал, — засмеялся Алексей.
Как обычно, по тюремному распорядку, проходил день.
Сергей с тревогой и волнением отмечал, что вот уже кончился обед и уже за окном сгущаются сумерки, что скоро придет стражник и зажжет тусклую лампочку в камере, а там, смотришь, вечерняя поверка, — а там и…
Сергей старался не думать, но думал только об этом.
Он сидел у стола, обхватив руками голову, когда в конце коридора послышался звон офицерских шпор. Шаги остановились у дверей соседней камеры.
Приникнув ухом к отверстию в стене, Сергей прислушался. Больше всего он боялся, что раздадутся крики и вопли о пощаде. Но всё было тихо.
— Собирайся, — сказал чей-то грубый незнакомый голос.
В ответ не последовало ни звука.
Снова шаги. Вышли из камеры — и захлопнулась дверь.
Сергей бросился к «глазку»; сейчас он простится с Алексеем и поглядит на него. Шутка ли, двенадцать ночей по душам беседовали!
Но «глазок» был наглухо закрыт.
И в то время, когда он стоял, прижавшись вплотную к двери, случилось то, чего не ожидал никто из стражников, но о чем втайне думал Сергей.
Алексей, который спокойно, без сопротивления и без единого слова вышел из камеры, вдруг вырвался от стражников, подбежал к двери Сергея и, ударившись всем телом об нее, крикнул что было у него силы на весь тюремный коридор:
— Прощай, Сергей, прощай, дорогой товарищ! Иду умирать. Долой самодержавие! Да здравствует революция!
— Да здравствует революция! — закричал Сергей. — Мужайся, Алексей! Клянусь, мы победим!
На глазах у него навернулись слезы гордости за этого парня, который пошел на смерть смело, как и подобает революционеру.
Перепуганные стражники схватили Алексея и поволокли его по коридору. Они пытались закрыть ему рот, но он отбивался и кричал свое:
— Прощайте, дорогие товарищи! Да здравствует революция!
И, словно эхо, доносилось в ответ из каждой камеры:
— Да здравствует!!
Всеволод Азаров Сын народа
(Из поэмы)
Рис. С. Спицына
НА РОДИНЕ ТЕЛЬМАНА
Тут всё полно тишиною Бессмертной воинской славы Стоит над могилой героев Памятник величавый. Поднялся доблестный воин В бронзовой плащ-палатке, Хранят напряжение боя Лица суровые складки, Лучи зари освещают Красный мрамор и серый. И часто парк навещают Немецкие пионеры. Германской республики дети, В грядущем что стало бы с вами, Когда бы не воины эти, Что мир защитили сердцами! И песнь благодарная звонко Здесь в небо плывет голубое. Спасенного в битве ребенка К себе прижимает воин.ПЕСНЯ КРАСНОГО ВЕДДИНГА
Был Красный Веддинг далеко от нас. К проспекту Красных Зорь и Красной Пресне К нам приходили с запада не раз Антифашистов боевые песни. И если мы сегодня их споем, То снова испытаем чувство то же… Их пел когда-то в городе своем Десятилетний пионер Сережа, Любил он шум прибоя С детских лет. Стоял их домик на Морском канале, С заводом рядом, Где отец и дед С пологих стапелей суда спускали. Восторженный любитель голубей, Знаток событий в Гамбурге, в Шанхае, Он понимал, что звездных пять лучей — Планеты пять частей обозначают. Ведь мальчик под звездою был рожден, Которая для всех народов светит. Беззвучно, не по-детски плакал он, Когда убили Сакко и Ванцетти. О тех, чей гимн Интернационал, О тех, кто и под пыткой были немы, Он из газет рассказы собирал В свою тетрадку с мопровской эмблемой. Там братья сквозь решеток переплет Привет платком нам посылали красным! Поздней, когда Сережа подрастет, Он школьную тетрадку развернет, Охваченный всё тем же чувством властным. Принес однажды в школу почтальон Листок, что был, казалось, обожжен Огнем боев. Своим рукопожатьем За помощь нас благодарили братья. А месяцем позднее, в тот же год, Из Гамбурга пришел к нам пароход. Вплотную к морю, вдоль всего причала, Людей советских множество встречало Того, кто к миру звал страну свою. В толпе, средь стариков и молодежи, Под пионерским знаменем в строю Стоял от счастья замерший Сережа. Привычно человек шагнул на сходни, Ротфронтовским приветом руку поднял. Открытое лицо, спокойный взгляд, Он улыбался. Он опять с друзьями. Германии рабочей делегат Гордился нами, Радовался с нами. Весь порт морскими флагами расцвел В честь этой долгожданной, братской встречи, И вот к ребятам Тельман подошел, Сереже руки положил на плечи. Увидел мальчик светлые глаза, Открытый воротник рубашки белой. «Расти большой! — По-русски гость сказал, — У нас с тобою в жизни много дела. Когда-нибудь и ты приедешь к нам, Желанный гость Германии свободной, Пускай тебе, дружок мой, будет там Так хорошо, Как мне у вас сегодня!»ГОРИТ РЕЙХСТАГ (1933 год)
В ту зиму, в январе, собрал Сережа Детекторный приемник самодельный… Скороговоркой, а потом раздельно, Передавал эфир одно и то же, Куда бы ты ни повернул рычаг, Слова — «В Берлине подожжен рейхстаг!» ………………………………………….. «Немецкому народу» на фронтоне Чернеет надпись. О каком народе Тут стены говорят?! О том, что продан, О том, кого в окопы вновь погонят. Горит рейхстаг! Враг в собственной стране! И вот уже трибуна вся в огне, С которой Клара Цеткин говорила. Обугленные рухнули стропила. И заглянула гибель тем в глаза. Кто отдал коммунистам голоса. И бюллетеней белых миллионы Разорваны на мелкие клочки. Оцеплены рабочие районы И двери с петель рвут штурмовики!..НА ПОСТУ
О, если б нам с тобой, Сережа, Прийти, чтобы друзьям помочь!.. Спешит своим путем прохожий. Он видит, как светлеет ночь, Несет тайком ведерко клея И пачку свернутых листов. На них, как будто кровь алея, Пылают буквы гневных слов. «НАЦИ — ПАРТИЯ РЕВАНША. МЫ — КОММУНИСТЫ — ПАРТИЯ МИРА!» Прежде чем солнце встало, раньше Чем пробудились рабочих квартиры, Каждая заговорила стена, Побежала надпись вдоль здания: «ГИТЛЕР — ЭТО ВОЙНА, А ВОЙНА ПОГУБИТ ГЕРМАНИЮ!» Нес человек ведерко клея И драгоценные листы бумаги, И на стенах, Как утренний свет алея, Маленькие возникали флаги. Оглянулся, — Нет, не следят. О доме Вспомнил, Он мать повидать не вправе… Под шагами тяжелыми скрипнул гравий. — Хальт! — За ним побежали вдогонку, В спину выстрел ударил. Он упал. Кровь, стекая струею тонкой, Чернела на тротуаре. А завтра по той же аллее — Серой, От дождя весеннего скользкой — Шел другой человек с ведерком клея, Рядовой непобедимого войска.ОН С НАРОДОМ
За небылицей Плели небылицу: «Тельман давно перешел границу». Почему же в кварталах всех, На вокзалах Сыщикам роздан его портрет?! Нет! В рабочих квартирах, в цехах, в котельных Партии слово у людей на устах. И, как прежде, боевая подпись — Тельман На влажных от свежей краски листах. Он с народом, Он поста не покинул! Но предатель главную явку назвал. В Шарлоттенбурге, районе Берлина, Эсесовцы оцепили квартал. Почему, как на поле сражения знамя, Вождя не смог ты сберечь, народ?! Перестуками в стены тюремных камер Об аресте Тельмана весть идет. Соратникам верным, в подполье скрытым, Стойкость передает он свою. В одиночной камере Моабита Тельман — в строю! Твердость его Фашистов бесит. Заключенный Не страшится угроз. Изо дня в день, из месяца в месяц Безостановочно идет допрос. Несут с фальшивками вперемешку Протоколы съездов, речей стенограммы. Не выносят фашисты его насмешки, Слова, как пощечина, бьющего прямо. С глазами Тельмана вровень — Пола промозглый и липкий камень. Захлебываясь сгустками крови, Голову он прикрывает руками. Удар в висок… Он теряет сознанье. ……………………………… Снова продолжают дознанье. Следователь один Сменяет другого. Из-за дыма табачного меркнет свет. — Откажитесь! Признайтесь! — Но снова и снова Звучит непоколебимое: «Нет!»ВОСПОМИНАНИЯ О БЛИЗКИХ
Германия знать о нем не должна. Запретно имени упоминанье. Изредка только жена С Тельманом получает свиданье. Она у врагов на виду Под угрозою расправы близкой. Письма, что от Тельмана к жене идут, Ей дают в гестапо читать под расписку; В них нет ни щемящего горя, ни жалоб, Нет ничего, что чужому сказало б, Как он страдает без дружбы, без света В долгую зиму, в тюремное лето. Сквозь решетку видя неба клочок, — Вспоминает Тельман простор дорог. ………………………………. В доме лесника тишина. Утро ясное, день воскресный, До того, как проснулись дочь и жена, Тельман встал, напевая песню. Он умылся водой ледяной Из бадьи широкой. Тельман шел. Всё дышало весной, Осветился лес на востоке. В ярком солнце снег голубел, Набухали на ветках почки. Так он шел и шутливую песню пел, Собирая подснежники дочке. Возвращаться пора сейчас. Солнцем залита вся опушка. Осторожно он дверь приоткрыл. Восемь раз Прокричала в часах кукушка. Слышен колокола удар. Улыбаясь, Тельман хлопочет, Раздувает маленький самовар — Подарок тульских рабочих. Тельман с ним возиться любил, — Слушал, как закипал он, звонок… — Встаньте! — близких он тормошил, День какой! — И дочка спросонок Руки тянет к нему сейчас: — Хорошо, что ты с нами, Тедди. Так уже бывало не раз — Обещаешь, а всё не едешь. …Это утро в сторожке лесной Оттого ему памятным стало, Что вот так собираться семьей Доводилось Тельману мало!ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ!
В тот памятный и грозный час, когда Шли самолеты с черными крестами, Обрушивая бомбовой удар, И по колосьям побежало пламя, Сергей, Советской Армии солдат, — Принявший боя первого крещенье, Тех вспомнил, кто с фашистами в сраженье Вступили много лет тому назад. Он Тельмана улыбку не забыл И крепкое его рукопожатье. В фашистских тюрьмах, в глубине могил Погребены родные наши братья. Он, юный пионер, им письма слал, Он, комсомолец, полюбил их песни… Вот показались Танки в мелколесьи. Он своего врага в лицо узнал! И это человечества был враг, Фашист, что в тридцать третьем сжег рейхстаг, Кому американские магнаты Давали для войны моторы, сталь. Кто, оглушив Европу криком «хайль», Ворвался к нам под грохот автоматов… Стояли насмерть Родины сыны! Сергей был ранен в первый день войны. Сгустилась ночь. Его спасли тогда Две комсомолки из погранрайона. На поле смерти, в девичьих ладонях Была живая Родины вода. Тускнеет взгляд. Сестра, водою брызни, Верни его к борьбе за счастье жизни, В ряды неисчислимые верни. Ждет впереди нас долгий путь, товарищ, Боль поражений, горький чад пожарищ, Смерть близких… Но за эту тьму взгляни, — Победы небывалые огни Увидишь ты, — хоть взорван Днепрогэс И Украины города ослепли, И в черных дымах синева небес, И золотой пшеницы никнут стебли… В зенитных вспышках небо над Москвой, В кольце блокады город над Невою, Панфиловцы еще не вышли в бой, И подвиг свой еще не совершила Зоя, Но всё ж победы светятся огни… А тот, о ком ты помнил в эти дни, Кого живым враги похоронили, Кто заточен в тюрьме девятый год, В безмолвной, бронированной могиле, Он верит, он твоей победы ждет. Ему приносят карту наступленья. На клинья и на стрелы смотрит пленник. «Что ж, Тельман, Вы теперь сдаетесь?» — Нет!ОН ВИДЕЛ ТЕЛЬМАНА
Кончается победный сорок третий. Мы в сорок первом отступали здесь. Луна сквозь ветви, как прожектор, светит, Передвиженьем скрытным полон лес. И словно на огромном полустанке, Как поезда́, Ждут отправленья танки. Отчетливо всё видно из окошка. В сторожке темной венчик света слаб, — Мигает парафиновая плошка. Здесь был еще вчера немецкий штаб. Сергей стал переводчиком военным. Прошли десятки пленных перед ним, — Те, кто в своих признаньях откровенны, И те, кто поражен безумьем злым. Ночь на исходе. Тени стали резче. Прилечь бы. Вдруг звонок средь тишины. — К нам только что доставлен перебежчик. Его вы срочно допросить должны. Своими ранен в спину. Он в санбате, — Горит в глубоком небе свет зари. Худой, костлявый немец на кровати, Приподнимаясь, Тихо говорит, Не пряча глаз: «Herr Oberleutenant! Я Тельмана так видел, словно вас, Полмесяца назад. Служил я прежде в Бауценской тюрьме; Перед отправкою на фронт проститься К товарищу пришел, сказал он мне: — Здесь Тельман! — Жив!? — Ты можешь убедиться. Он разрешил, хоть многим рисковал. — Войди. — Я на пороге молча встал. Теперь об этой встрече удивительной Скажу вам, ничего не утая. Я не поверил: „Тельман — вы, действительно?“ Тогда он улыбнулся: „Это я“. О самом важном для себя спросил я. На мой вопрос он дал ответ прямой: — Германии не одолеть Россию, Я знаю — победит советский строй! Я верю, что народ наш будет в дружбе С народами страны советской жить. Сюда идут. Расстаться было нужно, Но главное мне удалось спросить. Сказал мне Тельман, — к нам идет спасенье, Он сохраняет веру в свой народ». ……………………………………… Сергей везет в штаб фронта донесенье. Шофер дает машине полный ход. Дивизиям дорогу пробивая, Громады танков двинулись в прорыв… Полковник донесение читает. — Товарищ маршал! Тельман жив! В своей надежде и в своей печали Всегда он с нами, гнету вопреки. … Лежат пилота руки на штурвале. Орудия БМ загрохотали, Идут на запад русские полки!БЕССМЕРТИЕ
Оживают Нева, Неман и Висла, Ломают лед упрямые воды. С армиями шагает на приступ Весна сорок четвертого года. Мы к тебе приближаемся, Тельман, — слышишь? Громим бастионы Пруссии Восточной. …Из канцелярии Гиммлера вышел Приказ совершенно секретный, срочный. Тельмана вталкивают в машину. Железные задвигают дверцы. В заходящем солнце — холмы, долины Страны, которой он отдал сердце. Для нее, он верит, — придет однажды Избавление от фашистского ада… Надпись «Свое получает каждый» Выкована на Бухенвальда[1] ограде. Сколько тут замучено братьев! Подвиги их враги не скроют. «Каждому — свое!» Палачам — проклятье, Бессмертье народной борьбы — героям. Пулеметы на лагерь смотрят с вышек. Окруженный врагами, Тельман вышел. Каждый метр этой дороги Вмятинами Последних шагов отмечен. Огонь опалил лицо на пороге, Страшным жаром Дохнули печи. Я лицо человека вижу, Гневные глаза голубые. Тельмана слова последние слышу Через стены глухие. Испепелить его волю властную Пламя не в состоянии. И народы мира слышат — «Да здравствует Свободная Германия!»ИЗБАВЛЕНИЕ
Альпийскими фиалками, травою Лужайка заросла в кругу дубов. Поодаль, отдыхая после боя, Дремал, не слыша птичьих голосов, Солдат советский под высоким небом. Горячею рукой коснулся век Закатный луч. Нет, воин спящим не был, Сергей увидел, — он уснул навек. Подостлана друзьями плащ-палатка, На гимнастерке сгусток кровяной И над колеблемою ветром прядкой Подшлемник темносерый шерстяной. Бойца в земле немецкой погребая, В конце войны, в последний час пути, Мы знали, Есть Германия другая, И мы обязаны ее спасти. Из-под эсесовского автомата, От смерти, что осталась позади, — Она бежала к нам В лохмотьях полосатых, С петлей на горле, С пулями в груди. Был этот путь последний Самым страшным, — Смерть обманув, Превозмогая боль, Дойти, увидеть звезды на фуражках, Родное имя крикнуть, как пароль. Ночное небо расчертили пули. Светла Советской Армии звезда. Знакомые гудки! То потянули В Берлин из Сталинграда поезда. Они бегут расшитой колеею. Победоносным силам нет числа. Последнее сопротивленье злое — Кирпичной, темнокрасной пыли мгла. Встает рейхстаг, зажженный в тридцать третьем. По логову врагов удар! удар! А на окраине голодным детям Суп разливает в миски кашевар. Ты помнишь, Под Берлином, в дымке рощиц В незабываемый, счастливый час, Мы услыхали от регулировщиц — С победой Сталин поздравляет нас. И звездный небосвод над нами вырос, Весь обращенный к лучшим временам. И полнотою мира, мира, мира Пришло заслуженное счастье к нам. Победные ракеты стали рваться. Нарушив затемненье, вспыхнул свет. К нам гарнизон фашистский шел сдаваться. Он знал, — в сопротивленье смысла нет. И в «Оппель-адмирале», грязно-сером, Угрюмо сгорбясь, ехал генерал. Ползли бессильно «тигры» и «пантеры», Комбат наш пленных сотнями считал. Нам среди них Встречались и такие, Что говорили: «Я — рабочий, Демократ». Но отражались в их глазах — Варшава, Киев, Кровь Лидице, горящий Сталинград. Толпою шли немецкие солдаты. Один за каждой сотней конвоир. Умолкли орудийные раскаты. И реяло над нами: «Миру — мир!»ПОСЛЕСЛОВИЕ
Германская республика, живи, Цвети и землю убирай снопами! С тобой народы говорят словами Великодушной дружбы и любви. Германия, мы помним твой позор: Костры из книг, зловещие парады, Убийства, пытки, мракобесья вздор, Накатанные смертью автострады. Пусть вольно зеленеет деревцо, Обрызганное утренней росою, Пусть малыша счастливое лицо Не затемнится тенью грозовою. И покрывают заросли плюща Разбитых стен угрюмые изломы, И ласточки взлетают, трепеща, Над маленьким, надежно скрытым домом. Здесь жизнь, уничтоженью вопреки, В победном поднимается цветенье. Сергей, ты не забыл тепло руки И Тельмана запомнил приглашенье: «Когда-нибудь и ты приедешь к нам, Желанный гость Германии свободной, — Пускай тебе, дружок мой, будет там Так хорошо, как мне у вас сегодня!» С Сергеем мы идем в толпе друзей. Но что это?! Зачем все расступились? И почему здесь вдоль аллеи всей Торжественно ряды остановились?! Две женщины проходят меж рядов — Жена и дочь. И над толпой раздельно Подхватывают сотни голосов Родное имя: Тельман! Тельман! Тельман! И о едином фронте старый марш Звучит над ними молодо и громко, И Тельман, дорогой товарищ наш, Напутственное слово шлет потомкам. Для тех, в кого он верил, Ждал все годы, Завет передает теперь он свой: Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой![2]С. Островских Начало дружбы
Из рассказов офицера, участника войны с Японией
Рис. С. Спицына
Я возвращался из Харбина на станцию Хэйдаохэцзы, где в то время стоял наш полк. Пассажирские поезда тогда еще не ходили по этой линии. Ехать пришлось на товарном поезде, который шел под нашей охраной. Вагоны почти доверху были забиты японским военным обмундированием, мешками с рисом, желтым тростниковым сахаром и большими жестяными банками с галетами. Всё это добро, погруженное в Харбине, на воинских складах Квантунской армии, теперь направлялось в Муданьцзян для военнопленных японских солдат и офицеров.
Со мной ехал рядовой Максим Зайчиков, числившийся в моем взводе на должности подносчика патронов. В командировки я иногда брал его с собой в качестве ординарца. Это был девятнадцатилетний паренек, колхозник из Воронежской области. Я полюбил его за хозяйственность и доверял любое дело, зная, что он сделает его, если и нескоро, как другие, то добросовестно, так, что переделывать не придется.
В вагоне, где мы устроились, лежали тюки японских форменных шуб, крытых тонким зеленым брезентом, с воротниками из собачьего меха, такие же шапки-треухи и еще какие-то предметы солдатского обмундирования. Всё это было сильно пересыпано нафталином, и от его запаха у меня закружилась голова. Зайчиков полез наверх, выдернул две шубы из тюка, старательно вытряхнул их и устроил мне постель.
— Отдыхайте, товарищ старший лейтенант, — предложил он, легко спрыгнув сверху. — Мягко, благодать!
— А ты?
— Сперва чайку раздобуду, а потом тоже завалюсь. Охрана у поезда крепкая, бояться нечего. Вот только сахарок вышел, но ничего, добудем.
Пить чай мне не хотелось. Я сразу же залез наверх, но уснул не скоро.
Со станции Харбин поезд тронулся часов в шесть. На первой же остановке Зайчиков познакомился с другими солдатами, и в вагоне удивительно быстро появились в изобилии галеты, сахар и даже мятные лепешки, похожие на пятнадцатикопеечную монету. Потом он сбегал к паровозу за кипятком и, расстелив на тюке газету, расположился пить чай.
Пронзительные гудки сновавших по путям маневровых паровозов не давали мне заснуть. Я лежал с открытыми глазами.
— Эй, парень, ты куда собрался ехать-то? — спросил Зайчиков у кого-то, высунув голову в полуоткрытую дверь вагона.
— Хандохеза[3] надо ходи, — услышал я в ответ незнакомый голос.
— Хандохеза, говоришь?
— Хандохеза, домой. Скоро надо ходи.
Приподняв голову, я увидел китайского юношу лет шестнадцати-семнадцати, босого, запыленного и черномазого, словно кочегар. Был он тощий, худой, и от этого казался высоким и длинношеим. На плечах его висела рваная куртка с четырьмя деревянными пуговицами, голову покрывала соломенная шляпа, похожая на медный таз, опрокинутый вверх дном.
В те дни, почувствовав настоящую человеческую свободу, китайцы — и молодежь и старики, с семьями и в одиночку — возвращались в свои края, к родным фанзам, от которых уходили раньше в поисках пропитания, а подчас и просто убегали куда глаза глядят от непосильных налогов и лихоимства помещиков. Люди спешили домой, кто как мог: одни шли по шпалам, другие, с небогатым скарбом за плечами, если разрешала охрана, ехали на товарных поездах, облепив крыши вагонов, тендера паровозов. Поток людей казался бесконечным.
— Не знаю, что с тобой делать, парень. Я-то здесь не хозяин, — проговорил Зайчиков. — Эвон сколько вас! Всех не увезешь. Подождал бы, пока пассажирские пойдут…
— Хандохеза надо ходи, скоро ходи, — твердил юноша.
— Ну, если до Хандохезы. — Зайчиков повернулся ко мне, видимо, хотел спросить, можно ли довезти незнакомого человека, но вспомнил, что я сплю, не стал будить и решил сам: — Раз такое дело, садись, доедешь.
Парень забрался в вагон. Зайчиков осмотрел его с ног до головы.
— Ты кто такой будешь? Удостоверение личности какое-нибудь имеешь при себе?
— Моя шибко плохо русский язык понимай, — растерянно закрутил головой юноша.
— Удостоверение, говорю, личности твоей есть у тебя? Ну, вот такой документ, — он вынул из кармана свою солдатскую книжку, показал и снова положил.
Парень не без труда понял, о чем идет речь, порылся в подкладке куртки, вынул какую-то засаленную бумажонку и подал ему. Зайчиков долго вертел ее в руках, рассматривая иероглифы, в которых совершенно ничего не смыслил, и для вида, будто бы читая ее, пошевелил губами и вернул обладателю, недовольно пробурчав:
— Китайская грамота!
Юноша свернул бумажку, спрятал ее на прежнее место и решил, что на этом проверка документов закончена. Зайчиков помолчал немного и снова принялся за свое:
— Нет, ты всё-таки скажи мне прямо: кто ты такой есть, куда ездил и зачем?
При помощи жестов, мимики и весьма небогатого запаса русских слов юноша начал толковать Зайчикову о том, что он был против своей воли взят японцами на строительство оборонительных сооружений, которые создавались в то время на подступах к Харбину. Работал там вместе с другими, такими же, как он, дней шесть, а позднее, когда услышал, что советские войска заняли его станцию, бежал с работ, несколько дней голодный бродил по лесам, а теперь вот почувствовал безопасность и решил пробираться домой, к матери.
— Эвон какая история. Значит, японцы силой заставляли вас рыть для них окопы? А что толку? Окопы — для нас не преграда. Понял? — Зайчиков покровительственно потрепал парня по плечу и спросил: — Как звать-то тебя?
— Янь Тяо.
— Янь, по-нашему значит Яков. А меня — Максим.
— Мак-сим! — воскликнул юноша.
— Верно. Будем теперь знакомы!
Сверху я отчетливо видел их лица. Китаец не вызвал у меня никаких подозрений, и я не стал вмешиваться, а только прислушивался: о чем пойдет разговор дальше.
Поезд стоял долго. Зайчиков сходил к паровозу за кипятком, у кого-то попутно раздобыл вторую кружку и предложил парню вместе с ним чаевничать.
— Только вот что, Яков, тебе надо первым долгом умыться, а то черный ты, как арап, — Зайчиков вынул из своего вещевого мешка мыло, полотенце и начал поливать ему на руки.
Вытерев лицо мягким полотенцем, парень торжественно произнес:
— Хо!..[4]
— Конечно, хо, еще бы не хо. Небось, целую неделю не мылся.
Сели пить чай. Зайчиков разложил на газете добытую провизию, налил кипятку в кружки и спохватился:
— Эх, мать честная, заварить забыл! А чаек-то у меня, брат, есть. Чаек-то китайский, вашенского происхождения. Дух от него, скажу тебе, ароматный, — Зайчиков для эффекта прищелкнул языком.
Не знаю, как понимал Янь Тяо все эти рассуждения Зайчикова. Но, видимо, как-то понимал и, кажется, понимал неплохо. Он согласно кивал головой, улыбался и хохотал вместе с Зайчиковым.
Чай пили долго, всласть. И сахару и галет было вдосталь.
— Ты вот скажи мне, Яков, — Зайчиков подвинул ему мятные лепешки, одну положил себе на язык: — Как и с чего начнете вы теперь строить у себя новую жизнь? Вот какой главный вопрос встал для вас в текущий момент.
Парень смотрел на него неморгающими глазами и напряженно пытался понять хотя бы несколько слов, чтобы уловить главную мысль.
— Вижу, плохо ты понимаешь, о чем я толкую, — он не очень огорчился и неторопливо начал рассказывать о наших колхозах, о том, кого следует, а кого не следует принимать в них.
«Как далеко хватил!» — подумал я и хотел остановить Зайчикова, сказать, что для китайцев пока еще не это главное, что они еще не закончили гражданскую войну, но умолчал. Убежденность и искренность, звучавшая в словах Зайчикова, понравилась мне, и я не решился перебивать его. Да и самому ему, судя по тому, как подбирал слова, как произносил их, тоже нравилась новая роль учителя. Он помолчал и посоветовал:
— А тебе, брат Яков, надо подаваться к самому Мао Цзе-дуну.
Китаец оживился, глаза его заблестели.
— Сталин, Мао — вот! — Он крепко соединил пальцы рук, попытался с усилием разорвать их, но не смог и радостно воскликнул: «Шибко шанго!»
Зайчиков опять поразмыслил немного и снова предложил:
— Подавайся к Мао Цзе-дуну — верный путь, не ошибешься. Поймаешь где-нибудь этого Чан Кай-ши, бах-бах, его — и делу конец, а мы японцев поможем вам вытурить. Тогда здорово заживете!
— Чан Кай-ши — хунхуза. Его язык надо мало-мало резать, — он показал свой язык и сделал рукой резкий жест, напоминающий удар ножа.
— Что язык? Голову ему надо снести, дьяволу рогатому.
В поле начинало темнеть. Полотно дороги было недавно перешито, поэтому поезд шел медленно, осторожно, как пешеход по скользкому пути. Колеса вагонов ритмично и неторопливо постукивали. В полуоткрытой двери проплывали темные очертания деревьев, где-то далеко мигали желтые огоньки маленьких китайских деревушек.
На одном из разъездов наш вагон остановился против станционного фонаря. Свет от фонаря падал прямо в дверь. Это снова дало мне возможность хорошо видеть лица и фигуры моих попутчиков. Я заметил, что Янь Тяо часто с уважением и нескрываемым интересом посматривает на автомат Зайчикова. Заметил это и Зайчиков.
— Что, приглянулась тебе эта штука? — спросил он, кивнув на автомат, лежавший рядом с ним на тюке шуб.
— Хо! — Юноша показал большой палец.
— То-то, брат! — многозначительно подмигнул Зайчиков. — Ты стрелять умеешь?
— Мию,[5] — замотал отрицательно головой парень.
— Хочешь, научу? — спросил Зайчиков и, взяв автомат, начал рассказывать, как зарядить оружие, как держать его, как прицеливаться. — Сперва, значит, надо отвести на себя затвор вот за эту рукоятку, потом прицелиться, затаить дыхание и плавно нажимать пальцем вот на эту собачку. Понял?
Янь Тяо кивал головой.
— Значит, так, нажал на собачку и…
— На шабашку, — быстро повторил Янь Тяо.
— Не на шабашку, а на собачку, — поучал Зайчиков.
Я молча слушал этот необычный урок, но тут не выдержал и засмеялся.
— Где ты, Зайчиков, нашел у автомата собачку? Рассказывай человеку толком, без всяких «собачек».
— Вы еще не спите? — огорчился Зайчиков и начал оправдываться: — Я ведь это для того, чтобы он сразу понял, чтобы доходчивее, простым языком излагаю…
Однако потом мне пришлось пожалеть, что вмешался: они умолкли и надолго.
Поезд опять тронулся. Под мерный, убаюкивающий стук колес я заснул. И уже больше не знаю, о чем они говорили, что еще Зайчиков рассказывал своему попутчику. Перед станцией Хэйдаохэцзы на каком-то разъезде я проснулся и удивился: они сидели на прежних местах и, должно быть, поменявшись мундштуками, потому что знаменитый Зайчиковский мундштук, набранный из разноцветных пластинок, похожий на рязанский чулок, был во рту Янь Тяо. Табачный дым густым сизым облаком плавал под потолком вагона.
— А что тебе дать на ноги, — ума не приложу. В нашем вагоне обувки нет, — услышал я озабоченный голос Зайчикова. — Ты вот что, посиди пока здесь, а я схожу к ребятам из охраны, может, найдут какие-нибудь ботинки.
Вскинув автомат на плечо, Зайчиков выпрыгнул из вагона и направился вдоль состава. Янь Тяо сидел на тюке и внимательно рассматривал свою новую одежду: Зайчиков одел его в новый солдатский китель защитного цвета и такие же брюки. Рядом с ним лежали приготовленные шуба с собачьим воротником и большая мохнатая шапка. Через несколько минут Зайчиков вернулся с парой новых резиновых тапочек.
— Бери, надевай. Лучше ничего не нашел, — он бросил Янь Тяо тапочки и захохотал неудержимым смехом: — От долгов убегать хороши!
Юноша тоже весело засмеялся и принялся натягивать тапочки.
— Носи себе на здоровье. Они, самураи-то, побольше добра хапнули у вас. И у нас тоже в двадцать втором году, когда удирали от партизан, вывезли одного серебра чуть ли не целый пароход, — оправдывая свою щедрость, заявил Зайчиков.
Я вспомнил, что о вывезенных японцами серебре и других ценностях с Советского Дальнего Востока рассказывал на политзанятиях солдатам очень давно, и удивился, что он до сих пор не забыл об этом. На уроках политзанятий Зайчиков, отвечая на вопросы, закатывал глаза в потолок, мучительно и долго вспоминал и отвечал односложно тремя-четырьмя словами и больше, чем на посредственную оценку, никогда не вытягивал. Теперь же, слушая его, мне подумалось, что иногда ему можно было, пожалуй, ставить более высокую оценку, что я зря скупился.
На свою станцию приехали утром. Паровоз здесь набирал воду, и состав должен был простоять долго. Я не спешил вылезать из нагретой постели, да и, признаться, хотелось услышать, что на прощание скажет Зайчиков своему новому другу.
— Ну, вот и приехали, — проговорил он, обращаясь к нему. — Давай забирай свое обмундирование и валяй к дому. Мать наверняка тебя не узнает, подумает, что какой-то бродячий японец завалился. Вот возьми ей от меня подарок. А это тебе, тоже забери, пригодится.
Зайчиков положил в карман товарища коробку мятных лепешек и, завернув в газету три кулька галет, тоже передал ему. Все его действия я попрежнему хорошо видел сверху. Но о какой еще новой дороге говорил Зайчиков, — я не мог понять. Они, вероятно, о чем-то договорились, когда я спал.
— Ну, до свидания, Яков! — Зайчиков крепко стиснул руку товарища.
В ответ Янь Тяо что-то горячо проговорил по-своему и тепло, по-приятельски посмотрел в лицо Зайчикову. Выпрыгнув из вагона, он направился к перрону.
— Смотри, Яков, не забывай уговор! — крикнул Зайчиков.
В ответ донеслось уже с перрона: «Сулян тончжу, хо!»[6]
Что всё это значило, что был за уговор, — я не мог догадаться. Когда Янь Тяо исчез за станционными постройками, Зайчиков предложил мне вставать. И вскоре мы направились в расположение своей части.
* * *
Вначале я подумал, что дружеские отношения, возникшие в пути между Янь Тяо и Максимом Зайчиковым, скоро оборвутся: в полку Зайчикову будет не до этого. Однако всё вышло не так, как я предполагал. В первый же выходной день после поездки в Харбин Зайчиков обратился ко мне с просьбой дать ему увольнительную.
— Куда? — поинтересовался я.
— Схожу в гости к другу, он живет тут, в фанзе, недалеко.
Выправили увольнительную записку. Зайчиков вскинул на плечо трофейный японский карабин, который сам добыл в бою и очень гордился этим, набил карманы патронами и направился к своему приятелю.
— Карабин зачем?
— На охоту сходим, — ответил он.
Вернулся Зайчиков часов через пять, вечером. По всему было заметно, что друга своего он нашел и время провели хорошо.
— Как охота, убили какого-нибудь зверишку?
— Нет, так только постреляли, — неопределенно сказал он, и по тону ответа я понял, что он что-то недоговорил, умолчал.
На следующий день в обеденный перерыв я застал Зайчикова в стороне от городка за пристрелкой своего трофейного карабина.
— Это зачем еще понадобилось? Сдай карабин в артснабжение, — резко проговорил я и направился в лагерь. Зайчиков догнал меня на полпути.
— Домой я его не повезу, он мне не нужен.
— Зачем же пристреливаешь?
— Как зачем? А может, он пригодится кому-нибудь из бойцов Восьмой народно-революционной. Ведь они еще с этим Чан Кай-ши воевать будут.
Дня через три после этого помкомвзвода доложил мне о том, что Зайчиков на станции нашел какого-то приятеля и два раза в свободные часы уходил к нему со своим трофейным карабином. Я стал догадываться о том, что делает там Зайчиков, и преднамеренно не принял никаких мер, только предупредил, чтобы являлся в часть во-время.
В следующее воскресенье Зайчиков с утра взял увольнительную и ушел на весь день. В расположении он появился вечером, когда начали сгущаться сумерки. Против обычного, в этот день он пришел чем-то опечаленный, грустный.
— Как поживает твой приятель?
Он немного помолчал и тихо ответил:
— Яков сегодня уехал.
— Куда?
— К Мао Цзе-дуну подался, в Восьмую народно-революционную.
— К Мао Цзе-дуну? Это как же так? — удивился я. — Что он делать там собирается? Ведь он, кажется, даже стрелять не умеет.
— Не умел, а теперь научился, — ответил он.
— Так это ты ходил преподавать ему стрелковое дело? — засмеялся я и только теперь окончательно понял, зачем ходил Зайчиков к другу в свободные часы.
— Так точно! — признался он.
— Ты же китайский язык не знаешь, а он по-русски плохо говорит. Как учил его?
— Будьте спокойны, стрелять парень научился хорошо. Попади гоминдановец на мушку — не сорвется.
— А как думаешь, доберется он до Мао Цзе-дуна? Ведь это не близко.
— Что вы! — удивился он моему сомнению. — В родной-то стороне да не добраться…
Зайчиков умолк. По всему было заметно, что нелегко было ему расстаться со своим новым другом, что он в душе беспокоится за его судьбу, за его первые боевые успехи.
— Мамаша только вот уж очень плакала, — с нескрываемой болью в голосе проговорил он после долгой паузы и часто заморгал.
— Чья мамаша?
— Его, Якова. Печет ему на дорогу пышки, а сама всё плачет. Так мне стало жалко старушку; добрая такая старушка, тихая.
Тронутый его рассказом, я посоветовал, чтобы он обязательно навестил мать своего друга.
— А как же, надо будет непременно сходить, по хозяйству помочь, дровишек запасти, дело к зиме, — заключил он.
* * *
Спустя несколько лет я еще раз убедился в крепости дружбы, возникшей тогда между этими юношами. Не так давно в одной из наших центральных газет я прочел небольшое тассовское сообщение об успешном завершении полевых работ в колхозе имени Ильича Воронежской области. В нем, между прочим, упоминалось имя тракториста Зайчикова, как одного из передовых механизаторов местной МТС.
У меня не вызвало никаких сомнений, что это был Максим Зайчиков, который когда-то служил в моем взводе. Как старому боевому товарищу, я написал ему письмо, поздравил с успехами на мирном фронте и попросил ответить.
Зайчиков с радостью откликнулся. Его письмо изобиловало интересными подробностями. После демобилизации он вернулся в родной колхоз, вскоре женился; теперь уже имеет двух детей, живет в полном достатке, выстроил свой дом. Всё это меня очень обрадовало.
Но больше всего я удивился и порадовался тому, что Максим Зайчиков, мой бывший сослуживец, оказывается, давно установил и ведет регулярную переписку со своим старым другом Янь Тяо, который, как и он, стал трактористом, на каких-то курсах изучил русский язык и обрабатывает теперь землю, отнятую у помещика, на советской машине ЧТЗ.
Так вот и началась их дружба, большая дружба, которую теперь не разорвать никакой силой.
Г. Семенов Товарищ «Аврора»
Рис. В. Ветрогонского
Никаких морей, ни шороха волны, Степь кругом седая или горы, — Но везде мальчишки влюблены В четкий профиль крейсера «Аврора». Мне ж не по открыткам, не по вырезкам, — Лично мне знаком герой восстанья. На Неве живет он, Между Кировским И Литейным он теперь мостами. Подхожу, Встречают склянки, брякая. Что задумался, знакомец давний мой? Намертво вкопались лапы якоря В дно истории самой. Может быть, уже, и вправду, только песнею, Громкой славою в народе жить осталось? Вон музей, ступай себе на пенсию — Как-никак, а чувствуется старость. Нет! И на приколе, как в походе, Вижу, флаг ты по ветру несешь. Значит, флоту нужен, к службе годен, Ограниченно по возрасту, но всё ж! Дробный шаг по трапам отпечатав, У орудий у твоих притихших Строятся нахимовцы — внучата Шедших к Зимнему братишек. И, чем это, большей правоты Нет на свете для политработника: Молодость морскую учишь ты На примере собственного подвига. Позавидовать товарищу «Авроре»! И, не выбирая якорей, Вместе с каждым он уходит в море, Нет, не в море — в тысячу морей! Пусть не будет, старый, вспоминаться там! У ребят работка горяча: Продолжают штурм, начавшийся в семнадцатом Дальнобойным словом Ильича. На Коммуну курс победный. Той зари — всё шире полукруг. Мало нам при жизни стать легендой, Надо жить не покладая рук!Юлиус Фучик Шесть мальчиков[7]
Рис. О. Богаевской
С воздуха группу детей различить было трудно. Что мог видеть летчик? Шесть испанских мальчиков из городка Эльге с клюшками в руках играли в какую-то игру.
Война не может прекратить детские игры.
Фашистский летчик на «Юнкерсе» целился хорошо.
Бомба угодила как раз в центр маленькой группы детей.
Из всех окрестных домов выскочили люди. Когда они прибежали на место, глаза их были красны. Они собрали, соединили растерзанные тела шести мальчиков. Их положили в школе, откуда они выбежали только несколько минут тому назад, оживленные, веселые.
Явился местный фотограф. Неловкими движениями — ужас лишил его привычной профессиональной сноровки — он сделал снимок. Через трое суток эта фотография появилась в Париже, Лондоне, Праге. Ротационные машины напечатали снимок на первых полосах газет, и люди Парижа, Лондона и Праги смотрели на него глазами, похожими на глаза людей из Эльге.
Была весна.
За оградой угольного склада стояло высокое дерево, всё в цвету. Оно стояло, как маяк, в море пыли пригорода Смихов. Здесь любили играть мальчики Праги, выдумывая свои забавы, как поэты сочиняют свои стихи. Здесь был уголок, куда никогда не приходили классные наставники. На площадке, утрамбованной разносчиками угля, было гладко, и шарики катились отлично, не встречая сопротивления. За забором росли пучки травы, — кусочек природы, дающий основание мечтать о джунглях и о далеких странах, где путешествует легендарный капитан Коркоран. Да, здесь можно было играть, бороться, мечтать.
Но в день, о котором мы говорим, шесть мальчиков Праги пришли сюда, к цветущему дереву у угольного склада, не для того, чтобы мечтать или драться. Они даже не поглядели на аккуратно вырытые воронки, которые ожидали пестрых шариков и оживленных возгласов. Мальчики сели в стороне от дороги, близко друг к другу.
Франтишек открыл папку и заботливо, как он это перенял у своего отца, разложил и разгладил на коленях газету. С газетного листа на него в упор смотрело лицо мальчика с оторванной верхней частью черепа. Мальчик из Эльге.
Франтишек читал вслух газетную статью. Голос срывался.
Он читал о бомбежке испанских городов, о фашизме и варварстве и читал призывы к горячей всеобщей солидарности, к борьбе с фашизмом.
Мальчики не понимали всех слов, которые с трудом, иногда по слогам произносил Франтишек, но они переводили их на свой язык.
Мальчики из Эльге были совсем такими, как они сами. Ходили в школу, а оттуда — в заброшенный уголок, чтобы там играть, катать цветные шары. И именно там упала на них смерть.
Мальчики Праги невольно посмотрели вверх. Небо как небо, и тучи как тучи. Врага там не было. Они смотрели прищурясь, — так лучше видно. Ничего. Но мальчики в Эльге за минуту до своей смерти, может быть, тоже не видели врага. Враг всегда появляется сразу.
Детям Испании надо помочь. Надо? Да! Это знали все, еще до того, как Франтишек кончил читать статью.
— Мой брат уехал в Испанию добровольцем. Сражаться, — с уважением сказал Рудик. Мальчики задумались над этим. Для того, чтобы мечтать, этого факта было достаточно. Но, чтобы помочь, — мало.
— Мы не можем ехать, — заявил Франтишек. — Мы не умеем стрелять.
Кто-то сказал:
— Стрелять очень важно. Этому можно научиться.
Франтишек сказал:
— Учиться — это будущее, а помочь надо сейчас, немедленно. Но как?
Он еще раз посмотрел на газету, — что там сказано?
— Вот! — Франтишек показал на колонку: — «Сбор средств в пользу республиканской Испании». Пять, десять, пятьдесят и сто крон присылают в редакцию, и отсюда они направятся на помощь испанским детям.
Капиталы всех шести карманов, сложенные вместе, не составили и полукроны.
Очень мало.
Мальчики посмотрели в газету. Никто не давал так мало. Так мало — это не помощь.
— Я принесу завтра.
— Поздно.
Кто знает, — что будет завтра и сколько мальчиков в Эльге и других городах поплатятся жизнью за промедление! Завтра тоже хорошо; ну, а сегодня?
Глаза мальчиков разочарованно бродят по окрестностям. Вдруг кто-нибудь увидит бумажку в пять или десять крон? Это так просто, постоянно случается. Шел, скажем, человек и потерял две или три кроны. Совсем недавно кто-то из них нашел монету. Но здесь денег нигде не видно.
Шесть детских умов с усилием думают, обсуждают, как соединить желаемое с реальным.
И тогда Антонин сказал:
— У меня есть перочинный ножик. — Это прозвучало веско.
— Какая польза от ножика? Что ты можешь им сделать?
Какое кощунство! Ножик Антонина! Весь класс его знал. Все мальчики класса хотели бы иметь такой.
— Сделать? Ничего. Но я могу его продать.
Пять пар глаз устремились на Антонина с сомнением, с недоверием. Продать такой ножик? Свою самую любимую вещь? И потом они поняли. Франтишек торжественно встал, и за ним вскочили все. И все по очереди пожали руку Антонину с жаром, как это делают мальчики и мужчины в часы опасности.
И потом Франтишек положил на землю, рядом с ножом Антонина, свою металлическую сигарную коробку. Это была универсальная коробка. Она служила то обиталищем пойманных жуков, то изображала поезд или пароходик, плывущий по Влтаве. Она не представляла никакой ценности, как ножик Антонина, но она заключала в себе большой кусок жизни Франтишека.
Рудик сжимал последним прощальным рукопожатием свой цветной шарик, а когда Иосеф положил рядом с сигарной коробкой свой свисток, Рудик вытащил и второй шарик, играя которым, он всегда выигрывал.
Все карманы были выворочены и опорожнены. Рядышком, тщательно положенные по ранжиру, лежали самые ценные сокровища шести мальчиков, всё — и кошелек, совсем как кожаный, и фотография киноартиста с его собственноручной надписью, и еще много замечательных вещей, названия которых забываешь, как только перестаешь быть мальчиком.
Шесть мальчиков еще раз взвесили взглядом всё лежащее на земле и нашли, что это весит много. После этого они решили выбрать двух представителей, чтобы осуществить продажу сокровищ. Выбрали Франтишека и Антонина.
С другой стороны реки, на правом берегу Влтавы расположен старый город. В его узких уличках еще находятся маленькие лавочки старьевщиков, торгующих, как сто и двести лет тому назад. Сюда бедняки несут свою нужду, надеясь смягчить ее с помощью медяков. Шесть мальчиков шли по невидимым следам, оставленным многими поколениями бедняков, и безразличные люди, встретившие в этот день здесь группу мальчиков, не представляли себе, что это была делегация (может быть, зная цель этой делегации, некоторые из встречных сняли бы перед ней шляпу).
Франтишек и Антонин шли впереди, а остальные четыре мальчика следовали в десяти шагах за ними, не спуская с них глаз и составляя почетную стражу.
У входа в одну из лавок почетная стража осталась снаружи, а Франтишек и Антонин вошли. В этот момент их охватила дрожь, которую они боялись показать товарищам.
Старьевщик стоял за своей конторкой. Не говоря ни слова, они положили перед ним металлическую коробку, свисток, кошелек, шарики и, как венец коллекции, ножик Антонина. Взгляд, которым они окинули принесенное, не был умоляющим, как он, может быть, был бы у их родителей или у других взрослых, — он был ликующим.
Старик, ничего не понимая, посмотрел на всё это и сердито пробормотал:
— Что это такое?
Он был, видимо, удивлен, и это польстило мальчикам. Действительно, тут было много ценных вещей.
— Что мне с этим делать? — второй раз спросил он сердито. — Уходите отсюда!
Значит, он не понял, в чем дело. Он решил, что с ним просто шутят.
И Франтишек объяснил:
— Это всё продается. Для того и принесено.
Старик хорошо знал людей. Он безошибочно, по голосу распознавал того, кто пришел к нему в первый раз в жизни; того, кто пришел уже не в первый раз; и того, кто никогда больше не придет после отказа, кто охотнее умрет с голоду, чем снова положит свой изношенный костюм на его конторку. А вот голос Франтишека звучал необычно.
— Очевидно, мальчики не нашли другого способа, чтобы достать деньги на папиросы?
— Это вовсе не на папиросы, — обиженно ответил Франтишек.
— Ах, на кино!
— И вовсе не на кино, — запротестовал Франтишек, задетый такой непонятливостью. — Это для Испании, для испанских детей!
После этого возгласа наступило молчание.
Перед стариком прошли памятные кадры из длинной ленты его жизни. Франтишек уже пожалел, что он выболтал общую тайну. Не надо было говорить ему. Вдруг он позовет полицию. Всё будет конфисковано, и им нечем будет помочь. Дети в Эльге будут ждать напрасно. Франтишек хотел спасти, что было возможно, схватить вещи и бежать.
— Оставь, — строго сказал старик.
И он взял коробку Франтишека и долго ее рассматривал. Глаза двух мальчиков невольно стали умоляющими.
— Так, — сказал он. — Коробка не плохая, но больше двух крон я за нее не даю.
— А это, — он взвесил в руке и ножик Антонина и взгляды мальчиков, устремленные на ножик, — хорошая работа, так… для испанских детей вы говорите… очень хорошая работа — пять крон.
Мальчики затаили дыхание. Там, в Эльге будет большая радость — столько денег они получат, столько денег!!
И старик медленно, по-деловому, вещь за вещью рассмотрел и оценил и кошелек, и свисток, и шарики Рудика. И потом монетами, чтобы было ощутимее и больше, он выложил на конторку двадцать крон.
Перевела с чешского М. Дьяконова
Н. Гольдин Урок ботаники
Рис. В. Ветрогонского
Урок ботаники идет: В волненье замер класс — В воображаемый поход Повел учитель нас. И встал перед глазами сад, Где под густой листвой, Литые яблоки висят Над самой головой. Мы свято этот сад храним, Мичурин здесь уснул; Четыре яблони над ним — Почетный караул! …Но с нами всюду рядом он, Где нового ростки, Где зашумел лесной заслон, Остановив пески; Где в мае груши, как в снегу, Ветрам наперекор; Где на цимлянском берегу Густым хлебам простор. Мичурин жив! И потому Встают, сплотив ряды, Как лучший памятник ему Плодовые сады. …А за дверьми уже звонок, Его не ждешь — он тут… Как жаль, что каждый наш урок — Лишь сорок пять минут!Игорь Озимов Мальчишка
Рис. В. Ветрогонского
Мальчишка рыж, веснущат и вихраст. Он бредит морем, Ходит нараспашку. Спроси его, — он всё тебе отдаст За бляху и матросскую тельняшку. Он скоро встанет, кепку теребя, Смешной и робкий, у ворот яхт-клуба, И влажный ветер, в парусах трубя, Соленой пылью обметает губы. Он с этих пор надолго, по-мужски Полюбит море, Сердцем — не по книжке. А тем, кому фарватеры узки, Мы не позволим помешать мальчишке. Мы не хотим, чтобы из мутных вод За ним следили стекла перископа, Когда он сам впервые поведет Свой теплоход от берегов Европы. И потому на рубежах земли, Подняв стволы внимательных орудий, Несут дозоры наши корабли И к дальномерам наклонились люди.Е. Серова Саша — строитель
Рис. В. Ветрогонского
Если ты видишь такую картину: Высится крепость Из камня и глины, Крепкие стены, Двойные ворота — Это строителя Саши работа. Если из досок И тонкой фанеры Строят ребята Дворец пионеров, Саша, конечно, Работает тут! Недаром строителем Сашу зовут Он строит из глины, Из камня, Из жести, Он строит один И с ребятами вместе. Строит, как только глаза откроет, И так вот до самого вечера строит. Саша рассказывал Маленькой Наде: — Выучусь — Выстрою дом в Ленинграде Ты не поверишь, Какой красоты! Ты не измеришь, Какой высоты! Если наверх добираться пешком, — Выйдешь с утра, а дойдешь вечерком. Поедем На лифте В последний этаж. Внизу — Ленинград замечательный наш. Город в окошке — Как на ладошке. Улицы, Люди — Словно на блюде! Весь Ленинград осмотрели — Хорош! Вот бы Москву поглядеть!. — Ну, что ж! Саша недаром Выстроил чудо: Всё, что захочешь, Увидишь оттуда! Глаз человеческий Видеть не может, — Что за беда! А бинокли на что же? Взяли бинокль Исключительной мощи, Смотрим в бинокль На Красную площадь. Где же?… А вот, Увидал, наконец! Вот он, Старинный Кремлевский дворец. Видно и Спасскую башню отсюда, Видишь, На башне Часы и звезда! Построит ли Саша подобное чудо? Как ты считаешь? Я думаю, — да!Вячеслав Кузнецов Мои кирпичи
Рис. В. Ветрогонского
Про всё на свете Знать невозможно, И пусть не знают прохожие, Что в этом корпусе Ладно сложенном, Есть и мои кирпичи. Ну что же!.. И пусть новоселам этого дома, Вселившимся летом вот этим, Даже имя мое незнакомо, Не говоря о портрете. Но смогут они укрыться, согреться И в непогоду, И в стужу… А я одно лишь хочу — Всем сердцем знать, что людям я нужен.Вячеслав Кузнецов Маме
Рис. В. Ветрогонского
Мама! Ну, за что тебе такая немилость? Иль у всех матерей одна звезда? Растила. Нянчила. А я вот вырос и выпорхнул из гнезда. И ушел дорогу свою отыскивать, без спросу ушел навстречу ветру. И нас разделило, моя самая близкая, время и километры. Я взял у жизни шинель солдатскую, туго скрутил ее в скатку. Научился ценить автомат и каску И полюбил плащ-палатку. Мама, А помнишь, как я мальчишкой Мечтал о полетах к далеким планетам, Писал стихи, «издавал» свои книжки, И ты меня в шутку звала поэтом? В моей судьбе случайностей нет: В нашей стране, знать должна ты, Каждый солдат в своем роде поэт, И каждый поэт должен быть солдатом. Я только стал разумней и зорче, Постиг марксистской науки недра. И я различу среди лиц, среди строчек, Кто в этом мире мне друг и кто недруг. На мир смотрю я открыто и прямо, — Нельзя Отчизне быть безоружной! Я стал солдатом. Понимаешь, мама, Это мой долг. Это Родине нужно.Тамара Никитина Школьным товарищам
Рис. В. Ветрогонского
До звонка шумливое собрание — Наш веселый первый — первый класс… Помните, как затаив дыхание Буквари раскрыли в первый раз? Загляжусь я в очертанья карты: — Ты, моряк, в каком сейчас порту? — Ссорились — делили мелом парту, Вновь стирали белую черту. С каждым днем росли мы, крепли знания, И бежали звонкие года… Будто бы не галстуки, а знамя На груди носили мы тогда. Что с того, что мы уже не дети?! Пусть грохочет труд и жизнь летит! Нам всегда неугасимо светит Дружба пионерская в пути!Дмитрий Гаврилов Девочка
Рис. В. Ветрогонского
Скамейку плотно заслонив от зноя, Заслушались немые тополя, Как девочка читает книгу «Зоя», Губами чуть заметно шевеля. И у нее, у тоненькой, высокой, Горели гневом синие глаза; Она, наверно, те читала строки, Где рыжий немец Зою истязал. А брови были сдвинуты сурово, Вплеталась в косы солнечная нить… И мне казалось, девочка готова Бессмертный подвиг Зои повторить.Эд. Талунтис Весна
Рис. В. Ветрогонского
Деловито девушка проходит В сапогах тяжелых по полям, Девушка гадает о погоде По высоким снежным облакам. Думает о новом урожае, Раскрошив комочек земляной… Почему Весну изображают Озорницей, ветреной, шальной? Нет, она не кружит в хороводе, Не одета в яркие шелка, И полям не дарит плодородье Щедрая и легкая рука. Нам теперь иной Весна знакома. Вот она по борозде идет, — Выпачканы руки в черноземе И глаза полны людских забот.Эд. Талунтис На зимнем бульваре…
Рис. В. Ветрогонского
На зимнем бульваре веселый подросток, Снежками бросаясь, попал ненароком Девчонке курносой В горячую щеку. Но вместо того, чтоб навзрыд разреветься, Она, обернувшись к нему, улыбнулась… Вот так, у счастливых, сменяя Детство, Почти незаметно приходит Юность.Г. Первышев В кино
Рис. В. Ветрогонского
Не гром за рекою — Копыта гремят. Летит за Чапаем Могучий отряд. Чапай — командир, На коне вороном, Крылатая черная Бурка на нем. Он рубит бандитов, Он гонит их прочь. Но вот над землей Опускается ночь. Чапаев уводит На отдых отряд. Уставшие за день Чапаевцы спят. Заря загорается, Словно костер. Враги у Чапая Снимают дозор. Обрывистый берег Урала-реки. К Уралу подходят Враги-беляки. И раненный пулей Чапаев плывет. Всё чаще, всё ближе Строчит пулемет… Сестренка и мама Уснули давно, А я всё лежу, Вспоминаю кино.Ю. Пименов Поход
Рис. В. Ветрогонского
С отрядом мы ушли в поход На утренней заре. Мы с песней вышли из ворот, Пошли к Орех-горе. Потом свернули на восток, Пошли через холмы, — По самой трудной из дорог Идти готовы мы! — А если встретится река? — Ну что ж, переплывем! — В лесу дорога нелегка? — Пройдем сквозь бурелом! На свете нет таких преград Чтоб отступил отряд! Мы все собрались на обед, Уселись у костра И вдруг заметили, что нет Андрея и Петра. Пошел искать их весь отряд. Вожатый сбился с ног, Но потерявшихся ребят Никто найти не смог. Мы их искали два часа, Мы прочесали лес. У нас охрипли голоса, Я на сосну полез… На свете нет таких преград, Чтоб отступил отряд! Мы так устали, что порой, Казалось, еле шли, Но мы в овраге за горой Их всё равно нашли. Мы громко крикнули: «Друзья!.. Нашлись!.. Сюда, скорей!..» — Не пропадал ни он, ни я, — Смеясь, сказал Андрей, — Нам был вожатым дан приказ В лесу от вас отстать. Мы думали: придется нас И ночью вам искать. Да вышло всё наоборот: Кто ищет, тот найдет. Сказал вожатый: «Молодцы, Мы вас нашли с трудом, Из вас хорошие бойцы Получатся потом». Жал руки сразу весь отряд Андрею и Петру, Потом мы с песней шли назад К потухшему костру. Шумел вокруг сосновый лес. Мы отбивали шаг, Взлетала песня до небес, И каждый думал так: «На свете нет таких преград, Чтоб отступил отряд!»М. Земская Амед
«Это беркут взмахнул над пустыней крылом,
Это сердце, горящее правды огнем.
Это песня о брате далеком моем».
(Из песенки Амеда)Рис. С. Спицына
Амед вдруг начал поспешно застегивать клапаны палатки.
— Ты что, Амед? И так уже темно. Как же я чертить-то буду, на ощупь?
— Э, апа́,[8] джин идет. Нужно окна мала-мала закрывать.
— А джин — это смерч или что?
— Джин — это… чорт, по-вашему, ападжан!
— Что-то ты хитришь, Амед. Шайтан же — это чорт, а джин что, по-нашему, дух. Так я говорю?
— Э, апа́, что джин, что шайтан — одна организация.
Амед умел находить выход из положения.
Русские слова он произносил с певучей восточной интонацией, забираясь в конце фразы на самые верхи, почти воркующие, и наклоняя голову то влево, то вправо. Говорил весело, много, а иногда до того иносказательно, что я понимала его только на другой день.
Но на этот раз не пришлось долго задумываться над тем, что он имеет в виду. Вихрь рванул палатку с такой силой, что несколько кольев выскочило из своих гнезд и вся подветренная сторона палатки взвилась, как вымпел, по столбу, забитому в ее центре.
— Держи большой столб, держи, Амед! Рухнет сейчас.
Но Амед, поймав в воздухе край брезента, рухнул сам на землю и придавил его тяжестью собственного тела.
Теперь центральный столб был спасен, а вся палатка гудела, выла, пищала и скулила, как целый зверинец.
Даже сквозь плотный двойной брезент сочился то струнками, как сквозь решето, то сплошным потоком песок, самый мелкий и потому особенно назойливый.
Лицо Амеда — словно в замшевой коричневой маске, но он всё-таки улыбается:
— Сейчас пройдет. Айда-айда! — торопит он вихрь, указывая ему дорогу в сторону Афганистана.
— Ну вот, будто и потише стало… Я вылезу, забью с той стороны колья сейчас… Где только наш топор?
— Э, апа́, сиди на месте. У тебя глаза плохой, круглый, — много песка летит. У меня — хороший, узенький, — мало песка летит. Я пойду. Круглый глаза даже топора не видит. — И, перекинув через себя край брезента, Амед очутился на улице. Топор лежал, оказывается, под Амедом.
Через минуту палатка только чуть подрагивала и кренилась под утихающими порывами ветра.
— Поет еще? И о чем она всё поет? Я и то так долго не могу.
Теперь нам только оставалось проверить, не унес ли чего из палатки ветер Не сломал ли, не опрокинул ли черепков и находок? Потому что мы с Амедом оба считались археологами. Я — не без колебания, ввиду короткого стажа, зато Амед — вполне уверенно.
Но и деревянные ящики, и пакеты из бумаги, затвердевшей от зноя, словно папье-маше, были невредимы. Из личных же вещей, гораздо небрежнее брошенных на кровать-раскладушку, ветер кое-что утащил. И теперь мои косыночки и письма летели куда-то по пустыне. А может быть, их засыпали уже пески Афганистана, потому что ветер дул именно в ту сторону, а до границы было рукой подать.
— Косыночек-то не жалко, — сказала я Амеду, — а вот писем жаль.
— Ничего, прилетит самолет — новые получишь. Зачем о старых письмах жалеть?
— А если они хорошие?
— Хорошие бы не улетели, — убежденно возразил Амед. — Ну, пойдем завтра искать твои письма, — обязательно найдем. Коллективом пойдем.
И хотя нас в коллективе всего только и было: Амед да я, но перед авторитетом коллектива мне всегда приходилось умолкать.
В безветренные вечера, после работы, взбирались мы с Амедом на крепостной вал обсуждать положение дехкан на зарубежном Востоке. Обсуждения протекали бурно и прерывались только затем, чтобы Амед мог помечтать вслух.
Разговаривая по-русски, он в лицах изображал, как поймает шпиона, как перехитрит, обезоружит, свяжет и поведет сначала в кишлак, только показать, какие бывают шпионы, а потом уже к пограничникам.
Крепость, на которой мы с Амедом жили и работали, была построена еще самыми древними обитателями этих краев — маргианцами, и насчитывала по меньшей мере тысячелетие.
Но Амед уважал нашу крепость не за древность и не за красоту архитектурных форм.
Нет, по сердцу ему пришелся обнаруженный нами в крепостной стене человеческий скелет, как раз напротив входа.
— Грудью заслонил вход врагу, — объяснил мне Амед, хотя на самом деле, может, это было и не так.
Но наука, даже такая точная, как археология, бессильна перед пылким воображением тринадцатилетнего обитателя пустыни.
По молчаливому договору с Амедом, я должна была посвящать его во все свои заботы, тревоги и волнения, — чего бы они ни касались. Иначе он обижался и переставал со мною разговаривать вовсе, подчеркивая изо всех сил свое подчиненное положение.
— Подсобный рабочий Амед? Деньги получает, и хватит с него. Чего он о себе еще думает? Зачем с ним разговаривать?
Беспомощнее всего я себя чувствовала, когда Амед, распевшись, вдруг останавливался и подозрительно оглядывался на меня.
— Плохо пою?
— Хорошо.
— Почему не помогаешь?
Но я положительно не представляла, в каком отделении человеческого голоса могут рождаться все эти звуки, то низкие и рокочущие, как клокотание горного потока, то чистые и высокие, как замирающие голоса ласточек, вившихся во множестве над бойницами нашей крепости. Помогать я категорически отказывалась.
— Ну, тогда пой свои песни.
А я и этого не умела.
— Но человек без песен — какой же это человек?
Спасалась я только рассказами. О России, о Севере, обо всех местах, где довелось мне побывать. И больше всего, конечно, о Москве. По два рассказа за песню. Такой был уговор.
— Вот, представляешь себе: белые каменные обрывы — «чинки». Они вроде улиц московских. Там дома высокие и не обнесены садами и дувалами, но тесно стоят плечом к плечу. Между рядами домов, на улицах, на площадках земля вроде такыров твоей пустыни, такая же ровная, гладкая и твердая. Только это не такыры, а мостовые. Там нарочно покрывают землю асфальтом, чтобы удобнее по ней было ходить и ездить. А песок туда специально привозят. И дети очень рады, когда песок привозят. Играют с ним…
В этом месте рассказа Амед останавливал меня и начинал смеяться. Он захлебывался от смеха и барабанил по песку пятками, не менее твердыми, чем панцыри каракумских черепах.
— Ой, апа́, не нужно так человека смешить. Са-авсем больной живот стал. Как теперь работать будем? Песок… нарочно привозят!
Но я перебивала Амеда:
— По вечерам вся Москва залита светом. Улицы, площади, мосты, перекрестки — всё в огнях. А зимой вокруг Москвы барханы из снега.
Амед прекращал работу и каменел от внимания. Да и сама я так давно не видела электрического света, не слышала паровозного гудка, дребезжания трамвая, что разговоры эти были мне еще нужнее, чем Амеду. Поговоришь, поговоришь обо всем об этом, — будто и дома побываешь. И я снова принималась рассказывать Амеду про Ленинград, про его набережные, дворцы, про его влажные и туманные дни и белые ночи.
— Это всё я на стенке видел, а белую ночь — не понимаем, — вздыхал Амед и смотрел на меня недовольными темными глазами.
Так бы я никогда и не догадалась, на какой это стенке видел Амед трамваи, станции метро, новостройки Волго-Дона и шпиль Адмиралтейства, если бы не заехали мы одним из дальних рейсов в родной кишлак Амеда. Тщательно выбеленная глиняная стенка — единственная неподвижная среди легких ковровых и войлочных юрт — оказалась стеной школы.
Весь кишлак своею яркостью, пестротою, суетливым движением и разноголосым гомоном напоминал после однообразной рыжелиловой пустыни оживленную праздничную карусель.
Амед, расталкивая коленями бестолковых круглобоких овец, пролезая под брюхом флегматичных верблюдов, окрикивая по именам лохматых свирепых псов, на ходу здоровался с земляками и тащил меня от машины прежде всего к своей стенке.
— Смотри, апа́! Александр Матросов тоже здесь был. — И Амед кидался на землю, показывая, как Александр Матросов прикрывал своим телом амбразуру дзота.
Я ничего этого не видела. Ничего, кроме слепящей глаза своею яркостью, разогретой знойным полднем штукатурки… Кое-где проступали на ней золотистые крапинки самана, кое-где обозначились легкие паутинки трещинок. А по штукатурке скользила очень синяя, коротенькая тень Амеда, распугивая мух и слепней.
Амед похлопывал ладонью стенку, как хлопают по плечу друга, с которым многое в жизни пережито вместе, но вдруг нахмурился и ногтем затер точечку мушиного следа.
— Дежурный-э-дежурный! — пронзительно и протяжно вскрикнул он, обратясь лицом прямо к стене.
Из-за угла вынырнула испуганная бритая головка и что-то виновато ответила, глядя на меня, а не на Амеда. Дальше Амед заговорил на своем родном языке…
— Э, апа́, ничего не можем делать сегодня, — обратился он, наконец, ко мне. — Кинопередвижка уехал на ферму. Послезавтра придет. Может, подождем? Никак нельзя? Оч-чен жалко, если ны-икак нельзя, апа-джан!
Дежурный между тем юркнул за угол и возвратился с голубой пиалой и помазком в розовых, потных от жары и волнения, ладонях и с шелковой красной косыночкой в зубах. Она оказалась пионерским галстуком и тут же была повязана на голую шею.
Мушиные следы и трещинки были срочно покрыты свежим слоем мела, экран был исправлен, и Амед, во главе целой толпы нивесть откуда налетевших ребятишек, направился к своей юрте — поздороваться и сразу же попрощаться с родными.
А над крышей школы появилась гибкая, как у гусака, шея и голова верблюда. Он посмотрел на меня пристально, но… ничего не сказал, только пошевелил ушами и моргнул. Нижняя губа его свисала, как мягкий, разношенный чувяк, обнажая крепкие желтые зубы…
* * *
…Конечно, мы работали, забывая обо всем на свете, но мы вовсе не хотели, чтобы кто-нибудь забыл о нас. Даже палка у нас имелась, на которой мы делали засечки, чтобы не потерять счет дням. Именно потому товарищи наши, приезжавшие к нам из соседнего отряда, то с мукой, то с почтой, бензином, то просто с последними новостями, никогда не заставали нас врасплох, но попадали непременно к готовому обеду… Так мы и прожили уже полпалки с Амедом в одном из отдаленных уголков Советского Союза, в глубине пустыни, на краю земли. И, если правду говорят, что надо пуд соли съесть, чтобы человека узнать, то мы с Амедом знали друг друга как нельзя лучше, потому что воду нам доставляли из дальних колодцев, а мы и по сей день не решили, чего там было больше, в этих колодцах: соли или воды? Вот сколько там сов было — это мы точно знали, — четыре совы. Все они прятались туда от жары и света и шарахались прямо к нам в ведра, когда мы приезжали за водою. Шарахались, хотя Амед вежливо и дружелюбно предупреждал их:
— А ну, дорогие товарищи, подвигайся немножко.
Я ему рассказала, что самое хорошее письмо, которое утащил ветер, было от одного северного акына…
— Акыны писем не пишут, — перебил меня Амед.
— Это раньше не писали. Теперь пишут. А если не веришь, я тебе стихи вспомню.
— Подожди вспоминать, сейчас костер разложим.
Больше всего в пустыне я боялась именно ночных костров. На севере всё зверье от огня шарахается, а здесь — наоборот, так и льнет к огню. Говорят еще, что в пустыне мало топлива! Стоит только разжечь костер, и со всех сторон сыплется в него живое топливо. По земле, по воздуху, на крылышках, на ножках, а если нет ни того, ни другого — прямо на животе подползает, лишь бы в костер угодить. И дров не надо подкладывать — знай помешивай.
Амед забавлялся со всеми этими омерзительными гадами, как мальчишки на севере балуются с пескарями и головастиками.
— Эт-та, эт-та, эт-та, интер-эсно! — выволакивал он из ползущего живого месива черную, в блестках, ночную ящерицу, со светящимися, как автомобильные фары, глазами. Ящерица отчаянно брыкалась, извивалась, тараща на огонь слепые фары-глаза, но, выброшенная рукою Амеда, отлетала и шлепалась, как мячик, где-то на такыре.
— Мырное население! Сичас, сичас, сичас, — уже снова успокаивал кого-то Амед, но вдруг радостно вскрикивал:
— Поджигатель, апа́! Остан, остан!![9]
Он, как печеную картофелину, выхватывал из костра и перекидывал с ладони на ладонь отвратительную жирную фалангу. Она судорожно дергала своими мохнатыми членистыми лапами и ощеривалась всеми четырьмя шипами-челюстями.
Самых ядовитых посетителей костра Амед давно уже придумал вылавливать и нанизывать на «гирлянду поджигателей».
Желтозеленый крючок скорпиона он вывесил еще вчера, — это был «Ли Сын-ман». Серая змейка-стрелка, плясавшая в воздухе более трех суток, олицетворяла Аденауэра и находилась при последнем издыхании. Сегодня наступила очередь Бао-Дая — свежевыловленной фаланги, и она молниеносно была подвешена вниз головой, между Ли Сын-маном и Аденауэром на ту же веревочку.
— Тю, и не противно тебе! — передергивало меня от отвращения.
— Оч-чен даже противно, Лена-хан. Всэм противно. А что будем делать? Факты. Тогда не будет противно, когда все издохнут. Сма-атри еще факт ползет, с усиками!
Но я не выдерживала и, выхватив из костра горящую головню потолще, начинала остервенело бить ею вокруг себя по такыру.
— Вах, ва-ах! Батыр-апа, — вскидывал брови Амед. — Рустэм — народный герой не мог одним ударом столько врагов сокрушать! — Но видя, что я не на шутку рассердилась, виновато улыбался: — Ка-акой стихотворэнье рассказывать хотел?!
Всё-таки я прочла ему балладу северного акына о маленьком индусском мальчике Сами, о том, как перестал он бояться своего злого сагиба, услышав в Амритсаре имя Ленина. Сагиб сам стал бояться мальчика, нашедшего себе отныне друга и защитника — «далекого Ленни».
— Когда это произошло, всё, что мне сейчас сказал, ападжан?
— Тому назад… ровно тридцать лет и три года. Северный акын был и здесь, у тебя в гостях. Только тебя еще на свете не было. А акын не был еще седым.
— Почему же ты мне до сих пор ничего не говорил?
— Но это было давно.
— Всё равно, надо было сразу сказать.
— Но это не всё, Амед.
И я рассказала своему «подсобному рабочему» о том, что северный акын недавно посетил страну Сами, и Сами, конечно, встретился с ним, и, наверное, интересный у них разговор получился обо всем.
Первый раз в жизни увидела я Амеда растерянным. Ничего он мне не ответил. Только сидел, собравшись в комочек, перед костром, дополняя своей неподвижной фигуркой великую тишину пустыни.
…Там, за нашими развалинами, за узкой полоской Афганистана, была родина мальчика Сами. Ветер, налетавший с той стороны, обжигал нас особенно тяжким зноем, и всю пустыню вздымал на дыбы злой черный ветер — афганец.
Стоило ему дохнуть — и всё меркло, пропадало на сутки, на несколько суток, на недели.
Но сейчас над пустыней стояла та невероятная тишина, когда кажется, что это не вокруг тебя так тихо, а сам ты поражен какой-то чудовищной глухотой.
Дала я Амеду и книжку с балладой о Сами и, уже засыпая, видела, как бережно Амед перелистывал ее, смотрел сквозь ее листы на огонь… Потом притих Амед над книжкой, то низко-низко наклоняясь к страницам, то поднимая лицо к небу и беззвучно шевеля губами.
«Учит, наизусть учит», — подумала я и повернулась спиной к огню.
Среди ночи я была разбужена тревожным голосом Амеда:
— Ападжан, э-ападжан, а как же они узнали друг друга? Мальчик вырос. Большой стал мальчик. Какой он мальчик? Я брата два года не видел — не узнал. Ты меня разве узнаешь, да, когда я к тебе с бородой в гости приду?
— Как-нибудь узнаю… И дай мне поспать, Амед.
— Я даю тебе поспать. Спи, пожалуйста.
* * *
Следующий день был выходной. Амед, который обычно церемонно предупреждал меня, что уходит к «товарищам», чабанам и охотникам, жившим то в одном, то в другом конце пустыни, на этот раз удрал без спроса. Теперь сидит где-нибудь в тени юрт — чай попивает или кислый прохладный айран — и рассказывает своим седобородым слушателям про северные страны.
А товарищи, степенно поглаживая бороды, причмокивают языком и выражают свое отношение к «белой ночи» потоком междометий, таких же непонятных для северянина, как и всё остальное в пустыне.
Но Амед не пришел к обеду и не привел гостей.
Тени, такие яркие в пустыне, обошли уже вокруг своих барханчиков и растворились в наступающей тьме ночи.
Не пришел Амед и к ужину.
Одинокая моя ложка грустно скребла дно банки со сгущенным молоком, когда появился… нет, не Амед, а тень Амеда появилась. Пошатываясь, серый от пыли и усталости, похудевший за день, он так горько нацелился на меня своими ресницами, что я отступила на шаг.
— Эх, апа́-а, — выдохнул он, точно взваливал на спину тяжелый тюк. И протянул мне свою шапку.
В шапке лежала кипа бумажек: бухгалтерский пожелтевший счет какой-то экспедиции, чья-то фотография «вдвоем», о чем можно было только догадываться, ярлычок от винной бутылки, свившийся стружкой, клок газеты янтарного цвета и написанный моей же рукой паспорт для археологических находок — вот и всё, что нашел Амед на обширных пространствах южнокаракумской пустыни.
— Кишлак бегал, пограничники бегал, пустыня бегал. Охотники тоже со мной бегал, караван-баши бегал, — хрипло и сердито отрапортовал Амед. — Зачем такие письма на ветер бросать? За-ачем молчишь? Говори что-нибудь, да?
Но мне нечего было сказать. И я молчала.
Только позже, когда Амед, отужинав, развалился на своей кошме отдыхать, я всё-таки спросила:
— Амед-ака́![10] Ну, а если бы это письмо было не от того северного акына?
Амед поводил в разные стороны верхней укороченной губой.
— Тогда? Тогда — полдня бегал. Сам бегал бы. Охотники дома сидел бы. Слушай, я пришел, — да? Песню спел. Рассказал дело. Про ветер. Про северного акына. Все встали, пошли.
— Какую песню, Амед?
— Песню про моего брата. Молоко всё съела? Слушай, какая песня!
Амед подхватил пустую консервную банку из-под сгущенки, зажал ее в худых своих ладонях, зажмурился…
Шорохом дождевых капель показалось мне первое прикосновение пальцев Амеда к выпуклой, лоснящейся жестянке. Тревожным, судорожным ритмом сменился этот шорох. Амед всё еще прислушивался к глухим, беспокойным звукам, подавшись всем телом вперед, не поднимая глаз, готовый запеть. Изумленно вздрагивали уголки его губ и бровей, будто это не он сам, а кто-то другой, кто сильнее и мудрее во много раз, чем он, призывал Амеда ответить на удары «бубна». До сих пор в этой блестящей банке находилось десять килограммов доброкачественного молока. Теперь она наполнилась вздохами, плачем, торжественной скорбью и великим гневом. Живое человеческое сердце забилось в ней.
И всё это проделывали пальцы Амеда.
Это была древняя мелодия. Жалоба Меджнуна в пустыне. Песнь о разлученной любви. Тревога и боль за любимого человека и клятва любить его еще сильнее в разлуке и думать о нем всегда, каждое мгновение прожитой жизни. Лейли — по-арабски «ночь» — звали девушку, о которой сложен этот напев. Его знают от колыбели и поют до глубокой старости все народы Востока.
Только ни о какой Лейли не говорилось на этот раз в песне Амеда. Нет, я не ослышалась.
— Сами, — звенело над черными грузными барханами. — Меным Акам Сами! Брат мой Сами, — то с тоской, то с нежным утешением произносил Амед, обратясь лицом в темноту пустыни.
И замер голос, призывающий хранить верность великой любви…
— Вот какую я им песню спел, — узнала? Песня северного акына. Почему головой качаешь?
— Но, Амед, твоя песня про Сами в два раза длиннее. И там не говорилось, я хорошо помню, — про самолет и машину, — в песне северного акына. Пони там был. Пони — такая маленькая лошадка, ростом с ишака.
— Э, апа́, неправильно ты говоришь! — обиделся Амед. — Такая маленькая лошадка ростом с ишака может быть, а самолет не может быть? — Амед хитровато улыбнулся: — Всё там есть. И самолет, и машина. Ты просто забыла. Или акын тебе спел не всё. Приедем в Москву вместе, спросим акына. Пускай сам скажет. — Амед очень ловко облизнул пальцы, выпачканные остатками молока. Потом пристроил свой подбородок на днище банки и вздохнул так глубоко, что гирлянда с «поджигателями» качнулась. Слабо лязгнули высохшие клешни и членики Аденауэра, подвешенного вниз головой; как тряпочка, болтнулся увядший уже хвост Ли Сын-мана…
— Ты о чем думаешь, Амед-ака?
— О дальних странах, — откликнулся он.
А. Котовщикова Один день
Луч солнца, проскользнув в щель между ставнями, тронул Ленину щеку. Щеке стало горячо, и Леня проснулся. Он поспешно соскочил с кровати и, как был в одних трусиках и босиком, прошлепал через сенцы на крыльцо.
Сразу он окунулся в свет и тепло, будто нырнул с головой в яркое горячее озеро. Солнце заливало двор. В короткой прозрачной тени под черешней растянулась и часто дышала желтая Дамка, вывесив на сторону розовый язык. Серый гусак важно переваливался посреди двора. Он свернул голову набок и притворялся, что смотрит в небо, а на самом деле скосил мстительный глаз на Ленины голые ноги.
— Вот как дам! — погрозил Леня гусаку.
Гусак наклонил голову, изогнул шею и злорадно зашипел: «Прош-шпал! Прош-шпал!»
Леня отвернулся с досадой. Да, он проспал, — что верно, то верно. Давным-давно, конечно, Витька уехал в степь и нарочно не разбудил его, Леню.
Но вдруг Леня забыл все обиды, сердце его заколотилось от радости: за низеньким каменным забором он заметил брезентовый верх грузовика, стоявшего на дороге. Если это дядя Степа приехал, еще не всё потеряно.
Леня спрыгнул с крыльца и выбежал за калитку. Так и есть! Шофер Степан Михайлович Тимаков в синей расстегнутой на груди рубахе, с закатанными рукавами, весь красный, потный, накачивал камеру.
С громким смехом Леня подскочил к нему.
Дядя Степа перестал качать, выпрямился, не выпуская из рук насоса, и весело подмигнул:
— Э-э! Кого я вижу!
Леня уцепился за твердые, как из камня, локти Тимакова и поджал ноги. Потом стал карабкаться по дяде Степе, как по дереву, упираясь в его колени.
— А вот поборю! А вот поборю!
Но как он ни хохотал, как ни брыкался, дядя Степа одной рукой, живо свернул Леню в клубочек и забросил его в кузов машины.
Визжа и захлебываясь смехом, Леня перекинул ногу за борт и уже нащупал пальцами верхнюю перекладину железной лесенки, прикрепленной к заднему борту, — вот сейчас слезет и с новыми силами кинется на противника. И вдруг услышал:
— Ле-ня!
— Дядя Степа, вы без меня не уезжайте! Я, — Леня так и не нашел ногой вторую ступеньку и, ободрав локоть, спрыгнул на землю. — я сейчас приду.
— Беги, беги, раз зовут, — добродушно отозвался Тимаков.
На крыльце стояла мама, загорелая, золотоволосая, в белой блузке и синих, выгоревших брюках. Каблучок маминой босоножки нетерпеливо постукивал.
— Мама, хорошо, — я поеду? — торопливо сказал Леня.
Мама взяла Леню за руку и увела в комнату.
— Почему ты бегаешь неумытый? И завтрак нетронут. Не позови тебя, так и будешь носиться голодным.
Ставни в их комнате уже открыты, окна распахнуты настежь, веселые блики играют на кринке с молоком, на помидорах, что алой горкой возвышаются на тарелке, на ложках, вилках и ножах.
Леня чувствует, что ему отчаянно хочется есть. Но сначала приходится сбегать во двор к столбу, на котором прибит рукомойник, и хорошенько умыться. Потом переменить ночные трусы на дневные и надеть чистую футболку. Леня натягивает ее, недовольно оттопырив губы. Но что ж поделаешь! Мама боится, что с Лениной спины слезет вся кожа.
За столом Леня торопливо жует хлеб с маслом, большими глотками пьет молоко, беспокойно поглядывая на окна и прислушиваясь, не заводит ли дядя Степа мотор.
Мама задумчиво смотрит на Леню:
— Пожалуй, напрасно я взяла тебя в экспедицию. Вот сегодня один прораб едет в Симферополь. Не попросить ли его отвезти тебя домой к бабушке? Будешь играть в саду.
С отчаянием в глазах Леня мотает головой. Рот у него набит, и он не может произнести ни слова. Наконец он говорит умоляюще:
— Не надо домой! Я буду слушаться! Мама, я сейчас поеду с дядей Степой к бочкам! Да, — поеду? И Витька же там. Ну, ма-ама!
— Вот видишь, — к бочкам! — мамины губы смешливо дрогнули… Потом сдвинулись брови на ее высоком коричневом лбу. — Кто это дядя Степа?
— Это мой друг! Как же ты не знаешь? — возмутился Леня.
— Все у тебя друзья. Это не шофер ли Тимаков?
Леня радостно закивал.
— А что ты будешь там есть?
— Ой, какая ты, мама! Витька же ест.
— Витя работает. Будешь шмыгать у всех под ногами и мешать. — Мама провела рукой по Лениной голове. Соломенного цвета волосы торчат на ней неровными кустиками. — Вечером еще надо сводить тебя в парикмахерскую…
В дверь заглянула хозяйка домика, где они жили и помещались контора и лаборатория:
— Агния Петровна, там анализы привезли.
— Иду!
Мама ушла. Она геолог, исследует грунты, делает всякие анализы, составляет геологические карты и таблицы.
Леня вышел во двор и остановился в раздумье у крыльца. Как быть? Входить в контору мама не позволяет, разве что в самых крайних случаях. Ехать в степь мама ему не разрешила, но ведь и не запретила, что гораздо важнее. Если бы запретила строго-настрого, ну, тогда — другое дело! Но если так просто уехать, не сказав, мама очень испугается: куда девался Леня?
Со вздохом Леня оглянулся и увидел в тени под забором трехлетнюю Галю, хозяйкину дочку. Сидя на корточках, девочка старательно, но безуспешно втыкала в сухую землю веточки. Они сразу падали.
— Галя, пойди-ка сюда! — подозвал Леня и пошел к забору.
Разве дождешься, пока Галя подберет упавшие веточки и дотопает до крыльца на своих толстых коротеньких ногах?
— Галя, скажи моей маме, что я уехал к Вите. Скажешь? А я тебе потом клумбочки устрою и водой их полью.
Галя стояла и молча улыбалась, отчего на ее щеках появились глубокие ямочки.
— Да? Скажешь? Да?
— Да, — наконец согласилась Галя.
— Ну, вот молодец! Как моя мама выйдет из конторы, ты подойди и скажи: «Агния Петровна, Леня поехал к Вите». А если «Агния Петровна» не можешь сказать, так ты просто: «Леня поехал к Вите».
Доверчиво улыбаясь, Галя протянула Лене веточку:
— Посади!
— Потом, потом. И посажу, и полью… А ты скажи моей маме!
Последние слова Леня крикнул уже от калитки.
Если Галя всё-таки забудет сказать, то не его вина…
Через минуту Леня сидел в машине рядом с огромным алюминиевым бидоном.
У борта вырос Степан Михайлович.
— А мать тебя отпустила в поле?
— Дядя Степа, отчего бидон такой холодный? Холоднее даже мороженого…
Тимаков погрозил пальцем.
— Ох, если без спросу утекаешь, мы с тобой больше не знакомы, — так и знай! Бидон холодный, потому что туда только что налита вода из артезианской скважины. Ты это и сам знаешь, — не маленький.
На положенных поперек кузова досках уселись девушки в комбинезонах, студентки-практикантки.
Потом в машину влезло несколько мужчин. Буровой мастер Евгений Викторович, прежде чем поместиться на каком-то ящике, провел пальцем по Лениной голове.
От нетерпения Леня вертелся, сидя на корточках за бидоном, который нет-нет, да и прикладывал ледяшку к его спине или плечу. Ему совсем не хотелось, чтобы до отхода машины на улице показалась мама. Галя ведь скажет ей, — так чего же еще?
Наконец ожидание, кажется, подошло к концу. Украдкой Леня облегченно вздохнул. Из калитки вышел и направился к машине начальник геологического отряда Кедров, в широкополой белой войлочной шляпе. Сейчас он усядется в кабину рядом с дядей Степой…
Но Кедрова окликнул худой, дочерна загорелый человек, с полевой сумкой через плечо. Кедров остановился. Сколько времени будут они разговаривать? Вот беда!
— Леня, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? — повернулась с передней скамейки студентка Муся с косами, калачиком свернутыми над ушами. — Геологом, наверно?
— Капитаном дальнего плаванья, — ответил Леня, сердито глядя на Кедрова, задерживающего отъезд.
— А кто у тебя папа? — спросила другая студентка, Аня, высокая, в белом платочке.
— Тоже геолог. Обе родители геологи. — Леня подозрительно посмотрел на засмеявшихся девушек. «Неужели не верят?» — Правда, геологи! Только папа сейчас на Камчатке. Он в ноябре из экспедиции вернется. Поехали! — вскрикнул он радостно.
Машина и в самом деле тронулась. За разговором Леня не заметил, как Кедров забрался в кабину.
Грузовик некоторое время переваливался с боку на бок по немощеной улице поселка, потом подъехал к железнодорожным рельсам и остановился перед опущенным шлагбаумом.
Вблизи станционных строений на чисто выметенной площадке высилась золотая гора. Она напоминала трапецию из Витькиного учебника по геометрии. На некотором расстоянии поднималась другая такая же гори, еще подальше — третья. Издали можно было подумать, что это желтый песок так аккуратно насыпан. Но то был совсем не песок. То было зерно, тяжелое, ровное, налитое. Возле каждой горы сидели на земле мальчишки и девчонки и отгоняли гусей.
— Замечательный нынче урожай! — с удовольствием проговорил кто-то позади Лени.
Леня знает, что в этом году такой хороший урожай потому, что весной шли дожди.
За опущенным шлагбаумом мелькали, подрагивая, зеленые вагоны пассажирского поезда. Из окон смотрели люди. Они едут в Феодосию. На редкость белолицый мальчик в одном из окон сорвал с головы белую панамку и изо всех сил замахал Лене.
Взвился шлагбаум. Поспотыкавшись на рельсах, машина покатила мимо высокой зеленой живой стены. Пирамидальные стройные тополя, стоя тесным рядом, шумели густой листвой.
Вдали высились ажурные краны, переплеты вышек и строительных лесов. Там строили элеватор. Вскоре тонкие силуэты кранов исчезли, словно растаяли.
Серожелтая выгоревшая степь расстилалась до самого горизонта. Над краем ее дрожало марево.
За машиной, не отставая, неслись клубы пыли. Леня смотрел, как они свиваются и развиваются и не могут ни отстать, ни обогнать машину. Потом перевел взгляд на степь, и ему показалось, что он едет давно-давно. И кругом всё такие же серожелтые безбрежные пространства земли, покрытые выжженной солнцем травой. Вот прочертила неподвижный воздух, мелькнув голубым крылом, сизоворонка, перепорхнул пестрый удод с кружевным веером на голове, суслик перебежал через дорогу перед самой машиной, и опять всё замерло, застыло от зноя.
Лене было душно и жарко. Негромкий разговор в машине, к которому он не прислушивался, доносился до него как-то смутно. Хоть Леня сегодня-то вполне выспался, — однообразие степи, покачивание машины нагнали на него дремоту.
Но вот он встрепенулся, вскочил на ноги, ухватился за чьи-то плечи, чтобы не так подбрасывало на рытвинах.
На желтоватой равнине возникли белые треугольники. Палатки! Там и сям разбросаны черные пятнышки. Издали отверстия шурфов кажутся крошечными.
Едва дядя Степа застопорил, Леня кубарем перекатился через борт и со всех ног помчался к грузовику, стоявшему у большого свежего шурфа. Пять больших коричневых бочек стояли в кузове грузовика. Из одной бочки свисал резиновый шланг. Он тянулся по земле до края шурфа и исчезал в нем. Два подростка, Веня и Паша, наклонившись, заглядывали в шурф. А на грузовике стоял Витька и двумя руками придерживал шланг, чтобы не перекручивался.
— Эй! Витька! Витька! — на бегу закричал Леня. — Сейчас я к тебе полезу.
— Прискакал! — не слишком приветливо покосился брат. — Не лазь! Выпачкаешься только.
Уж, конечно, жалко ему, чтобы Леня влез в грузовик! Ух, этот Витька! Стоит себе в одних трусах, голый до пояса — спина черная, как сапог, лопатки немножко шевелятся, когда он перехватывает шланг руками. А Леня в футболке ходит. Станет Леня Витьку слушаться — как же!
Встав на подножку, а потом на широкое, толстое колесо, Леня живо взобрался наверх и засновал между бочками, заглядывая в каждую. Ура! Кроме той, из которой переливают воду в шурф, все уже пустые. Да и в этой, последней, воды совсем мало. Значит, скоро поедут!
— Дать тебе ведро? — предложил Леня. — Остатки вычерпать.
— Без тебя обойдемся.
Леня ткнул Витьку в черный гладкокожий бок и торопливо полез с грузовика на землю. И вот он уже сидит на корточках на краю шурфа, возле которого стоят Веня с Пашей, и, вытянув шею, засматривает в него. Ко дну ямы прирос земляной кубик, который называется «монолит». До половины он погружен в воду.
— Не наклоняйся так. Еще свалишься.
Чья-то рука придержала Леню за плечо. Взглянув вверх, он увидел над собой голые ноги, измазанные глиной, и, выше, засученные брюки. Ага! Это инженер Сидоров: он постоянно так закатывает брюки.
— Работенка! — пробормотал Сидоров. — Мы ее льем, а она уходит. Возим за шесть километров, льем, а она, знай, уходит.
Леня понимал, что «она» — это вода.
— А вы знаете, ребята, для чего мы так день-деньской маемся, а?
— Размокаемость грунтов определяем, — солидно отозвался Паша.
— Правильно. Размокаемость. За сколько времени вода разрушит этот монолит, очень важно знать. Да вода-то утекает — вот в чем дело…
Вытирая тыльной стороной руки струящийся со лба пот, Сидоров широко зашагал по иссохшей, в неровных комьях земле. Леня побежал за ним и за мальчиками, нагретая земля обжигала ему подошвы.
В шурфе, к которому они подошли, Леня увидел Мусю. Она рассматривала сооружение из досок и планочек и что-то записывала в блокнот. Сидоров с увлечением рассказывал ребятам, как с помощью этого прибора определяется водопроницаемость почвы. Леня соображал, как Муся спускалась в шурф. «А-а, наверно, вон по тем выемкам в стенках».
С любопытством мальчик поглядывал на обитателей лагеря. Вон за легким походным столиком сидит Кедров и просматривает записи каких-то наблюдений. Рабочие копают очередной шурф. Девушка в брюках за другим столом строгает монолит. Этот монолит не кубик, он очень похож на кулич, который делают дети из песка, опрокинув полное ведрышко. Глядя на куличный монолит, Леня вспомнил хозяйкину Галю. Интересно, — выполнила ли она Ленино поручение?
Но тут послышалось фырчанье и треск мотора. Леня помчался к грузовику с бочками и уже не отходил от него. Он топтался возле шофера, глаз не спуская с его рук, копавшихся в моторе. Паша и Витька уже стояли в кузове, о чем-то переговариваясь. Леня не решался к ним приблизиться. Дело в том, что Витька всегда обещает маме смотреть за Леней. А «смотреть» он понимает так: никуда Леню не пускать.
Вся надежда на шофера. Конечно, это не дядя Степа. Но и этот толстяк в нахлобученной на затылок соломенной шляпе с оборванными краями, в сущности, ничего себе человек. На вид он мрачный, но на днях позволил Лене самому вылить остатки бензина из канистры в бензобак.
Шофер опустил капот. Леню он не замечал.
Дольше откладывать нельзя.
— Дяденька Сергей Артемович, можно я с вами в кабину, а?
Леня сам не узнал своего голоса: такой он вдруг сделался тоненький и несчастный. Не взглянув на Леню, шофер поскреб затылок под шляпой, потом покосился вопросительно на левую заднюю шину, точно спрашивая у нее разрешения, и только тогда выдавил из горла желанные слова:
— Что ж… Садитесь, молодой человек. Но чтоб ни к каким рычагам даже носом не прикасаться!
Смеясь от счастья, Леня мышонком шмыгнул в кабину.
До чего же тут жарко! Наверху-то ветерок на ходу обдувает. А здесь так и пышет! Узенькая стрелка спидометра пока неподвижна. Поблескивают всякие рукоятки да кнопки. Рука Лени сама потянулась к одной блестящей рукояточке — пощупать, сильно ли нагрелась… В тот же миг грузно плюхнулось на сиденье рядом с Леней увесистое тело Сергея Артемовича.
Леня торопливо отдернул руку. Ему стало до того нестерпимо жарко, точно его окунули в кипяток. Не в силах переносить такую баню-парилку, Леня стянул через голову отсыревшую футболку и отбросил ее от себя как можно дальше. Голубой комочек упал на землю позади машины, которая с ходу выкатилась по стерне на дорогу.
* * *
И снова степь. Тянется, бежит по обе стороны шоссе. Струится воздух на горизонте.
Разомлев от жары, Леня видел всё, как в тумане. Вдруг он с размаху стукнулся обо что-то головой: машина резко затормозила.
— И куда лезет, окаянный? — проворчал Сергей Артемьевич. Рассердился он на теленка, метнувшегося под самое колесо.
Леня озирался с изумлением. Вокруг него колыхалось целое море рогов и рыжих, красных, черных спин. Теснясь боками, коровы поворачивали головы, смотрели на Леню большими влажными глазами. А вон бычище: массивная крутолобая голова на короткой толстой шее, красноватый мутный глаз косится недобро — свирепый, должно быть, бык. Пастухи звонко щелкали бичами.
Выбравшись из стада, машина рванулась было вперед, но тут же сильно дернула в сторону — Леню так и прижало к бочке.
— А будь вы неладны! — заорал шофер.
Теперь Леня понял, что за белые пятна разбросаны у самого шоссе.
Да это гуси! Вот дураки! Почему не постоять минуточку, не переждать, пока грузовик проедет? Нет, большой белый гусак побежал, вытянув шею, наперерез машине. И сейчас же, неуклюже переваливаясь, распуская крылья, взмахивая ими, кинулось перебегать дорогу всё гусиное стадо.
Пронзительные гудки машины сливались с гусиным гоготаньем. Леня хохотал.
Только машина тронулась, как — хлоп! — и совсем остановилась на самом въезде в деревню. Спустила шина.
— Не везет, чорт возьми! — с досадой сказал Сергей Артемьевич.
Вслед за шофером Леня вылез из кабины и отошел в тень под забором. Как приятно ветерок обдувает разгоряченные плечи и спину! Хорошо бы напиться квасу! Внезапно острая боль в щиколотке заставила мальчика пронзительно вскрикнуть. Не соображая, что происходит, вопя от боли, Леня вскарабкался на низкий каменный забор, поджал ноги. И уже с забора огляделся. Белая голова на длинной шее тянулась к нему. Сверкал обведенный красной каемкой глаз.
— У-у, дрянь поганая!
Леня замахнулся на гуся и вдруг нащупал рукой глиняную кринку. Она сохла, надетая на кол. Леня схватил кринку и неловко ударил ею по гусиному клюву. Кринка вырвалась из Лениной руки, звонко брякнулась о камни забора, свалилась на спину гуся, потом на землю и там распалась на куски.
— Ты что мои кринки ломаешь? Что тебя на забор вознесло? Вот я тебя хворостиной!
От крыльца мелкими шажками бежала бабка. Изборожденное морщинами лицо ее было разгневано. За бабкой неслась девчонка с белыми косичками. Откуда-то подскочил Витька и, красный, рассерженный, стащил с забора ревущего Леню.
Бабка ахала и охала. Гусак шипел. Девчонка громко хохотала. Витька возмущенно кричал:
— Почему, ну, почему все гуси на тебя накидываются?
Сквозь плач Леня услышал старческий утешающий голос:
— Не реви. Кринка-то старая. Съешь абрикосика.
Но Леня увернулся от сухонькой руки, гладившей его по голове.
Дальше он ехал молча, изредка вздыхая и один за другим отправляя в рот абрикосы. Ноги Лени, исщипанные злобной птицей, горели. Слезы испарились на жаре и стянули кожу, от этого щеки как-то затвердели.
Но все беды были забыты, когда из-за пологого холмика показались черепичные крыши, весело выглядывавшие из густой зелени садов. Потянуло прохладой.
И вот пустые бочки загрохотали на мосту. Соскользнув с косогорчика, машина выкатилась на берег реки. Для того, чтобы этот момент наступил, Леня готов был вытерпеть не одно гусиное нападение.
Речка! Что может сравниться с блаженством, которое испытывает человек, погрузившись в свежие, ласковые струи?
Под берегом вода темнозеленая: в ней купаются ветви ивняка, а посередине река голубая, морщится от ветерка, словно улыбается ребятишкам, которые самозабвенно плещутся, брызжутся, испуская радостные крики. Счастливцы те, кто живет у реки! Болтайся в воде целый день, и никакой тебя зной не проберет. Ну, хоть ненадолго, а и Леня отведет душу.
И он нырял, вскакивал на ноги, где мелко, на мягкое песчаное дно, махал руками, расшвыривая горстями воду, и опять с восторгом зарывался в прозрачные волны.
Витька, Паша и Веня набирали ведрами воду. Прежде чем зачерпнуть, они каждый раз окунались с головой. Кому Леня поражался, так это Сергею Артемовичу: шофер курил, сидя на пригорке и рассеянно поглядывал на усердных водоносов, а в воду лезть и не думал.
Несколько раз брат крикнул Лене, чтобы тот выходил из воды, но Леня делал вид, что не слышит.
— Смотри, Ленька, без тебя уедем! — Витька поднял ведро и, перегнувшись на одну сторону, понес его к машине. На ходу бросил через плечо: — Больше ты с нами не поедешь!
Эту угрозу, хоть и произнесенную вполголоса, Леня услышал сразу. Он выскочил из воды и, с сожалением чувствуя, как обсыхает на бегу, догнал брата.
— Витя, а что это на поле? Во-он, видишь?
— Хлопчатник.
— А почему он такой зеленый-зеленый? И густой. А помнишь, мы ехали, тоже хлопчатник был. А какой редкий и вовсе не такой. Обгрызанный точно. Суслики его, может, съели?
— Да при чем тут суслики? Просто вода здесь есть. Орошение действует. Оттого всё и растет.
— Дай я помогу тебе ведро тащить! — попросил Леня.
— Сам донесу.
Обратно Леня ехал в кузове. Витькиного присмотра он уже не опасался: посреди степи не ссадят.
А что это Витька смотрит на него с таким осуждением?
— Леня, где твоя футболка?
Леня оглядел себя, похлопал ладонями по голой груди. В самом деле, куда девалась футболка? Кажется, была на нем по дороге. На речке, что ли, забыл?
Недоуменно пожав плечами, Леня пробрался между бочками к заднему борту, подальше от Витьки. Продолжать разговор о футболке не имело смысла.
В бочках колыхалась вода. В воде отражалось небо. Тут оно было мутносинее, грозовое, а не как над головой — яркое, сверкающее, без единого облачка. На крутых поворотах вода понемножку выплескивалась, и тогда небо в бочке покрывалось волнами. Леня поворошил его пальцами.
Хорошо как, прохладненько! Вот уже обе Ленины руки полощутся в воде, разгоняя волны-тучи.
Бочка высокая, но если подтянуться на руках, крепко опершись ими о борт, можно взобраться на край. Сидеть на узкой, острой и закругленной стенке очень неудобно, зато теперь прохладно ногам.
Машина подскочила на кочке. Бултых! Леня не удержался на своем неудобном сиденье и свалился в бочку. Разогретое тело обняла прохлада. Оказывается, самое большое удовольствие — это ехать в воде. Дух захватывает от восторга: «Я и на машине качусь и купаюсь — всё сразу!»
Из-за края бочки Леня выглядывал осторожно и снова прятался. Мальчики стояли лицом к кабине, спиной к Лене, и не видели, какая рыбина резвится в бочке.
«Море» в бочке не отличалось спокойствием: Леню колыхало и качало, особенно когда машина взлетала на пригорки. Иногда его колотило о деревянные стенки… Но это всё ничего не значило.
Леня гордо осматривал местность. Знакомые места! Вон тот забор, на который он взгромоздился. А вон бабка стоит на крылечке. Достань-ка сейчас хворостиной!
Почти до самого лагеря Леня болтался в воде, к сожалению, сильно потеплевшей. Только когда до палаток осталось рукой подать, он выбрался наружу. И, конечно, сразу обсох. Высыхало на глазах и дно кузова. Если бы не стало в одной бочке поменьше воды, то словно бы Леня и не купался.
Когда грузовик проезжал мимо палатки почвоведов, живущих на краю лагеря, Леню окликнул девичий голос:
— Леня, ты потерял футболку?
— Наверно, — ответил Леня.
— Возьми в палатке у Муси. Она там.
— Витька! — крикнул Леня. — Моя футболка в палатке у Муси.
— А мне-то что?
— Так ты же спрашивал, где она.
Опять лилась вода в шурфы. Но Леня в них уже не заглядывал. Он сидел под машиной, в холодке. Жарко…
У палаток, на примусах, где загороженных ящиками, а где и просто на земле, без всяких прикрытий, дежурные готовили обед.
Вскоре растянули на земле брезент, сверху постелили: кто — клеенку, кто — настоящую скатерть. Расставили тарелки.
Под машину, где Леня спасался от пекла, заглянула Муся.
— Пойдем лапшу есть. Живо!
Она за руку вытянула Леню из-под машины.
Дядя Степа обедал вместе с геологами.
— Прошел слушок, что кого-то гусь чуть совсем не заел, — сказал он грустно. — Кого бы это? Не знаете, девушки?
— И вовсе не совсем, а только за ноги пощипал, — сердито сказал Леня.
Все засмеялись, а Леня отвернулся. Съев полную миску густой лапши, он поднялся.
— Спасибо. Я больше не хочу.
Неторопливо он пошел мимо палаток. Где бы посидеть в холодке?
У следующей палатки Леню уговаривали отведать каши. Но тут, в обществе почвоведов и бурильщиков, он только выпил огромную кружку чаю с конфетами.
Затем на все приглашения к столу Леня лишь мотал отрицательно головой: ни кусочка больше не могло поместиться в его животе. А мама боялась, что он голодным останется!
Отяжелевший от еды, Леня уселся в тени у входа в одну из палаток. Заглянул внутрь. Ящики стоят. В них, наверно, инструменты, приборы, карты, образцы. Матрацы, одеяла и подушки, скатанные, лежат у стенок. Но один матрац расстелен. Чья это палатка? Каких геологов? Но кто бы тут ни жил, хозяева палатки — люди хорошие и не рассердятся, если Леня посидит на их матраце.
Когда через некоторое время в палатку вошел Кедров, он увидел раскинувшегося на матраце полуголого мальчика. Солнце светило ему на нос, и он морщился во сне. Кедров улыбнулся и оттянул матрац в глубь палатки.
* * *
Проснулся Леня от сильного шума. У входа в палатку толпились девушки — уже не в брюках, а в летних цветастых платьях, — парни, взрослые мужчины и женщины. Многих Леня видел впервые. Все они, перебивая друг друга, говорили о какой-то замечательной лекции, которую только что слышали.
— Ну, я думаю. Этот профессор известный специалист по лессовым почвам.
Пока Леня спал, приехала еще одна экспедиция с профессорами и с лекциями, — ясно.
Трещали сверчки. В небе догорал закат, и длинные мягкие тени расползались по полю. Воздух был нежен и ласков. Дышалось легко.
Леню окликнула высокая Аня, Мусина подруга:
— Леня, ты нашел свою футболку?
Подумав, Леня ответил:
— Ее нашли.
Он побродил по вечернему лагерю, с любопытством рассматривая новых людей. Вдруг кто-то обхватил его сзади поперек живота.
— Попался, голубчик!
Дядя Степа сообщил таинственно:
— Мне сейчас, знаешь, анализы в контору отвезти надо.
— Вернешься скоро? Мы бы с тобой поиграли как-нибудь.
— Я-то, брат, вернусь… Айда к машине! Я тебе что-то интересное покажу, — в кабине у меня.
У машины Тимаков скомандовал:
— Ну-ка! Глаза закрой, руки вверх!
Леня послушно зажмурился и поднял руки. В ту же минуту на нем очутилась футболка. Она положительно преследовала его, спасенья от нее не было.
— А теперь где хотите ехать, товарищ будущий капитан? Наверху либо в кабиночке?
— А зачем мне ехать?
— Зачем? Домой пора! Вот зачем.
— Увезти меня хочешь? Дядя Степа-а! Я здесь ночевать останусь.
— Ночной пропуск тебе нынче не выписан.
— Не поеду-у! Дя-а-дя Степа!
— Прения прекращены за недостатком времени.
Неумолимый Тимаков засунул Леню в кабину и еще придержал его локтем, усаживаясь на свое водительское место.
* * *
Двор был погружен в темноту. Фонари освещали лишь крыльцо, дорожку, калитку. Мерцали звезды. Казалось, что прикреплены они к небосводу непрочно, еле держатся и, того гляди, посыплются вниз. Что-то ворошилось в кустах сирени, должно быть, воробьи укладывались там спать.
За раскрытыми окнами конторы стояла тихая темнота. Мамы не было, куда-то она ушла, может быть, даже уехала. Бумажки с анализами Тимаков передал высокому инженеру в белом парусиновом костюме еще у ворот.
И зачем дядя Степа приволок его, спрашивается?
Леня слонялся по двору, выходил и стоял у калитки, опять забредал во двор. Делать было решительно нечего. Вероятно, уже поздно, и можно бы и в постель, но спать ему совсем не хотелось.
Вышла из дома и прошла в глубь двора тетя Серафима, Галина мама, в красном сарафане, который сейчас казался черным. Возвращаясь, она заметила Леню.
— Пойдем к нам, посиди, пока мама придет.
— А где мама?
— По делу ушла. Иди, ужинать дам.
Нет, ужинать Леня не имел ни малейшего желания.
— Я тут маму подожду.
Тетя Серафима ушла в дом.
Потихоньку Леня побрел вдоль улицы, попадая в полосы света, падавшие из окон домиков, и опять вступая во мрак, точно нырял по волнам. Яркое место — гребень волны, темное — скат вниз.
Невидимые кроны деревьев дышали теплом из-за заборов, листва с чем-то шептала.
В освещенном окне был виден стол, покрытый белой скатертью. Две девочки — одна стриженая, другая с косами — и бритый старичок в очках пили чай из блюдечек с синей каемкой. Старшая девочка улыбнулась и погрозила пальцем сестренке.
— Ты чего? — спросил Леня.
Девочка не ответила, а, не глядя на Леню, приподняла над скатертью блюдце и приложилась к нему губами.
И вдруг Леня понял, что она его не видит и даже не знает, что он на нее смотрит. И тогда и обе девочки, и чашки, и старичок, и лампа под оранжевым абажуром, висевшая над столом, — всё показалось ему странным и точно ненастоящим.
Одна звездочка всё-таки не удержалась и покатилась вниз, оставляя за собой тонкий светлый хвостик, который тут же погас. Лене стало грустно. Мама куда-то ушла, Витька остался в степи, дядя Степа укатил, и Леня вдруг оказался один на свете. А что если Галя не сказала маме, что Леня уехал к Вите? Тогда мама повсюду бегала, искала Леню, испуганная, растерянная. Он там веселился, ездил, купался, а мама, может быть, и не обедала. От внезапной жалости к маме Леня засопел, споткнулся о камень и больно ушиб палец на ноге. Он опустился на землю и схватился рукой за палец. Звезды подмигивали в вышине и словно дразнили Леню. Ему стало так горько и одиноко, что захотелось плакать.
И вдруг в тишине раздалось:
— Ле-оня!
Услышав этот голос, Леня вскочил. Забыв про боль в пальце, он помчался со всех ног. И вот Ленины руки сцепились вокруг маминой шеи.
— Я велел Гале сказать тебе, что я уехал! Я велел! — бормочет он торопливо.
— Гале? Какой Гале?
— Да маленькой. Тети Симиной… Она тебе не сказала? — вскрикивает Леня.
— А-а, поняла. Эта малютка под вечер подошла ко мне и сообщила: «А Леня уехал».
— Под вечер?! И ты меня искала? — в голосе у Лени раскаяние.
Мама отвечает не сразу. Она ведет Леню за руку и о чем-то думает.
Потом говорит негромко, но таким тоном, что Лёня замедляет шаги и невольно задерживает дыхание.
— Если ты еще раз самовольно куда-нибудь удерешь, в тот же день я отправлю тебя к бабушке. Так и знай!. Нет, я не искала тебя, потому что дядя Степа сказал мне, что берет тебя с собой и привезет назад. Он заходил в контору. Ты напрасно прятался за бидоном, как трусишка. Ведь я бы отпустила тебя…
Леня краснеет от стыда, смущенно усмехается:
— А ты откуда знаешь, что я прятался?
— Видела в окно, как вы уезжали.
Налетает ветерок. По листве тополей пробегает быстрый шелест, точно насмешливый шопот.
Мама с Леней входят в комнату.
— От папы пришло письмо, — весело говорит мама и поворачивает выключатель. При свете видно, что глаза ее смеются. Леня понимает, что на этот раз он прощен. Он подпрыгивает и кричит в восторге:
— А я ведь на речке был! Мы купались! И знаешь, как за водой ехали, стадо вокруг нас, и не проехать! А гусь меня за ноги! А бабка давай ругаться за кринку, а после абрикосиков дала!
Столько Леня видел за день, столько было событий, и надо, чтобы мама обо всем узнала.
Уже напившись молока и, весь вымытый, чистый, с завязанным пальцем, лежа под прохладной простыней, он всё еще без умолку болтает.
— Спи! Спи! Завтра доскажешь, — говорит мама.
— Завтра нескоро…
На минутку Леня закрывает глаза и вдруг видит степь. Только она не желтая и не серая, а голубая, и течет, колышется под теплым ветром. Да это вода! Леня берет маму за руку, чтобы она его не искала. Они погружаются в воду и вместе плывут, смеясь от радости.
И. Демьянов Здесь до осени проживем
Рис. В. Ветрогонского
Просыпаются листья дубравы, Ветер тронул вершин басы. Ночь ушла, обронив на травы Жемчуг круглой густой росы День выходит зарею розовой, И горит облаков гряда… Гулко падает с камня в озеро С солнцем смешанная вода! Утки дикие с криком сели — Их покачивает волна. А вокруг — молодая зелень Так и манит к себе она! «Зис», рыча, переехал мостик, Клокотала река под ним… Мы приехали к солнцу в гости, К водам, искристым, голубым!.. Вот и домик, лесами сжатый. Пахнет утро смолой и мхом. — Выходите, — сказал вожатый, Здесь до осени проживем!И. Демьянов Огоньки
Рис. В. Ветрогонского
Там, где берег яркой зеленью зарос, Где хоть камешки считай на дне реки, На пригорках у развесистых берез — Полевых цветов живые огоньки. И не гасит их ни ветер, ни гроза, После дождика сильней еще горят! Можно, кажется, обжечь о них глаза — Столько яркости в себе они хранят! И такой под каждым деревом уют! И такая на пригорках тишина! Только слышно, как кузнечики куют, Камышом шуршит у берега волна. И куда ты ни посмотришь, — от реки Всюду светятся и радуют глаза Полевых цветов живые огоньки. И не гасит их ни ветер, ни гроза!И. Демьянов В походе
Рис. В. Ветрогонского
Не в обиде мы на лето: В это лето много света, И тепла и солнца много, Синь озер и синь небес… Меж лугов бежит дорога, И за рощицей у стога Поворачивает в лес. Ветерок — ребята рады, Быстрокрылому, ему: Это лето в Ленинграде Горячее, чем в Крыму! На кустах щебечут птицы, И стоит в полях стеной Чуть шуршащая пшеница… Стали бронзовые лица. Хорошо б водой облиться Из колодца ледяной! Сеня шутит на пригорке, Став под самые лучи: — Может солнышко пятерку В это лето получить! — Но сказал смеясь Сережа, Быстро прячась за кусты: — Не хвали, зазнаться может Солнце так же, как и ты!.. — Шлет прохладу лес косматый, И уже издалека Отдыхающим ребятам Улыбается река.С. Гансовский Воры
Рис. И. Ксенофонтова
— Ну, повтори еще раз… Ты что, не слышишь, что я говорю?…
Мальчик не отвечал. Он смотрел, задумавшись, в окно.
Женщина на постели дернулась под серым одеялом.
— Том! — голос у нее был нервный и высокий.
— Да, мама. — Большие серые глаза мальчика остановились на раздраженном лице женщины.
— Ты слышишь, что я говорю?
— Слышу.
Мальчик как будто очнулся от сна.
— Так что же ты не делаешь?
— А что делать? — глаза у мальчика были недоумевающие, задумчивые.
Женщина приподнялась на постели, одеяло соскочило с плеча, обнажая бледную сухую кожу. Она встряхнула длинными, не чесаными черными волосами.
— Ты убить меня хочешь. Дай воды!
Мальчик в углу комнаты приподнял эмалированную крышку с ведра и зачерпнул кружкой. На мальчике была полосатая трикотажная рубашка, какие носят ребята в городе, и вытертые бархатные штаны до колен.
Он подал матери воду. Она выпила половину кружки и выплеснула остаток на пол.
— Ты, наверно, хочешь меня убить.
— Да нет, мама. Зачем ты так говоришь?…
— Ну повтори всё, что ты скажешь там.
— Да зачем? Я же знаю.
Женщина гневно взмахнула рукой.
— Ну ладно, ладно. Я сейчас… Я подойду к окошку, постучу. И, когда мне откроют, скажу…
— Дурак! — Женщина в отчаянье приподнялась и опять бессильно упала на серую подушку. — Дурак! Вот совсем не так. Сначала ты подашь квитанцию. Если ты сначала начнешь говорить, он захлопнет окошко и не станет ничего слушать.
— Ну да! Я забыл… Сначала я подам квитанцию, а потом начну говорить. — Голос у мальчика был монотонный. Он смотрел всё туда же, в окно, где в солнечном луче искрились пылинки. — Я скажу, что папа прислал нам денег из Висконсина, но мама больна и не может за ними прийти. Она послала меня и дала мне квитанцию.
— Ну, и дальше?
— Всё.
— А если он спросит, ходишь ли ты в школу и есть ли у тебя школьное удостоверение, — что ты скажешь?
— Я скажу, что не хожу в школу, потому что мы приехали сюда недавно, и я не успел начать.
— Ну а потом?
— Потом я сосчитаю деньги.
— Не отходя от окошка?
— Не отходя от окошка.
— Потом?
— Потом зашпилю карман булавкой и буду держать его вот так.
— Сколько должно быть денег?
— Сорок два доллара… И сразу пойду домой, никуда не заходя и не глядя по сторонам.
— Ты знаешь, для чего нам нужны деньги?
— Знаю. Ведь ты же объясняла.
— Ну ладно. — Женщина облегченно откинулась на подушку. Он; пошарила рукой по груди. — Если бы не это, я бы сама пошла. Разве можно тебя посылать за деньгами!
Мальчик повернулся и пошел к двери. Женщина смотрела на его маленькую фигурку. На локте полосатая рубашка у него была чуть-чуть продрана. Мальчик взялся за деревянную ручку двери.
— Том!
— Что?
— Поцелуй меня.
Он вышел и зажмурился от солнечного света. Бараки на этой окраинной улице стояли далеко один от другого. Чахлые травинки росли между булыжниками. Сразу за их домом начинались железнодорожные пути. Красные, синие, фиолетовые вагоны стояли на рельсах.
Где-то далеко прогудел паровозный гудок. Значит, 10 часов. Хорошо в городе! Всегда знаешь, сколько времени. У каждого часа свои звуки. Утром в 6 часов за стенкой начинает ругаться Джаспер. Он всегда ругается, пока встает и пьет кофе. Потом проезжает фургон молочника. Колеса стучат по булыжнику, — 7 часов. На этой улице редко кто берет молоко, но он тут ездит, потому что ему ближе.
Потом пригородные поезда. Каждый час. Не то, что на ферме. Там только три времени. Утро — надо выгонять корову и теленка. Полдень — мать приходит доить и приносит ему завтрак. Вечер — корову гнать обратно. А зимой совсем нет времени, — сидишь весь день в комнате и смотришь на двор в продутый в стекле кружок.
Хорошо в городе! Можно ходить по улицам и рассматривать дома, магазины, трамваи. Можно пойти в порт и смотреть на корабли.
* * *
— А сколько тебе лет? — спросил кассир.
— Одиннадцать.
— Откуда же вы приехали?
— Из Висконсина. Там у нас была ферма. Папа остался работать в лесу, а мы приехали сюда к бабушке.
— А почему же бабушка не пришла за деньгами?
— Она умерла. Два месяца тому назад.
— Ну, ладно. Вот сосчитай. Сорок два доллара. Смотри, чтобы у тебя не украли. Сразу иди к матери домой.
— Спасибо, мистер.
Кассир скучающе оглядел маленький зал почтового отделения с кафельным полом и серыми стенами. Небольшая очередь стоит за письмами у барьера напротив. За столом толстый небритый мужчина пишет письмо. В углу возле телефона-автомата высокий тощий брюнет шарит в карманах, ищет монетку. За деньгами больше никого нет.
Кассир захлопнул окошко. Мальчик пересчитал еще раз деньги. Всё правильно. Он сунул деньги в карман, вытащил из другого кармана булавку.
— М-м-м!
— Что? — мальчик обернулся.
Перед ним стоял мужчина в полосатом измятом пиджаке и темных брюках. Мужчина был высокого роста. С подвижным, нервно дергающимся лицом, с черными седеющими всклокоченными волосами. У него был высокий лоб с залысинами, глубокие морщины возле рта.
— Что, мистер? — недоуменно спросил мальчик, держа в руке булавку.
Мужчина показал себе пальцем на губы и помотал головой. Потом он взял себя за ухо и снова помотал головой. У него были блестящие черные глаза. На доске барьера он показал, переставляя пальцы, что надо куда-то идти.
На лице у мальчика были недоумение и растерянность. Он широко раскрыл серые глаза и отступил на шаг, прижав руки к груди.
— Я вас не понимаю, мистер. Вы не можете говорить?
Мужчина помычал. Он начертил в воздухе пальцем какую-то фигуру.
Он требовал ответа.
Мальчик оглянулся по сторонам. Люди, стоящие в очереди за письмами до востребования, равнодушно смотрели на них. Толстый небритый мужчина за столом быстро писал что-то на грязном листе бумаги.
Мужчина в полосатом пиджаке рассердился. Он гневно ткнул мальчика пальцем в грудь, затем, так же зло, — себя. Он скорчил гримасу, выражающую презрение.
Мальчику было стыдно, что он не может помочь мужчине, и жалко его. Он догадывался, что это глухонемой. Он слышал про таких раньше, но никогда еще не видел их. Он старался понять, чего хочет мужчина, но не мог. Оттого, что все другие смотрели на него и видели, что он ничего не делает, чтобы помочь глухонемому, мальчику было стыдно. Он покраснел.
— Я вас не понимаю, мистер.
Мужчина зло махнул рукой, повернулся и отошел. С минуту он стоял, думая, что сделать, напряженно пожевывая губами. Потом он вытащил из кармана старую, потрепанную газету и огрызок карандаша и снова шагнул к мальчику. Он показывал теперь, что напишет свой вопрос на бумаге. Он взял мальчика за плечо и подтолкнул его к столу.
Мальчик обрадованно закивал головой. Конечно, если он напишет на бумаге, всё будет понятно.
Мужчина посадил мальчика на стул. Движения у него были нервные и порывистые.
— Да, да, мистер, — сказал мальчик с облегчением. — Пишите, пожалуйста.
Мужчина расстелил газету перед мальчиком. Рука у него была морщинистая и шершавая, с большими твердыми ногтями. Он сжал карандаш и начертил на газетном листе две длинных линии. Рука у него дрожала, и линии получились неровными. Потом он пересек их еще двумя новыми. Он опять замычал, стуча по газете карандашом.
Мальчик смотрел на него с отчаянием.
— Я не понимаю, мистер.
Теперь и другие заинтересовались тем, что спрашивал глухонемой. Толстый, небритый мужчина встал со своего места, обошел стол и склонился над газетой, придавив мальчика к столу мягким животом.
К ним подошла полная женщина, за ней еще одна, в красном свитере, брюнетка.
Глухонемой снова схватил карандаш. Он опять рисовал какие-то линии, стучал пальцем и карандашом по газете и требовательно мычал. Лицо его нервно подергивалось.
Мальчик сидел, растерянно сгорбившись. Газета почти сползла ему на колени. Никто кругом не мог понять, что хочет глухонемой.
— Не понимаю, — сказал небритый. — Он обращался к глухонемому. — Не понимаю, слышите? — Он отошел от мальчика.
Мужчина в полосатом пиджаке с отчаянием огляделся. Он ударил себя в грудь, схватил газету и, мыча, быстро вышел на улицу.
— Несчастные люди, эти глухонемые! — сказала полная женщина, возвращаясь к барьеру, где была ее очередь.
Мальчик растерянно смотрел вслед глухонемому. В одной руке у него была раскрытая булавка. Он взглянул на нее и вспомнил. Надо зашпилить карман. Скорее к маме.
Он встал и сунул руку в карман. Денег не было. Он сунул руку в другой карман — пусто! Опять в первый. Нет ничего. У него вспотел лоб, и он вытер его рукой, взъерошил светлые волосы. Опять в правый карман. Ничего нету. Совсем пусто.
Растерянно он посмотрел на стул, на котором только что сидел. Ничего. Под столом тоже не было денег. Губы у него дрожали. Но он сдержался и, бледный, с широко открытыми глазами, продолжал шарить по карманам.
Полная женщина, издали наблюдавшая за ним, подошла к нему:
— Ты что-нибудь потерял?
Мальчик поднял на нее глаза.
— Да, мисс. Вы не видели мои деньги?
— Какие деньги?
— Я только что получил вот тут, — он показал на окошко. — Сорок два доллара.
— Нет, не видела, — сказала женщина. — А куда же ты их дел?
— Я положил в карман.
— Я видела, как он получал, — вмешалась брюнетка в красном свитере.
— Ну, и их теперь нету? — продолжала полная.
— Нету.
— Это, наверное, толстый украл, — сказала брюнетка. — Они вдвоем с этим глухонемым. Я видела, когда сюда шла, как они стояли рядом.
— Что же вы не сказали? — спросила полная.
— А откуда я знала?
— Несчастный мальчишка! — сказала полная, отходя.
Мальчик шагнул за ней. Губы у него дрожали.
— Мисс…
— Ну что?
— Что же мне теперь делать?
— Вот глупый! Беги ищи их. Может быть, они еще где-нибудь тут.
Мальчик шагнул по кафельному полу к двери. Он оглянулся на полную женщину и шагнул еще раз, быстрее.
— Ты беги скорее, — сказала брюнетка. — Разве можно таких детей посылать за деньгами!
Мальчик выбежал на улицу. Солнечные лучи падали теперь вертикально на асфальт. На улице никого не было. Прогудел гудок — двенадцать часов.
* * *
— Ну, хорошо, — сказал дежурный по участку, сержант О’Флаэр. — Хорошо, — повторил он, глядя на стоявшего за барьером мальчика. — Кто его привел? Кто может всё рассказать?
— Его Маккормик привел, — сказал сидящий на деревянной скамье у стены полисмен. — Он тут рядом, в дежурке.
— Позовите его, — сказал сержант. Он разглядывал мальчишку. Серые большие глаза, светлые волосы. Худой, как все дети в этом районе. Одно колено в крови. Конечно, это он еще хорошо отделался.
Маккормик вошел, надевая фуражку. Другой рукой он вытирал пот с затылка. Он был красен, как начищенная медь, и, казалось, готов был перелиться через тугой воротник мундира. Дожевывая что-то, он отдал честь.
— Слушаю, сержант.
— Расскажите, как было дело, Маккормик.
— Вот, — сказал полисмен, вытирая платком лоб. — Я стою у папиросной лавки и разговариваю с греком, который там всегда продает земляные орехи. Появляется вот этот, — он махнул рукой в сторону мальчика. — Он встает у трамвайной линии и стоит. Остановки нету, у папиросной лавки. А он стоит и не переходит улицу. Я сначала подумал, что он хочет что-нибудь положить на рельсы, пистон какой-нибудь. Ну, у него был совсем растерянный вид. Такой вид, что он вот-вот что-нибудь выкинет похуже. «Тут что-то неладно, — говорю я греку. — Сейчас он что-нибудь выкинет».
— Короче, Маккормик. — Сержант вытащил платок и тоже вытер себе затылок.
— Сейчас, сержант. — Полисмен набрал воздуху. — Тогда я подхожу к нему. — Он опять показал на мальчика. — А он даже не слышит. Я ему кричу: «Эй!», — а он не слышит.
Мальчик стоял, опустив голову.
— Ну и вот, идет трамвай, — продолжал полисмен. — Я подхожу ближе. Трамвай уже недалеко. Тогда вот этот, — полисмен подтолкнул мальчика, — берет и ложится на рельсы. Чтоб мне провалиться на этом месте, — полисмен обвел глазами серые стены комнаты, призывая их в свидетели, — чтоб мне не сойти с места, он ложится на рельсы. Тогда я…
Он еще раз набрал воздуху. Сержант слушал его хмуро и нетерпеливо постукивал карандашом по столу.
— Тогда я прыгаю на рельсы, хватаю мальчишку за шею и вытаскиваю на другую сторону. Мне колесом чуть на пятку не наехало. Вот столько осталось. Ей-богу. Вожатый же не может сразу затормозить. Вот столько осталось. Не больше сантиметра.
— Ну, ладно, — сказал сержант. — Спасибо, Маккормик. Мальчик, как тебя зовут?
— Том, мистер, — сказал мальчик.
— Мне идти? — спросил полисмен.
— Нет, подождите, Маккормик. Как твоя фамилия? — он обращался к мальчику.
— Джонс.
— Лет?
— Что? — не понял мальчик. — Ах, сколько лет? Одиннадцать.
— Где живешь?
— В Латинском 10, на 26-й улице.
— Ого! — свистнул сержант. — Что же ты так далеко забрался лезть под трамвай?
Мальчик молчал.
— Зачем ты лез под трамвай? Что-нибудь дома случилось?
— У меня деньги украли, — сказал мальчик глухо. — Мама послала на почту, а там украли. Сорок два доллара.
Сержант промычал что-то неопределенное.
— Мистер, — мальчик с надеждой посмотрел на сержанта. — Может быть, вы их отберете?
— А ты знаешь, кто украл?
— Знаю. Двое мужчин. Мне одна женщина сказала.
— А где они теперь? Ты знаешь, кто эти мужчины?
— Нет, не знаю.
— Ну вот, видишь, — сержант вздохнул. — Как же я отберу деньги?
Мальчик опустил голову.
Сержант промычал что-то неопределенное. С минуту он сидел задумавшись, потом посмотрел на полисмена Маккормика, который сидел на скамье.
— Маккормик!
— Слушаю, сержант, — полисмен встал.
— Пожалуй, его придется проводить к матери, а то он опять чего-нибудь устроит.
— Конечно, — нерешительно сказал полисмен. — Ну и жарища стоит! До Латинского квартала километров восемь отсюда!
— Наверное, — прикинул сержант. — Часть можно на трамвае проехать.
Полисмен вздохнул.
— На трамвае еще хуже. Такая давка, что скорее пешком дойдешь.
Сержант пожал плечами.
— 26-я — это в самом конце, — сказал полисмен. — Туда и трамваи-то всё равно не ходят.
— Не знаю, — сказал сержант. — Я там давно не был. Ну действуйте, Маккормик.
— Ладно, — полисмен еще раз тяжело вздохнул. Он надел фуражку и отвернулся от барьера, ко затем снова шагнул к нему. — А что, сержант, если его вывести из нашего района и пустить? Больше он, пожалуй, не сунется под трамвай. Не полезешь, мальчик, — правда?
— Отпустите меня, — горячо сказал мальчик. — Отпустите. — Он взялся руками за барьер, напряженно и с мольбой глядя на сержанта. — Мне нельзя домой! Отпустите!
— Маккормик, — сказал сержант, вставая. — Отведите его домой. Поняли? Если его оставить, так он, чорт его знает, что сделает.
— Ну, конечно, — сказал полисмен. — Тогда придется доставить.
— Идите, Маккормик. — Сержант схватил телефонную трубку и с ожесточением принялся набирать номер. — Ну, конечно, до этих пожарных никак не дозвонишься.
Полисмен злобно рванул мальчика от барьера.
— Пойдем, что ли!
Недавнее возбуждение покинуло мальчика. Он покорно шагнул к двери.
Проходя мимо другого полисмена, Маккормик показал ему два пальца:
— Вот столько было от меня до трамвая. Не больше двух сантиметров… Ну, иди, ты.
Они прошли квартал до перекрестка. Полисмен поминутно вытирал затылок большим красным платком. Его тяжелые каблуки выдавливали на мягком асфальте полукруглые ямки. Мальчик плелся понурившись.
Напротив, за трамвайной линией, в парке листва на деревьях стала совсем серой от пыли. Прохожие старались прятаться от солнца под тентами у витрин магазинов.
— Чорт знает, что такое, — сказал полисмен останавливаясь. — Чорт знает, что такое. — Он смотрел со злостью на давно нестриженным затылок мальчика с завитками светлых волос. — Постой-ка, я выпью кружку пива.
Он повернулся спиной к мальчику и подошел к пивному ларьку. Двое ирландцев-каменщиков в запачканных штукатуркой комбинезонах подвинулись, давая ему место у прилавка. Большой красной рукой полисмен взял кружку и не отрываясь выпил ее. Он оглянулся на мальчика. Тот стоял на том же месте, где его оставили.
Полисмен со злостью стукнул кружкой о прилавок.
— Идем, что ли! — он толкнул мальчика вперед.
— Не платит? — спросил один из каменщиков у продавца.
— Что? — мужчина поднял голову.
— За пиво, говорю, не платит? — каменщик кивнул в сторону уходящего полисмена.
Продавец, усатый, тощий, махнул рукой.
— Этот никогда не платит. Другие так иногда бросят десять-двадцать центов. А этот никогда.
Мальчик и полисмен прошли еще полквартала. Полисмен что-то бормотал сердито. Напротив входа в парк он остановился.
— Ну что, так и будешь идти?
— Что, мистер? — не понял мальчик.
— Что будешь делать, говорю?
— Не знаю, — мальчик покачал головой.
Полисмен расстегнул верхний крючок на мундире и снял фуражку. Он оглянулся в сторону участка.
— Слушай. Видишь этот парк? — Толстым пальцем он показал на раскрытые решетчатые ворота, за которыми на выжженной солнцем аллее стояли пустые скамьи.
— Вижу, мистер, — мальчик кивнул.
— Так вот, ты пойдешь в этот парк и выйдешь через те ворота, другие. Понял?
— Да, — прошептал мальчик.
— Там уже не наш район, — понимаешь?
— Да, — также шопотом ответил мальчик.
— Там ты можешь делать, что хочешь… Но если ты вернешься сюда, — полисмен оглянулся, — я тебе все кости переломаю, — слышал?
Мальчик кивнул.
— Ну что ты стоишь? Иди!
Мальчик с тоской посмотрел на заполненную трамваями, быстро движущимися автомобилями и автобусами улицу. Потом он повернулся к полисмену.
— Мистер…
— Ну что?
— А потом?
— Что потом?
— Куда мне идти потом?
— Домой. Знаешь, где твой дом?
Мальчик не ответил. Он кивнул. Затем он прижал руку к сердцу и подошел к краю тротуара. Он как будто бы не решался перейти улицу.
— Иди, иди, — сказал полисмен.
Мальчик оглянулся. Чуть слышно он сказал.
— Спасибо, мистер.
Полисмен махнул рукой.
— Иди, иди. Не задерживайся.
Мальчик осторожно, как пробуют ногой, не тонок ли лед, ступил с тротуара на мостовую.
* * *
Тени на пустынной аллее парка удлинились. Где-то далеко, на входящих в город стальных магистралях Северо-западной закричал, приближаясь к вокзалу, тяжело дышащий четырехчасовой поезд.
Мальчик, сидящий на скамье, поднял голову. Надо идти. Куда идти?
Напротив, чуть наискосок от него, на скамье расположился человек в полосатом измятом пиджаке. У него были седеющие, всклокоченные волосы, подвижное, нервное лицо. Рядом с ним на старой помятой газете лежала стопка бутербродов с яйцами. Мужчина ел бутерброды один за другим, сосредоточенно глядя перед собой на скудно посыпанную песком землю аллеи. Он ел неопрятно и торопливо. Едва успевая разжевать один кусок, он откусывал другой.
Мальчик увидел мужчину в тот момент, когда тот взялся за третий бутерброд. Лицо у мальчика побледнело, потом покраснело. Серые глаза расширились. Он поднялся, не сводя взгляда с мужчины. Несколько мгновений он стоял, сжав руки, потом шагнул раз, другой, третий. Мужчина не замечал его.
— Мистер, — это было сказано тихо-тихо, почти шопотом.
— Да! — мужчина вздрогнул. Он посмотрел на мальчика, продолжая жевать.
— Мистер, — голос мальчика стал еще тише, — отдайте мои деньги.
— Что! — глаза мужчины расширились. Он вскочил. На лице у него было выражение ужаса и растерянности. Так они стояли с минуту, глядя друг на друга. Мужчина тяжело дышал Он приложил руку к сердцу. Затем напряжение оставило мужчину. Он огляделся. Они были одни на аллее Мужчина сел и сказал:
— Какие деньги? Что ты несешь?
— Мои деньги, мамины, которые вы… которые вы взяли на почте.
— Не знаю я никакой почты, — мужчина попытался рассмеяться. Которая почта? — Дрожащей рукой он взял бутерброд. — Ничего я не знаю. Не приставай ко мне. — Он огляделся еще раз.
— Мистер, — мальчик осторожно сел на край скамьи. — Мистер, я вас очень прошу.
Мужчина продолжал есть, не глядя на мальчика. Губы у него дрожали. Он глотал куски с видимым усилием.
Мальчик придвинулся ближе.
— Мистер, — голос у него был просительный и чуть хриплый. — Я не могу домой прийти.
— Слушай, мальчик! — закричал мужчина, вскакивая.
Мальчик испуганно отодвинулся.
— Если ты сейчас не… — Он не окончил и сел, запахнув полосатые полы пиджака. С мрачным видом он уставился перед собой. — Я буду есть. Не мешай мне. — Он взял следующий бутерброд и с ожесточением засунул его себе в рот.
— Мистер, — в голосе у мальчика были слезы. — Мама ждет.
Мужчина не смотрел на него. Он с трудом, так что на шее у него вздулись жилы, проглотил большой кусок. Так они оба сидели молча. Двое голубей спустились возле ног мужчины и, деловито воркуя, принялись клевать рассыпанные крошки яйца и булки.
— Мистер, — мальчик не знал, что сказать. На лице у него было отчаяние.
— Послушай, — сказал мужчина, выходя из задумчивости. — Позови полисмена, раз я украл твои деньги. Почему ты не позовешь полисмена? — Он огляделся.
— Не знаю, — сказал мальчик грустно.
Мужчина саркастически рассмеялся. С видом превосходства он сунул руки в карманы и вытянул ноги. Один ботинок у него был разорван: подошва отстала сверху от носка.
— Ты не можешь, — сказал он, — позвать полисмена, потому что у тебя нет доказательств. Ведь не можешь, да?…
Мальчик молчал.
— Ну что же ты молчишь?
— Не знаю. — Мальчик смотрел теперь на последний, лежащий на газетном листе бутерброд с яйцом. Один из голубей вскочил на скамью, и мальчик согнал его почти бессознательным движением. Затем он проглотил слюну и взглянул на мужчину.
— Да-а… — сказал тот протяжно. Затем он потер рукой небритую щеку. — Хочешь есть, да?
Мальчик кивнул.
— Ну ешь, — сказал мужчина. — Он подвинул газету с бутербродом к мальчику и отвернулся. Мальчик взял бутерброд.
— Спасибо, мистер.
— Что? — мужчина повернулся к мальчику.
— Спасибо!
— А-а-а… — Мужчина снова отвернулся, скрестив руки на груди. «Нет, — сказал он сам себе, — я не могу отдать ему деньги. Не могу». — Ты знаешь, — он резко повернулся к мальчику, и тот привстал в страхе, держа остаток бутерброда в руке. — Я не ел два дня. А сегодня я ем третий раз. Не могу наесться. Что увижу на улице, то и беру. Я год без работы. Год!
Мальчик кивнул и снова взялся за бутерброд. Он проглотил последний кусок.
— Ты хочешь получить деньги обратно? — сказал мужчина, вставая. Голуби вспорхнули от его резкого движения.
— Ты хочешь денег? Хорошо! Тогда убей меня!
Он огляделся и, увидев лежащий за скамейкой обломок кирпича, нагнулся и схватил его. «Убей меня. На!» — Он протягивал обломок мальчику.
Тот в страхе попятился.
Мужчина посмотрел на него, швырнул обломок в редкие кусты пошли скамьи и сел.
— Ты поел? — спросил он.
Мальчик кивнул.
— Ну иди.
— Куда?
— Куда хочешь… Вот туда. — Мужчина махнул рукой в сторону главного входа, откуда мальчик пришел.
— А деньги? — мальчик шагнул к мужчине.
— Пошел вон! — он замахнулся на мальчика. — Пошел, слышишь? — Мальчик беспомощно огляделся.
— Иди, ну… — мужчина угрожающе привстал.
Мальчик повернулся и понурившись пошел к выходу.
Мужчина проводил его взглядом. Две-три минуты он сидел, нервно постукивая костяшками пальцев по скамье и угрюмо бормоча что-то себе под нос. Затем он порывисто встал, снова сел, опять встал и побежал вслед за мальчиком.
Он догнал его на улице. Том стоял на краю тротуара, безучастно глядя на бегущие мимо автобусы.
Мужчина взял мальчика за плечо:
— Иди-ка сюда.
Мальчик без удивления последовал за мужчиной. Они вернулись на ту же скамейку и сели, отогнав голубей, клюющих на аллее крошки.
— Как тебя зовут?
— Том.
— Сколько тебе лет?
— Одиннадцать.
— Почему же ты сам пошел на почту? Где же твоя мама?
— Мама больна.
— Чем она больна?
— Она говорит, что у нее в груди, как камень. Мы не знаем.
— А папа? Где твой папа?
— Он в Висконсине. Это он прислал денег.
— Что он там делает?
— Не знаю. Мама говорит, что он должен что-то сделать, иначе мы все пропадем.
Мужчина поднял вверх сжатые в кулаки руки.
— Мадонна! — Он горестно сжал руки, затем обнял мальчика за плечи. — Мадонна, за что ты караешь меня? Конечно, я отдам тебе деньги. Разве я вор? Разве я вор? Посмотри на эти руки. — Он протянул мальчику ладони с твердыми желтыми мозолями. — Они уже никогда не сойдут, эти мозоли. Я двадцать лет работал. Я уложил тысячи километров труб. Я был укладчиком труб. Меня зовут Пабло. Слышишь?
Мальчик молчал.
— Конечно, я отдам тебе деньги. — Мужчина судорожно полез в карман. — Разве можно тебя посылать за деньгами! Тебя же могут обворовать. — Он вытащил из кармана несколько смятых бумажек. — Вот видишь, здесь 18 долларов. Возьми.
Мальчик протянул руку и взял кредитки. Он смотрел на них с минуту, потом поднял глаза на мужчину.
— Мистер… — в голосе у него было отчаяние. — Ведь тут не все.
— Да, не все, — сказал мужчина. Он опустил голову. — Я же уже проел два доллара. И потом вторая половина у Джузеппе. Мы ведь это сделали вместе. Но мы возьмем у него. — Он встал. — Пойдем скорее. Он может уплатить за квартиру.
Мальчик поднялся. Мужчина взял его за руку.
— Идем.
Они быстро пошли по аллее. Мальчик доверчиво смотрел снизу на худое, небритое лицо высокого мужчины.
* * *
— Вот здесь он живет, — сказал Пабло, показывая на верхние этажи большого неоштукатуренного дома.
Мальчик задрал голову. Обвитые двумя шаткими металлическими пожарными лестницами кирпичные этажи уходили в бесконечную высь. Между окнами прямо по стеклам были протянуты веревки. На некоторых висело белье.
Мальчик вздохнул.
— Устал? — спросил Пабло.
— Ничего, мистер, — сказал мальчик. — Мы пойдем наверх?
— Пойдем.
Волосы на лбу у мальчика слиплись от пота. Под глазами были круги.
По лестнице неслись смешанные запахи жареного мяса, мыльного пара и каких-то кож. На черных ступенях валялись обрывки бумаги, окурки, картофельные очистки. Здесь было темно, свет падал только из маленького окна в самом верху.
На втором этаже они вдруг услышали неистовый детский плач. Дверь с треском растворилась, и девочка лет тринадцати с растрепанными волосами выскочила на лестницу и с криком промчалась мимо них вниз.
Мальчик в испуге посторонился.
— Что это она?
Пабло пожал плечами.
— Тут всегда так.
Они дошли до пятого этажа. Мужчина толкнул дверь.
Тут не запирается, — пояснил он. — Никто не ворует, потому что нечего…
По темному коридору они дошли до двери Джузеппе. Пабло постучал. Изнутри что-то ответили на незнакомом мальчику языке.
Они вошли в полутемную, с низким потолком и неоштукатуренными стенами, комнату.
Возле стола стоял толстый небритый мужчина, тот самый, что подходил к мальчику на почте. В руках у него был ботинок.
Он вгляделся в мальчика, лицо его побледнело, глаза расширились. Он бросил ботинок на стол и глухо сказал что-то на том же языке.
Пабло подошел к нему и начал говорить что-то. Он оглянулся на мальчика и пояснил.
— Это мы по-итальянски. Мы итальянцы.
Джузеппе слушал его, тяжело дыша и глядя на мальчика.
Пабло говорил долго. На кровати, справа у стены, рядом с мальчиком зашевелилась какая-то темная груда. Он испуганно отодвинулся.
— Не бойся, — сказал Пабло оборачиваясь. — Это Мария. Она снимает здесь угол. Она пришла с работы и спит. Тут еще пять человек живет. Они придут к ночи.
Он снова принялся говорить что-то Джузеппе. Тот слушал его молча. Лицо у него было печальное. Он кивал головой, отчего у него тряслись обвисшие щеки.
Пабло повернулся к мальчику.
— Всё в порядке. Он отдает деньги.
— Пойдемте, — сказал Джузеппе. — Он подошел к мальчику. — Ты прости нас. — Он развел руками. — Видишь, как мы живем. — Он помолчал. — Некоторые думают, что я толстый, а я больной. Ну, пойдемте.
— А деньги, мистер? — Мальчик покраснел.
— Деньги? — Джузеппе заторопился. — Конечно, конечно. — Он вытащил из кармана три пятидолларовые бумажки. — Вот тут, видишь, пятнадцать. А еще пять надо просить у сборщика. Я ему заплатил в счет долга.
— Ну, идемте, — сказал Пабло. — Идемте скорее.
Когда они выходили в коридор, женщина, всё время молча лежавшая лицом к стене на постели, что-то сказала по-итальянски. Джузеппе ответил ей.
— Она говорит, — объяснил Пабло мальчику, — что сборщик не отдаст пяти долларов. А Джузеппе надеется, что отдаст.
Сборщик жил в первом этаже. Дверь выходила прямо во двор.
При первом взгляде на этого человека сразу было видно, что он не из тех, кто отдает обратно уже полученные деньги. Он был высок, худ, мрачен и молчалив.
Пабло и Джузеппе заговорили по-итальянски. Пабло жестикулировал. Клок черных седеющих волос прыгал у него на лбу. Сборщик слушал их не перебивая; он без всякого выражения на лице смотрел на мальчика.
Когда Пабло кончил свои объяснения и Джузеппе подтвердил их, кивнув головой и прижав толстую руку к груди, сборщик сказал одно короткое слово и повернулся к своей двери.
Пабло загородил ему дорогу. Он не говорил, а кричал. Он потрясал руками, поднимал их к небу и показывал на мальчика.
Сборщик молча отодвинул Пабло в сторону и пошел к себе. Дверь хлопнула.
— Нет, — сказал Пабло. — Это не такой человек. Он не отдает.
— Он неплохой человек, — мягко сказал Джузеппе. — Если он не от дал, он не может. — Он объяснил мальчику: — Ты не думай, что он плохой. Если он не будет собирать деньги, его выгонит хозяин.
Они стояли втроем молча. Мальчик прислонился к стене. Он почти уже не мог стоять на ногах. Заметно стемнело. В доме начали зажигаться огни. С верхних этажей донесся звук гитары и мужской высокий голос.
— Вот и всё, — сказал Джузеппе. — Нам уже ничего не сделать. Понимаешь? — он обращался к мальчику.
— Да, — мальчик задумчиво кивнул. — Да, мистер.
— Ты прости нас.
— Да, мистер, — сказал мальчик машинально.
Они помолчали. Затем Пабло осторожно сказал:
— Пожалуй, тебе нужно идти домой, мальчик.
— Да, мистер, — согласился мальчик.
Он оторвался от стены и улыбнулся растерянно. «Нужно идти. — Он смотрел на мужчин. — До свидания…»
Оба они смотрели на его маленькую фигуру в полосатой рубашке. Медленно, чуть прихрамывая от усталости, он побрел направо от ворот. Джузеппе и Пабло стояли молча и смотрели вслед мальчику.
— А где он живет? — спросил Джузеппе. — Он пошел направо.
— Кажется, в Латинском. — Пабло шагнул вперед. — Ведь ему надо я другую сторону…
Пабло нагнал мальчика, когда тот уже еще раз повернул направо.
— Куда же ты идешь? — Он взял мальчика за плечо.
Тот молча поднял на него глаза. Похудевшее за день лицо у него было совсем темным.
— Ты не знаешь, куда идти?
— Не знаю, мистер.
Пабло взял его за руку.
— Пойдем, я тебя доведу.
* * *
Уже совсем поздно вечером, когда на железнодорожных путях за жглись зеленые и красные огоньки и пригородные поезда начали съезжаться домой в депо, итальянец и мальчик пришли на улицу, где длинные деревянные бараки отстояли далеко один от другого.
Женщина, сидевшая, кутаясь в платок, на скамье у одного из бараков, поднялась на ноги. Она, пошатываясь, бросилась к мальчику. Она целовала и обнимала его и отталкивала от себя, чтобы рассмотреть, цел ли он, и снова прижимала к себе. Итальянец стоял молча, ожидая.
— Деньги, мама, — сказал, наконец, мальчик, вынимая из кармана пачку смятых бумажек. «Всё-таки хорошо, что ей стало лучше», — подумал он.
— Деньги! — женщина схватила кредитки и быстро пересчитала их. — Она взглянула на мальчика. — Здесь не хватает восьми долларов. Негодяй! — Она размахнулась и ударила мальчика по щеке. — Негодяй! — Она размахнулась снова.
— Синьора! — итальянец схватил ее за руку. — Это я украл деньги.
Мальчик сел на скамью. Он так устал, что только едва слышал сквозь сон, как кричала его мать, как Пабло пытался объяснить ей всё, что случилось. Затем они оба начали разговаривать спокойно. Пабло сел рядом с мальчиком. Оба они замолчали. Итальянец опустил голову.
Потом на улице раздался звук сирены. Светлое большое пятно поползло медленно по булыжнику, вырвав на минуту из темноты край черного платья матери и разорванный ботинок итальянца.
Переваливаясь на ухабах, прошла машина, большая летняя, белая, открытая машина — из тех, про которые пишут в журнальной рекламе: «Только для тех, кто любит самое лучшее». На мгновенье сверкнуло ветровое стекло, шофер, крепко схватившийся за руль, напряженно глядящий вперед, двое мужчин в светлых костюмах в кузове. Машина пошла дальше, а на мостовой у ног мальчика упал светлым огоньком окурок сигары.
Неожиданно итальянец вскочил:
— Мерзавцы! — закричал он вслед машине. — Мерзавцы! — Он нагнулся и, схватив окурок, швырнул его вслед машине. — Будьте вы прокляты!
Уже совсем засыпая, мальчик спрашивал себя: «Почему мерзавцы? Ведь они ничего плохого нам не сделали! Почему?»
С. Гансовский В городке
Рис. И. Ксенофонтова
Пыль по обеим сторонам дороги была выжжена солнцем до белизны. Окрашенная в голубой цвет металлическая колонка заправочной станции так нагрелась, что за нее нельзя было взяться рукой.
Служитель станции сидел в тени возле буфета и дремал. Когда вдали послышался шум машины, он поднял голову. Скрипнули тормоза. Из кабины приземистого «Шевроле», груженного бочками, выпрыгнул светловолосый тощий шофер в просторном для него зеленом комбинезоне. Направляясь к буфету, он кивнул служителю:
— Заправишь. Там совсем немного осталось.
В прохладной полутемной комнате буфета он бросил на прилавок монету.
— Стакан томатного.
Девушка за прилавком взяла чистый стакан.
— Не пообедаешь?
— Что мне обедать? Я через час дома буду.
Шофер выпил сок и посмотрел в окно. Служитель кончил заправку и вытирал теперь кузов.
— Как там ребята на текстильном? — спросила девушка.
— Держатся, — ответил шофер угрюмо.
Он уже хотел выйти из буфета, когда усталый на вид мужчина поднялся из-за столика. Ему было лет тридцать. Он был широкоплеч и высок.
— Эй, не подвезешь, приятель?
— Тебе куда? — спросил шофер.
— До города.
— У тебя что там — родные?
— Да, — неопределенно ответил мужчина. — У меня там есть кое-кто. Родные, то есть.
— Ладно, — неохотно сказал шофер. — Садись. — Он кивнул девушке.
Они сели в машину. Мужчина снял потрепанную брезентовую куртку и положил ее себе на колени. У него были меднокрасные загоревшие плечи, как у человека, который почти весь день проводит под палящим солнцем.
Шофер, не глядя на него, нажал сцепление и включил скорость.
Они ехали около получаса молча. Когда несколько поворотов осталось позади и перед ними протянулась прямая, как натянутая серебряная струна, дорога до самого города, шофер прибавил газу и взглянул на пассажира.
— У тебя тут в самом деле кто-нибудь есть, в городе? Или ты это так сказал?
Мужчина помедлил с ответом.
— Да нет, никого нету, — сказал он наконец.
Шофер опять покосился на его загорелые плечи, старую куртку на коленях и отвернулся молча.
Колеса шуршали по асфальту. Справа и слева неслась, убегая назад, выжженная солнцем серокоричневая земля с редкими кустиками желтой колючей травы.
Они ехали некоторое время, затем шофер спросил, не оборачиваясь:
— Бродяга?
— Нет, — неуверенно сказал мужчина. — Пожалуй, я не бродяга… Приходится таскаться с места на место. Где найдешь работу, а где нет… Если смотреть, сколько я городов переменил за последний год, тогда верно похоже, что бродяга.
— Тебе сколько лет?
— Двадцать пять, — сказал мужчина. — Еще не много.
Шофер не ответил. Мужчине хотелось поговорить, и он продолжал, цедя одно слово за другим и глядя вперед на однообразный степной пейзаж:
— У меня старики в Техасе сидят на ферме. Едят впроголодь, а одеться не на что. Отцу даже штанов не купить. А я как демобилизовался, так и валандаюсь.
— Член профсоюза?
— Нет… платить же надо.
— Ну, тогда, значит, бродяга, а не безработный.
— Может быть, — согласился мужчина. — Может быть, и бродяга.
— А тебе всё равно?
— Конечно.
Они долго ехали молча. Вдали, над горизонтом, показались первые признаки города — едва заметный отсюда дым заводской трубы. На дороге было пустынно.
— В нашем городе бродяг не любят, — сказал шофер. Он взглянул на мужчину, ожидая, что тот скажет в ответ, но мужчина только пожал мускулистыми плечами.
— У нас на текстильном комбинате бастуют, — сказал шофер. — Фирма бандитов нагнала в город — жуть. Это из тех, которых нанимают, чтобы забастовщиков усмирять. На каждом углу стоят вместе с быками;[11] у всех кастеты, револьверы. Ночью по городу не пройдешь. Да и днем тоже. — Теперь шофер всё время поглядывал на мужчину, но тот равнодушно молчал.
— Что же ты молчишь?
— А что мне говорить-то? — удивился мужчина.
— Не боишься гангстеров?
— А что мне их бояться? Что им с меня взять?
Криво усмехнувшись, шофер отвернулся.
Степь кругом была безлюдна. Дальше к горизонту она переходила в коричневые пологие холмы.
Они проехали еще около трех километров, и вдруг шофер резко затормозил и повернул к обочине. Бочки сзади в кузове загрохотали. Мотор заглох. Наступила необычная тишина. Шофер открыл дверцу с той стороны, где сидел мужчина.
— Слезай!
— Что? — мужчина удивленно огляделся. Они стояли в степи. Поблизости не было никаких признаков жилья.
— Слезай, говорю, — сказал шофер со злобой.
— Да ты что, взбесился? — спросил мужчина. — Ехали-ехали и вдруг — слезай! Почему это?
— А потому, — шофер выругался, — что вас таких много сейчас: в город торопится. Пронюхали, что забастовка, и сразу думаете: заработаем на чужом горе. Фирма только таких и ждет, чтобы открыть цеха.
— Так ты что, думаешь, что я?…
— Конечно, скеб,[12] — шофер сплюнул. — Вы бродяги все такие. Лишь бы заработать. А там люди неделями сидят голодные, с семьями.
— Да я, — сказал мужчина, — и не слышал, что у нас там комбинат есть.
— Все вы не слыхали. Слезай, — понял?
Ты бы хоть поближе довез. Километров пятнадцать еще, по такой жаре.
— Слезай, говорю, — шофер нагнулся и пошарил у себя в ногах. — Тресну гаечным ключом по голове, — перестанешь уговаривать. — Он сжал ключ в кулаке, со злобой глядя на мужчину.
— Ну ладно, ладно, — сказал тот. Он свертывал куртку. — Ладно, я слезу. Думаешь, я такой горячий, что полезу с тобой в драку? — Он вылез из кабины на раскаленный асфальт. — Дурак ты, вот кто. Высадить человека посредине дороги…
— Может быть, я и дурак, — сказал шофер, нажимая на стартер. — А ты скеб. Прогуляешься по жаре, не будешь такой охотник до работы.
— Это тебе, наверное, жара в голову ударила, — сказал мужчина. Но шофер уже не слышал его. Мотор взревел. Из глушителя пахнуло едким дымом — и грузовик умчался.
Мужчина посмотрел на солнце; оно было сзади, за спиной. Затем он подошел к краю дороги, сунул куртку подмышку и зашагал к городу.
Уже темнело, когда мужчина добрался до первых домиков. Ноги у него болели от непривычки помногу ходить пешком. Ему хотелось спать, и он решил, что, как только поест где-нибудь в дешевой закусочной, сразу начнет искать укромное место, где можно развалиться до утра.
На улицах было пусто, и в этой пустоте была тревога. Мужчина знал, что как раз в этот час рабочие дневной смены, уже отдохнув, высыпают обычно из домов, чтобы подышать воздухом. Но теперь на тротуарах не было никого.
Мужчина миновал несколько улиц стандартных деревянных домов. Он оглядывался по сторонам, ища закусочную. На перекрестке он увидел одинокую фигуру в темном костюме и шляпе, сдвинутой на затылок.
Мужчина направился к незнакомцу. У того были большие черные глаза на бледном лице и густые черные усы. Незнакомец в упор смотрел на приближающегося мужчину. Он стоял, расставив широко ноги на самой середине тротуара.
Мужчина остановился перед ним.
— Вы не скажете, — тут поблизости нет где-нибудь закусочной?
Незнакомец не ответил. Глядя пристально на мужчину, он покачал головой.
— Или аптека?[13]
Незнакомец молча оглядел мужчину с ног до головы и опять покачал головой.
— Ну, извините.
Мужчина шагнул в сторону, чтобы обойти незнакомца. Он прошел уже метров десять дальше по улице, когда услыхал сзади резкий окрик.
— Эй!
Мужчина обернулся. Незнакомец поманил его рукой.
— В чем дело?
Голос у незнакомца был негромкий, но отчетливый, и в нем слышалась не только просьба, но и угроза.
— В чем дело? — повторил мужчина. — Вы что хотите?
— Иди сюда, — теперь в голосе незнакомца явственно слышалась угроза.
Мужчина угрюмо пожал плечами. Когда он подошел к незнакомцу, тот вдруг протянул руку и схватил мужчину за кисть. Пальцы у него были жесткие, как металл.
— А ну-ка, пройдемся со мной.
— Зачем? — сказал мужчина. Напрягая мышцы, он вырвал руку. — Я не…
Он не успел договорить. Незнакомец взмахнул рукой — и мужчина ощутил оглушающий удар чем-то тяжелым по лицу, пониже щеки, и почувствовал, что падает.
Когда он пришел в себя, незнакомец был уже не один. У себя над головой мужчина увидел еще три фигуры. Все четверо стояли возле него полукругом.
— Пожалуй, это не он, — сказал чей-то голос.
— Посвети-ка. — Это был голос усатого.
Мужчина увидел, что кто-то нагибается к нему. Вспыхнула лампочка карманного фонаря и на мгновенье ослепила его. Чей-то новый голос сказал:
— Ни черта это не он. У того рожа широкая, как тарелка. И вообще чего он будет здесь шляться? Он сидит себе в комитете или дома.
Фонарь погас. Четверо стояли молча. Мужчина лежал на земле.
— Сведем-ка его в участок, — сказал усатый. — Там посмотрим, что это за птица.
— А ну, вставай.
Мужчина почувствовал удар носком ботинка в бок. Он вздохнул, как будто бы пробуждаясь.
— Давай-давай, — сказал кто-то. — Не прикидывайся.
Мужчина с трудом поднялся на ноги. Челюсть у него болела. Во рту он чувствовал солоноватый вкус крови. Он сказал:
— Вы, наверное, меня приняли за кого-то другого, ребята?
Ему хотелось скорее уйти от них. Уйти, даже забыв боль и обиду.
— Не разговаривай, — сказал усатый. — Он толкнул мужчину вперед. — Шагай.
Допрос в полицейском участке был скор и краток.
Лейтенант задавал вопросы, мужчина быстро отвечал. Четверо, которые привели его сюда, стояли тут же, у барьера, внимательно слушая.
— В порядке, — равнодушно бросил лейтенант, кладя на барьер бумажник с документами мужчины.
— Может проваливать? — спросил усатый.
Лейтенант кивнул.
— А ты Джефферса, руководителя забастовки, не знаешь? — спросил усатый у мужчины.
— Я тут ни одного человека не знаю, — ответил мужчина. — Я же объясняю, что первый раз тут.
Двое из незнакомцев разочарованно отвернулись.
Усатый и третий незнакомец прошли за барьер к лейтенанту и сели возле его стола.
— Зря притащили, — сказал усатый.
Никто уже больше не обращал внимания на мужчину. Он стоял растерянно посреди комнаты. Прошла минута.
Трое за барьером разговаривали. Лейтенант поднял голову и взглянул на мужчину.
— Эй, можешь идти.
Мужчина покраснел.
— Могу идти? — повторил он. — Остановили на улице, разбили челюсть. — Он осторожно потрогал рукой ушибленное место. — А теперь «можешь идти».
Наступило недолгое молчанье. Затем один из сидящих у стола поднялся.
— Ты никак обиделся? — Он пристально посмотрел на мужчину и добавил очень серьезно. — Хочешь, чтобы мы тебе поправили челюсть с другой стороны?
— Нет, не хочу, — сказал мужчина. — Не люблю, когда меня бьют по морде. Не люблю подставлять морду, — понимаете?
Он повернулся и, толкнув дверь, сразу вышел на улицу. Было уже совсем темно, только горящий фонарь образовывал возле участка качающийся светлый круг на пыльной мостовой.
Отойдя на несколько шагов, мужчина остановился и оглянулся. Одно из окон в доме растворилось, оттуда вылетели клубы дыма. Чей-то мужской сиплый голос пел песню, раздавался смех. Весь этот шум резко прозвучал на тихой улице и сразу смолк, потому что кто-то с силой захлопнул окно изнутри.
— Пируете? — сказал мужчина. — Пируете, сволочи. — Он погрозил кулаком в направлении участка. Ноги у него дрожали от пережитого волненья.
— Шофер выкинул из машины, — сказал он. — Теперь бандиты побили.
Он оглянулся по сторонам, думая о том, что нужно как можно скорее выбираться из этого города, охваченного войной. Ему уже расхотелось есть. Он решил переспать где-нибудь до утра, а затем сразу уехать на товарном поезде или на любом транспорте, который ему попадется. Он пошел по улице, высматривая уголок, где можно спрятаться так, чтобы его не схватили еще раз.
* * *
Его действительно взяли снова после полуночи. До этого он около двух часов просидел на опилках в каком-то сарае. Почти всё это время рядом на улице не прекращалось движение — раздавались чьи-то шаги, иногда — полицейские свистки. Мужчина устал, ему хотелось пить. Когда на улице стихло, он выбрался наружу.
Он уже напился воды у колонки и возвращался по длинной узкой улице к своему сараю, как вдруг услышал позади полицейский пронзительный свисток. Он хотел бежать, но впереди раздался другой, и он увидел бегущую к нему огромную фигуру полицейского.
Он сразу решил не сопротивляться, чтобы не получить дубинкой по голове, и остановился ожидая.
Двое полисменов подбежали к нему почти одновременно с разных сторон. Первый схватил его за шиворот, второй замахнулся дубинкой.
— А ну, вынь руки из карманов!
Мужчина быстро вытащил руки.
— Что здесь делаешь? — спросил, тяжело дыша, первый.
— Ничего не делаю. Попал в этот город случайно и хочу как можно скорее выбраться.
— Документы есть?
Мужчина вытащил из кармана бумажник. Полисмен долго рассматривал его демобилизационное свидетельство.
— Где последний раз работал?
— В Мемфисе.
— Бродяга?
Мужчина пожал плечами:
— Станешь бродягой, раз работы нет.
Полисмен похлопывал бумажником по ладони.
— Здесь тебя можно устроить на работу, — он прищурился.
— Куда? — спросил мужчина. — На текстильный, где забастовка?
Полисмен кивнул.
— Там сейчас можно хорошо заработать.
— А кирпичом по голове не заработаешь, когда будешь идти через проходную? — спросил мужчина и покачал головой. — Это мне не подходит.
— Смотри, какая собака, — сказал другой полисмен. — Не хочет на текстильный. Давай возьмем его в участок, ему там ребята дадут под ребра, — он передумает.
Первый полисмен сунул бумажник мужчине.
— Возьми. Пошли с нами.
— Меня уже проверяли, — сказал мужчина, — проверяли у вас тут в участке часа два назад. — Я еще раз не пойду.
— Давай, давай, — полисмен толкнул его кулаком в спину.
Они повели его, но не назад к тому участку, где он был, а в другую сторону. Они прошли несколько улиц. Было тихо. Мужчине казалось, что город уснул, наконец, но это было не так.
Когда они вышли на широкую, скудно освещенную улицу, левую сторону которой образовывал бесконечный кирпичный забор, оба полисмена сразу остановились.
— Эй, Джад, смотри, — шепнул один.
Метрах в пятидесяти от них при бледном свете фонаря была видна маленькая фигурка мальчишки. Он держал в одной руке ведерко с краской, а другой старательно вырисовывал что-то на стене большой кистью.
— Это уж наш, — шепнул один полисмен другому. — Надо поймать.
— А этого бросим?
— Чорт с ним. Пусть идет.
Они оставили мужчину и начали на цыпочках красться к мальчишке.
От одной ненависти к полисменам мужчина хотел, чтобы тот убежал. Он набрал было воздуха, чтобы громко кашлянуть, но, подумав о тяжелых дубинках, не решился.
Мальчишка, увлеченный своей работой, не оглядывался, пока полисмены не подошли метров на двадцать. Услыхав, наконец, осторожные шаги, он повернулся, увидев обоих, бросил ведерко и кисть и пустился бежать.
Грохая сапогами по мостовой, полисмены ринулись за ним. Тихая улица огласилась топотом, свистками и криками. Мальчишка и преследователи добежали до переулка на правой стороне улицы и скрылись за поворотом. Крики и свистки покатились дальше.
Мужчина постоял полминуты на месте.
— Опять вляпался, — сказал он и плюнул.
Медленно он дошел до надписи, которую делал убежавший мальчишка. По кирпичам ползли большие неровные белые буквы: «Помогай текстильщикам! Борись против полицейской жес…» Надпись была не окончена.
Мужчина постоял около стены, затем махнул рукой.
«Чорт с ним! Надо уходить отсюда».
Быстрым шагом он пошел обратно по улице. Крики и свистки, почти совсем затихшие, вдруг опять начали приближаться. Мужчина остановился прислушиваясь. Справа от него была глухая кирпичная стена, слева — стандартные деревянные дома. Топот и крики неслись теперь прямо к нему. Очевидно, мальчишка, обогнув теперь один из домов, кинулся обратно.
Не раздумывая больше, мужчина свернул в переулок между домами и пустился бегом.
Он не пробежал и ста метров, как услышал сзади легкие шаги. Мальчишка бежал в том же направлении, что и он, догоняя его. Они побежали рядом. Двое полисменов отстали, но тотчас же возникла новая опасность.
Едва они миновали какой-то переулок, как из него выскочило двое в штатском.
— Стой! Стой! Застрелю.
— Бандиты, — сказал мальчишка, тяжело дыша. Светлые волосы его растрепались. Полы большого, не по росту, пиджака развевались по ветру.
Мужчина уже почти не мог бежать, но слово «бандиты» придало ему силы. С ходу он повернул в проход между домами. Мальчишка пробежал мимо него, но затем вернулся мгновенно.
— Куда ты! Там тупик. — Он дернул мужчину за рукав.
Вначале они несколько опередили преследователей, теперь двое в штатском были уже метрах в тридцати. Один из них выставил руку вперед; раздался выстрел, пуля ударила по булыжнику у ног мужчины и рикошетом стукнула по стеклу в доме.
Испуганные мужчина и мальчик побежали еще быстрее. Они свернули за угол одного из домов. Здесь начинался длинный деревянный забор. Мальчишка вдруг исчез. Мужчина огляделся растерянно. Бандиты приближались.
— Сюда, сюда! — раздался голос снизу. Лицо мальчишки выглядывало из дыры в заборе у самой земли. Мужчина бросился к нему. Он лег на пыльную землю и головой вперед полез в дыру. Мальчишка тянул его за ворот рубахи. Мужчина едва успел вытащить ногу из дыры, как бандиты с руганью пробежали мимо забора.
Мужчина и мальчишка, оба тяжело дыша, посмотрели друг на друга.
— Смылись, — сказал мальчишка с облегчением. Чуть-чуть не влипли. — У него было смышленое худое лицо с острым носом и острым маленьким подбородком. — Я здорово испугался, — продолжал он, разглядывая мужчину.
Мужчина взялся рукой за сердце. Оно билось у него так, что вот-вот разорвется. Он огляделся.
Место, куда они попали, было складом. Штабеля бревен и досок стояли рядами.
— Повезло, — сказал мальчишка, разглядывая свои испачканные черной краской ладони. — Тут они на прошлой неделе Блика так изувечили за такие надписи… До сих пор в больнице. Знаешь его?
Мужчина не успел ответить. За забором на улице раздался звук шагов.
— Они, наверное, в эту дыру влезли, — сказал чей-то голос.
Оба, и мужчина и мальчик, побледнели.
— Надо уходить, — топотом сказал мальчишка. Он поднялся.
Спотыкаясь и проваливаясь на кучах досок, они прошли через весь полукилометровый склад, никого не встретив, и перелезли теперь уже через забор с другой стороны. Едва они успели спуститься с забора, как далеко сзади раздался полицейский свисток. Мужчина испуганно дернулся. Но мальчик успокоил его.
— Здесь уж мы дома.
Начался район трущоб. Маленькие хибарки, залитые лунным светом, жались одна к другой. Повсюду лежали груды мусора. Земля была сырой и жирной. Вокруг не было никого. Стояла тишина.
— Пошли ко мне, — сказал мальчишка. — Переночуешь, потом пойдешь домой. Тебе далеко?
— Далеко, — сказал мужчина. — От проделанного сегодня двадцатикилометрового пути и от всех волнений ночи он так устал, что решил не пускаться ни в какие объяснения. Ему хотелось только выспаться в укромном месте.
Мальчишка зашагал вперед.
— Видишь, как живем, — говорил он. — Комбинат рядом. Никогда не опоздаешь на работу. — Он потянулся, чтобы пролезть под веревками, натянутыми для белья и едва видными при тусклом лунном свете. — Только гудок загудит, мы тогда и встаем.
Из-под дверей одного из домов на них заворчала собака. Мальчишка успокоил ее.
— Тише, Марта. Свои.
Мужчина едва держался на ногах. Пошатываясь от усталости, он следовал за мальчишкой. Тот продолжал разговаривать. Они шли теперь по мосткам, проложенным через грязь; мальчик — впереди, мужчина — сразу за ним.
— Тут все из чесального живут. Которые позже приехали, когда новый построили, после пожара. — Он оглянулся на мужчину. — А ты в каком цехе работаешь?
— Да я… — начал мужчина нерешительно.
Но мальчишка не дослушал его.
— Берегись! Куда ты лезешь?
Мужчина отшатнулся. Нога у него сползла с доски, по которой он шел, и погрузилась в вонючую жижу.
— Осторожней, — сказал мальчик. — Это у нас тут так сыро кругом потому, что сюда отходы идут с комбината, из цеха, где они искусственный шелк делают. Вот мы и пришли. — Он показал на длинный одноэтажный барак. — Тут неплохо. Колонка метров за пятьдесят отсюда. Воды сколько хочешь. А в уборную мы вот сюда ходим, — он протянул руки туда, где кусками ржавого листового железа был огорожен квадрат высотой с человеческий рост.
Мальчик толкнул крайнюю незапертую дверь в барак. Она заскрипела. Из темноты раздался встревоженный женский голос:
— Ты что так поздно? Случилось что-нибудь?
— Ничего, — сказал мальчик. — Всё в порядке. — Он толкнул мужчину вперед. — Вот тут со мной один пришел. Из наших, — вместе от «быков» удирали. Он у нас переночует.
Кто-то завозился в темноте. Зажглась спичка. Мужчина увидел старое морщинистое лицо женщины, внимательно смотрящей на него. Спичка погасла.
— Пожалуйста, пожалуйста, — сказала женщина, — пусть ночует. Положи его где-нибудь, Джерри.
Мальчик взял мужчину за руку.
— Придется прямо на полу.
Он провел его по скрипучим доскам.
— Ложись вот здесь.
В темноте мужчина сел на пол. Рядом кто-то дышал.
— Это у нас один поляк живет. Он скоро пойдет в пикет к проходной.
Мальчишка возился рядом раздеваясь. После недолгого молчанья он сказал:
— Может быть, есть хочешь? Но у нас всё равно ничего нет. Сам знаешь, как сейчас.
— Ничего, — сказал мужчина. — Я и не хочу есть.
Засыпая, он слышал, как мальчишка говорил матери:
— Чуть не поймали нас. Бандитов полно в городе.
Он проснулся через два часа от громкого крика. Было слышно, как хлопнула дверь. За стенкой по улице пробежали чьи-то торопливые шаги, Мужчина почувствовал, что маленькая рука трясет его за плечо.
— Вставай скорее, вставай! Слышишь?
— В чем дело? — мужчина приподнялся и увидел мальчишку, склонившегося над ним. — В чем дело?
— Бандиты наш комитет подожгли! Бежим скорее! — Лицо у мальчика было серое от волнения.
Женщина лихорадочно одевалась.
— У нас там все продукты сгорят, — понимаете?
Мужчина сел на полу.
— Ну так что же делать?
— Бежим, бежим скорее! — мальчик тряс его за плечо. Женщина удивленно и резко повернулась в сторону мужчины.
— Ну что же вы сидите?
Мужчина поднялся. Мальчик тянул его за руку.
— Скорей! Френк, скорее!
Они выбежали на улицу. Недалеко от них, за кучкой хибарок, в темное небо поднимался красноватый отсвет пламени. На улице возле них было еще пусто, но то там, то здесь в темноте хлопали двери, раздавались встревоженные голоса.
Мальчишка побежал вперед. Мужчина последовал за ним.
Они миновали несколько домиков. Когда они завернули за угол, перед ними открылась картина пожара.
Горел двухэтажный деревянный дом. Пламя охватило один угол в верхнем этаже. Трещали доски. Рой искр поднимался в небо. В окнах дома мелькали какие-то люди. Одно окно распахнулось, что-то тяжелое вылетело оттуда и со стеклянным звоном упало на землю.
В переулках возле дома накапливались кучки людей: полуодетые, с всклокоченными волосами женщины, мужчины, полуголые, в одних брюках, молчаливые, притихшие дети. Все смотрели на пламя, но никто не двигался.
Мужчина и мальчик тоже остановились.
— Что же они не тушат? — спросил мужчина.
Мальчик кивнул в сторону дома:
— Бандиты, видишь? У них револьверы.
И тут мужчина увидел то, что он, ослепленный светом пламени, не заметил раньше. Во мраке, с той стороны дома, которую еще не охватил огонь, стояли две грузовые машины. Около них суетились темные фигуры, вынося бидоны. Освещенные пламенем пожара прямо перед домом ходили два человека с револьверами, направленными на людей в переулках. Один был с вытаращенными глазами. В другом мужчина узнал черноусого, ударившего его вечером на улице; на лице его было выражение истерической злобы. Очевидно, бандитов поили каким-нибудь наркотиком.
— Мерзавцы, ах мерзавцы! — раздался рядом женский голос. — Продукты горят! Господи, что же будет!
— Револьвер надо, револьвер надо! — выкрикнул кто-то сзади. — Где же наши?
Кто-то оттолкнул мужчину. Рядом с ним появился грузный широколицый человек в комбинезоне. Он быстро огляделся. Его красное от отсветов пламени лицо было решительным и злым.
Он кинулся вперед, мужчина побежал за ним. Черноусый впереди поднял руку. Мужчина пригнулся. Грянул выстрел. Сзади кто-то глухо охнул.
Мужчина бросился на черноусого. Тот ловко нагнулся, мужчина перелетел через него и упал. Снова раздался выстрел. Пуля взрыла пыль у самого его лица. Он вскочил. Площадка перед домом теперь наполнилась людьми. Какая-то женщина схватила черноусого за руку. Он отшвырнул ее. Бандиты с дубинками бросились от машины к бегущим к дому людям. Кто-то тихо застонал. Раздался еще один выстрел. Толпа отхлынула. Широколицый сцепился с одним из бандитов. Они катались по земле, освещенные пламенем. На минуту стало тихо. Раздавался только треск горящего дерева, беготня людей в доме и восклицания борющихся на земле.
Мгновенье мужчина озирался, затем он бросился к черноусому. Тот обернулся, спокойно поднял руку.
Мужчина ударил его по руке снизу. Револьвер, описав кривую, упал на землю. Черноусый с перекосившимся лицом сунул руку в карман. Скрипнув зубами от злости, мужчина тяжелым кулаком ударил его в челюсть. Ноги черноусого в лакированных ботинках мелькнули в воздухе, Он отлетел на два шага и упал в пыль.
Это было сигналом. Площадка перед домом снова наполнилась людьми. Раздался одинокий выстрел. Дерущиеся кружились в пыли, освещаемые мелькающими отсветами пламени.
Мужчина бросился в дом. В первом этаже, в большой комнате, человек в темном щеголеватом костюме торопливо обливал бензином из бидона какие-то ящики. Женщина в пестром платье ничком лежала на полу. Бандит повернулся. На мужчину глянули пустые, безумные, пьяные глаза. Он бросил бидон и выхватил кастет из кармана.
Мужчина схватил его обеими руками за пояс, напрягаясь, поднял в воздух и с размаху швырнул об пол.
— Здо́рово, — услышал он голос мальчишки сзади.
Мужчина обернулся.
— Ты куда? Пошел вон отсюда!
Дом мгновенно наполнился людьми. Еще двое бандитов пробивали себе дорогу. Мужчины и женщины тащили ведра с водой. Некоторые бросились выносить ящики. Снаружи раздался грохот отъезжающих грузовиков.
Мужчина побежал наверх. На лестнице было дымно. Сверху раздавался треск горящих досок.
Мужчина вбежал в комнату. Во мгле на стене плясали тусклые языки пламени. Какая-то женщина, тяжело дыша, поднималась по лестнице с ведром. Мужчина схватил ведро и кинулся к горящей стене. Он выплеснул воду на огонь.
Наверху заскрипела балка. Что-то тяжелое задело мужчину по голове. Падая куда-то очень глубоко вниз, он услышал голос мальчишки:
— Сюда! Сюда! Помогите ему!
Он очнулся, когда всё уже было кончено. Он лежал на улице, неподалеку от груды мешков. Черноволосая девушка держала в руках его голову. Мужчина вздохнул, отодвинул девушку и огляделся.
Дом сгорел. Посреди площадки возвышалась груда тлеющих бревен. В одном месте еще пробивался огонь, и освещенные им двое мужчин растаскивали бревна крючьями.
По всей улице были разбросаны мешки и ящики. Несколько человек с угрюмым видом сносили их в кучу возле мужчины.
— Лучше вам? — спросила девушка.
— Лучше, — ответил мужчина. Он осторожно ощупал слипшиеся волосы на голове. — Здоровая шишка!
— Мы вас тоже хотели в больницу отправить, — девушка запахнула на груди разорванную кофточку. — У нас шесть человек ранены. А сторожа они так избили, что, пожалуй, умрет.
— А продукты? — спросил мужчина. — Продукты спасли?
— Часть спасли. Сахар сгорел. Так сейчас и течет… — Она махнула рукой в сторону остатков дома. — Там ребятишки собирают.
В темноте, озаряемые только роями искр, поднимающихся в небо, копошились маленькие фигурки.
Опираясь на руку девушки, мужчина медленно поднялся.
— А что, бандиты все уехали?
Девушка махнула рукой.
— Двоих поймали: того, которого вы ударили, с усами, и еще одного.
— Где же они?
— Сидят там, — сказала девушка. — Я бы их всех убила, будь моя воля. Шесть раненых! Это только те, кого в больницу отправили. А сколько убитых! У моей мамы два зуба выбили. Как звери.
— Они, по-моему, здорово пьяные были, — сказал мужчина неуверенно.
— Конечно, — ответила девушка. — Хотя они и трезвые такие же. Тут в городе и днем сейчас ходить страшно. Меньше, чем вчетвером мы и не показываемся.
— А куда их решили, этих двоих?
Девушка сжала кулак.
— Их ребята отведут на станцию, там всыпят как следует и сунут в товарный вагон. Тогда они уже сюда не явятся… А я бы их убила. На них все набросились, но их Джефферс спас.
— Может быть, и верно, — сказал мужчина.
— Конечно, — девушка вздохнула. — Тут нас всех засудили бы за убийство. Когда бандиты или полицейские наших убивают, за это им ничего. А нам нельзя.
Мимо них прошла, прихрамывая, пожилая сгорбленная женщина. Девушка окликнула ее:
— Тебя тоже избили, Анна?
Женщина отмахнулась.
— Дубинкой по ноге. Ну хорошо, что продукты спасли.
Небо начало сереть. Близилось утро.
— А где эти бандиты? — спросил мужчина. — Посмотреть на них.
— Вот там, — показала девушка. — Пойдемте, я вас доведу.
Они подошли к маленькому домику. Под охраной трех рабочих, бандиты со связанными руками сидели на скамье. Один из них, бессмысленно уставившись прямо перед собой, заикаясь, напевал какой-то мотив. Он был, очевидно, совершенно пьян и до сих пор не понимал, что происходит.
Другой, черноусый, поминутно сплевывал кровь.
— Отведите меня в полицию, — повторял он. — Отведите меня в полицию. За самосуд вы ответите, — понимаете?
— Я тебе дам в полицию, — замахнулся на него один из рабочих с перевязанной головой. — Чтобы тебя сегодня же отпустили?
— Он нам сначала назовет, кто ему платит, — сказал другой, в обгоревшем комбинезоне. Мужчина узнал в нем широколицего, который первый бросился на бандитов.
— Никого я вам не назову. — Усатый сплевывал кровь. Его франтоватый черный костюм был весь в грязи. — Вы меня лучше отведите в полицию, а то вам плохо будет.
Широколицый оглянулся на подошедшего мужчину.
— Ну что, приятель, как голова?
— Прошла, — сказал мужчина.
Широколицый вглядывался в него.
— Слушай, я что-то тебя не знаю. В каком цехе работаешь?
Кто-то взял мужчину под руку. Он обернулся. Это был мальчик.
Светлые волосы у него обгорели с одной стороны. Лицо было испачкано углем.
— Это наш парень, Джефферс, — сказал он. — Мы с ним ночью от «быков» удирали.
— А я и сам вижу, что наш, — широколицый продолжал всматриваться в лицо мужчины. — Только я его не помню.
— Я тут не работаю, — сказал мужчина. — Я случайно.
— Как случайно? Ты у нас не работаешь?
— Я работу искать приехал. Мотаюсь из города в город.
— А как же ты сюда попал?
Мужчина коротко рассказал, как его ссадил шофер на дороге, как ночью на него напали бандиты и как он встретился с мальчишкой.
— Здо́рово, — сказал широколицый. — Но ты тут работы всё равно не найдешь. Видишь, какое положение? Забастовка.
— Конечно, раз вы бастуете, я сюда не полезу.
Широколицый повернулся к рабочим, которые стерегли бандитов.
— Ну, тащите их тогда, ребята.
— Подожди. — Мужчина шагнул к черноусому. — Помнишь меня?
Черноусый испуганно посмотрел на него.
— Я тебя не знаю.
Он, наверное, избил здесь так много людей, что действительно не мог вспомнить лица мужчины.
Мужчина сжал кулаки:
— Эх, и дал бы я тебе! Да не могу бить связанного. Не то, что вы, крысы, — по пятеро на одного.
Он плюнул в лицо усатому. Тот тряхнул головой.
— Отведите меня в полицию.
— Это он меня стукнул вечером, — сказал мужчина широколицему. — Неожиданно. Я и не думал ничего. А он меня — раз по голове.
— Все они такие, — широколицый махнул рукой. — Ну, ведите их.
Бандитов подняли.
— Пощадите! — закричал усатый.
Один из рабочих ткнул его кулаком под ребро, и он замолчал.
— Ну, пойдем ко мне, — сказал широколицый мужчине. — Отдохнешь, выспишься. Поедим чего-нибудь.
— Вот это ловко! — сказал молчавший до сих пор мальчишка. — А я думал, что ты наш.
— А чей же он? — сказал широколицый. — Их, что ли?
* * *
В полдень мужчина выбирался из города. Держа в руках свернутую куртку, он вышел на шоссе. В карман брюк у него был засунут пакет с бутербродами.
Две грузовых машины прошли мимо, третья остановилась. Мужчина сел в кабинку к шоферу.
Они проехали с полкилометра. Пожилой, седеющий шофер равнодушно оглянулся на мужчину и спросил, закуривая:
— Бродяга?
— «Бродяга»! — мужчина возмущенно откинулся назад. — Если ты думаешь, что я бродяга, я лучше слезу с твоей паршивой машины.
— Что ты взъелся? — спросил шофер удивленно. — Мне-то какая разница, бродяга ты или кто? Я же с тебя денег всё равно не спрашиваю.
— Вот и плохо, что тебе всё равно, — сказал мужчина. — Я не бродяга, а рабочий. Рабочий, но без работы. Понимаешь? Тут большая разница.
Екатерина Андреева В песках
Рис. С. Спицына
Был июль, самый жаркий месяц в пустыне. Рано утром, проведя наблюдения на метеорологической площадке, Лена решила посмотреть молодые посадки саксаула в трех километрах от метеорологической станции. Саксаул — дерево пустыни, оно может жить и в песках, потому что расходует очень мало влаги, а разрастаясь, кусты саксаула закрепляют их, не дают им пересыпаться. Но два дня назад пронеслась сильная буря и слабые, небольшие еще кусты саксаула могло засыпать. Надо было проверить.
Лена напилась горячего чаю и взяла с собой на всякий случай флягу с водой. Она обещала вернуться к часу дня, когда снова надо будет проводить наблюдения.
Уже год прожила Лена на метеорологической станции. Она считала, что достаточно знакома с жизнью песков и что ей ровно ничего не может угрожать, если она пройдет утром несколько километров.
Широкополая шляпа защищала лицо и плечи от солнца, а длинные брюки, плотно завязанные у щиколоток, и закрытые туфли из толстой парусины предохраняли ноги от раскаленного песка.
Девушка благополучно добралась до посадок саксаула. Песчаная буря только наполовину засыпала молодые деревца. Их тонкие безлистые веточки приятно зеленели, хотя и не давали тени. Солнце поднялось, и песок раскалился. В роще отдохнуть было негде, и Лена решила идти обратно.
За барханами, вдалеке виднелась тоненькая ниточка радиоантенны.
«С дороги сбиться невозможно! — подумала Лена. Время еще много, пойду неторопясь».
Проверив, по привычке, направление ветра по полосам ряби на песке (рябь всегда ложится перпендикулярно дующему ветру), Лена вспомнила, как ей было страшно два дня назад во время налетевшей бури. Их деревянный домик трещал и скрипел от напора урагана. Тучи песка неслись по пустыне, закрывая солнце. Стало совсем темно. Песок стучал о стекла окон, проникал сквозь невидимые глазу щели, скрипел на зубах. Печем было дышать.
«Как страшно, должно быть, путнику, застигнутому такой бурей!» — подумала Лена и с опасением посмотрела на небо. Но горизонт был ясен.
В это время раздался выстрел. Не громкий, как будто хлопушка хлопнула на елке… И девушка даже не сразу поняла, что это за звук, но остановилась. Может быть, кто-нибудь пристрелил ядовитую змею? Или что-нибудь случилось у них на станции и ее призывают обратно? Хотя выстрел, кажется, раздался с противоположной стороны.
Довольно долго Лена стояла не двигаясь и внимательно вслушивалась. Вот еле слышный шорох, — наверное, пробежала ящерица. Шуршание пересыпающегося песка у жестких колючек от легкого ветерка. И вдруг выстрел повторился. Лена вздрогнула.
Что ж это значит, — два выстрела?
Девушка продолжала стоять в нерешительности. Идти домой или в сторону выстрелов?. Но зачем идти туда, где стреляли? Это, наверное, члены какой-нибудь экспедиции охотятся на джейранов.[14] Экспедиций в пустыне так много! Геологи, гидрологи, археологи, биологи.
Больше здесь некому стрелять. Лена сделала шаг в сторону станции, но в это время раздался еще один выстрел. Третий!
Нет, это не охотники. Три выстрела почти через одинаковые промежутки времени… Это сигнал бедствия. Кто-то нуждается в помощи. Может быть, погибает от жажды и голода, может быть, сбился с пути. Медлить в пустыне нельзя. Если человек ослабел, не может идти, у него нет воды, а солнце жжет так немилосердно, — смерть неминуема. Надо срочно оказать помощь.
И Лена решительно пошла в пески в противоположную сторону от метеорологической станции. Она шла по караванной тропе, но шла ли она в нужном направлении, точно не знала. Выстрелы больше не повторялись.
* * *
В тридцати километрах от метеорологической станции работала геологическая экспедиция.
Основная база экспедиции расположилась у колодца в западной части центральных Кара-Кумов, а во все стороны от нее уходили в пески изыскательские партии. Один из таких отрядов состоял из трех человек: пожилого геолога Константина Ивановича, студента-практиканта Миши и проводника туркмена, которого звали Ишим. Отряд разбил свою палатку вдали от базы, на дне русла давным-давно высохшей реки. Возможность спокойно работать обеспечивали запасы воды и продовольствия, охотничьи ружья и точная карта пустыни с обозначениями колодцев и караванных путей.
Проходившая невдалеке караванная дорога вела к колодцу с пресной водой. Если бы вдруг иссяк запас воды, то до колодца было не больше нескольких часов ходу.
В береговых уступах обнажались древние горные породы. Геологам посчастливилось найти мрамор, но они хотели определить, велики ли его залежи, а это требовало времени. Ишим отправился на верблюде к базе за продуктами и водой. Он уехал на рассвете, а к полудню заболел Константин Иванович. Начался сильный озноб, поднялась температура, и уже через несколько часов он лежал в палатке без сознания и бредил. Ночью ему стало хуже, и утро не принесло облегчения. Миша испугался. Больной всё время просил пить, и отказать ему было невозможно. Если он проболеет еще два-три дня, то вода может кончиться до прихода Ишима с базы. В пустыне всегда надо иметь воду в запасе. Миша это знал. Надо было что-то предпринять до прихода Ишима.
Миша рассчитал, что до колодца, указанного на карте, и обратно он сможет дойти в несколько часов. Поэтому он поставил около больного всю воду, какая у них была, оставил пищу, написал записку, что пошел к колодцу, взял пустой бидон, ружье и отправился в путь.
По карте до колодца было всего десять километров. По ровной дороге и в умеренном климате это два часа пути. Но когда ноги увязают в песке, когда всё время приходится обходить высокие барханы, расчет времени путается.
Миша был выносливым человеком. Он всегда занимался спортом, привык к походам в разных условиях, но в пустыне он был впервые. Вначале он шел бодро, насвистывая какую-то песенку. Но вскоре у него запеклись губы, захотелось пить, он уже с трудом вытягивал ноги из горячего песка, но еще довольно быстро продвигался вперед, сверяя свой путь по компасу.
Он думал о том, как он напьется у колодца, и не сразу заметил, как начали дымиться гребни песчаных барханов. Он остановился и осмотрелся вокруг В разных местах с вершин барханов срывался песок. Небо, как туманом, заволокло пылью. Острые песчинки стали обжигать лицо, руки, становилось трудно дышать.
«Неужели песчаная буря?» — подумал Миша, и в памяти всплыли слышанные им рассказы о разных бедствиях, которые причиняют бури в пустыне.
Что делать?
Укрыться было совершенно негде. Он шел по барханам среди подвижных песков. Если ляжет, его засыплет с головой и он задохнется, устоять же против ветра было немыслимо. В это время он заметил вдали куст саксаула и решил до него добраться.
«Будет хоть какая-нибудь защита от ветра», — подумал он и, обвязав лицо до глаз носовым платком, чтобы песок не проникал в нос и рот, упрямо стал продвигаться к одинокому деревцу.
«Пески поют. — подумал Миша, — к урагану…»
Тем временем небо стало серым, солнце исчезло. Стемнело. Миша посмотрел на часы, стрелки показывали всего два часа дня. Ветер усиливался. Мимо одинокого путника неслись со страшной быстротой сухие ветки колючек, волочились по песку вырванные с корнем кустики солянок.
Насыщенный мельчайшим песком воздух стал нестерпимо удушливым. Внезапно пение песков прекратилось, наступило временное затишье. Потом налетел ураган.
Миша упал и уткнулся лицом в руки. Что-то грохотало над ним, цеплялось за одежду, уносилось дальше. Песок мгновенно набился в карманы, за шиворот, во все складки. Человек был один среди песчаной бури. Казалось, что пустыня и небо соединились и неслись куда-то вместе в едином порыве. Было жарко и душно. Воздуха для дыхания не хватало. Нос, уши и горло были забиты песком. Еще одна минута — и легким не хватит воздуха. Потная рубашка прилипла к телу, уже наполовину засыпанному песком. Невыносимо хотелось пить. Слюна стала густой и вязкой.
«Неужели конец? Неужели никто даже не найдет моего тела?» — думал Миша в отчаянье и вспомнил, как он еще недавно, всего месяца два назад пил дома холодную воду. Он пришел тогда разгоряченный со стадиона… Какая была вкусная, свежая вода!.. А мать ему говорила:
— Миша, будь осторожен, не простудись.
Вот теперь хотя бы только один глоток, одну только каплю!
Потом молодому человеку показалось, что он теряет последние силы. Он задыхался, давило грудь, стучало в висках, в глазах кружились красные пятна… а по голове струился песок с шорохом, который казался Мише грохотом.
Сознание его помутилось. Он затих. Песок пересыпался через его тело.
Прошло не мало времени. Один из песчаных холмиков, насыпанных бурей, зашевелился. Миша поднял голову.
Ветра почти не было. Густая пыль еще висела в воздухе, но песок лежал почти неподвижно. Миша попробовал сплюнуть песок, набивший рот, но слюны не хватало. Ему пришлось пальцем очистить сухой рот. Распухшим языком он облизал потрескавшиеся губы и только теперь заметил, что на небе бледно мерцали звезды… Но был ли то вечер или утро, — Миша не знал.
Он посмотрел на часы. Стрелки не двигались, повидимому, и в механизм попал песок. Деревцо саксаула, к которому он стремился подойти в начале бури, было наполовину засыпано песком. Барханы, лежавшие до бури в форме полумесяцев своими рогами к нему, теперь повернулись рогами в другую сторону. Как будто вся пустыня изменила свой облик, и Миша больше не знал, в какую сторону надо идти.
Компаса в кармане не оказалось. Вероятно, он выпал. Миша стал в отчаянье разрывать около себя песок. Но вскоре понял, что это безнадежно.
Песок остывал, повеяло прохладой. Повидимому, ночь только наступала. Измученный всем, что ему пришлось пережить, Миша лег на прохладный песок и быстро заснул.
Проснулся он от жажды и голода. Солнце уже взошло, и песок снова стал накаляться. Чтобы немного утолить жажду, Миша стал жевать терпкие побеги саксаула. Это не помогло. Он решил двинуться в путь.
Деревцо саксаула, к которому он шел перед бурей, стояло немного правее намеченного им по компасу пути. Поэтому он взял направление левее саксаула. Шел он медленно, слабея с каждым часом от мучительной жажды.
В воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка. Встречающиеся отдельные кусты колючек стояли неподвижно.
Вдали, там, где пустыня сливалась с небосклоном, появились цепи снежных гор, у подножья виднелась зелень. Там вода! Миша ускорял шаги… Нет, — мираж…
Кругом все застыло, скованное зноем. Песок, солнце. Жара.
Сколько он прошел за этот день и сколько ему еще осталось идти до колодца, Миша не знал. С трудом вытаскивая ноги из песка, он медленно брел всё вперед и вперед.
Он не заметил, где и когда оставил пустой бидон, но ружье было с ним, и он его не бросал, хотя нести было невыносимо тяжело. Подняв голову, он неожиданно увидел воду. Широкое серое озеро или море лежало вдали, сливаясь с горизонтом. Оно блестело на солнце.
«Неужели опять мираж?» — пронеслась мысль в его разгоряченном мозгу. Он посмотрел под ноги и заметил, что идет по широкой тропе, еле заметной в глубоком песке. По обе стороны тропы вздымались песчаные холмы, принявшие очертания громадных горбов каких-то допотопных чудовищ. На тропе валялись выбеленные солнцем и ветром кости. «Должно быть, верблюды», — как-то равнодушно подумал Миша.
Над ближайшими холмами кружилась громадная птица, то спускаясь к песку, то снова поднимаясь высоко в небо.
«Уж не меня ли выслеживает этот стервятник? — подумал Миша. — Но я еще жив… — и он вспомнил о ружье, которое болталось за спиной. — Я жив…»
С невероятным усилием он снял его с плеча, кое-как прицелился в птицу и нажал курок. Раздался выстрел. Птица взлетела повыше, потом, кружа в воздухе, стала снова спускаться над морем. И тут вдруг Миша понял, что серые полосы моря — это шоры, серые солончаки, он также понял, что идет по караванной тропе к колодцу, указанному на карте. Следовательно, он не сбился с пути, колодец близко, но идти он уже не мог. Тогда последним усилием Миша заставил себя снова взять ружье и выстрелить. Он стрелял, чтобы его услышали у колодца. Ведь там могли быть люди. Потом он тяжело опустился на песок, сознавая, что больше не встанет.
Откуда-то снова прилетел стервятник и опустился на ближнем бархане, выжидая. Миша приоткрыл глаза, еще раз выстрелил, почти не целясь, и потерял сознание.
Он очнулся оттого, что кто-то вливал ему в рот воду, — а он не мог глотнуть.
«Всё равно…» — вяло подумал он, не открывая глаз, и снова потерял сознание…
Лена нашла в песках умирающего от жажды человека и не знала, — что делать? Дотащить его до колодца — не было сил. Воды с собой она взяла слишком мало, чтобы окончательно оживить его. Идти домой за помощью — это займет слишком много времени. Человек может погибнуть…
На метеорологической станции всполошились, когда Лена не вернулась к назначенному сроку.
— Куда же она ушла? — взволнованно спрашивал Дмитрий Алексеевич. — Зачем ее отпустили?
— Сколько раз мы ходили в пески и всегда возвращались во-время! — отвечала Катя. — Я возьму с собой воды и пойду за ней.
Проводник Махмуд молча слушал разговор, потом сказал:
— В пески пойду я, — и, не ожидая возражений, он стал спокойно собираться. Велел своему сыну Якубу привести верблюда, связал охапку нарубленного саксаула, налил бочонок водой, завернул в чистую тряпку несколько пшеничных лепешек, взял кусок брезента, веревку, чайник, зарядил ружье, проверил, есть ли запасные патроны.
— Куда столько набрал? Уж не собираешься ли ты, Махмуд, уехать на целую неделю? — спросил его Дмитрий Алексеевич.
— Кто знает? Лучше взять много, чем взять мало, — невозмутимо ответил туркмен.
Через полчаса Махмуд ушел. Следы девушки еще ясно были видны на песке. Солнце садилось в пески, и от верблюда падала длинная тень, медленно двигавшаяся по барханам.
На рассвете Катя первая заметила Махмуда. Он шел впереди. На верблюде сидела Лена, а сбоку в подвешенной брезентовой люльке лежал незнакомый человек.
Лена рассказала, что, если бы не Махмуд, они, наверное, бы погибли, хотя и были всего за несколько километров от колодца.
Махмуд пришел, когда вода у Лены уже давно вся вышла. Чтобы хоть как-нибудь защитить найденного путника от убийственных лучей солнца, Лена сняла с себя гимнастерку и устроила маленький уголок тени над головой путника. Страдая от жажды сама, она всю воду до последней капли отдала умирающему. Солнце сожгло ей кожу на руках и и на спине, губы потрескались от жажды, язык распух, но она знала, что вода нужнее ему, что, пока есть вода, жизнь еще будет в нем теплиться.
Когда Махмуд их заметил, девушка лежала неподвижно рядом с полумертвым человеком.
Махмуд не сразу дал им пить. Он развел костер, нагрел в чайнике воду и заварил кок-чай. Пока вода нагревалась, он смачивал водой лица, шеи и руки пострадавших. Потом стал давать понемногу пить горячий чай. Лена ожила быстро и попросила есть. Найденный Леной человек почти не мог глотать, и его перенесли в брезентовую люльку, которую Махмуд предусмотрительно пристроил на боку у верблюда.
Миша пролежал на метеорологической станции несколько дней. Обе девушки ухаживали за ним. Дмитрий Алексеевич сообщил по радио в Ташкент о случившемся, и к концу пятого дня к колодцу подошел небольшой караван из трех верблюдов. Это приехал Ишим из экспедиционной геологической базы за Мишей.
Он рассказал, что Константин Иванович был так болен, что, когда Ишим приехал с новым запасом воды и продуктов, пришлось тотчас же уложить больного в люльку и везти на базу. В палатке Ишим оставил всё необходимое, если бы туда вернулся Миша.
На другой день он возвратился к палатке. Миша не пришел. Искать его в песках Ишиму не было смысла, ведь следы давно замел песчаной бурей. Поэтому Ишим поспешил на базу с тревожной вестью На поиски должен был вылететь самолет, но в это время из Ташкента сообщили по радио, где Миша, и начальник экспедиции снарядил Ишима в дорогу…
— Пустыня не любит беспечный человек. Идешь на два часа — бери хлеба, бери воды на пять дней! — закончил свой рассказ Ишим.
— Я оставил всю воду больному, Константину Ивановичу, не мог же я поступить иначе, — попробовал оправдаться Миша.
— Мало знаешь пустыню, — вмешался в разговор Махмуд. — Плохо знаешь людей. Разве Ишим не видел, что у вас мало воды? Разве Ишим не привез на другой день с собой воду? Зачем торопиться? Лучше было терпеть в палатке, чем умирать среди песков… Кому от этого польза?
— Да, если б не Лена, — я бы погиб! — и Миша с горячей благодарностью посмотрел на девушку.
Р. Погодин Мороз
Рис. Н. Муратова
Мороз всё зажал в свой ледяной кулак. Дома, казалось, теснее прижались друг к другу. Словно вымазанные известкой, белели никогда не замерзавшие стекла витрин. Кусты в сквере топорщились колючими снежными шипами, а седые от инея деревья боялись шевельнуть обмороженными ветками. Затаившийся под холодными арками ветер появлялся на улице вслед за автобусом или стремительной «Победой».
— Ух ты!.. — сморщился Толик, выйдя с Петькой Шапкиным из школы. — Холодина, даже в носу щиплет.
— Морозик! — задрав кверху голову, заявил Петька. Сощуря глаза, он внимательно оглядел небо и, крутнув согнутой в локте рукой, заявил: — Вот завтра завернет, — носа на улицу не покажешь.
— Не завернет, — возразил Толик, — у нас мороз долго не держится. — Подбородок у Толика мелко дрожал, сам он сгорбился, сунул руки в рукава и, зажав портфель подмышкой, пританцовывал вокруг солидного широколицего Петьки.
— Много ты знаешь! — глядя на товарища, снисходительно улыбнулся Петька. — Смотри, небо над крышами зеленоватое и дым свечкой стоит.
— Пускай стоит, — пробормотал Толик в мех воротника, — а у меня уже руки отваливаются.
— Закаляться нужно было. — Петька сунул приятелю свои толстые меховые рукавицы. — На, живо согреются.
Пока Толик хлопал себя по бокам, отогревая застывшие пальцы, Петька подбежал к заиндевелой стене школы и ногтем по инею вывел: «Завтра занятий не будет. Мороз», — подул в кулаки, глянул еще раз на небо и крикнул: «Пусть мои уши отмерзнут, если вру!»
— Точку-то поставь, — простучал зубами Толик. Ребят то и дело обгоняли прохожие. Все отчаянно торопились. Один Петька шел не спеша, щеки его алели, как выбившийся из-за ворота галстук. Изредка, будто невзначай, он передвигал шапку с одного уха на другое. Толик честно сознался:
— Ух… продрог. Даже спину ломит!
— Ага… — захрипел Петька, храбро вытягивая посиневшую шею, — еще не верил, что завтра мороз. Вот бы тебя в тайгу.
— Аз., зачем мне туда?
— Чтобы там одним сугробом больше стало, — засмеялся Петька. — Приходи ко мне.
— Мерзнуть-то, — ответил Толик, вбегая в парадную.
— Печку затопим! — крикнул ему вдогонку Шапкин. Откуда-то с верхнего этажа вместе с грохотом каблуков до него донеслось: «Без меня не начинай…»
Приятели жили рядом, но к Петьке Толик попал поздно. Мама убрала квартиру и заставила натирать пол.
— В двенадцать бы еще пришел! — набросился на него Шапкин. — Я уже в айсберг превратился. Что это у тебя? — ткнул он в торчащие у товарища из-за пазухи тетради.
— Арифметика и естествознание.
— Завтра, — махнул рукой Петька. — Идем, я тебе индейский способ растопки покажу: при любом ветре одной спичкой.
— Тебе мама растопит, — ухмыльнулся Толик.
— Мне? — Белые Петькины брови возмущенно столкнулись на переносице. — Да ты знаешь, какая у меня мама? Она… Она мне, как себе, доверяет. — Светлая полоска насупленных бровей медленно разошлась. — Она после работы в вечерний институт поехала. Намерзнется… — добавил он. — А мы печку затопим. Приедет — тепло.
В печке уже лежали сложенные, как для костра, дрова. Петька встал на колени, взял пучок тонких лучинок, приготовленных на растопку, и настрогал их как-то по-особенному — елочкой.
— Делай ветер, — зашипел он на Толика, воткнув лучинки между поленьями. Толик неистово замахал у Петькиного плеча тетрадками.
— Ты меня не обмахивай. Я еще не вспотел, на костер дуй. — Петька чиркнул спичку и тотчас спрятал огонек, сложив ладони фонариком. Огонек трепетал в ладонях, а ловкие Петькины пальцы светились… Лучинки загорелись.
— Здорово! — восхищенно прошептал Толик. — Как это ты?
— Ветер давай! — прикрикнул Петька на переставшего махать приятеля.
Огонь вцепился в сухие бока поленьев, защелкал и загудел, унося в трубу красные хвосты искр.
— Что, видел? Я в любую погоду костер разожгу.
— И в дождь?
— И в дождь, — уверенно кивнул Петька, направляясь к выключателю гасить свет. — Ишь, гудит, — восхищенно прошептал он, — как настоящий. Я сейчас.
В темноте красноватое пламя действительно напоминало костер. Смолистые дрова пахли лесом. Огненные блики метались по комнате, превращая обычные предметы в странные, колеблющиеся тени.
— Спальные мешки вот, — вынырнул из коридора Петька, на твой. В тайге без мешков могила.
По мохнатому воротнику Толик узнал свое пальто.
— Какой же…
— Тс-с… — остановил его Петька таинственным шопотом, — мы с тобой у костра, вроде геологи-следопыты. Кругом тайга, кедры… а мы руду ищем, и ничего… нам не страшно.
Толик подвинулся поближе к товарищу. Ему вдруг показалось, что в зеркале шкафа, напоминающего сейчас мрачный утес, сверкнули красные глаза притаившегося зверя.
Целый вечер друзья искали железо и золото, продирались сквозь непроходимые заросли, тонули в болотах, сражались с тиграми. Даже поругались, выманивая из берлоги медведя.
— Сейчас мы эту берлогу обложим, — командовал Петька, ползая на четвереньках вокруг письменного стола.
— Чем? — с готовностью спросил Толик.
— Ну, облаву сделаем, собак, значит, нужно, — пояснил Петька, — ты давай… Лай.
— Авв-ав, — стыдливо тявкнул Толик.
— Да разве так медведя дразнят! — рассердился Петька. — Так только болонки на мух лают. Смотри, как надо: «р… р… р, гав-гав-гав», — оглушительно загрохотал он простуженным басом и полез в берлогу. — Лезь за мной!
— Я лучше стрелять буду.
Петька не ответил, он зарычал по-медвежьи, пронзительно взвизгнул и кубарем выкатился из-под стола.
— Стреляй! Не видишь, — я раненый! — закричал он. Толик щелкнул языком и для верности смазал Шапкина по спине.
— Кого бьешь! — завопил Петька. Но Толик уже сидел на нем.
— Убил, убил! — захлебывался он от восторга, — сейчас шкуру снимать будем!
— Вот я тебе сниму! — вывернулся Петька. — С таким напарником только на кошек охотиться. — Он посопел, сердито глядя на Толика, и добавил примирительно:
— Ну ладно, в тайге всякое бывает. Теперь делай мне первую помощь.
Печка уже протопилась, когда Толик вспомнил про тетради.
— Уроки-то, Петя?. — сказал он упавшим голосом.
— Ну и что, уроки? Нечего, завтра сделаем. Мороз-то!..
Пошевелив угли кочергой, Петька развалился на своем спальном мешке.
— По естествознанию нас уже спрашивали, по русскому тоже. Медвежатинки бы сейчас зажарить, — мечтательно вздохнул он. — Любишь медвежатину?
— Люблю; только вдруг завтра в школу?
— Да что ты заладил? Сказано, — завтра мороз будет, и всё… — Но, чувствуя, что Толик не очень верит, Петька нехотя полез к окошку. — Воздух нюхаю, самый таежный способ предсказывать погоду, — объяснил он, пыхтя у открытой форточки.
Морозный пар медленно опускался по стенке на пол.
— Ну, сколько нанюхал?
— Гра… градусов 30, — дрожа от холода, но стараясь сохранить глубокомысленный вид, объявил Петька.
Ребята расстались поздно. На улице было холоднее, чем днем. Под ногами отчаянно скрипело. Воздух стал гуще, казалось, вот-вот он начнет примерзать к стенам и падать на землю звонкими льдинками. Продрогший Толик уснул, едва добравшись до постели.
Утром его разбудили чьи-то холодные руки. Тихонько, словно напоминая о том, что оно скоро заговорит, тикало радио.
У дивана в расстегнутом пальто стоял Петька. Вид у него был угрюмый. В руках он держал свой видавший виды портфель.
— Ты чего?… Случилось что-нибудь?
Петька отвел глаза и безнадежно показал головой на окно. За оттаявшим стеклом медленно летели крупные хлопья сырого снега.
— Вот тебе и дым свечкой, — растерянно прошептал Толик.
Р. Амусина Открытие
Оказывается, девчонки — совсем не плохой народ. Надо только уметь с ними правильно разговаривать. Хотите знать, как мне удалось сделать это открытие?
Когда моя сестра Варька окончила ясли и поступила в детский сад, она была еще совсем хорошей девочкой. А с тех пор, как мы подросли, она совершенно перестала меня слушаться: как я ни дергал ее за косы, как ни швырялся в нее резинкой и даже линейкой, — ничего не помогало! Было обидно, что вся моя воспитательная работа пропадает зря.
Варька даже и разговаривать со мной иногда не хотела.
И вот однажды мы сидели в комнате и занимались. Мне надо было выучить уменьшительно-ласкательные суффиксы.
Я начал учить:
— «Очк», «ечк», «еньк», «ушк»…
Но все эти «очки-и» и «ечк-и» немедленно выскакивали из головы обратно.
Тут я вспомнил, что надо называть предметы с этими суффиксами, тогда на примерах всё и запомнишь. Только на чем бы по поупражняться?
«А возьму-ка, — подумал я, — первый попавшийся предмет и на нем поупражняюсь».
Первым предметом, который попался мне на глаза, была Варька.
— Вар-ечк-а, Вар-юшк-а… — сказал я вслух.
Вдруг смотрю, — Варька вскочила и стоит, как вкопанная, даже еще хуже — как каменная.
«Что это с ней такое?» — подумал я, но тут же решил не отвлекаться и упражняться дальше.
Следующим был суффикс «еньк».
Тут надо взять какое-нибудь прилагательное… Ага, нашел!
— Милая, мил-ень-кая… — упражнялся я вслух.
Вдруг вижу, у Варьки такое удивление на лице, какого я раньше у нее никогда и не видал.
«Что это она?» — подумал я, но опять решил не отвлекаться, — мало ли чему девчонки удивляются! А для серьезного человека это, наверное, вовсе и неинтересно! И я стал искать примеры на суффикс «енк».
Я огляделся, но Варька стояла прямо передо мной и закрывала собой все другие примеры. А из самой Варьки и суффикса «енк-а» не получалось ничего путного — какая-то Вар-енка… Но когда я произнес вслух это слово, Варька меня поправила:
— Я тебе не «Варенка», я тебе сестра, Варя.
Сестра… Ага! Вот оно, нужное слово, — обрадовался я. Прибавить «енк», и получаем «сестр-енк-у»!
Потом я стал повторять вслух все выученные суффиксы подряд:
— Вар-ечк-а, мил-еньк-ая, сестр-енк-а…
Это я громко повторил три раза. Смотрю — что такое! Варька опять разглядывает меня, как будто перед ней какая-то исключительная личность, и словно она меня первый раз в жизни видит. Смотрит и улыбается…
— Варька, — говорю я, — ну чего ты на меня глаза вылупила?
Тут Варька вдруг вся съежилась, вздохнула и отвернулась.
«У Варьки какие-то сильные переживания, — подумал я. — Спросить, что ли?… Нет, не буду — какие уж там переживания могут быть у девчонки-четвероклассницы! А я уже, как-никак, пятый класс заканчиваю».
Но мне было так интересно, что я не выдержал и спросил:
— И чего это ты? То вдруг сияешь, как замок на портфеле, а то вдруг глаза в землю, а косицы кверху.
— Будто ты сам не понимаешь! — ответила Варька.
Я не понимал, но допытываться не стал.
Назавтра я учил вводные слова, а Варька со своей подругой сидели в другом конце комнаты.
Мне попались на глаза резинка и карандаш. Я составил предложение и сказал его вслух:
— «Дайте мне резинку и карандаш».
Теперь надо было вставить вводные слова. И я стал составлять новое предложение уже с вводными словами:
— «Дайте мне, будьте добры, резинку и карандаш».
И вдруг со страшным грохотом отодвинулись два стула. Варька с Иркой бросились ко мне обе разом, с протянутыми вперед руками, и с такой быстротой, как будто на мне что-то загорелось. Это, оказывается они мои упражнения по грамматике за правду приняли. И как только я вставил вводные слова «будьте добры», они бросились ко мне с карандашами.
Я уже открыл рот, чтобы рассказать им всё, но вдруг понял, почему вчера Варька так сияла, и решил им секрета не открывать. И правильно сделал, потому что они обе сразу стали такие хорошие, что готовы были отдать мне резинки и карандаши насовсем.
Потом мы вместе играли — оказывается, девчонки выдумали много таких интересных игр, до которых мальчишки еще и не догадались додуматься.
Мне захотелось даже и в слово «девчонки» вместо суффикса «онк» поставить «очк» и называть их «девочки», но в последнюю минуту я передумал… Одно слово дела не решает, а «девчонки» всё-таки как-то выразительнее!
А в общем, если знать кой-что из грамматики, то оказывается, что девчонки — очень даже неплохой народ.
М. Колосов Тушканчик
Рис. И. Ризнича
Давно хотелось мне поймать тушканчика. Эти грызуны вредят полям не меньше сусликов. Весной беда от них зеленям кукурузы, подсолнухов, а летом — посевам хлеба.
Все наши отряды идут весной в поход на грызунов, сразу после каникул. И каждый год я беру на сборе отряда обязательство уничтожить двадцать пять сусликов и одного тушканчика. Беру и не могу выполнить? Не по сусликам, нет! По ним я даже перевыполняю. А тушканчика поймать мне не удавалось.
Вот Борис Сохин, — я с ним соревнуюсь, — у него обязательство поймать два тушканчика, а ловит по три и даже больше. В прошлом году четыре шкурки сдал. Норы он ловко находит, а я не могу.
Суслик — с тем проще, особенно весной. Сойдет снег с полей, у суслика все запасы кончаются, вот и выходит он из норы за свежей травкой. Вялый какой-то, полусонный, лови его — и в мешок. А то можно в норку полведра воды налить, — он и вылезет, отфыркиваясь. Хватай его за загривок.
Летом, правда, с сусликами дело потрудней. Уйдет в глубокую нору кривыми потайными ходами, тут и воды на него не напасешься. Да и не найти ее близко. Местность у нас возвышенная, холмистая, весной вода в каждой впадинке, а летом только в пруду. И суслики совсем нахальными делаются. Бегают по полю, встают на задние лапы — свистят, перекликаются. Станешь подходить к такому свистуну, а он юркнет в норку и сидит. Только лопатой его и отроешь! Хлопотно, но всё-таки можно.
А вот тушканчики — просто беда! Они по полю не бегают. Я этого зверька один раз только и видел. Ночью мы едем на эмтээсовской машине, — вдруг на дороге что-то серебристое. Думаю, — заяц — уши длинные. Подъезжаем ближе, — тушканчик! Подпрыгивает, как на пружинах, и хвост длинный, как прут. Скок-скок — и скрылся в темноте.
А днем его и подавно не увидишь. Норка у этого грызуна не простая. Он в нее залезет и вход землей закроет. Да так закроет, что не сразу догадаешься, где нора. Надо глаза иметь такие, как у Бориса: он специалист по тушканчикам!
Этой весной на борьбу с грызунами мы вышли втроем: Борис, я и Волчок. Волчка я в прошлом году принес домой рыженьким щенком. А теперь он вырос и стал настоящим красавцем: шерсть гладкая, ноги длинные, хвост — кольцом. И главное — умный.
Вот и решили мы с Борисом взять его с собой.
Вышли в поле. Я не успел еще ни одного суслика добыть, слышу, — Борис свистит. «Неужели, — думаю, — тушканчика нашел?» Посмотрел, — машет рукой: скорее!
Я — бегом, Волчок — вскачь, тоже к Борису.
Пока я прибежал, Борис уже Волчку пальцем показывает на землю и всё приговаривает:
— Нюхай и запоминай!. Нюхай и запоминай!
Волчок нюхает землю, взвизгивает, всё порывается лапами скрести.
— Смотри, — говорит Борис, — вот это и есть жилище тушканчика.
Я посмотрел и ничего не увидел. Глинистая, в комочках земля, такая же, как и на всем пригорке.
— Не видишь? — спросил Борис и вздохнул. — Смотри. Вот комочки глины…
— Они везде такие.
— Такие, да не такие, — рассердился Борис. — Здесь комочки мельче. А лежат они кружочком, бугорком, будто выдавленные. Это он из норки землю выталкивал. Понял?
Я кивнул головой. Действительно, чего ж тут не понять!
Борис руками раскопал норку и стал лить в нее воду. Не успел он вылить и треть ведра, как тушканчик выскочил, и Борис схватил его за загривок.
— Вот он, земляной заяц, попался! — закричал Борис, поднимая грызуна, чтобы его не схватил Волчок, который визжал и подпрыгивал.
Тушканчик дергал длинными, как у кенгуру, задними ногами, а с хвоста, будто по веревочке, стекала мутная вода. Сейчас он казался тощим и жалким, но я хорошо знал его вражьи повадки. И мне стало обидно на самого себя: ну почему я такой неудачник? Почему такой неспособный?…
Борис, наверное, заметил в моих глазах грусть и заговорил как-то особенно ласково, будто он в чем провинился:
— Хочешь, отдам тебе тушканчика? Я себе еще достану.
— Зачем?… Так не интересно.
— Мы ж с тобой соревнуемся, вот я тебе и помогу выполнить обязательство.
— Разве это помощь?
— А что ж делать, если ты?…
Он не договорил. Я позвал Волчка и ушел с ним искать норы.
Найду! Исхожу вдоль и поперек всё поле, а пустым не вернусь.
Мне было уже не до сусликов. Я почти бежал, стараясь осмотреть как можно большее пространство. Увижу что-нибудь, похожее на выдавленную землю, копну — ничего нет, бросаю и мчусь дальше. Волчок едва поспевал за мной.
Уже через час мои ноги одеревенели, в глазах прыгали бугорки и ямки, спину разламывало.
Я присел на землю. Подошел Борис. В его прикрытом холстиной ведре царапался тушканчик.
— Зачем ты бегаешь? — сказал Борис. — Наметь узенький участок, спокойно осмотри, потом другой…
Волчок, повизгивая, терся о мои ноги. Я встал. Ладно, буду спокойно осматривать. Медленно-медленно, от бугорка к бугорку, прошел полосу участка. И странно, мои глаза, хоть я и напрягал их, даже как будто отдохнули. И усталость куда-то пропала. Я вдруг почувствовал, что теперь уж непременно найду тушканчика.
И в самом деле, минут через десять я вдруг заметил что-то подозрительное. Мелкие комочки глины, точно такие, как показывал Борис, лежали темным кружком, величиной с каблук. «Тушканчик!» — Я ковырнул землю носком ботинка. А Волчок уже тут как тут. Он с остервенением раскапывал лапами землю.
— Тушканчик! — закричал я Борису.
Он прибежал. Действительно, это была нора тушканчика.
Пулей помчался я за водой, а назад ведро нес так бережно, что и капли не расплескалось.
— Ну, вот я тебя сейчас напою! — Я наклонил ведро, вода заполнила норку до краев и на миг остановилась. Потом быстро, с шумом ушла в нее. И тут вдруг, весь дрожа от волнения, я увидел усатую хищную мордочку грызуна.
— Лей! Лей! — закричал Борис. — Не давай ему отдышаться.
Опять хлынула в нору вода, всё захлестнула, опять ушла, и вот уже я держу за загривок мокрого облезлого грызуна с длинными дрыгающими ногами. А Волчок прыгает, визжит. И мне так радостно от первой моей удачи, что тоже хочется визжать и прыгать.
Мы прячем добычу в ведро и довольные возвращаемся домой.
Дорогой нам встречаются ребята с ведрами; у всех по тушканчику по два, а сусликов — тех сразу и не сочтешь!
На будущий год я, как и Борис, непременно уничтожу двух тушканчиков.
Теперь я знаю, как находить их норки.
В. Гнеушев Подарок
О чудесах он много знал из книжек, Чудес немало в море и в лесах, Но больше всех ровесников-мальчишек Не верил он в такие чудеса. И как-то раз у моря, в ярком свете, На мокром, оплывающем песке Он трубку капитанскую заметил И через миг держал её в руке. Мальчишке море подарило трубку. Его с тех пор никто не узнавал, — Он песни пел матросские и шлюпкой Разрушенную лодку называл. Исправив всё своими же руками И закрепив на мачте паруса, Он уходил под всеми парусами На самых дальних чаек голоса. И там, где волны бьются прямо в небо, Он найденную трубку доставал: Там, вдалеке, он Колькой больше не был Он был по меньшей мере адмирал. И с чудесами старыми не споря, Не в шуточку мальчишка этот ждет, Когда-нибудь ему родное море Подарит настоящий пароход.Юрий Никулин Далекое
Рис. Ю. Лаврухина
Сытая рыба не клевала, а у голодного рыбака сильно подвело живот Петька подтянул ремень до последней дырочки — в желудке подняла глухой ропот.
— Урчит у тебя? — спросил Королек.
— Прямо трубит! А у тебя?
— Ага! — ответил Королек и недоуменно спросил: — И чего это такое урчит?
Петька с серьезным видом объяснил:
— Как чего! Сколько слюны наглотаешься, — вот она и кипит.
Обедать Петьке чаще всего приходилось одной картошкой с солью. Не один раз, встречаясь с Корольком после обеда, Петька мечтательно говорил:
— Ой! Чего бы поесть!
— Пойдем ко мне, я хлеба вынесу, — звал Королек.
— Эх, кабы лодку нам! Вот бы наловили рыбы! Вот бы заработал денег! — фантазировал Петька.
— Лучше я тебе сама найду занятие, — говорила мать. Но с работой было плохо.
Однажды домохозяин остановил мать на дворе. Он поклонился, приподняв круглую соломенную шляпу и приглаживая намазанные фиксатуаром усики, заговорил:
— Как ваш муж? Есть известия о нем?
— Нет, — ответила мать, — жив ли он?…
— Ну что вы! Ваш супруг вернется героем. Да, война — это дело доблести и чести! Война требует жертв. Но мы все должны… в защиту царя и церкви от варварства и испепеления нашего достояния…
Мать молчала.
— Простите за беспокойство, мадам, мне не совсем удобно напоминать, но прошло двадцатое число, и пора… деньги за квартиру, ибо расходы по дому… сами понимаете…
— Денег у меня нет, — тихо ответила мать, — я прошу вас подождать немного. Может быть, шубу продам.
— Ну, день, два я, конечно, подожду. Между прочим, вы хотели определить своего сына к какому-нибудь ремеслу. Это очень хорошо: помогать родителям — стремление всех благородных детей. По крайней мере мальчик не избалуется и не будет хулиганить. Я, знаете, ничем не могу пожаловаться на вашего сына и мог бы рекомендовать его своему знакомому предпринимателю, если хотите.
— Ой! Большое вам спасибо! — воскликнула мать. — Только бы не искалечился он, не надорвался, — добавила она с опаской.
— Ну, что вы! Там дело чистое. Мой знакомый производит мыло. Рекомендую ядровое со штампом «Полканов». Ну вот, судите сами, мыло — продукт облагораживающий. Чего тут может быть грязного и опасного? Хотите, я напишу Полканову записку? А деньги уж постарайтесь принести.
На другой же день Петька с матерью пришли по адресу, начерченному острым, колючим почерком. Еще раз взглянув на записку, мать остановилась около крыльца флигеля. Двери в сени были распахнуты, в глубине налево виднелась кладовка, направо — открытые двери в дом. Но ниоткуда никто не выходил и во всем чувствовалась настороженная тишина.
— Скажите, пожалуйста, есть ли кто дома? — любезно спросила мать.
Из темной кладовки, как из норы, выскочила женщина, босая, с подоткнутым подолом, юркая, как мышь. Она выгнула зобатую шею, подняла стертое лицо и скороговоркой спросила:
— Вам кого?
— Мне господина Полканова, Илью Фроловича. Я к нему с запиской…
— Они отдыхают. Давайте сюда. Я его дочь и передам ему. Если что важное, — господин Полканов выйдут.
Мать молча протянула записку, женщина взяла ее и, подозрительно оглядев Петьку, пошла в дом, шлепая голыми ногами по крашеным половицам. По пути она осмотрела сени: не лежит ли где какая-нибудь ценная вещь, и, подхватив ведро, стоящее у порога, ушла и долго не появлялась.
«Ух крыса!» — подумал Петька, понимая, чего опасалась тетка.
Ему стало обидно, что мать из-за него должна, как нищая, стоять у чужого крыльца. Он неожиданно для себя взял мать за локоть и прижался к нему. Мать, ни слова не говоря, погладила Петьку по щеке.
— Погодите, сейчас придет, — объявила появившаяся, наконец, дочь Полканова. Она за это время «прихорошилась»: в волосы воткнула гребенку и опустила подоткнутый подол, — юбка теперь касалась шлепанцев, надетых на босую ногу.
Скрипнули половицы, и в сени вылез большой лохматый человек. Волосы его были всклокочены и свалены на одну сторону; в бороду вплелось куриное перо, а на щеке от подушки выдавился узор. Он был босой, в измятых брюках и жилетке, и не потрудился даже застегнуть рубаху на волосатой груди.
— Здравствуйте, — сказала мать, и Петька, как эхо, повторил за нею негромко: «Здравствуйте».
— Ну, это, значит, вы с запиской. Это и есть мальчишка-то? Ну-ка повернись, — сказал хозяин, не считая нужным ответить на приветствие.
Петька повернулся боком, потом спиной, так и остался стоять, слушая разговор матери с Полкановым.
— Годов пятнадцать — пишут вот тут, — Полканов тряхнул запиской. — Ну, для надзора так и будем считать.
— Только тринадцатый ему пошел. Совсем дитя. Вы уж не ставьте его на тяжелую работу.
— Гм-гм. Что сделаешь? Хороший человек просит. Пускай поучится. Толку от него, конечно, мало. Послать куда или поглядеть за мастером. Насчет работы вы не сомневайтесь, — мыло делаем, как в аптеке.
Мать не имела никакого представления о мыловаренном заводе; ей представлялась аптека, аккуратные кусочки душистого мыла и как сынок завертывает эти кусочки в цветные бумажки. Она заранее была благодарна Полканову и хотела уходить, стесняясь отнимать время у занятого человека, но Петька тут проявил деловой интерес. Набравшись духу, он повернулся и спросил:
— Дяденька, а сколько платить будете?
— Вот до этого тебе нет никакого дела. Деньги будет получать мать Да запомни ты: я тебе не дяденька, а Илья Фролыч. Так вот, как я тебе сказал, завтра приходи утром в двенадцатый дом по Шабелкинской улице. Войдешь во двор через проезд и увидишь налево красную дверь, там спросишь мастера Исаича. А об остальном я его сам упрежу. Посматривай за ним. Чего заметишь, — мне скажешь. А сколько тебе лет, кто спросит, говори: шестнадцать годов.
…Красная облупленная дверь вела в темный и грязный подвал; щербатые каменные ступени опускались под землю. Как только Петька шагнул за порог, дверь на пружине захлопнулась — и стало темно.
Ощупывая руками скользкую плесневелую стену, Петька осторожно спускался со ступеньки на ступеньку; чуть он отклонялся в сторону, — под ноги ему попадались гремящие железные банки, ведра и еще какая-то дрянь.
В конце лестницы опять оказалась дверь. Он дернул за ручку, она не поддавалась, и Петька подумал: «Значит, заперта». Он постучал, — никто не откликался. Тогда Петька дернул изо всех сил.
Дверь открылась, и в лицо ему ударил тяжелый воздух. Сначала пахнуло душным паром, как из прачечной, потом воздух наполнился удушающим, смрадным запахом гнили и горелого сала.
В первом помещении, куда попал Петька, никого не было; в дальнем углу под потолок поднималась деревянная воронка, рядом стояла кирпичная труба; во вторую комнату, несколько лучше освещенную, вела дверь. Она была открыта, и было слышно, что там кто-то шевелится.
— Кто там? Иди сюда! — крикнул глухой голос.
Петька быстро прошел мимо деревянной воронки, под которой оказалась жарко пылающая печка, во вторую комнату.
— А-а, вот так герой! Как тебя зовут-то?
— Петька.
— Петр, стало быть. Посиди тут, я сейчас тобой займусь.
Мастер указал на табурет, облепленный лепешками застывшего мыла, и склонился над столиком с прибором для резки мыла, у которого что-то чинил и завинчивал гайку. В тишине подвала изредка лязгал ключ в руках мастера, в печке трещали дрова, и пламя гудело в топке. Петька теперь увидел деревянные ступеньки с противоположной стороны от топки, ведущие на площадку перед воронкой, и удивлялся: как это не загорится воронка, раз под нею всё время топится печь?
Жила тетка Людмила, А мы варили мыло. Шило, мыло, гвозди, Позвала нас в гости… —запел мастер и, сразу оборвав, спросил:
— Так работать, говоришь, пришел? Погоди, я тебе пристрою работку. Куда отец твой смотрит? Зачем отпустил в адово чистилище?
— Отец в солдатах.
— Гм, в солдатах… Что же мне с тобой делать?… Ну, ладно, парень, вали работай, сколько можешь; сбежишь ты отсюдова скоро…
— Не сбегу: матери деньги надо.
— А ты мать-то любишь?
— Люблю.
— А за что? — И, не дождавшись ответа, мастер одобрил: — Это хорошо. Мать любить надо. Мать, она у тебя одна на всю жизнь, и другой больше не будет.
Мастер замолчал, будто всё сказал, что надо, и, когда Петька собрался было спросить про деревянную воронку, неожиданно заговорил:
— Работа у нас тяжелая, мне не под силу. Просил я у Полканова помощника… Мне надо парня, как быка, здорового, а он тебя прислал. Как-нибудь… вали работай.
Мастер пощупал Петьку и, одобрительно хлопая по спине, подвел его к барабану с каустической содой. Рядом с барабаном стояла двухпудовая гиря.
— Пока не открыт, — поколоти, — сказал мастер и ушел к котлу.
Петька волоком оттащил в сторону гирю, с трудом перекатил барабан на два шага и, осматриваясь, стал искать молоток.
— Чем бить? — спросил он, не найдя никакого инструмента.
— Гирей бей, — ответил мастер.
Пришлось гирю волочить назад. Расставив ноги, Петька поднимал двухпудовку за конец и опускал на барабан; от удара тонкое железо вминалось; внутри цилиндра что-то хрупало, а Петька мотался вслед за гирей.
Он ударил раз, другой, третий — его движения стали напряженными, и через минуту ему не хватило дыхания. Сделалось жарко. Он выпрямился и глубоко вздохнул. Сейчас же воздух подвала вызвал тошноту, спазмы схватили глотку, и Петьку едва не вырвало.
— Чего стал! Давай живее, мне котел надо загружать! — крикнул мастер. Он подкинул дров в топку, помешал в котле, от чего там поднялся треск и еще более густое зловоние заполнило подвал.
Петька вновь взялся за гирю, напряженно разгибая спину, поднял ее и еще несколько раз ударил. Поясницу ломило, дрожали ноги.
Плеснув воды в котел, мастер подошел к Петьке, скривил губы в усмешке и сказал:
— Что, устал, что ли? Бери-ка топор в сенях и руби железо поперек барабана.
— Мутит меня, дяденька.
— Вонь душит — это верно. С непривычки нутро выворачивает, и память потерять можно. Ну, ладно, мы работаем, так терпим, а люди на квартал кругом за что наказание несут? Раньше салотопни в город не пускали, а тут пожалте — Полканов «смазал», и никто пикнуть не смеет.
— А чего это так воняет-то?
— Сало топим, а выжарки, брат, не вынимаем. Это хозяину доход от всякой падали, а нам удушье. Давай-ка, пожалуй, еще прибавим: вдвоем-то мы с тобой загрузим полную варку, завернем на всю коронку. Ты пока оставь-ка барабан; вот поруби кости да таскай в котел.
Мастер провел Петьку в угол, где под рогожей лежала серая куча. Когда Петька вгляделся, он смог распознать заднюю часть лошади, куски шкуры, кишки. Вблизи всё это издавало резкий запах падали, перебивающий даже густую вонь пригоревшего сала.
Никогда ему еще не приходилось испытывать такого отвращения.
Стиснув зубы, он рубил толстые, не поддающиеся его усилиям лошадиные ноги и ребра и вздрагивал, когда брызги летели ему в лицо.
Петька работал самоотверженно. Раньше он ни за что на свете не согласился бы копаться в падали, но тут была работа, другой ему не найти, и поэтому нужно было терпеть. «Ведь работает же здесь Исаич», — утешал себя Петька.
— Дяденька, можно дверь открыть? — взмолился Петька.
— Что ты, что ты! Всех людей всполошим. Жильцов задушим, да и прохожие скандал поднимут. Одна нам с тобой вентиляция через трубу… Терпи, брат, — ничего не поделаешь. Вот начнем варить мыло, — так полегчает. Давай таскай в котел, что нарубил.
В котел полетели кости, тряпки, куски мяса, кожа, почки; Петька подобрал лопатой месиво лошадиных кишок и всё ввалил в котел. Напоследок он принес копыто и задумался.
— Чего смотришь? — окликнул его мастер. — Бросай в котел, всё каустик переработает.
— И подкову? — спросил Петька.
— М-да, нет, подкову не возьмет, а хорошо бы для веса.
— Дяденька, я не знал, что на мыло всякая падаль идет.
— То-то, милый; кто из чего варит. Мы такого добра немало перерабатываем. Наш товар ночью привозят, чтобы перед народом не было зазорно. Ну, а раз попало в подвал, — то тут уж что хочешь уйдет. Давай тебя на мыло переделаем.
Петька срубил крышку с барабана — и на пол посыпались красивые белые крошки. Выковыряв топором несколько кусков, Петька перенес их в бачок и, отбив крупный кусок, остановился с глыбой в руках и спросил:
— Много ли класть?
Мастер обернулся и сердито затопал ногами.
— Ты что, ошалел? — орал Исаич. — Тебе кто велел хватать соду руками! Тебе пальцы отъест. Бросай сейчас же!
Петька выпустил кусок и испуганно смотрел на руки.
— Натирай салом! — велел мастер. И пока Петька послушно натирал руки, потом соскабливал сало и вновь натирал, — мастер учил:
— Никогда наперед не суйся без спросу ни в какие дела. Долго ли до беды! А потом отвечай за тебя, не перед законом, так перед совестью.
Исаич убавил огонь в топке и налил в котел раствор из бачка. Началась варка мыла, и воздух постепенно стал очищаться. Правда, этого Петька не замечал. Он в изнеможении опустился на пол и закрыл глаза. Недолго он так отдыхал. Мастер растолкал его и заставил мешать в котле. Как потом разливали мыло, — Петька забыл. Туманом был застлан весь конец дня, только запомнилась тяжелая форма с мыльной плавкой, придавившая ему пальцы.
— Ну, пойдем, я тебе калач куплю, — сказал Исаич, когда они вечером вышли из подвала. — Ты славный, оказывается, парень, надо тебя побаловать. Ведь целый день ничего не ел?
— Не ел, — тихо ответил Петька. Он шел рядом с мастером, шатаясь, как пьяный. Изредка, натыкаясь на Исаича, Петька широко открывал глаза и старался держаться прямо.
Базар закрывали, он был почти пуст, и мастер издали показал Петьке румяную торговку.
— Запомни ее, это тетка Людмила.
— Дай-ка нам хороший калачик, — сказал Исаич тетке, когда они подошли к столу, за которым торговка стояла, навалясь на доски грудью.
Порывшись в корзине, прикрытой тряпкой, тетка Людмила протянула Исаичу огромный пшеничный калач.
— Ему дай, — сказал Исаич, — это он со мною работает. — Ну, Петя, благодари тетку Людмилу да иди себе. Смотри, запомни ее; гляди, какая она красивая.
Исаич остался разговаривать, а Петька поплелся домой.
По дороге он передумал. От одежды воняло, в животе мутило. Идти домой в таком виде казалось немыслимым, и Петька свернул к реке.
Положив калач на камни, он разделся донага и долго тер руки песком и мылом, кусочек которого ему дал Исаич. Как бы оно ни было сварено, — мыло давало белую пену, и первоначальная брезгливость к нему у Петьки исчезла. Тщательно умывшись, он выхлопал одежду и даже постирал рубашку. Потом опять умылся, прополоскал рот и после глотка воды страшно захотел есть. Еще голый, сидя у воды, он съел половину калача, а другую оставил.
После купания даже усталость почти прошла, и Петька довольно весело поздоровался с матерью.
Сидя за столом, он поедал всё, что ему подставляла мать, и, не замечая, съел и ее и свой обед и почувствовал себя сытым только после третьей кружки чая.
— Не тяжело тебе, Петя, там работать? — спросила мать, внимательно глядя на него.
— Ну, чего там! Работа как работа, — сказал Петька, невольно подражая голосу Исаича.
— Что ты там делаешь?
— Сегодня в котле мешал палкой. Обыкновенный котел, — соврал Петька, стараясь избежать расспросов.
На следующий день работа повторилась. Только не нужно было бить гирей по барабану с содой, которой хватило на много варок.
Исаич начал приучать Петьку к делу.
— Вот гляди, — говорил он, поднимая лопатку над котлом, — это есть мыльный клей!
С лопатки в котел падали капли, потом потянулась длинная струйка. Лизнув ее языком, Исаич добавил:
— «Дает укол» — значит, много свободной воды. Будем варить еще. Ты встань сюда и помешивай. Нет, нет, да и поглядывай на лопатку. Если начнет это, значит, мыло-то тянуться, тогда кричи меня.
Мастер вернулся с ведром воды и вылил ее в котел. Поймав на себе изумленный взгляд Петьки, Исаич подмигнул ему:
— Хэ, хе, хе! Это для равновесия в хозяйском глазе.
Ничего не понимая, Петька взобрался на плиту к деревянной воронке, встал на скамейку и, поднимаясь на носки, принялся помешивать в котле, стараясь доставать мешалкой до чугунного дна. Он глядел, как там переливалась кипящая жидкость молочного и желтого цвета, как будто в котел влили чай, кофе и молоко, и всё это кипит, клокочет, вьется отдельными струями и никак не смешается.
Исаич прилег на стол для резки мыла; в горле у него захлюпало, как в котле, и он храпел, пока Петька не разбудил его, когда мыло, стекая с лопатки, стало вытягиваться нитями. Исаич потянулся, зевнул и сказал Петьке:
— Я тут один управлюсь, а ты вот что — забирай брус мыла да снеси его тетке Людмиле. Она даст деньги, купишь молока и калачей, и мы с тобой пообедаем.
«Может, он шутит», — подумал Петька и недоверчиво посмотрел на мастера. Воровать было стыдно, а не слушаться мастера — вроде страшно.
Он, мучительно краснея, пытался отговорить мастера.
— Дядя Исаич, а вдруг хозяин встретится?
— А ты не бойся! Он вони сторожится, и его в это время сюда не дозовешься. К ночи только придет.
Ели в другой комнате. Тут было почище и не так дико воняло. Затворив двери в варочную, Исаич распахнул форточку.
— В нашем деле беспременно надо молоко пить, а иначе сдохнешь: чахотка и четыре крышки! — сказал он. — Ты после работы бери мыла, на базаре продашь — деньги будут; всё равно Полканов тебе жалования не заплатит, а заплатит, так на два калача. За мыло-то уж, наверняка, удержит столько, сколько и не снести тебе.
— Да-а, а вдруг он заметит? Не буду брать. Кабы хозяин дал, тогда — другое дело.
— Что тебе! Кто тебе хозяин? Я хозяин! — закричал Исаич и, оттопырив губу, передразнивал: — «Хозяин, хозяин!» Он только котел купил да сала достал на первую варку, а я жизнь на это дело кладу, кровь моя тут вянет. Он только деньги получает, а я всем делом верчу. Видал ты его когда на работе? А мы одинаковые в паях… только на его пай — деньги, а мне — гроши.
— Ты не сомневайся в этом деле, — продолжал Исаич, немного успокоясь, — я хозяина не боюсь, а кто из нас честнее, — мы посмотрим! Он велит мне для весу воду лить, а я не лью, потому что хуже мыло бывает; и если по его воле всему быть, так народу он продаст один кисель — мошенницкое мыло. Он у народа ворует, у матери твоей крадет, в мыло пакость кладет, а я не даю. Тебе он велел доглядывать за мной? — неожиданно спросил мастер, прервав речь.
Молчание для Петьки было тягостно, и неловко было оттого, что Исаич так прямо и верно задал вопрос. Покраснев, Петька ответил:
— Велел…
— Ну, вот, — вздохнул мастер, — ведро воды, брус мыла — ерунда. Он боится, как бы я целую варку на сторону без него не продал. А случись так, — всё равно: поругается и такой же станет. А нового мастера ему не найти. Кто пойдет работать в такой вертеп? Хотя две трети пая обещай. Кто пойдет? Кому своей жизни не жалко? Знаю я про него, — из чего мы мыло варим, — кричал Исаич, как хмельной, грозясь кулаком и расплескивая молоко себе на колени.
Петька уплетал за обе щеки калачи, но твердо решил не брать мыла. И, чтобы не носить к тетке Людмиле, тут же придумал уловку:
— Тетка Людмила тебе, Исаич, заказывала, самому велела приходить. Почему, говорит, не ходит?
— Ладно, ужо схожу.
Подобрев, Исаич продолжал говорить о себе.
— На хороших-то производствах мыло мы варили из чистого сала. Разные туалетные мыла бывали, а тут — тьфу! Вот, сударик, и разберись тут, кто прав, кто виноват.
Каждый день, возвращаясь с работы, Петька шатался от усталости. От духоты голова болела, он худел с каждым днем, горбился и начал кашлять. Но он был горд: он имел работу. И не всем солдатским детям повезло так, как Петьке: большинство из них голодными слонялись по улицам и рылись в мусоре, как бездомные кошки.
Королек избрал себе более «легкий» труд, — торговал папиросами в россыпь, по штукам. Петька, возвращаясь с работы, видел Королька в ораве мальчишек, бегущих за покупателями и орущих: «Шапшал», «Лаферм», «Богданова»! Редко кто из прохожих останавливался. Но стоило человеку остановиться, и к нему сразу протягивался десяток грязных кулаков с зажатыми в них пучками папирос. Мальчишки кричал: наперебой и лепились, словно надоедливые мухи.
— Бросай ты свои папиросы, — сказал Петька. — Вот бы нам с тобой поступить куда-нибудь слесарить, — там чистота и воздух хороший.
— А хорошо у тебя работать? — спросил Королек.
— Нет, в первые дни меня по два раза тошнило. Теперь привык, только руки и ноги болят.
— Уходи оттуда.
— Нет, не уйду, нельзя. Работать надо.
— Уйдешь всё равно, — убеждал Королек.
— Нет, не уйду! — продолжал спорить Петька. — Хочешь, я тебе кровью расписку напишу?
Хотя у Петьки кроме рук и ног болела еще грудь, но от собственно решимости ему стало легче; вспомнилось, что близко воскресенье, тогда он может отдохнуть. А Исаич вчера еще сказал, что в субботу Полканов заплатит деньги, и мысль о том, что он принесет матери получку, радовала его.
«Интересно, — сколько я заработал?» — думал Петька и от этого страшно хотелось рассказать Корольку, как он работал, и мечтал о том, как интересно они могут провести воскресенье.
— Может, порыбачить съездим, а? — спрашивал Петька оживляясь. — Пойдем сходим на реку.
У Петьки радости хватило до субботы: денег он от хозяина не получил. В субботу Полканов не заехал на завод, и Исаич сказал:
— Ну, я к нему, тово, вечером зайду, о тебе напомню, а ты в воскресенье приходи.
Петька хмурый пришел домой и матери сказал за столом:
— Хозяин сегодня денег не дал. Я к нему завтра схожу за получкой.
— Ах, Петя! Он же говорил, что тебе денег выдавать не будет. Придется мне самой сходить, — сказала мать.
Но всё-таки ни Петька, ни мать денег не получили. Когда мать, по-праздничному одетая, вышла во двор, ей встретился домохозяин. Радушнее прежнего он улыбнулся и опять снял соломенную круглую шляпу, поклонился и, поглаживая усики, заговорил:
— Здравствуйте. Далеко ли вы направились?
— Я к Полканову, Илье Фролычу, за деньгами. Мой сын, спасибо вам, работает у него, так надо получить, — улыбаясь ответила мать. Гордая за своего сына, она радовалась.
— Да, совершенно верно! — воскликнул хозяйчик. — Ваш сын заработал десять рублей. Я вчера был в гостях у Ильи Фролыча, он очень хорошо отозвался о вашем сыне. Мы выпили за нового мыловара. Благодарил он меня.
— Ну, вы меня извините, я пойду, — сказала мать. Она в это время подумала: «Стол придется продать, раз такой маленький заработок…»
— Да нет. Вы не ходите, — услышала мать, — те деньги Илья Фролыч передал мне; и я, с вашего разрешения, задержал их у себя, в погашение долга за квартиру.
— Ну что ж, — тихо и смущенно ответила мать.
Ей уж незачем было идти к Полканову, она вернулась домой, и они с Петькой долго сидели за пустым столом и молчали.
В. Вахман Сигнал бедствия
Рис. С. Спицына
I
Советский теплоход «Кузнец Захаров» следовал в один из портов Южной Америки.
Рейс подходил к концу. Накануне прибытия с раннего утра мыли палубу, шлюпки, вентиляторные раструбы, надстройки; подновляли растрескавшуюся от тропической жары краску, драили медные части так, чтобы они горели, как золото.
За всеми работами наблюдал старший помощник капитана — Иван Петрович Тихонов. Несмотря на свою долголетнюю службу во флоте, Тихонов перед приходом в иностранный порт всегда нервничал.
«Советские корабли в этих водах — редкие гости. Завтра предстоит выдержать своего рода публичный экзамен, — размышлял он. — Моряки различных наций — англичане, американцы, шведы, аргентинцы, итальянцы, греки — будут наблюдать, как „Кузнец Захаров“ станет швартоваться к пирсу. Малейшая заминка — и на всех судах в гавани пойдут судить да рядить: теплоход не слушает руля, капитан не имеет глазомера, экипаж плохо обучен…»
Иван Петрович плотнее надвинул на лоб козырек фуражки и — уж нивесть в какой раз за это беспокойное утро — отправился в обход по всему судну.
Современные грузовые суда обычно не радуют своим видом морской глаз. У них всё принесено в жертву необходимости брать больше груза и обеспечить быстроту и удобство погрузки. Но когда Тихонову случалось наблюдать свой корабль со стороны, он неизменно испытывал чувство гордости.
«Этакая махина, а ведь ничуть не похож на те безобразные утюги, какие принято теперь строить!» Конечно, если корабль высотой с пятиэтажный дом, длина его главной палубы больше ста двадцати метров, а трюмы способны вместить столько груза, что для перевозки их по железной дороге требуется от пятисот до семисот товарных вагонов, — нечего и желать, чтобы он был стройным, как прогулочная яхта. «Кузнец Захаров» хорош по-своему: огромные размеры не делают его неуклюжим, острый форштевень с легким наклоном вниз создает такое впечатление, будто кораблю не стоится на месте и он рвется вперед. Это впечатление еще усиливается тем, что надстройки немного сдвинуты назад, а приземистая овальная труба чуть отклонена к корме. Даже сдвоенные мачты с массивными грузовыми стрелами не портят общего вида, не утяжеляют корабль.
Весь теплоход, от киля до клотиков мачт, построен на отечественных заводах, — на нем нет ни одного механизма, ни одного прибора с иностранной маркой.
«Какая досада! — думал Тихонов, неторопливо направляясь к корме. — Слишком много палубного груза на этот раз взяли. Эти штабеля ящиков и бочек загромождают всё свободное пространство. Не будь их, какой нарядной выглядела бы палуба!»
Тихонов заметил на корме матроса Горшкова и сразу насторожился.
Команда на «Захарове» почти вся состояла из молодежи. Это, по мнению Ивана Петровича, было хорошо, но имело и один существенный недостаток. Молодые моряки — народ, правда, недостаточно опытный, но зато ловкий, энергичный, инициативный. Однако, к сожалению, среди них есть и такие, у кого ветер гуляет в голове. Главный заводила среди них — это Горшков. За ним всё время нужен глаз да глаз.
Тихонов в глубине души питал тайную слабость к этому, всегда веселому, неистощимому на изобретение всяких проказ, коренастому пареньку. Частенько его приходилось «продирать с песочком». Но старпом был убежден, что из Горшкова со временем выйдет отличный моряк.
Молодой матрос усердно протирал стекла светового проема над кормовой кладовой. Старпому показалось подозрительным, почему он делает это молча, не пост, по своему обыкновению, не поддразнивает никого из работающих рядом моряков. Ох, если Валентин Горшков молчит — это недобрый признак! Наверное, он придумывает какую-нибудь очередную каверзу!
Тихонов ускорил шаги, почти взбежал по кормовому трапу на полуют и остановился рядом с Горшковым.
— Как дела?
— Точно лежу на курсе, давление в котлах на марке! Ход предельный! — лихо отрапортовал Горшков.
Иван Петрович поморщился. Скажи, пожалуйста, какой словесный узел завязал!
Тихонов присел на корточки, придирчиво осмотрел стекла. Чисто протертые, они ярко сверкали на солнце.
— Много на стеклах было копоти? — спросил Иван Петрович, осененный внезапной догадкой.
— Шкрабить скребком не пришлось.
— Вам всё шуточки, товарищ Горшков. Шкрабить! Что это вам, подводная часть корабля? Нарост ракушек и водорослей отдираете? Я ведь дело спрашиваю; мне важно знать, — много ли несет копоти из трубы? Закончим приборку, а к утру опять всё может забросать сажей.
Иван Петрович с тревогой посмотрел на брезенты, прикрывающие груз. Брезенты новые, хорошо выбеленные; упадет на них сажа — будет сущее бедствие.
Над широкой, приземистой трубой теплохода вообще не было заметно никакого дымка.
На дизельных судах дымовые трубы сооружают по традиции. И без них можно было отлично обойтись, отводя отработанные газы от дизель-моторов просто за борт. Но большой корабль без трубы имеет какой-то незаконченный вид. Поэтому трубу всё-таки делают. И чтобы полезная площадь не пропадала даром, внутри ее устраивают расходные баки для топлива, для питьевой воды, чуланчики для хранения хозяйственного инвентаря, ведер, швабр, мыла. Только в самом центре трубы оставлен узкий канал для выхлопа отработанных газов.
Тихонов отлично знал, что копоть на «Захарове» — явление крайне редкое. Это могло случиться, если дизели были плохо отрегулированы, например сразу же после выхода из ремонта, но уж никак не к концу длительного рейса.
Всё же старпом решил спуститься в машину к механикам и предупредить их на всякий случай, чтобы они там посматривали, а по пути заглянуть в кают-компанию и жилые каюты.
На иностранных судах жилые помещения для команды находятся на носу и на корме, где сильнее всего ощущается продольная качка. Такое расположение сохранилось еще со времен парусного флота, когда середину палубы нельзя было занимать надстройками, так как они мешали управлению парусами.
В советском торговом флоте давно отказались от этого нелепого обычая. Весь экипаж живет в каютах, расположенных в центральной части корабля.
Тихонов по опыту знал, что это «новшество», по меньшей мере двадцатипятилетней давности, до сих пор приводит в восхищение моряков тех стран, которые редко посещаются советскими судами. Не только докеры, крановщики в порту, матросы с соседних пароходов, но и портовые власти обязательно захотят своими глазами взглянуть, как живут советские моряки.
Но как только старпом взялся за ручку двери во внутренние помещения, к нему подошел рассыльный с вахты и доложил, что второй помощник капитана, Курганов, срочно просит старпома подняться к нему на мостик.
— Скажи вахтенному штурману, что я следую за тобой в кильватер, — недовольно ответил Иван Петрович, — загляну только в одну-две каюты.
Но, вспомнив, что Курганов не из тех людей, которые нуждаются в помощи старших, поспешил на мостик. Значит, что-то случилось, раз зовет.
Курганов казался сильно встревоженным.
— По-моему, Иван Петрович, — сказал он, едва Тихонов перешагнул высокий порог рубки, — на нас катит здоровенный штормяга. Только бы успеть приготовиться к этой встрече.
— Ну, ну, вам здесь в тропиках всё непривычно, поэтому вы и готовы в любую минуту свистать всех наверх, — заворчал было старпом, беря из рук штурмана бинокль, но так и не поднес его к глазам: и без бинокля было ясно, что Курганов нисколько не преувеличивает.
Стоял полный штиль. Яркосиний, без единой морщинки океан, казалось, дремал в тяжелой истоме. Вода чуть колебалась всей своей массой.
Но впереди, несколько левее курса, которым следовал теплоход, на горизонте появилось что-то темное, похожее на густой пальмовый лес. Сразу даже трудно было понять, что это грозовая туча, — столь необычна была она по своим очертаниям. Ее края, растрепанные ветром, пока еще неощутимым на «Кузнеце Захарове», длинными космами выдавались вперед, напоминая колышущиеся ветви.
Туча непрерывно меняла форму, а там, где она сливалась с поверхностью океана, по воде бежали зловещие тени и мутно полыхали за пеленой дождя бледнозеленые «зайчики». Это своеобразное явление возникает лишь тогда, когда атмосфера перенасыщена электричеством.
Страшная туча быстро приближалась к теплоходу. Когда Курганов попросил старпома подняться на мостик, она едва появилась над линией горизонта, а сейчас, всего через какую-нибудь минуту, уже закрыла значительное пространство небосклона.
Оба штурмана переглянулись.
— Да, Александр Иванович, действительно. Чорт ее выпихнул нам навстречу! — вздохнул Тихонов. — Немедленно доложите капитану и объявляйте общий аврал.
— Есть, товарищ старпом! — козырнул Курганов.
Пока Тихонов, нарочно не спеша, чтобы не вселять в людей лишней тревоги, спускался на палубу, всё уже пришло в движение. Посланным Кургановым матрос стучался в дверь капитанской каюты; под мостиком часто затренькал небольшой колокол — рында, вызывая наверх всех свободных от вахты.
Остановившись на последней ступеньке трапа, Иван Петрович, испытующе оглядев сбегавшихся к нему моряков, начал отдавать приказания. Прежде всего необходимо позаботиться, чтобы вода не проникала внутрь судна через открытые отдушины, световые люки и вентиляторы. Пусть ими займется боцман, взяв себе в помощь двух человек. Кое-где придется на люки надеть по два чехла, один поверх другого. Вторая задача: хорошенько закрепить палубный груз, чтобы его не смыло. Всем, кроме повара и врача, немедленно переодеться в штормовые костюмы и быстро за дело! Повару с доктором запереть шкафы с посудой, привязать в помещениях всё, что может упасть или сдвинуться с места, а также сварить крепкого кофе и какао и слить в термосы. Горячий напиток потом пригодится для подкрепления сил.
Можно было подумать, будто старпома успели заблаговременно известить о приближении урагана и он не спеша наметил обстоятельный план действий, — так спокойно и уверенно он отдавал приказания. Его спокойствие и хладнокровие передались всему экипажу.
Капитан теплохода Сергей Михайлович Воронов принял на себя управление кораблем и приказал несколько изменить курс, чтобы встретить приближающийся шквал в лоб, а не подставлять ветру и волнам огромную площадь борта. На опустевшей на короткое время палубе дружно закипела работа. На спардеке ежесекундно гулко бухала тяжелая стальная дверь, пропуская моряков, надевших непромокаемые куртки и брюки, шляпы зюйдвестки с неравномерными полями, короткими спереди и длинными сзади, чтобы вода не попадала за ворот куртки.
Стоявшее в зените солнце, точно предчувствуя, оно скоро надолго исчезнет, палило особенно нещадно. Старпом и боцман поторапливали людей, раскатывающих по палубе тяжелые бухты канатов, предназначенных для крепления груза, шлюпок — вообще всего, что ураган мог сдвинуть с места, а волны — унести за борт.
Побережье Южной Америки в тех широтах, где сейчас находился «Кузнец Захаров», издавна приобрело печальную славу из-за жестоких ураганов, известных под именем «памперос».
Ветер, зародившись на восточных склонах Андов, проносится затем над необозримыми степными просторами пампасов (от которых эти ураганы получили свое название), приобретая в пути чудовищную силу. По своей ярости «памперос» не уступают вест-индским ураганам и тайфунам Китайского моря.
Но у них есть одно отличительное свойство, делающее их особенно опасными. Иногда «памперос» разражается так стремительно, что приборы не успевают отметить его приближения, и береговые радиостанции опаздывают с подачей штормовых предупреждений. Так случилось и на этот раз.
Туча уже закрыла половину неба, и вырвавшиеся вперед мохнатые космы приближались к солнцу, когда ртуть в барометре только начала опускаться, а перо самопишущего барографа, до сих пор чертившее на бумажной ленте почти прямую линию, стало тревожно вздрагивать — и на ленте появились резкие зубцы и впадины.
Но вот зловещий, темный язык на мгновение заслонил солнце. Сделалось темно и жутко, как будто внезапно настала ночь. Старпом, уже не скрывая тревоги, крикнул, чтобы под вновь заведенные дополнительные тросы скорей подбивали деревянные прокладки. Показывая пример, он сам схватил тяжелую кузнечную кувалду, загнал под трос короткий обрезок толстой доски.
Солнце еще раз вынырнуло в разрыве тучи, бросило в небо сноп яркооранжевых и зеленых лучей и скрылось. Настал гнетущий, душный мрак.
Пора было уходить с палубы. Замешкавшихся могло смыть за борт.
Но не успели моряки добежать до двери во внутренние помещения, как над их головами вспыхнул нестерпимый голубой свет огромного пучка-молний и, точно очередь тяжелых снарядов одновременно разорвалась над теплоходом, грянул гром.
— Живей, живей! — кричал Тихонов, но его голос уже невозможно было расслышать.
Не успел погаснуть свет первого пучка молний, как уже вспыхнул второй, еще более сильный, затем третий, четвертый. В высокие борта корабля начали бить короткие, злые волны — авангард надвигающихся водяных громад.
А навстречу, всё усиливаясь и нарастая, катился страшный гул, точно надвигалась лавина горного обвала; это мчался ураган.
Высокая, с иззубренной пенистой вершиной волна вдруг как-то неожиданно встала перед кораблем, легко, будто вовсе не встретив на своем, пути препятствий, перемахнула через борт, шумными каскадами скатилась с полубака, накрыв с головой моряков, которые еще не успели уйти, пронеслась над всем, что было на палубе, и пошла по океану дальше. А новые волны уже накатывали на теплоход, вода бурлила на палубе.
Могучий корабль задрожал всем корпусом от этих страшных ударов. На миг показалось, будто его машины бессильны преодолеть ярость урагана. Рулевой в рубке с лихорадочной поспешностью закрутил штурвальное колесо, к нему взволнованно придвинулись капитан и штурман.
Корабль острым форштевнем разрезал и подмял под себя очередную волну, перевалил через ее гребень и соскользнул в глубокое водяное ущелье. Обнажившиеся винты забили лопастями в воздухе, вздымая вихрь брызг, потом снова ушли в воду — и корабль опять ринулся вперед.
Чередование стремительных взлетов и падений стало непрерывным. Теплоход, весящий вместе с грузом больше 15 000 тонн, подкидывало на высоту трех-четырехэтажного дома, как будто эта была пустая консервная банка.
«Кузнец Захаров» с трудом пробивался вперед, но точно держался на заданном курсе.
II
В штормовую погоду вместо обычных четырехчасовых вахт вводит укороченные, двухчасовые. Но сменить находившихся на мостике в рулевой рубке вахтенного штурмана и рулевого оказалось не так-то просто. Двое матросов, навалившись всей своей тяжестью на дверь, выходившую на палубу, с трудом приоткрыли ее лишь настолько, чтобы пропустить новых вахтенных, — так сильно давил снаружи на дверь ветер. Третий помощник капитана, Брусницын, сменявший Курганова, и рулевой, молодой туркмен Нарзы Бабеков, очутившись на палубе, в первый момент едва не захлебнулись: их с головой накрыла хлынувшая с полубака волна. Держась за специально для этого натянутый вдоль палубы канат (штормовой леер), они чуть не ползком достигли трапа. На палубе, вокруг всех находившихся на ней предметов, клокотали водовороты. Попасть в таком водоворот было опасно, — могло вырвать из рук леер, унести человека за борт или изувечить.
На мостике опять пришлось долго воевать с дверью, пока удалось проникнуть внутрь рубки.
После палубы в рубке им показалось необыкновенно уютно. Стенки, обшитые изнутри деревянными панелями, настолько приглушали рев ветра и грохот штурмующих теплоход волн, что здесь можно было даже разговаривать. Деловито стрекотал привод рулевой машины; над штурманским пультом, похожим на конторское бюро со спускающейся деревянной шторкой, горела настольная лампочка под матовым колпаком, роняя кружок света на приколотую к пульту карту.
Брусницын стряхнул с одежды воду и, вытерев мокрое лицо, вмеси с Кургановым подошел к карте, чтобы сделать в вахтенном журнале запись о передаче дежурства.
Новый рулевой встал позади товарища, которого он должен был сменить, узнал, какой задан курс, перехватил рукоятки штурвала сначала левой, потом правой рукой. Сдающий вахту рулевой выпустил штурвал лишь тогда, когда почувствовал, что управление передано им из рук в руки.
После ухода Курганова настроение Брусницына заметно упало. Он почувствовал неуверенность в себе. За широкими окнами рубки почти ничего не возможно было разглядеть. Только струи воды сбегали по толстым стеклам, смазывая очертания даже тех предметов, которые находились на носу корабля. А дальше за бортом клубилась белесая мгла, как будто тучи опустились на поверхность океана. Это был не туман, а миллиарды поднятых ветром в воздух брызг. В воздухе носились сотни тонн океанской воды: не видно было ни туч, ни грозных волн, ни даже редких теперь вспышек молний.
Самый молодой из всех штурманов на теплоходе, Брусницын всего два месяца назад окончил мореходное училище. Он впервые наблюдал шторм такой силы. Его пугало полное отсутствие видимости. Правда, когда ураган налетел, океан был пустынен: ни дымка, ни паруса нигде на горизонте не было заметно. Но ведь с каждым часом корабль приближался к порту. «А что, если другое, застигнутое ураганом судно окажется впереди нас! — напряженно думал Брусницын. — Ведь я не увижу сигнальных огней, а если и увижу, то слишком поздно».
Брусницын даже позавидовал рулевому, его выдержке и спокойствию. Он знал биографию Нарзы; она была несколько необычайной для моряка.
Бабеков родился и вырос в одном из самых бедных водой районов Средней Азии. Может быть, именно это обстоятельство сыграло роль в том, что Нарзы еще мальчиком, учеником средней школы, стал мечтать о бескрайних океанских просторах, беззаветно полюбил море и твердо решил стать со временем моряком дальнего плавания. Окончив школу, он обратился к комсомольским организациям Туркмении с просьбой помочь ему осуществить свою мечту. Брусницыну рассказывали, что два года тому назад, когда «Кузнец Захаров» стоял на ремонте, к капитану явился юноша в полосатом ватном халате и косматой папахе, сделанной чуть ли не из целого барана.
Теперь этот потомственный житель пустыни — лучший рулевой на судне.
В полном молчании прошла большая часть вахты Брусницына. И вдруг в переговорной трубке раздался свист. Уголком глаза Брусницын успел заметить, как при этом звуке находившийся в рубке капитан вздрогнул.
Штурман поспешно выдернул медную заглушку из горловины трубы и прильнул ухом к металлическому раструбу. До него донесся искаженный расстоянием глухой голос. Капитана просили как можно скорее зайти к радисту.
— Есть передать капитану! — крикнул в ответ штурман и тут же подумал:
«Ну, кажется, стряслось что-то неладное. Метеорологическую сводку передали бы через меня».
Радиорубка вплотную прилегала к штурманской. Стены здесь были сплошь закрыты щитами с приборами; на множестве больших и малых циферблатов чуть трепетали или быстро метались из стороны в сторону стрелки. В круглых застекленных глазках тускло светились радиолампы.
Радист, чтобы легче было удерживать равновесие, весь ушел в привинченное к полу кресло, лег грудью на стол, обеими руками манипулировал рычажками настройки на щитке перед столом. Левым локтем он прижимал блокнот, карандаш, чтобы не выронить, держал в зубах.
Из-за непрерывного треска грозовых разрядов в атмосфере черные, с резиновыми круглыми подушками, наушники были у радиста сильно сдвинуты вперед, на виски.
Капитан осторожно вытащил из-под локтя радиста блокнот, прочел на бланке:
«СОС! СОС! СОС! „Морской цветок“… Потом шло несколько цифр, и дальше, после пропуска, слова: „авария машины… генеральный груз…“»
«Морской цветок» — название судна; цифрами обозначены координаты, градусы и минуты долготы и широты места, где находился гибнущий корабль. Если координаты были записаны правильно, то «Морской цветок» находился совсем близко; в обычное время, чтобы дойти до него, потребовалось бы затратить не более двух часов. Но сейчас…
Воронов опять подсунул блокнот под локоть радисту, сел рядом в свободное кресло. Радист чуть повернул голову, вопросительно взглянул на капитана. Воронов пожал плечами:
— Постарайтесь уточнить… Я не могу принимать решение на основании обрывка радиограммы.
Радист продолжал вертеть ручки настройки, стараясь в царящем в эфире хаосе — мешанине из обрывков переговоров между другими судами, передач широковещательных станций, случайных помех — опять набрести на нужную волну. Где-то слушали оперу, для биржевых дельцов диктовали бюллетени курсов ценных бумаг, комментировали политические сообщения. Какой-то пассажирский пароход не мог найти вход в гавань и просил включить дополнительный световой сигнал на маяке. Но «Морской цветок» больше не подавал признаков жизни.
«СОС» — международный сигнал бедствия. Он составлен из начальных букв английских слов: «Спасите наш корабль!» Но моряки расшифровывают его иначе: «Спасите наши души!» Это мольба о помощи, это вопль отчаяния. СОС дают в эфир, когда утеряна последняя надежда, когда ясно, что без посторонней помощи спастись невозможно.
«Что ж предпринять? — думал капитан. — Шлюпку не спустишь, чтобы снять людей, даже близко подойти к гибнущему судну и то опасно: волны могут столкнуть оба корабля».
Существует целая наука оказания помощи терпящим кораблекрушение, но все способы, которые он мог припомнить, сейчас были практически неосуществимы. Хоть бы радист поймал уж, наконец, продолжение радиограммы! Тогда станет яснее обстановка.
Минута проходила за минутой. Сквозь обшитые звуконепроницаемым материалом стены помещения сюда не достигал шум урагана, как будто океан тоже притих в ожидании.
Капитан дотронулся до плеча радиста:
— Товарищ Лавров, хоть что-нибудь слышите?
Радист не ответил, только еще больше нагнулся вперед, потом с паузами, точно боясь даже на секунду ослабить внимание, ответил:
— Слишком много помех, товарищ капитан, и кроме того… — и не докончив, вдруг схватил карандаш. В спешке слова ложились на бумагу вкривь и вкось. Воронов, перегнувшись через его плечо, разбирал: — «Пароход „Морской цветок“… Владелец компании „Голубая звезда“ США… путь следования Оклэнд… генеральный груз… команда двадцать четыре человека… терпим бедствие, авария в машине, потеряно управление… положение безвыходное… срочно умоляем помощи… капитан Девис…»
Координаты опять были те же. Значит, «Морской цветок» действительно находился близко.
Воронов положил руку на плечо радиста.
— Передавайте ответ: «Сигналы приняты советским теплоходом „Кузнец Захаров“. Наши координаты… — Воронов назвал местонахождение теплохода. — Спешим вам на выручку. Продолжайте держать с нами связь. Капитан Воронов».
Когда капитан вернулся в рубку, он был так же спокоен, как и раньше.
Только над переносьем залегла глубокая складка и выражение глаз как-то изменилось.
Подойдя к штурману, он коротко бросил:
— Тихонова и Курганова сюда. Передать старшему механику, чтобы ждал моих приказаний. — Затем капитан повернулся, собираясь подойти к карте, но вдруг переменил свое намерение.
Воронов еще недостаточно хорошо знал своего третьего помощника На теплоход Брусницын прибыл лишь перед самым отходом в рейс, потому что прежний третий помощник был переведем на другое судно. До сегодняшнего дня погода стояла на редкость хорошая и всё шло гладко. Но капитану было известно, что Брусницын в морском деле совсем новичок и если бы его не выручал своими советами Иван Петрович, то и с обычными судовыми работами он бы, пожалуй, не всегда справлялся. Поэтому Воронов видел в своем третьем помощнике скорее практиканта, чем штурмана. Но теперь и Брусницын должен выполнить часть общей и, что говорить, нелегкой задачи. Курганов его сменит, когда теплоход выйдет к месту, где находится «Морской цветок», — там опасный район. А Тихонову надо поручить подготовку и проведение самой спасательной операции.
Капитан положил руку на плечо молодого штурмана:
— Вам придется отстоять еще одну вахту подряд. Я вам объясню вашу задачу.
Брусницын хорошо изучил карту, и она сейчас как бы встала перед его глазами. Голубое поле, местами темного, почти синего оттенка, кое-где блеклого, как будто выгоревшего на солнце. Темный цвет означал большие глубины, светлые пятна — мелководье. Карандашная линия, так называемая прокладка курса, которым следовал теплоход, приходилась на нижнюю треть карты, сплошь густосинюю. А выше, там, где на карте был север, бумагу пересекала светлая полоса — подводный горный хребет. Вершины этого хребта кое-где возвышались над водой в виде островов, окруженных подводными утесами. В одном месте было пятнышко чистой, незакрашенной бумаги, обведенное коричневой краской, а посредине стояла точка, в которой четыре треугольника сходились вершинами. На морских картах берега обозначаются только на таком пространстве, которое видно с палубы судна. Белое пятнышко был островок Сан-Хоакин; коричневая кайма вокруг него указывала на то, что берега острова круты и неприступны. Треугольники обозначали маяк.
И Воронову, и Брусницыну не было надобности заглядывать в «лоцию морей» — справочную книгу, содержащую подробное описание этого участка океана и его берегов. Они и так помнили, что Сан-Хоакин необитаем, — к его почти отвесным берегам редко удается пристать даже в тихую погоду. Несколько лет назад с большим трудом здесь удалось соорудить автоматический маяк, на высокой железной мачте. Горелка маяка заряжается раз в год.
Руководства по мореплаванию советовали не приближаться к Сан-Хоакину, а огибать его на почтительном расстоянии. Эти места из-за обилия подводных рифов издавна пользуются печальной славой «кладбища кораблей». А ураган гонит беспомощный «Морской цветок» именно сюда.
Капитан сказал, что он сам всё время будет находиться в рубке, потому что придется идти напрямик в непосредственной близости от опасных рифов.
Даже очень опытный, бывалый штурман мог легко совершить ошибку при таких условиях, в какие теперь был поставлен Брусницын. Придется всё время учитывать скорость ветра, сносящего корабль с курса, и силу берегового подводного течения.
«Может быть, всё же лучше вызвать на вахту Курганова? — продолжал размышлять капитан, отойдя к столу и нанося на карту координаты „Морского цветка“. — Нет, не стоит». — Он взглянул на маленький нарисованный карандашом крестик, обозначавший указанное в радиограмме местоположение американского парохода, и помрачнел. Потом обвел крестик кружком. Обычный условный значок выглядел сейчас на этой карте, как зловещий символ.
Воронов произвел нужные вычисления, затем, наложив раздвижную штурманскую линейку, новой чертой соединил место, где находился теплоход, с местом, помеченным на карте крестиком. Курс лежал на Сан-Хоакин.
— Приготовиться к повороту!
— Есть приготовиться к повороту! — в один голос повторили приказ капитана Брусницын и рулевой. Затем штурман еще раз повторил его в телефон, соединенный с машинным отделением.
— Поворот! Лево руля! Еще! Еще! Так держать!..
Теплоход круто повалился набок. Если бы груз в трюмах сдвинулся, пополз, съехал на один борт!.. Случалось, что суда, на которых груз был плохо закреплен, опрокидывались и погибали в несколько минут, но «Кузнец Захаров» медленно выпрямлялся. Капитан едва сдержал вздох облегчения. Он встретился взглядом с Брусницыным: «Ну, теперь дело за тобой, штурман, веди корабль». И штурман также взглядом ответил: «Есть, будет выполнено».
В рубку вошли мокрые Тихонов и Курганов. Довольно тучный Иван Петрович, пробираясь по палубе, видимо, основательно хлебнул соленой воды и всё время морщился.
Капитан протянул им радиограмму, оба прочли. Затем Курганов осторожно вытащил одну из кнопок, которой была пришпилена карта, и приколол радиограмму к столу.
— Ближе чем на полкабельтова[15] нам к американцам никак не приблизиться, это в лучшем случае, — сказал капитан. — А если «Морской цветок» пригонит к скалам, придется держаться на расстоянии кабельтова, а то и двух.
Он вопросительно взглянул на своих помощников.
— Да уж ближе никак, — развел руками Тихонов, — стукнемся!
— Спасательные ракеты — единственное, чем мы можем воспользоваться.
Голос капитана звучал не совсем уверенно. Он испытующе взглянул на Тихонова и Курганова, но те промолчали.
Спасательные ракеты принято считать отжившими свой век. Их давно уже не применяют. На «Кузнеце Захарове» комплект ракет появился случайно; оказался на портовом складе, и его передали на одно из судов, уходящих в дальнее плавание.
При помощи ракеты, пустотелого стального цилиндра с оперением в хвостовой части, как у авиабомбы, можно перекинуть с одного корабля на другой тонкий канатик, а затем уже передать и надежный трос. По тросу, как по подвесной дороге, пустить спасательную люльку и по очереди переправить весь экипаж гибнущего судна либо использовать этот трос как буксир.
В результате короткого совещания Воронов и оба штурмана пришли к выводу, что если «Морской цветок» нельзя будет взять на буксир, то придется вместо спасательной люльки пустить по воде пустую шлюпку. Американцы ее сначала подтянут к себе, а затем, уже с людьми, ее таким же образом подтянут к теплоходу.
— Решено, Иван Петрович, готовьте к действию ракеты, — сказал Воронов.
Но когда оба моряка уже были у самой двери, капитан их вернул.
— Я хочу напомнить, — сказал он твердо, — что мы идем на опасное дело. Разъясните как следует остальным нашим товарищам, что если бы вопрос стоял не о спасении человеческих жизней… я бы не принял такого ответственного решения.
Минут через десять после ухода Тихонова и Курганова, Брусницын, подойдя к прибору, показывающему направление и силу ветра, вдруг замер, не веря своим глазам. Прибор показывал, что ветер стал порывистым.
Это был первый признак того, что шторм идет на убыль.
Обрадованный штурман доложил о своих наблюдениях капитану. Оба прильнули к стеклам. Завеса перед их глазами на миг исчезла, рассеялась. Стал виден океан — гигантские волны и чуть не задевавшие за них увенчанные седыми гребнями вершины темные, куда-то стремительно несущиеся тучи. Но вот брызги опять взметнулись, закрыв всё белесой пеленой.
Брусницын, сам того не замечая, тер рукой стекло и всё твердил:
— Вот видите, видите, раньше ведь вообще ничего не было видно. Это уже хорошо, очень хорошо…
Капитан согласился.
Да, это можно считать переломом. Но пройдет еще много времени, не час, не два, не три, пока уляжется этот проклятый ветер.
III
Никто еще не знал этих американцев с «Морского цветка», но у каждого за них болела душа, как будто опасность грозила людям, к которым успели привязаться.
«Только бы не опоздать!» — Эта мысль заставляла механиков и мотористов давать невероятную перегрузку машинам; матросы, рулевые, штурманы, судовой врач, — словом, весь экипаж теплохода не мог думать ни о чем другом. «Только бы поспеть во-время!»
Уже час, как не было связи с гибнущим пароходом. В радиорубке дежурили по два радиста. Они часто сменяли друг друга, потому что, когда человек долго напрягает слух, внимание его невольно притупляется. Иногда на той волне, на которой работала рация «Морского цветка», возникали какие-то слабые звуки. Но они тонули в грохоте грозовых разрядов, заглушались более мощными передатчиками.
Радисты плотнее прижимали руками наушники к голове, замирали, боясь пропустить хоть малейший шорох в эфире.
Может быть, на «Морском цветке» ослабли аварийные аккумуляторы, их мощности не хватает для передачи сигналов, но достаточно, чтобы вести прием? И радисты снова и снова посылали в эфир:
«„Морской цветок“!.. „Морской цветок“!.. Говорит советский теплоход „Кузнец Захаров“… Идем вам на помощь… Держитесь до последней возможности… „Морской цветок“!.. „Морской цветок“!.. Идем вам на помощь… Держитесь до последней возможности… Идем вам на помощь!..»
Впоследствии так и не удалось вспомнить, кто первый и по какой причине решил вынуть из книжного шкафа справочник с бюллетенями страховых обществ и заглянуть в него. В справочнике было сказано, что грузы, перевозимые пароходами, принадлежащими компании «Голубая звезда», принимались на страхование по самым высоким тарифам, и за их утрату выплачивались самые низкие премии. И тогда многие вспомнили, что видели эти пароходы не раз; их легко было узнать по отличительному знаку на трубе — голубой звезде, окруженной надписью «Блу стар компани». Такие пароходы моряки всех стран называют «пловучими гробами».
«Пловучие гробы» или «пловучая упаковка для грузов» — это почти официальное название закрепилось за определенным типом судов, которые американские верфи выпускали во время войны, когда потери в транспортном флоте достигли катастрофических размеров. Их спускали на воду целыми сериями, и постройка каждой серии занимала меньше времени, чем постройка одного нормального судна. Но и рассчитаны они были на очень короткий срок службы: «Для войны! Только для войны».
Правительство обещало пустить их на слом сразу после окончания войны, но «Голубая звезда» их купила, и они плавали до сих пор.
Долго ли способен продержаться на воде «пловучий гроб» в такой, шторм, когда и хорошим судам приходится туго!
Между тем видимость улучшилась. Брусницын оглядывал горизонт в бинокль, и вдруг ему показалось, что впереди мелькнули сигнальные огни. Может быть, это «Морской цветок», его сигналы? По радио передали неверные координаты?
Светлая точка исчезла. Но вот она опять появилась, и чуть ниже ее обозначились красный и зеленый огни бортовых фонарей. Не могло быть сомнений в том, что навстречу идет какое-то судно.
Корабль быстро приближался. С каждой минутой всё яснее и яснее можно было различать его огни; постепенно начали вырисовываться и очертания корпуса.
Брусницын с удивлением заметил, что корабль выкрашен в какой-то необычный цвет: не то красный, не то оранжевый.
Странно… Похож на военный корабль и ходок неплохой. Однако таких оранжевых, как апельсин, кораблей ни ему, ни даже капитану еще ни разу видеть не приходилось.
Вскоре встречный корабль стал виден совсем ясно. Низко сидящий в воде узкий корпус судна не взбирался на волны, а разрезал их. Казалось, что он прокалывает гребни насквозь. Палуба была выпуклая, так что вода свободно скатывалась с нее. Перед единственной надстройкой, напоминавшей не то фюзеляж самолета, не то кузов гоночного автомобиля, высилась трехногая, как штатив фотоаппарата, мачта. Задняя мачта вовсе отсутствовала; ее заменяла какая-то рама, поддерживающая многочисленные антенны. Приземистая, наклоненная назад труба с защитным козырьком, чтобы волны не захлестывали внутрь, методично поплевывала вверх клубками плотного, как комочки ваты, дыма.
Когда оба судна почти поровнялись, стала видна огромная надпись, тянущаяся вдоль всего борта оранжевого парохода: «Спасательное общество „Нептун“, США».
— Ура! — радостно закричал Брусницын. — Экипаж «Морского цветка» спасен. Молодцы, ну что за молодцы эти ребята! Уже возвращаются..
Из рубки «Нептуна» вышел человек в прорезиненном костюме, похожем на комбинезон летчика, и в плотно облегающей голову, точно шлем, резиновой шапке. Поверх комбинезона на нем был надет спасательный нагрудник. Человек замахал белым флажком, давая понять, что желает вступить в переговоры с теплоходом. Потом сдернул чехол с огромного, укрепленного на специальной подставке мегафона, и повернул его в сторону «Кузнеца Захарова». Воронов, тоже схватив мегафон, поспешно вышел на открытый мостик.
Из черного зева мегафона на «Нептуне» раздался хриплый, простуженный голос моряка в комбинезоне:
— Алло! Русские! — кричал он. — Приятная встреча! Если погода не отбила у вас охоты заниматься делами, то мы можем совершить с вами выгодную сделку!
Командир спасательного парохода предлагал провести «Кузнеца Захарова» через опасный район на буксире.
Воронов ответил, что теплоход в подобных услугах не нуждается, и в свою очередь спросил, находится ли на «Нептуне» команда, снятая с «Морского цветка».
Человек в резиновом комбинезоне пренебрежительно махнул рукой. Нет, ни о каком «Морском цветке» он ничего не слышал и не знает, а над сделанным предложением советует подумать. О цене можно столковаться.
Ответа не последовало. Воронов, захлопнув дверь, скрылся в рубке.
Капитан и штурман не решались взглянуть друг на друга. Им обоим казалось, что произошло какое-то трагическое недоразумение, что, может быть, «Нептун» действительно не принял сигналов бедствия. Но оба знали, — никакого недоразумения на самом деле нет и быть не может. «Нептун» с его мощной радиоаппаратурой способен вести переговоры с любой станцией на земном шаре. Спасательный пароход уходит потому, что ему невыгодно спасать «Морской цветок».
Воронов, пробормотав сквозь зубы проклятие по адресу «этих пиратов», запросил радистов, не удалось ли за это время наладить связь с гибнущим судном. Ответ был отрицательным.
— Ничего, скоро мы его разыщем, — не то для утешения самого себя, не то для подбодрения штурмана и рулевого, нарочито громко произнес капитан и с тоской посмотрел на всё такой же мрачный, разгневанный океан.
«„Морской цветок“! Держитесь до последней возможности!.. „Морской цветок“, держитесь до последней возможности!.. Держитесь до последней возможности!..» — выстукивал в эфир радист «Кузнеца Захарова».
К месту аварии теплоход подошел уже в темноте. На верхнем мостике включили прожектор. Чтобы луч света был заметен с более далекого расстояния, его сначала направили вертикально вверх. Белый столб закачался над кораблем, вычерчивая по нему причудливые зигзаги. Брызги и капли дождя, пролетая через освещенное пространство, точно вспыхивали на секунду.
Пустили сигнальные ракеты, но вокруг попрежнему была непроглядная тьма, никто не подавал ответного сигнала.
«Наш прожектор слишком слаб, — решил Воронов. — Когда он направлен вверх, свет рассеивается».
Прожектор наклонили, стали шарить им по сторонам. Бушующий океан там, куда ложился свет, принимал фантастический вид: косматые вершины волн загорались фосфоресцирующим светом, за ними чернели глубокие провалы. Вода переставала походить на воду, — она напоминала языки беловатого пламени.
Проходила минута за минутой, время тянулось ужасающе медленно. В бесплодных поисках прошел час. Потом еще полчаса. Перед Кургановым, сменившим Брусницына, вдруг замигал глазок телефона. Штурман схватил трубку; стоявший рядом Воронов тоже быстро протянул руку, да так и застыл в позе тревожного ожидания. У обоих одновременно мелькнула мысль: «Неужели что-нибудь в машине? Здесь, около скал…»
— Товарищ Курганов, — донесся по проводам голос вахтенного механика, — второе динамо запускаю на всякий случай, может быть, понадобится ток.
— Хорошо, запускайте, — машинально ответил Курганов и тут же, спохватившись, спросил: — А почему вы, собственно, мне об этом докладываете?
Но механик, торопясь, чтобы его не перебили, продолжал:
— Ну как там? Еще ничего не видно? Товарищи просили меня узнать…
— Имейте же выдержку! — вспылил Курганов, но, немного помедлив, добавил: — Пока ничего. Может быть, ночью вообще наши сигналы не будут замечены, придется ждать рассвета.
Прошло еще полчаса. Капитан приказал жечь фальшфейеры.
Фальшфейеры — картонные трубки, начищенные особым порошком. Сгорая, они дают на несколько секунд вспышку яркого зеленоватого или красноватого света, в зависимости от состава смеси. Ими пользуются, чтобы подать сигнал бедствия или предупредить об опасности.
Первый фальшфейер осветил всё кругом мертвенным, вздрагивающим светом. Четко вырисовывались на стеклах рубки штаги мачт, провода антенн. Через минуту вспыхнул следующий.
Сожгли уже больше десятка фальшфейеров; запас их начал подходить к концу, и Курганову начало казаться, что всё потеряно. Помощь уже не нужна. Он посмотрел на капитана, пытаясь по выражению лица угадать его мысли, но Воронов, отвернувшись, смотрел в окно, и не понять было, нарочно он это делает, чтобы не выдать себя, или всё еще надеется заметить ответный сигнал.
И вдруг, когда Курганов уже решил, что и Воронов тоже потерял надежду, наблюдающий с мачты радостно закричал в переговорную трубу:
— Вижу огонь впереди слева от курса! — и через минуту снова повторил: — Вижу ясно красный фальшфейер на том же месте. Расстояние около мили. Пустили ракету!
Теплоход направился к тому месту, откуда давали сигналы. Прожектор перестал шарить вокруг, вперил свой луч в одну точку, и вскоре там всё яснее начали вырисовываться очертания корабля, почти исчезавшего среди волн.
Наконец ярко освещенный «Кузнец Захаров» приблизился к темному «Морскому цветку».
Электрики принесли запасной переносный прожектор, привязали к поручням верхнего мостика, так как он не мог устоять на своей железной треноге.
Но даже при свете двух прожекторов американский пароход рассмотреть как следует было нелегко: волны перекатывались через корабль, и по временам он совсем исчезал под ними. Океан на большом пространстве вокруг весь был в клочьях пены. Среди столбов брызг мелькали то тупая корма, то центральная надстройка с тонкой дымовой трубой, на которой была ясно заметна голубая звезда. Иногда вдруг пароход задирал кверху носовую часть. Из якорных клюзов тогда лились потоки воды.
Безобразно короткие и толстые мачты почти ложились на воду, — так сильна была качка. На задней мачте болтались какие-то лохмотья, остатки импровизированного паруса. При помощи этого паруса экипаж, видимо, пытался заставить пароход повиноваться рулю.
Капитан приказал вызвать на мостик Тихонова и старшего механика. Опытным взглядом бывалого моряка Воронов изучал «Морской цветок» и, несмотря на ужасное положение корабля, не замечал признаков немедленной гибели.
Будь это пароход обычной конструкции, Воронов считал бы, что он продержится еще достаточно долго, по крайней мере до конца шторма. Но кто их знает, каким запасом «живучести» обладают «пловучие гробы»!
Старший механик заметил:
— Пароход дрянь, но он из последних серий. Продольные связи у них несколько прочнее. Еще протянет. Но торопиться надо.
— Ну что ж, действуй, Иван Петрович, — обратился Воронов к старпому, пожалуй, в первый раз за всё время их совместной службы называя его на «ты», и, взглянув в глаза, крепко пожал руку. — Действуй, медлить нельзя.
Теплоход продвинулся немного вперед, так что «Морской цветок» оказался за его кормой. Затем вспомогательный прожектор выключили, а главный начал мигать, передавая запрос азбукой Морзе, — в состоянии ли американцы принять и закрепить у себя буксир.
Через несколько секунд был получен положительный ответ.
Тихонов поспешил вниз. Вскоре на корму поволокли тяжелый, похожий на старинную пушку, ракетный станок. С мостика жутко было смотреть, как волны то и дело накрывали копошившихся на палубе моряков. Наконец станок был установлен, принесен ящик с тонким, особым образом уложенным канатиком, прикатили тяжелую бухту буксирного перлиня, сплетенного из стальных оцинкованных проволок.
Тихонов, сорвав с первой ракеты толстую, как картон, бумажную упаковку, прикрепил к ней конец каната, вложил в ствол станка… Полыхнула оранжевая вспышка пламени — дым и звук выстрела унесло ветром.
В луче прожектора появилась серебряная, точно проведенная по линейке линия. Это был прикрепленный к хвостовой части ракеты канатик. На него, затаив дыхание, с надеждой смотрели моряки обоих судов. И вдруг… канатик заколебался, изогнулся, провис и бессильно упал на воду. Оторвавшаяся ракета унеслась одна.
Канатик, чтобы он не запутался в винтах теплохода, быстро выбрали. Тихонов, недоумевающе покачивая головой, вставил в ствол станка следующую ракету.
Она оторвалась, пролетев каких-нибудь двадцать-тридцать метров.
Перед запуском третьей ракеты старпом внимательно ее осмотрел, пытаясь разгадать, в чем кроется причина неудач. Затем привязал канатик к кольцу в хвостовой части ракеты сложнейшим морским узлом, но и этого ему показалось недостаточно. В кармане у боцмана нашелся кусочек тонкого шкертика, а у одного из матросов — моток медной проволоки. Кольцо ракеты и ближайший к нему кусочек каната оплели шкертиком и обмотали проволокой.
Американцы, не понимавшие, видимо, причины задержки, начали приходить в отчаяние. Может быть, они даже решили, что русские после двух неудач прекратят дальнейшие попытки им помочь. На мостике «Морского цветка» вдруг вспыхнул какой-то очень яркий фальшфейер, и вверх взлетели сразу одна за другой несколько красных ракет.
— Передайте американцам, чтобы погасили фальшфейер, — приказал Воронов. — Такой яркий свет нам мешает.
Прожектор на крыше рубки опять замигал; огненный шар фальшфейера, описав в воздухе короткую дугу, шлепнулся в воду и погас.
У Тихонова, пока он чиркал о специальную терку толстые, специальные спички, не гаснущие на ветру и не боящиеся брызг, дрожали руки.
«Если и на этот раз неудача, — значит, ракеты бракованные или испорченные», — подумал он. Спичка загорелась с треском, рассыпая вокруг крупные искры.
«Ну, была не была», — он ткнул спичкой в фитиль, так и оставшись стоять на коленях.
На миг его ослепило пламя и оглушил выстрел. Потом он увидел канатик, пролетевший уже значительно большее расстояние, чем в предыдущие разы.
Старпом быстро взглянул на канатный ящик и чуть не вскрикнул. Пока ракета увлекала за собой канат, витки его, сложенные рядами в ящике, быстро распускались, а теперь вдруг перестали разматываться, а как бы нехотя распрямлялись; ракета снова не достигла цели.
— Начинай всё сначала! Торопись, товарищи!
Старпом старался придать голосу начальственную строгость, но сам уже не верил в успех. Ракет было всего пять штук, три из них израсходованы. Едва ли две оставшиеся окажутся лучшего качества. И матросы, выполняя его приказ, тоже действовали не с таким проворством, как прежде. Все были слишком подавлены, слишком озабочены, и поэтому никто не обратил внимания на то, что один человек из тех, кто находился на корме, исчез. Матрос Горшков потихоньку распустил веревочную петлю вокруг пояса, которой он был, из предосторожности, привязан к поручням, тихонько спустился по трапу и, прячась за палубный груз, кинулся бежать. Достигнув центральной надстройки, грохоча тяжелыми сапогами, промчался по коридору, не спустился, а просто соскользнул на руках по гладким поручням в машинное отделение, а оттуда в маленькую, отгороженную сеткой из проволоки каморку за пожарной помпой, где помещались электрики.
— Демин!.. Демин!.. Аркаша!..
Испуганный неожиданным криком Демин отпрянул от щита с рубильниками.
— Есть Демин!. Что случилось?!.
Горшков схватил электрика за руку, потащил за собой, на ходу пытаясь ему растолковать, что Демин, как бывший артиллерист, один в состоянии выяснить причину неудачи с ракетами.
Демин остановился на половине пути, задумался.
Ракеты отрываются! Значит, слишком велика их начальная скорость. Уменьшить заряд невозможно; заряд из прессованной взрывчатки. Как же смягчить рывок?
И вдруг что-то придумав, как был в легком комбинезоне, с непокрытой головой, кинулся на палубу.
Капитан, когда они оба вбежали в рубку, невольно переменился в лице.
— Авария?!
Демин, вытянувшись по-военному, ответил:
— Разрешите доложить. Нет, мы насчет ракет!
И, не дожидаясь разрешения, торопливо начал объяснять:
— Понимаете, в момент вылета ракеты канат испытывает чрезмерное напряжение. Пружину бы приделать к ракете, а уж к ней привязывать канат.
— Пружину?! Зачем? Что она даст?
— При запуске ракеты пружина растянется и ослабит рывок на канат.
Капитан сразу оценил это предложение. Горшков был послан к Тихонову с приказом отдать оставшиеся ракеты Демину. Ракеты отнесли в ремонтную мастерскую и с помощью механиков уже через несколько минут к ним прикрепили короткие, но прочные пружины.
Демин сам нацелил станок. Но и он волновался не меньше Тихонова.
Ракета, выпущенная Деминым, взвилась выше, чем прежние. Долетит или не долетит?.. Серебряная нить не падала… Вот канатик уже над «Морским цветком», начинает опускаться, образуя плавную кривую, как траектория трассирующего снаряда. Ракета упала в воду далеко за пароходом, а канатик лег как раз поперек палубы.
Американцы начали выбирать его на себя.
К канату привязали толстый стальной перлинь; он тяжело соскользнул с кормы в воду. «Кузнец Захаров» стал осторожно разворачивать аварийный корабль и повел его за собой. Одновременно лебедкой выбрали лишнюю длину буксирного троса, чтобы американское судно не очень «рыскало» по сторонам.
На ходу «Морской цветок» точно приосанился, выпрямился, стал меньше качаться.
Незадолго до запуска четвертой ракеты капитану доложили, что за кормой открылся красный свет маяка на острове Сан-Хоакин. В условиях плохой видимости это значило, что теплоход ближе, чем это было допустимо, подошел к подводным скалам.
Воронов ничего не ответил. С биноклем в руках он поднялся на крышу рубки и оттуда наблюдал и за тем, что происходит на палубе и за огнем маяка. Но когда оба судна уже находились в безопасности, точно продолжая начатый ранее разговор, сказал Курганову:
— Это в первый раз. В первый раз за всё время с тех пор, как корабли европейцев начали бороздить здешние воды.
— Что именно? — не поняв, спросил Курганов.
— Такая удача! «Морской цветок» — единственное судно, которое в шторм, лишившись возможности управляться, избежало гибели у этих скал.
— Едва ли в этом большая заслуга экипажа самого «Морского цветка», товарищ капитан.
Воронов не обратил внимания на замечание своего помощника. Чему-то улыбаясь, несколько раз, точно в раздумье, покачал головой, потом добавил:
— Дело прошлое, теперь уж можно признаться. Когда открылся огонь маяка, меня прямо мороз по коже продрал. Расстояние при такой скверной видимости точно не определишь. Бросить бедняг одних и уйти… — он развел руками. — Хорошо, что всё потом быстро закончилось. Но в другой раз я бы, пожалуй, не рискнул!
IV
Поздно ночью на «Кузнеце Захарове» вдруг тревожно завыла сирена.
Разбуженные моряки вскакивали с коек, зажигали свет. Весь начальствующий состав вызвали к капитану.
Ветер совсем утих, но, повидимому, недавно. «Памперос» часто прекращаются так же внезапно, как и налетают. И тотчас в те места, где пронесся ураган, хлынули массы теплого воздуха.
От черных, огромных, с глухим рокотанием катившихся по океану волн поднимались легкие, как вуаль, испарения. Лучи обоих прожекторов беспокойно шарили за кормой и освещали лоскутья тумана, похожие на толпу колеблющихся призраков.
Клочья тумана липли ко всем предметам. Растяжки мачт, протянутые вдоль палубы леера, все канаты как будто сразу обросли толстым слоем пышного мха, свисавшего с них легкими, раскачивающимися гирляндами. Мачты с половины высоты совсем исчезли, точно растворились в воздухе. А их основания выглядели так, будто были сделаны из мягкой, студенистой, вот-вот готовой расползтись массы.
Даже силуэты людей потеряли свою четкость, и казалось, — люди набросили на плечи плащи из почти невесомой кисеи или газа.
Курганов увидел, что Брусницын остановился и, как завороженный, оглядывается вокруг. Подхватив товарища под руку, он почти насильно увел его за собой, приговаривая:
— Пойдем, пойдем! Капитан ждет, а ты любуешься видом океана. Туман, раньше чем мы доберемся до его каюты, станет густым, как молоко.
Оба вошли в просторное помещение и остановились, наткнувшись на группу товарищей, пришедших раньше. Все они рассматривали что-то, лежащее на полу. Это был выложенный бухтой, в виде восьмерки, буксирный перлинь. Конец буксира был нарочно откинут в сторону, и легко можно было установить, что он не лопнул, а его перерубили чем-то острым, скорее всего — слесарным зубилом.
Капитан сидел за письменным столом и медленно набивал табаком трубку. Дав время всем как следует осмотреть место, где трос был перерублен, он постучал трубкой о край чернильного прибора и сказал:
— Я пригласил вас, товарищи, чтобы узнать ваше мнение. — Затем вынул из ящика стола какую-то английскую книгу и раскрыл ее в том месте, где между страницами лежала закладка.
— Вот у меня тут сборник морских законов и обычаев. Закон гласит, что запись в вахтенном журнале является как бы официальным протоколированием каждого происшествия на борту. Выписка из вахтенного журнала, заверенная подписью капитана или шкипера, — это документ, равноценный любому юридическому акту.
Не знаю, товарищи, какое мы можем дать разумное объяснение вот этому… — капитан рукой указал на перерубленный буксир. — Но приходится считаться с тем, что мы следуем в порт иностранного государства, и нам предстоит дать отчет береговым властям. Газеты моментально превратят всю историю в сногсшибательную сенсацию. Поэтому я счел наиболее благоразумным кроме записи в журнале составить еще особый протокол о случившемся. Прошу всех вас также скрепить его текст своими подписями. Надеюсь, все вы убедились, что трос перерублен именно с того конца, каким он был закреплен на «Морском цветке».
Пока Воронов громко читал протокол и затем все по очереди его подписывали, каждый невольно мысленно искал ответ на вопрос: «Кто и с какой целью мог перерубить буксир, зная о том, что предоставленный самому себе потерпевший аварию корабль неминуемо пойдет ко дну, продержавшись на воде самое большее — сутки, а может быть, и всего несколько часов».
Воронов запер подписанный протокол в несгораемый шкаф, вернулся к столу, сел и закурил трубку, уже давно набитую табаком и лежавшую в пепельнице. Странно было наблюдать, как синеватый табачный дымок, поднимаясь кверху, начинает раскачиваться под потолком. На самом деле это раскачивался корабль, а дым висел в воздухе почти неподвижно.
Капитан тяжело вздохнул.
— Теперь нам с вами осталось решить самое главное: как быть дальше? До утра поиски продолжать невозможно, — в тумане мы рискуем, наткнувшись на американцев, пропороть им борт и пустить их ко дну.
Он еще раз вздохнул.
— А вот что мы сможем сделать с одной оставшейся еще ракетой, если завтра «Морской цветок» будет найден? Демин к тому же доложил мне, что эта единственная ракета не в порядке и едва ли она годна к действию.
Курганов считал, что надо, пожалуй, думать не о ракете, а о том, как бы переправить на американское судно несколько советских моряков, чтобы выяснить, что там происходит, и пресечь возможности повторения истории с тросом. Если капитан даст согласие, он готов попытаться пойти туда на шлюпке.
Воронов вынул изо рта трубку и выколотил из нее недокуренный табак.
— Нет, ни за что. Такая попытка просто безрассудство! Это значит погубить и вас и тех, кто с вами отправится.
Брусницын, напряженно прислушивавшийся к тому, что говорил капитан, то бледнел, то краснел, и вдруг неожиданно, с решимостью отчаяния, боясь, что ему не дадут кончить, выпалил:
— В старину на воду лили китовый и тюлений жир, чтобы успокоить волны, а мы… а мы можем вылить машинное масло.
Все разом повернулись в его сторону.
— Машинное масло? — удивленно переспросил капитан. — Хотя, пожалуй… надо попробовать…
Под утро подул легкий ветерок, разогнал туман.
Солнце выглянуло на горизонте из обрывков грозовых туч, как будто раскаленный уголек заалел среди пепла. На волнах запрыгали, как рассыпанные чешуйки, розовые блики. Тучи рассеялись, облака растаяли, лишь кое-где по густосинему небу плыли, как белые пушинки, их последние остатки. Вершины всё еще огромных валов просвечивали зеленью.
Вторую половину ночи «Кузнец Захаров» лежал в дрейфе. Как только окончательно рассвело, он снова двинулся на поиски «Морского цветка».
Шли зигзагами, чтобы держать под наблюдением большее пространство, и очень скоро наблюдающий с мачты доложил, что видит вдали аварийное судно.
При ярком солнечном свете на «Морском цветке» бросались в глаза не только полученные во время шторма повреждения, но и то, что пароход имел очень запущенный, неопрятный вид. Борта, надстройки, дымовая труба — всё было в ржавых подтеках. Когда волна наклоняла корабль, обнажалась подводная часть, сплошь обросшая водорослями, висевшими длинными космами.
Тихонов даже плюнул с досады:
— Тьфу, гадость какая! Так запустили пароход, что он стал на дохлую рыбину похож.
На палубе американского судна началось движение. Несколько человек, стоя у поручней, махали приближавшемуся теплоходу шапками, что-то кричали. Потом появился еще человек; он нес шест с привязанным к нему красным платком и трижды отсалютовал этим подобием флага советскому кораблю.
«Кузнец Захаров» застопорил машины метрах в пятидесяти от «Мирского цветка». Борта обоих кораблей находились почти параллельно друг другу.
Курганов и еще шестеро отправлявшихся с ним моряков вышли на палубу. Их окружали товарищи, пожимали руки, заботливо поправляли на отъезжавших пробковые нагрудники, уговаривали взять на всякий случай побольше папирос, шоколаду. Буфетчик притащил ящик, обитый внутри жестью, с подарками от команды теплохода американским морякам; ловко пристроил ящик в шлюпке так, чтобы он никому не мешал.
Тем временем капитан с мостика в мегафон предупредил американцев, что к ним направляется шлюпка с людьми, просил спустить штормтрап и помочь советским морякам подняться на борт.
Как только были закончены эти приготовления, матросы с теплохода опустили за борт концы нескольких пожарных шлангов, и сразу же по ним хлынули на поверхность океана потоки машинного масла. Масляное пятно быстро растекалось по воде, всё больше и больше увеличиваясь в размерах, и под слоем масла волны теряли острые очертания, становились ниже.
Гребцы заранее заняли места в шлюпке, разобрали весла. Курганов держал в руках румпель. Как только масло достигло борта «Морского цветка», раздалась команда:
— Шлюпку на воду!
Застучали на шкивах блоков канаты, шлюпка стремительно полетела вниз, хлопнула днищем по воде. Волна сразу подхватила ее, подняла кверху, будто желая выкинуть опять на палубу теплохода.
— Навались, навались, ребята! — кричал Курганов, понимая, необходимость скорее отойти от борта «Кузнеца Захарова». Но гребцов не надо было подбадривать, они и так старались изо всех сил.
…Ржавый борт американского парохода придвинулся как-то неожиданно. От толчка многие упали. Шлюпку тащило, терло об железо; волны то поднимали ее на уровень палубы, то она проваливалась глубоко вниз, и борт корабля нависал над ней, как готовая рухнуть стена.
Но вот кому-то удалось схватиться за конец шторм-трапа, человек повисает на нем всей своей тяжестью. Второй, изловчившись, подпрыгивает, хватаясь за веревочную лестницу, лезет наверх, за ним следующий… Оставшиеся в шлюпке гребцы, упираясь веслами в борт корабля, стараются предохранить ее от ударов. Хрустнуло и сломалось весло… Сверху, едва не задев Курганова, спустился конец шлюпочной тали, заканчивающийся блоком и массивным крюком. Второй такой же конец поймали передние гребцы. Шлюпка повисла на крючьях; заскрипели блоки. Шлюпка рывками, но быстро пошла кверху. Последние усилия, гребцы, схватившись за поручни, начали переваливаться через них на палубу. Американцы помогли втащить и закрепить шлюпку на боканцах. От нее, провисая в воду, тянулся канат к «Кузнецу Захарову». Теперь надо было протащить этот канат на нос «Морского цветка» и там закрепить.
За канат дружно взялись русские и американцы; спотыкаясь, падая, хватаясь за всё, что попадалось под руки, дотащили конец до носовых кнехтов, закрепили.
Теплоход дал короткий гудок, из-под его винтов побежали назад пенистые грядки волн. «Морской цветок» дернулся, рванулся и покорно пошел в кильватере за советским теплоходом.
V
— Хвала тебе, господи, пекущемуся о нас, недостойных! — произнес кто-то по-английски. Этот дрожащий от волнения голос заставил Курганова, всё еще продолжавшего наблюдать за тросами, быстро обернуться.
Одежда большинства американских моряков плохо подходила к штормовой погоде; правда, два или три человека были одеты в непромокаемые куртки, но на остальных были мокрые, облепившие тело комбинезоны, пиджаки, а на одном даже рваный спортивный свитер с какой-то фантастической эмблемой на груди. У многих глаза блестели от слез, это была реакция после всего, что людям пришлось пережить.
— Здравствуйте, друзья, — сказал Курганов. — Ну, кажется, самое трудное миновало. Я надеюсь, что завтра мы все вместе будем прогуливаться на берегу.
Со всех сторон к нему протягивались жесткие, натруженные тяжелой работой ладони, рукопожатия были такими крепкими, что Курганов иногда морщился. Но каждый из американцев чувствовал настоятельную потребность пожать руку русскому моряку; перебивая друг друга, рассказывали о том, что им пришлось перенести, как они боялись, что русский теплоход не вернется.
— Как же вы умудрились нас потерять? — спросил Нарзы Бабеков, которого Курганов назначил своим заместителем. — Разве вы не слышали нашей сирены?
— Слышали! Слышали! — отвечали ему. — Мы кричали, мы очень долго, чуть не всю ночь кричали!
— Но неужели вам нечем было подать сигнал?
Американцы переглянулись, потом какой-то пожилой моряк показал на кронштейн под мостиком, где полагалось висеть судовому колоколу, в который отбивают склянки. Колокола на кронштейне не было.
— А петарды? — продолжал спрашивать Нарзы. — Взорвали бы одну-две штуки, мы бы услышали.
— Отсырели, — ответил кто-то. — В подшкиперской полно воды.
Это напомнило Курганову о том, что надо осмотреть судно, выяснить, в каком оно состоянии и долго ли может продержаться наплаву. Он спросил, нет ли среди присутствующих капитана или его помощников.
Вперед выступил высокий человек, с суровым, обветренным лицом. Он был одет в потрескавшийся от долгой носки проолифенный комбинезон. Такие комбинезоны обычно носят в Америке рыбаки.
— С вашего позволения, сэр, я боцман — Кларк Аллен.
Затем, обернувшись к остальным, начальственно крикнул:
— Эй, парни, кто знает, где находится шкипер?
Никто не ответил.
— Кто его видел последним? — продолжал спрашивать боцман.
— Кажется, я, — неуверенно произнес кто-то из команды. — Мистер Девис и мистер Бельчер оба ночью были на мостике, когда я стоял у штурвала. Потом мистер Девис ушел, потому что была вахта мистера Бельчера, а затем вскоре лопнул канат. Ну, а дальше… — он только махнул рукой.
— Но, позвольте, как же так? Неужели никто даже не знает, где шкипер? Может быть, его смыло за борт! — удивился Курганов.
Боцман как-то странно усмехнулся.
— Я думаю, сэр, мистер Девис жив, только как бы это вам объяснить?.. Он человек со странностями. В рубке и в капитанской каюте его нет, я заходил.
— Кто же сейчас за старшего? Кто такой мистер Бельчер, о котором только что упоминали?
— Мистер Бельчер — помощник шкипера, — пояснил Аллен. — Из офицеров у нас кроме них еще механики, но они, кажется, чуть живы, укачались.
— Но почему никого из начальства нет на палубе и на мостике?
Боцман опустил голову, точно стыдясь за своего шкипера.
— Это понятно, сэр. Если мистер Девис не вышел вас встречать, кто же осмелится это сделать?
Курганов не знал, — как поступить: искать ли шкипера или сначала осмотреть судно, поэтому он спросил:
— Скажите, боцман, у вас, кажется, генеральный, то есть сборный груз? Что составляет большую часть вашего груза? Мне это важно знать, чтобы выяснить запас пловучести судна.
— Груз у нас не тяжелый, — последовал ответ. — Только рассчитывать на то, что он поможет нам держаться наплаву, не приходится. Я вам всё перечислю: две трети груза — это веревки, затем прессованный табак, лекарственные растения, какие, — даже не знаю, банки с бобами, какао. Вот, пожалуй, и всё.
— Значит, если в трюмы проникнет вода, дело для всех вас обернется скверно?
Боцман усмехнулся:
— Воды, сэр, в трюмах полно. Даже слышно, как она там плещет. Наверное, кое-где разошлись швы в корпусе. Зато вот палуба надежная. Воздух, скопившийся под палубой, — вот что поддерживает «Морской цветок» на поверхности.
Курганов решил, не теряя ни секунды, приступить к осмотру парохода. Если «странности» шкипера не позволят ему выйти встретить своих спасителей, — это его личное дело. В первую очередь нужно позаботиться о безопасности судна, а потом уже о соблюдении вежливости.
Курганов быстро распределил обязанности среди прибывших с ним советских моряков. Нарзы был направлен на мостик, к штурвалу, двое остались на носу, дежурить у буксира, остальные должны были помогать измерить уровень воды во всех отделениях трюма. Для этого не надо было открывать люки и спускаться вниз; уровень воды измеряют подвешенной на веревке металлической линейкой с делениями, опуская се в специальные измерительные колодцы. Эти колодцы представляют собой трубы, проходящие через все этажи судна, но немного не достигающие днища.
Замеры подтвердили слова боцмана. Нижние отделения трюмов были почти доверху полны водой. Перед Кургановым встала сложная проблема: людям находиться на «Морском цветке» было опасно, а переправить их на теплоход не представляется никакой возможности. Да к тому же надо было считаться с тем, что находишься на иностранном судне, где нельзя что-нибудь предпринять без разрешения капитана.
Курганов уже направился на поиски мистера Девиса, но в это время тот сам вышел к нему навстречу. Это был низенький, довольно полный, еще не старый человек. Он опирался на подобие костыля, сооруженного из обмотанной тряпкой швабры, и заметно хромал. С другой стороны его поддерживал высокий, худощавый, похожий на старого аиста моряк.
— Мистер Девис и мистер Бельчер, — увидев их, шепнул боцман, пропуская Курганова вперед.
На обоих американцах были одинаковые, канареечного цвета, новенькие штормовые костюмы. Поверх курток у них болтались патентованные надувные спасательные пояса, или, вернее короткие жилеты из красной резины с жестяными коробками, похожими на коробки от леденцов или зубного порошка. В этих коробках находилось вещество, выделявшее при попадании в него морской воды газ, которым наполнялись спасательные жилеты. Для этого нужно лишь за нитку открыть клапан.
У американца, опиравшегося на костыль, красовалась на голове обычная морская фуражка с длинным лакированным козырьком, напоминавшим совок, и большой эмблемой. В центре венка из золотых пальмовых листьев, украшавшего фуражку, был не якорь или флажок нации, к которой принадлежит судно, как обычно принято, а английская надпись, вышитая золотыми нитками: «кэптен», то есть, шкипер.
Помощник шкипера носил мятую и выгоревшую фетровую шляпу.
На вид мистеру Девису можно было дать лет 45–48. Бельчер же производил впечатление дряхлого старика. Оба они приветствовали Курганова чисто по-американски: долго жали и трясли его руку с такой энергией, точно хотели выяснить, достаточно ли она прочно держится и нет ли возможности оторвать ее, чтобы взять себе на память. Затем шкипер произнес прочувствованную речь, в которой благодарил русских моряков за спасение судна и за проявленную ими при этом самоотверженность.
«Люди, которые действительно испытывают к нам чувство благодарности за всё, что мы для них сделали, пожалуй, вели бы себя иначе, — подумал штурман. — У Бельчера совершенно отсутствующий, даже скучающий вид, а шкипер держится так, как будто встречает на вокзале, в качестве официального представителя, какое-то важное лицо. Рядовые матросы встретили нас по-другому».
Гостя пригласили в салон — просторное помещение с мягкой мебелью, служившее столовой и местом отдыха для офицеров; остальным морякам вход сюда был строжайше запрещен. Но и здесь, куда допускались только избранные, всё носило следы той же запущенности и неопрятности, которая господствовала на всем судне. Обивка на креслах и диванах потемнела и лоснилась от грязи. Только у края выгнутых спинок можно было найти места, где она сохранила свой первоначальный вид. Давно не освежавшаяся краска на стенах и потолке растрескалась.
Когда-то простенки между окнами были украшены картинами или гравюрами. Но от них уцелели только рамки с металлическими уголками. Сами гравюры куда-то исчезли, а вместо них кто-то прилепил вырезанные из иллюстрированных журналов фотографии популярных киноактеров и знаменитостей из спортивного мира.
На обеденном столе, покрытом деревянной решеткой, какие употребляются во время сильной качки, чтобы не падала посуда, стояли бутылки с виски, джином, ромом и три больших бокала, из каких обычно пьют лимонад.
— Русские — первосортные ребята. Я в восторге, что именно вы нас вчера выудили, а не какие-нибудь молодчики цвета кофе с молоком: аргентинцы, уругвайцы или бразильцы! — произнес шкипер, жестом приглашая гостя занять место за столом. — У нас в Штатах считают, что автомобиль и дружбу без горючего не сдвинешь с места, — и Девис вопросительно взглянул на Курганова, как бы спрашивая: «С чего же начнем?»
— Я благодарен за высокое мнение о моих соотечественниках, — сухо ответил Курганов. Его возмутило отношение шкипера к латиноамериканцам, однако поднимать разговор об этом едва ли было уместно. Затем, сославшись на усталость и на то, что он вообще плохо переносит алкоголь, отказался от предложенного угощения.
— Пустяки, — принужденно рассмеялся Девис, — кроме керосина и воды, всё идет морякам на пользу.
Мистер Бельчер, всё время выжидательно поглядывавший на своего начальника, тотчас вытащил пробку у одной из бутылок и начал разливать виски в бокалы. Штурман, прикрыв свой бокал ладонью, отставил его в сторону.
— Так вы решительно отказываетесь выпить с порядочными джентльменами? — не то вопросительно, не то с угрозой произнес шкипер, высоко вздергивая свои, похожие на две темные запятые, бровки. Он наклонился вперед, приблизив свое лицо к лицу штурмана. Серые глаза русского с недоумением, но совершенно спокойно встретили взгляд американца, и Девис, вдруг смутившись, отвернулся.
«Странная манера вести себя с человеком, которого впервые видишь и который прибыл сюда помочь тебе благополучно довести твой же корабль до гавани, — подумал Курганов. — Девис не знает, как быть: то ли запугать меня, то ли продолжать разыгрывать из себя „порядочного джентльмена“. А пусть себе кривляется, как хочет. Пора приступить к делу».
— Сэр, — обратился он к шкиперу. — Мой капитан приказал мне сделать всё возможное, чтобы довести корабль до берега. К сожалению, — он пожал плечами, — судно в таком состоянии, что я решительно не знаю, чем тут можно помочь. Пластырь заводить бесполезно, пробоины, собственно, никакой нет. Я предлагаю прежде всего дать отдых вашим людям, сейчас они едва ли способны работать, а затем…
Шкипер не дал ему кончить.
— «Морской цветок», — Девис нарочито медленно произносил слова, как бы подчеркивая значение того, что намеревался сказать: — «Морской цветок» плавает под флагом США. На судне может распоряжаться только один человек — это шкипер! Пока он не сложил с себя своих обязанностей, вся власть принадлежит ему. А если шкипер выбывает из строя, его заменяет помощник… не так ли? — он повернулся к подобострастно улыбавшемуся Бельчеру.
Курганов понял, что сам поставил себя в невыгодное положение.
На английских и американских судах капитану или шкиперу предоставлены такие полномочия, какими не располагают капитаны судов больше ни на одном из флотов мира. На американском корабле капитан за какой-нибудь незначительный проступок может арестовать любого члена экипажа и даже заковать его в ручные кандалы. В случае отказа выполнить приказание капитану предоставлено право пустить в ход огнестрельное оружие.
VI
Но шкипер, казалось, тоже был недоволен собой. Отповедь, которую он дал этому русскому, не произвела, видимо, никакого впечатления. Сказать ему прямо, чтобы он не совал нос куда не просят, — это палка о двух концах. Во-первых, он может просто-напросто не подчиниться, а во-вторых, как мистер Девис оправдает свое поведение завтра, когда придется давать отчет береговым властям? Глупо станет выглядеть человек, который так быстро поссорился со своими спасителями; история может попасть в газеты и наделать шум. Кроме того, начальник спасательной партии имеет право взять управление судном в свои руки, если шкипер допустил какие-нибудь ошибки в управлении судном.
— Мистер Бельчер, — обратился Девис к своему помощнику, — принесите, пожалуйста, все судовые документы, я хочу ознакомить мистера Курганова с записями в вахтенном журнале.
Это следовало понимать, как своего рода предложение временного перемирия. Девис не согласен делить с кем-нибудь власть, но вместе с тем он признает и за русским офицером известные права. Как официальное лицо, он должен знать всё, что здесь произошло и происходит.
Бельчер ушел и вскоре вернулся с плоской металлической шкатулкой, в которой хранились бумаги «Морского цветка».
Пока Курганов просматривал записи, Девис рассказывал ему обо всех злоключениях, какие выпали на долю несчастного экипажа с начала урагана. Оказалось, что в машине одновременно произошли целых три серьезных поломки, исправить их нечего было и думать. Пришлось выгрести горящий уголь из топок. Но из-за этого сразу вышла из строя и рулевая машина, — для нее не было пара. Шкипер велел включить ручное управление и соорудить парус из брезентовых чехлов для люков. Но брезент попался гнилой, парус сразу же лопнул.
Вторичной попытки поставить парус уже не предпринимали. Девис приказал передавать в эфир сигналы бедствия.
Шкипер рассказывал всё это, как человек, абсолютно убежденный в том, что его действия могут заслужить лишь полнейшее одобрение, и каждому ясно, что больше ничего при данных обстоятельствах сделать было невозможно.
Курганов был поражен. Случись что-нибудь подобное с советским судном, — там бы так легко не сдались. Продолжали бы вновь и вновь ставить паруса до тех пор, пока не добились бы успеха или не израсходовали всю парусину. Кроме того, прибегли бы еще к одной мере — «штормовому якорю». Это тот же парус, натянутый на деревянную раму и опущенный на воду. Волочась за судном на длинном канате, «штормовой якорь» действует как тормоз; закрепив канат на носу, можно было развернуть корабль поперек волны и замедлить приближение к гибельным скалам.
Вообще в советском флоте не могла произойти подобная авария. Три поломки в машине одновременно, — разве это не доказательство того, что механизмы изношены и давно нуждаются в ремонте? Как же инспекция судового надзора дала «Морскому цветку» разрешение на выход в рейс?!
Девис и Бельчер, конечно, понимали, что обязаны спасением лишь исключительно счастливому стечению обстоятельств.
Весьма вероятно, что кроме советского теплохода сигналы бедствия были приняты и другими, находящимися поблизости кораблями. Но они либо предпочли уклониться от риска оказывать помощь потерпевшему аварию судну в непосредственной близости от страшных скал, либо отказались от этой затеи потому, что не рассчитывали хорошо заработать.
Курганов был уверен, что шкипер со своим помощником каким-то образом участвовали в истории с перерубленным тросом. Но зачем?
Ведь у каждого из них не две жизни, чтобы одну можно было продать за приличное вознаграждение, а другую прожить самому.
«Чорт бы побрал всю эту загадочную неразбериху: обрубили буксир, во время шторма сидели чуть не сложа ручки!» — с тоской думал Курганов.
Воспользовавшись тем, что перед ним в шкатулке находятся все судовые документы «Морского цветка», Курганов просмотрел накладные на груз. В накладных перечислялись только те товары, которые ему уже назвал боцман.
Из страхового свидетельства явствовало, что «Морской цветок» застрахован на сумму, повидимому, не превышающую фактическую стоимость корабля и груза. В случае кораблекрушения эти деньги должны были быть выплачены дирекции компании. Следовательно, Девису не было никакого расчета топить корабль. Штурман с разочарованием отложил бумагу в сторону и начал читать судовую роль, то есть список лиц, из которых состоял экипаж: шкипер, его помощник, два механика, боцман, старший машинист; дальше шли фамилии матросов, кочегаров. Список заканчивался фамилией повара, — всего 24 человека, как и было указано в радиограмме.
Из всего экипажа он знал только троих: самого шкипера, мистера Бельчера да еще боцмана Аллена.
Сложив все бумаги обратно в шкатулку, Курганов поблагодарил мистера Девиса. В ответ тот молча кивнул и продолжал со скучающим видом посасывать сигаретку, которую закурил, пока длился просмотр бумаг. А Бельчер, воспользовавшись тем, что на него никто не обращает внимания, налил себе виски и пил его маленькими глотками.
«Ну, кажется, маски любезных хозяев сброшены, — подумал штурман. — Теперь они оба будут сидеть, как истуканы, а я, связанный традицией, не позволяющей никому вставать из-за стола раньше капитана, тоже должен буду сидеть вместе с ними».
— Я позволю себе обратить ваше внимание, сэр, — нарушил молчание Курганов, — на то обстоятельство, что вода в трюмах непрерывно прибывает.
Шкипер злорадно улыбнулся:
— Не стану скрывать, мистер Курганов, что если палуба не выдержит, вам и вашим людям придется вместе с нами совершить небольшое путешествие в чистилище, а там уже разберутся, кто из нас отправится в рай, а кто в ад.
— Вы оптимист, мистер Девис, по вполне понятной причине, — сказал Курганов. — Мне и моим людям, да и вам с мистером Бельчером пока что в рай, пожалуй, не попасть из-за спасательных нагрудников. Мы выплывем из любого водоворота, если корабль пойдет ко дну. Не знаю, так ли хорошо обеспечен спасательными средствами остальной экипаж.
Девис развел руками:
— Спасательных средств на всех не хватит, да и то, что есть, пришло в ветхость. В кубрике хранится еще несколько нагрудников, но они испорчены от сырости, — тяжести человека не выдержат.
— Тогда, сэр, надо соорудить плоты из досок, бревен, из любого дерева, какое найдется. Главное, чтобы людей не утащило в водоворот.
Девиса этот разговор явно раздражал.
— К сожалению, все доски, ящики, пустые бочки — всё внизу, в трюмах, а открыть люки, — значит, самим вызвать катастрофу.
Конечно, доски, в особенности длинные, могли находиться только в трюме, а не в кладовой. Понятно, что туда же сложили и пустые бочки. Но Курганов почему-то такую возможность совсем упустил из вида.
«В самом деле, как же быть? Трюм не вскроешь… Может быть, поэтому Девис так равнодушен ко всему; волей-неволей приходится покоряться обстоятельствам, если они сильнее вас».
Курганов машинально посмотрел в одну, в другую сторону, точно ища выхода, и вдруг радостно хлопнул ладонью по столу:
— Нашел! Есть из чего соорудить плоты!
От неожиданности Бельчер, как раз собиравшийся снова наполнить свой бокал, пролил виски себе на брюки. Шкипер быстро повернул в сторону Курганова свое обрюзгшее, усталое лицо с профилем попугая.
— Можно разобрать мебель в салоне, в каютах, снять филенки дверей. Каждое кресло поднимет человека. Если всё крепко-накрепко стянуть канатами, сверху приколотить дверные филенки, койки…
— Вы с ума сошли, мистер… мистер. — Девис сгоряча забыл даже фамилию русского офицера. — Портить убранство помещений! Какой идиот на это согласится!? При постройке корабля меблировку оценили в две тысячи долларов!
— Но теперь, когда мебель пришла в ветхость, она не стоит и половины этой суммы, — не сдавался Курганов.
Девис не слушал. Чорт побери! Разве все судовые бумаги выправлены не на имя Самюэля К. Девиса, шкипера, имеющего свидетельство на право командования кораблем, выданное министерством торговли США?! Он, шкипер, нанимал всю команду, он один отвечает за ее целость и сохранность. К дьяволу всех фантазеров! Еще новость — ломать мебель!?
— Никто не намерен посягать на ваши права, сэр, — стараясь подавить в себе всё возрастающее негодование и злость против этого человека, начал Курганов. — Но то обстоятельство, что ночью буксирный канат не лопнул сам по себе, а был кем-то перерублен…
Шкипер не дал ему кончить:
— Ложь!.. Ложь!.. Трос заклинился между зубцами шестерен якорной лебедки, и его перерезало, как ножницами. — Девис всё повышал голос, пока не закашлялся оттого, что горло его сжало судорожной спазмой.
— Да… да… перерезало, перерезало, как ножом, — фальцетом вторил шкиперу Бельчер, — я сам видел… я могу дать присягу!..
— Но якорная лебедка стоит дальше, трос не мог в ней заклиниться И почему вахтенный на носу не принял никаких мер? — тоже повысил голос Курганов. — Как хотите, джентльмены, такое объяснение меня не удовлетворяет.
Девис и Бельчер переглянулись.
— Я должен вам всё объяснить, — сразу изменил тон шкипер. — Видите ли, ночью люди просто падали от изнеможения, поэтому специального вахтенного к буксиру не назначили. Мостик «Морского цветка» так далеко выдается вперед, с него было удобно следить за тросом.
— Вы сами и следили, сэр?
— Н-нет, не я, а мистер Бельчер, — замялся шкипер. — Он нес вахту. Часа за два до этого я упал с трапа и сильно расшибся. Сначала думал, что сломал ногу, но, к счастью, оказалось лишь сильное растяжение. Из-за больной ноги мне не удалось вас встретить; когда вы к нам прибыли, мистер Бельчер как раз менял мне повязку.
Во всем сказанном не было, разумеется, ни слова правды. Мостик «Морского цветка» действительно сильно выдвинут вперед и сделан шире обычных. В войну здесь стояли зенитные пулеметы. Но кто же оставит буксир без наблюдений? Вахтенного ставят, чтобы он не только сигнализировал об опасности, но и устранил ее.
Но с этим можно будет разобраться позднее.
— Я повторяю: плот нужно соорудить из мебели.
У Девиса опять побагровело лицо.
— Слушайте!. — Шкипер едва был в состоянии владеть собой. — Слушайте, чорт вас побери! Если вы тронете хоть одно кресло, я стану вот здесь у двери с револьвером в руках. — Поймите! — в его голосе появились рыдающие ноты. — Дирекция «Голубой звезды» поднимет меня насмех. Там они все сидят в уютных кабинетах, им на нас наплевать! Кто мне поверит, что другого выхода не было? Решат, — Девис просто спятил; все его вшивые матросы и кочегары не стоят двух тысяч долларов. У меня семья… дети… Я бьюсь, экономлю на всем решительно, чтобы скопить деньжат. Моя заветная мечта — приобрести доходный бар… Посмотрите! — он театральным жестом вскинул руку, указывая на Бельбера. — Вот перед вами старый капитан, тридцать лет командовал пароходами, не такими, как эта грязная лохань. Кто он теперь? Нищий? А удалось бы скопить капиталец, не торчал бы в жару и в дождь, в шторм на мостике, а разъезжал бы в дорогом автомобиле и вообще жил бы в свое удовольствие.
Курганов молча отвернулся. Девис на этот раз говорит правду. Он схватится за револьвер, если дело идет о его заработке. Что же делать? Обуздать его силой — возникнет международный скандал! Газеты поднимут трезвон: «Сенсация! Американский шкипер с оружием в руках обороняется от большевиков!»
Остается одно — переправить всех людей на теплоход, здесь оставить только рулевых. Впереди, правда, в стороне от курса, есть островок Сан-Рокас. На этом острове рыбачий поселок и укрытая бухта. К сожалению, в нее большим судам не войти, тесно. Надо немедленно условиться с Вороновым; переправу людей удобнее всего произвести под прикрытием острова, где волнение будет меньше.
Обдумывая подробности предстоящей переправы, Курганов вдруг вспомнил, что он до сих пор не видал всей команды. Где же люди? Шлюпку встретили человек шесть-семь американцев. Считая шкипера с помощником, — это только половина экипажа, — а вторая половина?
— Где люди? — Девис презрительно усмехнулся. — Эти бездельники дрыхнут в кубрике и видят сладкие сны. Он не встречал моряка, который страдал бы бессонницей.
Физиономия Бельчера тоже скривилась в улыбку. Начальник шутит, — полагается хоть улыбаться!
«Спят?! — Курганов не верил своим ушам. — Кто же в состоянии спать, зная, что буксирный трос лопнул, что судно на волоске от гибели?»
Он хотел немедленно пройти в кубрик, убедиться, что моряки там живы и здоровы. Но шкипер решительно запротестовал. Чтобы офицер ходил к матросам?! Никогда ничего подобного он не допустит! Пусть они сами пожалуют сюда и выстроятся перед мостиком. Странные, однако, фантазии приходят в голову мистеру Курганову.
В это время Бельчер что-то тихонько шепнул ему на ухо, и Девис, забыв про свою больную ногу, вдруг встал и загородил штурману выход на палубу.
— Эге, да тут, кажется, дело обстоит не так просто, — протянул он многозначительно. — Любопытно знать, что привезли с собой советские моряки в ящике, обитом жестью? Может быть, там коммунистические листовки или брошюры? Тогда понятно, почему вы хотите прогуляться в кубрик. Вероятно, вы попросите, чтобы вас никто туда не сопровождал..
— Хуже, сэр! — Курганов не мог отказать себе в удовольствии поиронизировать. — В этом ящике есть вещи, которые мгновенно меняют настроение у людей. — Он сделал небольшую паузу и начал перечислять: — Там сладости, зернистая икра, папиросы. Это подарки, которые экипаж «Кузнец Захаров» посылает американским морякам, своим товарищам по профессии. А вам, мистер Девис, капитан Воронов просил передать бутылку вина и сотню папирос.
— Папиросы, икра в подарок матросам? — Девис задумался, потом спросил, нет ли у Курганова при себе образчика папирос.
Он внимательно рассмотрел вынутую из портсигара папиросу, высыпал на ладонь немного табаку и даже попробовал его на вкус.
— О, табак превосходный! И матросам прислали такие же папиросы?
— Конечно, такие же.
— Русские папиросы и икра сейчас в Штатах редкость, ходкий товар, — оживился Девис. — Любой шикарный ресторан на Бродвее даст за них хорошую цену. Если мистер Курганов не станет чересчур дорожиться, можно приобрести у него весь ящик за наличный расчет.
— Я не торгую папиросами, — рассердился Курганов. — И вообще ничем не торгую, мистер Девис, ничего не покупаю и не продаю. И направлен на ваше судно не для того, чтобы заниматься коммерцией.
VII
Аллен, посланный будить спящих, что-то слишком замешкался. Те шесть или семь американских моряков, которых Курганов уже видел, прежде чем шкипер увел его в салон, уныло слонялись по передней палубе, то и дело поглядывая в сторону кормы, откуда должны были прийти остальные. В сторонке, не смешиваясь с матросами, присели на корточки механики и старший машинист. Видимо, в момент аварии всех троих обожгло горячим паром: руки у них были забинтованы и лица густо смазаны каким-то жиром. Людей оторвали от обеда, некоторые доедали ломти хлеба или перезрелые бананы.
Девис злился из-за того, что его приказание выполняется так медленно, и нетерпеливо барабанил пальцами по столу.
— Товарищ начальник! В кубрике пожар! Там все погибли! — перед Кургановым, вместо Аллена, стоял бледный, как бумага, Нарзы.
Штурман опрометью выскочил на палубу, кинулся к корме. За ним, еще не понимая, что случилось, бежали американцы.
Из распахнутой настежь двери валил густой, маслянистый дым. Рядом, прижавшись спиной к стене, стоял насмерть перепуганный Аллен.
— Я с мостика видел, он вошел и сразу выскочил. Я сюда, боцман за грудь держится, кашляет, стонет, дым, ничего не видно… — силясь снять со стены огнетушитель, выкрикивал Нарзы. Огнетушитель висел слишком высоко. Курганов дотянулся, всё-таки схватил его и первый шагнул в помещение.
Всюду летали хлопья сажи; нары из проволочной сетки, лежавшие на нарах люди, вещи — всё покрывал толстый слой копоти. Но огня не было видно.
— Что за навождение?! — растерянно подумал Курганов и вдруг всё понял. Он быстро поставил в угол огнетушитель, приказал, чтобы прекратили разматывать пожарные шланги, а поскорее вынесли на воздух пострадавших.
Всё произошло из-за большой керосиновой лампы, качавшейся под потолком на шарнирной подвеске. Люди в кубрике сначала, видимо, жестоко страдали от морской болезни; впав в отчаяние, потеряв силы, они не обратили внимания на то, что лампа начала коптить, а затем очень быстро наступило отравление угарным газом.
На судах, где нет врача или фельдшера, их обязанности возложены на помощника капитана. Находившихся без сознания моряков перенесла в офицерские каюты, обмыли им лица, обложили грелками, чтобы усилить кровообращение, употребив для этого налитый в бутылки горячий кофе, который как раз поспел на камбузе.
Видя, что Бельчер не новичок в оказании медицинской помощи, Курганов опять вышел на палубу. Перед входом в салон на солнцепеке стояли американские матросы, не смевшие войти в помещение для офицеров. Они обступили Курганова, стали спрашивать про состояние пострадавших. Он успокоил их, заверив, что будет сделано всё, чтобы спасти жизнь больных. Постепенно матросы разошлись; не уходил один Аллен. Утром, несмотря на крайнюю усталость, боцман казался человеком полным сил и энергии. Держался он солидно, с достоинством, как знающий себе цену. Теперь этот сорока- или сорокапятилетний рослый мужчина выглядел стариком. Он сгорбился, лицо стало какое-то неподвижное, точно окаменело. А когда он заговорил, голос звучал глухо, точно ему не хватало дыхания.
— Ради бога, сэр, скажите правду!. Все они будут живы или… Или, просто, до прихода в порт вы не хотите… ну, чтобы не было никаких историй…
Ответа не последовало. Курганов сейчас ненавидел и презирал Аллена. Он был рад, что тот страдает. Боцман так же виноват в несчастье, как и шкипер с помощником. Ничего, пусть его помучает совесть!
— Сэр, если у вас есть дети или старушка мать, ради них скажите… — молил Аллен. — В кубрике был мой племянник, Марчерт, Эзра Марчерт, такой худенький, лицо в веснушках. Ему ведь только семнадцать лет, хотя он выдает себя за двадцатилетнего.
Курганов случайно запомнил этого Марчерта. Он лежал в кубрике первым с краю. Штурман сам начал стаскивать его с нар, и кто-то крикнул в это время: «Глядите, маленький Марчерт! Вон его выносят!..»
— Ваш племянник, боцман, начинает приходить в себя, — не сразу ответил Курганов. — Он в лучшем состоянии, чем другие. Над тем местом, где он лежал, на потолке была какая-то труба, из нее дуло, это его спасло. Я даже ударился об эту трубу.
— Слава богу, слава богу, — шептал Аллен. Судорога кривила его лицо. Он зачем-то стянул с головы шапку и снова надел. Потом извиняющимся тоном, точно это была его вина, что Курганов ушибся о трубу, начал объяснять:
— Там на потолке эта штука… это труба — остаток от электропроводки. У нас все провода находятся в таких трубах, а внутри изоляция. И подумать только, — добавил он, покачав голевой, — она его спасла! Ураган вышиб заглушку и начал в нее задувать.
Всё, что накопилось в душе Курганова за эти сутки, вдруг прорвалось наружу:
— Это не корабль, это пловучий сумасшедший дом!.. Здесь все задались целью укокошить друг друга! — Какого дьявола вы изображаете из себя ягненочка? Каждый юнга с рыбачьего парусника знает, — чтобы лампы не коптили, в резервуар кидают кусочек канифоли, а вы, старый моряк, будто это и забыли! — накинулся он на боцмана.
Боцман смущенно почесал щеку, заросшую густой щетиной.
— Так-то оно так, сэр, не до этого было… И привыкли к лампе, никогда она раньше не коптила.
— Как привыкли? Ведь у вас электричество? — Но, выкрикнув это, Курганов вдруг сообразил, что раз над головой Марчерта висела пустая трубка с изоляцией, — значит, электропроводка в кубрике отсутствовало. Но от возбуждения он уже не мог остановиться и продолжал выкрикивать дальше: — Объясните мне, чорт вас побери, почему дверь в кубрик запирают? Признайтесь: когда начался ураган, весь экипаж был пьян?! Этим и объясняются все безобразия!?
— Что вы, что вы! — боцман даже замахал руками. — Если кто-нибудь из ребят явится с берега подвыпивши, шкипер его так изукрасит, что он потом год будет отворачиваться от всех бутылок.
— А, бросьте, Аллен, не оправдывайтесь! Так я вам и поверю, что все улеглись спать именно когда задул памперос, когда тут чорт знает что качало твориться!
Боцман опять почесал щеку.
— Это я упросил лишних запереть в кубрик, сэр. Откровенно говоря, боялся, что их смоют волны. Ну, а мистер Девис… он только плюнул и сказал, что проломит мне башку, если людей не будет хватать. Ну, да он сам понимал, что так лучше…
— Что за чушь вы городите, боцман?! Какие лишние люди у вас оказались?
Аллен развел руками.
— А как их еще назвать, сэр? Лишние-то они, конечно, не лишние; в тихую погоду все делали свое дело. Но в такой-то шторм… Да вы же сами понимаете, — те, кто раньше не бывал в море, ведь они будут младенцы… За один рейс чему научишься?
За один рейс! Теперь кое-что становилось понятным. Это одно слово многое разъясняло. В Англии и Америке до сих пор команду нанимают на определенный срок только на пассажирские и почтовые суда, совершающие рейсы по расписанию. А на грузовые суда матросов и кочегаров берут только на один рейс.
То, что люди не имеют никакой квалификации, — мало кого смущает, это дело боцмана и старшего машиниста, они обязаны заставить матросов и кочегаров работать. Как? Это их профессиональный секрет, никому до этого нет дела.
На «Морской цветок» опытные моряки, конечно, избегали поступать, зная, что представляют собой «пловучие гробы». Поэтому боцман и шкипер по-своему правильно рассудили, что во время шторма от половины из команды никакой пользы не будет и, во избежание несчастного случая, проще всего ее убрать с палубы. Курганову стало понятным, и почему Девис, в то время, когда судну грозила опасность разбиться о скалы, так мало сделал для спасения парохода. Имея в своем распоряжении лишь половину экипажа, он и не мог сделать больше.
Теперь для Курганова осталась неразгадана только одна тайна: тайна перерубленного троса. Но тут боцман сам решительно ничего не понимал. Узнав, что трос не лопнул, а перерублен, он буквально остолбенел, потом разразился потоком брани:
— Сил больше нет, до чего тошно на этом вонючем корыте! Как спруты, из тебя всю кровь высасывают! Работаешь до упада, продукты всегда испорченные…
— Я слышал, мистер Девис хочет открыть бар и копит деньги, — подсказал Курганов.
— Да, уж это мы знаем, деньги копить он умеет. Мистер Бельчер получает половину жалованья, потому что, видите ли, стар стал, не так, мол, хорошо работает. На ремонте всегда экономят…
— Может быть, шкипер перерубил трос?
Боцман долго думал, потом покачал головой:
— Всё может статься, только уж, не знаю, право, зачем это ему… Компания «Голубая звезда» тоже ведь маху не даст. Если бы мы потонули, уж не шкиперу была бы от этого польза.
В салоне пахло нашатырным спиртом. Бельчер, взъерошенный, как старый ворон после дождя, сидел в кресле. На вопрос Курганова, как чувствуют себя больные, он только пожал плечами:
— Сам господь бог не сделает больше, чем я сделал: никаких лекарств в аптечном ящике, кроме нашатыря и бинтов, нет. Меняем им грелки, дали хлебнуть виски — и всё.
Девиса не было, он куда-то исчез, видимо ушел к себе в каюту. Курганов решил воспользоваться его отсутствием, чтобы снова обойти весь корабль.
На мостике, на носу у буксира, на корме, у всех люков дежурили русские моряки. Со своими было легко, просто. Только сейчас он почувствовал, как устал оттого, что с американцами всё время приходилось держаться начеку, взвешивать каждое слово.
Убедившись, что нет никаких новых причин тревожиться и судно находится всё в том же состоянии, Курганов задержался на корме, как раз над злополучным кубриком. Здесь сейчас дежурил Нарзы Бабеков.
В глазах его притаилась лукавая усмешка.
— Ты что это вдруг так развеселился? — шутливо толкнул его локтем Курганов. — По-моему, здесь всё не располагает к веселью.
Нарзы по-мальчишески рассмеялся.
— Александр Иванович, вы меня не толкайте. Я, знаете кто? Я цветной джентльмен!
— Ну? С каких пор?
Нарзы вынул из кармана огромный, спелый апельсин, подкинул на ладони.
— Вот подарок получил тоже от цветного джентльмена. Два американца подошли, удивились, что я с мостика сюда перешел дежурить. Объяснил: устал, мол, ночью на теплоходе стоял у штурвала, и вчера, во время урагана… в глазах рябит от солнечных зайчиков, а на корме спокойнее. Они спрашивают, — разве я штурман? Нет, говорю, пока только будущий штурман, скоро предстоят экзамены в заочных классах мореходного училища. Интересуются: известно ли об этом моему начальству? Конечно, известно. Рассказываю, как мне специально для занятий отвели пустую каюту, соорудили столик, такой же, как в рубке, выписали лишний комплект карт; капитан разрешил пользоваться своими собственными мореходными инструментами, помогает решать задачи. Один из них деликатно спросил, — не боюсь ли я впоследствии остаться без работы оттого, что белые не захотят подчиняться цветному джентльмену? А потом начал рассказывать о себе. Не то бабушка, не то прабабушка у него была негритянка, и хоть цвет кожи у него такой же белый, как у вас, всё равно жить ему можно только с неграми и работу дают самую трудную, плохо оплачиваемую.
— Ешь, ешь апельсин, цветной джентльмен, — прервал его Курганов, — и мне дай одну дольку. — Да, дружище, здесь у нас под ногами кусочек американской территории. Самой «демократической страны» в мире.
Они помолчали.
— Смотрите, — вдруг показал наверх Бабеков.
Около мачты с пронзительными криками носились два альбатроса. Альбатросы не боятся отдыхать на воде даже при порядочном волнении, но сейчас волны всё же казались им слишком высокими, и птицы искали другого пристанища. Распластав в воздухе длинные, острые крылья, они парили вокруг мачты, вершина которой из-за сильной качки всё время описывала в воздухе огромные эллипсы и восьмерки, каждый раз отклоняясь на несколько метров то в одну, то в другую сторону. Крупные, тяжелые альбатросы не могли так быстро изменять направление полета, они едва уклонялись от столкновения, когда мачта неслась им навстречу, и кидались за ней вдогонку, когда она отходила. Птицы настигали мачту, но их когти только царапали стальную трубу. Наконец одной птице удалось сесть на какую-то скобу, она долго примащивалась, балансировала, прежде чем окончательно сложить крылья, а ее товарка с тоскливым криком полетела к «Кузнецу Захарову». Птица настороженно косилась на стоящих внизу людей и вдруг, желая спрятаться от них, повернула голову и сунула ее под клотик — грибок, которым всегда увенчивают вершину мачты. Голова альбатроса исчезла до самых плеч и снова появилась. Птица подвинулась ближе и попыталась вся влезть под укрытие.
Курганов поднес к глазам висевший у него на груди бинокль. Куда она лезет, глупая? В бинокль удалось разглядеть, что клотик мачты был необычный по форме и представлял собой как бы выгнутую крышу, под которой была довольно широкая кольцевая щель. Сбоку к этой крыше были приделаны маленькие блоки для продергивания веревочных фалов, на которых поднимают сигнальные флаги и фонари.
Вот отчего мачты наверху такие непропорционально толстые. Значит, это не просто небрежность конструктора. Мачты приспособлены для поддержки антенн, на них укреплены грузовые стрелы, выполняющие при погрузке и выгрузке судна роль подъемных кранов, на мачты поднимают сигнальные флаги. Но на «Морском цветке» они, видимо, имеют еще одно назначение; впрочем, это следовало сначала проверить.
Курганов сбежал по трапу на палубу. Заметив дремавшего в тени американского моряка, присел возле него, разбудил.
— Скажите, — вам случалось бывать в трюмах?
— Конечно, сэр, не раз.
— А вы не обратили внимание на мачты? Они пересекают все этажи до самого днища?
— Да, пересекают.
— Они состоят из трубы или в теле мачты есть отверстия?
— Есть дырки, не понятно для чего, в каждом этаже. Сунешь руку, нащупываешь еще одну внутреннюю трубу, сплошную, — с недоумением отвечал разбуженный моряк.
— А из этих дырок не дует?
— Немного тянет свежим воздухом, да ведь когда открыты люки, этого не замечаешь.
— Спасибо, — сказал Курганов, — теперь ясно.
Вдали показался какой-то корабль, шедший на сближение. На его передней мачте вдруг поползли вверх какие-то комочки и неожиданно развернулись яркими лоскутками сигнальных флагов.
— Ишь, как принарядилась старушка! — сказал нагнавший Курганова Аллен, показывая на корабль. — Это в вашу честь, в честь советских моряков. Канонерская лодка «Пампа» принадлежит к военному флоту Аргентины. Мы ее постоянно встречаем, когда проходим эти места. Она здесь патрулирует, потому что рыбаки часто затевают между собой драки с поножовщиной и даже со стрельбой. Конкуренция! Кто раньше привезет улов, — больше выручит за рыбу.
В салоне Девис и Бельчер попрежнему сидели друг против друга.
— Кто бы мог подумать, что простая лампа наделает столько неприятностей! — начал шкипер. — Мы с моим помощником еще раз обсудили ваше предложение, мистер Курганов, относительно спасательных плотиков. Теперь оно вполне своевременно. Здоровые люди могли выплыть из водоворота, но о тех, кто находится в бесчувственном состоянии, мы обязаны позаботиться. Я сейчас отдам приказ снимать филенки дверей, койки в каютах, — словом, начнем сколачивать плоты.
— А я полагаю, что мое предложение теперь потеряло всяким смысл, — спокойно ответил Курганов. — Никому эти плотики не нужны.
— Позвольте, я вас отказываюсь понимать! — начал горячиться Девис.
— Вы с самого начала всё прекрасно понимали, сэр. Лучше нам сейчас поговорить начистоту. В трюмах «Морского цветка» много воды, но держит корабль на воде не воздух под палубой, а пловучий груз. Каждый моряк знает манильские канаты из пальмовых волокон. В воде они не тонут, бухта такого каната выдерживает тяжесть человека. Почти весь груз «Морского цветка» — веревки, очевидно, тоже из пальмовых волокон. Кораблю грозила опасность разбиться о скалы, и это было действительно опасно. Тогда вы приказали послать в эфир сигнал бедствия. Но когда вас от скал отвели и ураган пролетел, тогда, сэр, вы, сговорившись с вашим помощником, повидимому, собственноручно перерубили буксирный трос. Он лежит опечатанный в кладовой на «Кузнеце Захарове», и составлен официальный акт, что на нем видны следы от зубила.
— Ложь!. Ложь!. Я привлеку вас к ответственности за клевету!.. — бесновался шкипер.
— Этого я не боюсь, — спокойно парировал Курганов. — Специалисты инженеры осмотрят мачты корабля и дадут заключение, что это своего рода вентиляционные каналы. Во время войны корабль, вероятно, перевозил военные грузы; некоторые взрывчатые вещества выделяют ядовитые, легко воспламеняющиеся испарения. Вот почему устроена такая вентиляция, — чтобы пары не распространялись под палубой, а уходили в атмосферу. Значит, и воздух в трюме не мог образовать воздушную подушку, а вылетел бы через мачту, как газ из раскупоренной бутылки с лимонадом.
С минуту Девис и Бельчер сидели подавленные. Наконец шкипер пришел в себя.
— Что ж, предположим, всё так… Вы хотите упрятать меня в тюрьму? Ничего не выйдет. Меня нельзя обвинить в попытке обмануть страховое общество, вы сами пришли к выводу, что судно держит наплаву груз.
Курганов пожал плечами.
— В этом вас никто не обвиняет. Вы решили смошенничать в другом, обмануть нас, советских моряков. Рассчитывали как-нибудь продержаться до утра, потому что заранее знали о присутствии в этом районе канонерской лодки «Пампа». За спасение парохода полагается денежная премия, и не малая. Но военное судно обязано оказывать помощь потерпевшим кораблекрушение, не беря за это вознаграждение. Однако вы жестоко просчитались, мистер Девис. Нас не интересовали ваши доллары, из-за них мы не стали бы рисковать. Но теперь с вас взыщут всё до последнего цента. Нам эти деньги стали нужны. Я знаю, экипаж «Кузнеца Захарова» пожертвует свою часть премии в пользу пострадавших американских моряков с «Морского цветка» на лечение и чтобы они могли просуществовать, пока опять найдут работу. Хорошо бы не на таком паршивом судне и не у такого капитана, сэр…
В. А. Шумилин
ОПОЗДАЛ
Он вышел в школу поутру И, как хороший брат, Он заодно свою сестру Отправил в детский сад. Потом немного постоял Зачем-то у ворот. Как дворник снег в сугроб сгребал, Глядел, разинув рот. Он взял у дворника метлу И снег убрать помог. Читал газету на углу, Покуда не продрог. Тут только вспомнил он о том, Что начался урок. Он в школу бросился бегом, Сбивая встречных с ног. Смеялись все ученики, Когда он в класс вбежал, А в это время у доски Приятель отвечал. — Ну, что ж ты, Виктор, опоздал? — Степан Кузьмич спросил. — Меня наш дворник задержал, Я очень занят был.ПРИЯТЕЛИ
Школьные занятия Начались давно, Но сидят приятели С сумками в кино. Им не до учения, Не до школы им: Смотрят с увлечением Интересный фильм.КОСИЧКИ
Хороши косички У моей сестрички. И вам таких косичек Нигде не отыскать. Хорошие косички, Да скверные привычки: Люблю я за косички Сестричку потаскать.ХИТРЫЙ УЧЕНИК
Володя — хитрый ученик: О нем идет молва, Что не один завел дневник, А сразу даже два. Когда ему поставят пять, — Один дневник решит подать, Когда же — два, тогда — другой. Изобретательный какой!Э. Шим Весенняя осень
Хожу я в лес, смотрю, — какие происходят в нем весенние перемены.
На сухих местах зазеленела трава. На ветвях почки стали тугие и блестят, словно водой намочены. Скоро лопнут они, и в зеленую дымку окутается лес…
А тут что такое?
Вышел я на полянку, а на ней самая настоящая осень хозяйничает!
Стоят вокруг молоденькие дубки, с головы до ног в желтых осенних листьях. И на земле лежит желтый шуршащий ковер. И стоит возле пенька на толстой ноге гриб — сыроежка, в красной шляпе набекрень.
Да уж не снится ли мне всё это?.
Поморгал я глазами… Нет, всё настоящее. А поверить не могу. Не могу я поверить, что б такое было!
Сел я на пенек над сыроежкой, охаю тихонько, головой качаю. А перед самым носом у меня — червонные листья на дубовых ветках…
Стала мне закрадываться в голову мысль: а что, если эта полянка волшебная! Как в сказке. Не бывает тут зимы, не бывает лета. Вечная осень стоит. И можно сюда в феврале ходить по грибы. А в июне — собирать багряные листья…
Тишина разлита над полянкой. Ни шороха, ни хруста, ни птичьего голоса.
«Чок!»
Сорвался с ветки перед моими глазами сухой лист, закачался в воздухе, упал.
И открылась на месте листа тугая коричневая почка.
«Чок!» Сорвался второй лист. Еще почка открылась.
Ах, вот в чем дело-то!
Нагнул я ветку и увидел, что в пазухе каждого листа сидят спрятавшиеся почки. Наверное, укрылись от зимних холодов. А теперь разбухли и выталкивают старую листву. Оттого и на земле — сухой ковер…
Я его ногой разгреб, а под ним — зеленая трава…
Сорвал я сыроежку. Она свеженькая, крепенькая. И тут вспомнил я, что сыроежки у нас осенью до самого снега держатся. Не боятся заморозков, стойкие.
Так почему бы им и весною не появиться? Конечно, эта вот — самая первая, весенняя!
Ясно. Значит, и на этой полянке — весна. Только ее не сразу узнаешь. Она осенью прикинулась.
Э. Шим Страх-дерево
Шел я весенним вечером домой из соседнего колхоза. Чтобы сократить путь, свернул с большака в лесок. Пробрался сквозь ольшаник, через ручей перескочил — и вот опять впереди дорога показалась.
В этом месте проложена она по самому краю обрыва. Стенки у него крутые, песчаные. Не так-то легко наверх влезть.
«Ну, — думаю, — ничего! Взберусь. Зато сразу на два километра ближе к дому буду». И полез.
Р-раз! — схватился рукой за хиленькую березку.
Два! — за пенек уцепился.
Три! — на ветке повис. Так и лезу.
Песок подо мною осыпается, сучья трещат, камни сыплются. Медвежий шум стоит в овраге.
Вот, наконец, и вершина. Осталось теперь только сквозь кустарник пробраться — и буду я на дороге.
Нырнул я в темные кусты, руками ветки раздвинул и вдруг…
Вдруг такое увидел, что и вспоминать страшно.
Из чащи голых весенних кустов просунулись ко мне не то клешни, не то огромные паучьи лапы. Мелькнули над головой. Щелкнули. Усики-щупальца пробежали у меня по лицу. Охнул я. Отшатнулся назад, руками закрылся. И, конечно, не устоял на крутизне.
Опомниться не успел — фи-и-у-уть! — ветка, пенек, березка промелькнули, — трах!!. — и лежу я на дне оврага, в куче прошлогодних листьев.
Лежал долго. Потом приподнял голову.
Тихо в овраге. Никто не шевелится. Кусты недвижны.
А может, только притаился тот зверь? Кинется сверху.
Бочком, бочком выбрался я из листьев, пригнувшись, отбежал назад, за елку, за осинку… Далеко стороной обошел страшное место и уж там выбрался на дорогу.
На дороге — повеселее. Трехтонка с бидонами проехала. Прошагали трактористы из МТС. Мальчишка на лошади проскакал. На людях-то и страх — не страх…
Ободрился я, двинулся прямо к зарослям у обрыва. Нарочно сапогами стучу, для храбрости.
Раздвинул ветки.
Тут клешни! На месте.
Только это не паук. И не рак. И вообще не животное.
Растет полукуст, полудерево. Кора у него на сучьях складками, наростами, буграми. И впрямь — очень похоже на клешни. А веточки из этой коры торчат тонюсенькие, жиденькие, прямо как усики.
Вздохнул я посвободнее. Сразу весело стало.
— Эх ты, братец, — говорю, — каким страшилищем уродился! Для чего, — говорю, — тебе это понадобилось?!
Спросил я — и самому смешно. Ведь уже есть ответ на этот вопрос. Сам я ответил, когда кувыркнулся с обрыва…
Просто — защищается куст таким способом. Ведь такого урода никто не тронет.
Мимо пройти — и то страшно!
* * *
Много позднее узнал я, что зовут это чудовище бересклетом. А сам я и до сих пор его страх-деревом называю.
М. Дубянская В гостях у сына
Рис. С. Спицына
— Вот наказание! — сердился Витя Сизов. — Нитка не лезет в иголку, иголка не лезет в пуговицу. Была бы здесь мама, — мигом бы пришила. А тут — возись!
Мама вспоминалась Вите в тех случаях, когда ему чего-нибудь недоставало.
Если лагерный обед казался невкусным, он говорил: «Мама приготовила бы лучше. А тут ешь, что дают».
Еще вспоминал Витя маму перед сном, — она ведь всегда желала ему спокойной ночи.
Впрочем, теперь Витя засыпал так быстро, что подумать о матери удавалось редко. А лагерный день пролетал незаметно.
В последнее время Витя Сизов очень подружился с Володей Ивановым. Мальчики напилили себе рюхи и всё свободное время играли в городки. Даже в воскресенье, когда ребята то и дело выбегали за ворота посмотреть, не идут ли гости, приятели не отрывались от игры.
— Эй, городошники, к вам мамы приехали! — услышали они вдруг.
— Вот… не успели кончить партию! — вырвалось у Вити. А Володя быстро бросил палку и с радостным криком помчался по дорожке.
* * *
Витя неловко стоял перед матерью и, озираясь, говорил:
— Ну, что ты меня вертишь во все стороны? Неужели не видела?
— Конечно, не видела, — радостно смеялась мама. — Как ты загорел! Весь черный — и спина, и грудь.
— Станешь черным, — важно говорил Витя, — целый день то купаешься, то загораешь…
Мама вдруг забеспокоилась:
— А не много ли ты купаешься? У тебя ведь гланды. Тебе и на солнце-то нужно поменьше быть. Я поговорю с начальником лагеря.
— И не думай говорить, — я не маменькин сынок!
Это вышло так грубо, что мама посмотрела на него с удивлением и испугом.
Они помолчали, потом мама сказала:
— А я тебе привезла…
— Что, что? — оживился Витя.
— Бутылочку молока, — сказала мама.
— Молока? — поморщился Витя. — А еще что? — Он с любопытством заглядывал в мамину корзинку.
— А еще… — таинственно сказала мама и бережно вынула зеленую банку. — А еще клубнику свежую. Наверное, здесь нет такой!
— Клубники нет, а земляники у нас сколько угодно, даже надоела, — хвастал Витя, уплетая за обе щеки крупную душистую ягоду и запивая ее молоком.
— Мама, а ты сама ела? — спросил он вдруг, когда на донышке оставалось всего несколько ягод.
— Кушай, кушай! — успокаивала его мама. Она рассказывала ему о своей фабрике, о том, что ее перевели в новый цех. Но Витя слушал рассеянно: он думал о недоигранной партии в городки.
— Расскажи мне про твои лагерные дела. С кем ты дружишь? — допытывалась мама.
Витя отвечал неохотно и односложно:
— Ну, какой тебе интерес? Ведь всё равно ты их не знаешь.
Мама посмотрела на часы.
— Ты уже собираешься уезжать? — спросил Витя.
Мама помолчала.
— Я думала, — сказала она, глядя в сторону, — ехать с семичасовым, но, пожалуй, успею и на этот. — И она поднялась с места.
— А когда ты еще приедешь? — спросил Витя.
— Пожалуй, — сказала мама, пристально глядя на сына, — больше приезжать не стоит. И так твоя смена скоро кончится.
Сын проводил маму до ворот. Она поцеловала его и быстро пошла по дороге, не оглядываясь.
«Поскорее бы найти Володьку», — думал нетерпеливо Витя.
И вдруг он увидал друга, который куда-то бежал по саду. Витя хотел остановить Володю, но тот стремглав промчался мимо.
Тут только Витя заметил, что у Володи в руках букет.
— Наверное, нарвал для мамы.
Витя увидел, как Володина мама взяла цветы, обняла сына, и так, обнявшись, они пошли по саду.
Вите стало вдруг очень стыдно. Он вспомнил, как его мама уходила усталой походкой и как в ее корзинке звенели пустые банка и бутылка из-под молока Он даже не пригласил ее отдохнуть в гамаке, не показал ей речку. Ему захотелось побежать за мамой, вернуть ее и, тесно прижавшись к ней, так же, как Володя, долго гулять по саду.
Но она была уже далеко.
Может быть, даже садилась в поезд.
Михаил Туберовский Доброе утро
Пьеса в 1 действии
Рис. В. Слыщенко
Участвуют:
Пабло, газетчик, подросток.
Джиованни, его товарищ.
Отец Антонио, монах, торгующий молитвенниками.
Рабочий.
Старушка.
Молодая работница.
Старик.
Сыщик.
Место действия — улица в итальянском городе.
Пабло (выбегает на сцену). «Аванти»! «Аванти»! Покупайте газету «Аванти»! Прибытие американской эскадры! Митинг протеста на автомобильном заводе! Папа римский приветствует заокеанских гостей!
Джиованни (появляется). Пабло, ты уже здесь?
Пабло. Ну что? Принес?
Джиованни (осматривается, затем вынимает из-за пазухи листки). Целую пачку.
Пабло. Молодец, Джиованни. Теперь бойко пойдет торговля.
Джиованни. Еще бы! (Читает.) «Обращение Всемирного Конгресса мира» в городе Вене…
Пабло (перебивая). Тихо! Вкладывай по листку в каждый номер и ступай скорее на площадь. (Работают.)
Джиованни. Будь спокоен: сейчас пойдут рабочие на завод, а женщины — на базар, и я сумею шепнуть, кому следует, о нашем товаре, которого не сыщешь в Риме ни за какие деньги.
Пабло. А пароль?
Джиованни. «Доброе утро».
Пабло. Отлично. Клади газеты с «Обращением» сверху, а снизу оставь с десяток для тех, кто явится без пароля.
Джиованни. Товар на все вкусы?
Пабло. Вот именно! Действуй, дружище, а я стану прогуливаться в этом переулке.
Джиованни (оглядываясь). Однако сюда идет падре Антонио. Уж не собирается ли он расположиться здесь со своей небесной торговлей?
Пабло. Так и есть: он тащит свою тележку; но не думаю, чтобы он заработал хоть грош по соседству с моим товаром! (Хлопает рукой по пачке газет.) Прощай, Джиованни! (Джиованни убегает.) «Аванти», синьоры! Покупайте «Аванти»!
Появляется монах. Он катит перед собой тележку, на которой разложены молитвенники.
Продаю за бесценок американский флот вместе с папой римским!
Монах. Тьфу, разбойник! Ты что кричишь, точно сотня бесов, вселившаяся в блаженного Иеронима?!
Пабло (смиренно). Благословите, отче, мою торговлю.
Монах (в сторону). Будь она проклята!.. (Газетчику.) Мир да будет с тобой, отрок! (Благословляет.)
Пабло. Ах, преподобный отче, мир — это добрый товар, но газеты кричат о войне, и вряд ли продам я хотя бы номер.
Монах. Вот и ступай прочь. Идут покупатели!
Пабло. Но я посмотрю хоть одним глазком, как вы торгуете.
Монах. Ступай, ступай, — проходи! (Заголосил.) Молитва святого Иакова Фивейского — во исцеление души и тела, аминь! Продаю недорого.
Пабло. «Аванти»! «Аванти»! Экстренный выпуск!
Входит рабочий, за ним старушка.
Монах (газетчику). Да замолчишь ли ты? (Выкликает.) Молитва, синьоры! Покупайте молитву святого Иакова, Фивейского чудотворца!
Рабочий (монаху). В другой раз, падре. (Газетчику.) «Аванти», мальчик. Доброе утро!
Пабло (подает газету). Получите, синьор!
Рабочий проходит.
Старушка. «Аванти», голубчик. (Газетчик хочет достать номер снизу.) Да нет же, милый, — доброе утро!
Пабло (выхватывает номер сверху). Читайте да похваливайте!
Старушка отходит в сторону, развертывает газету.
Работница (входит). Доброе утро! Дай-ка мне, паренек, газету.
Пабло. Извольте.
Работница. Две подай: я дедушке отнесу. (Берет газеты.)
Монах. Синьорина, вы забыли купить молитву.
Работница. Спасибо, святой отец, — я уже молилась. (Убегает.)
Рабочий (возвращается). «Аванти»! Еще десяток! (Получает газеты.) Пусть товарищи почитают! (Уходит с газетами.)
Монах. Мальчишка! Ты что же это? Сам сказал, — и номера не продашь, а торгуешь, как апельсинами в праздник!?
Появляется сыщик.
Сыщик (монаху). Не волнуйтесь, падре. Сейчас мы узнаем, в чем тут дело… Мальчик, «Аванти»!
Пабло (подбегая). Что прикажете?
В этот момент Джиованни вбегает на сцену и сбивает с ног газетчика. Оба падают.
А что б тебе!
Джиованни (тихо). Это сыщик!
Пабло (тоже тихо). Спасибо… (Вскакивает, дает тумака товарищу, грозит вслед). Смотри у меня, разбойник!
Сыщик. Долго я буду ждать?
Пабло (подает газету снизу). Прошу, синьор!
Сыщик (развернул газету). Папа римский. Митинг протеста… (Газетчик тем временем потихоньку отодвигается, стараясь улизнуть, но сыщик уже схватил его.) Стой! Это не та!
Пабло (вырываясь). Синьор, синьор, — все за одно число! Вот вам другой номер!.. (Подает другой номер, но берет его опять снизу пачки).
Сыщик. Не обманешь! Давай на выбор! (Роется в пачке газет, вытаскивает номер из середины, из него выпадает листок с «Обращением».) Что? Попался! Вот оно! Вот! Видали, святой отец? Этот мошенник хлопочет о пакте Мира! (Выхватывает у газетчика всю пачку газет, передает монаху.) Держите! Я с ним расправлюсь!
В это время Пабло вырывается и бежит.
Стой! Стой! Лови! (Сыщик бросается вдогонку и исчезает за сценой, откуда слышен его голос.) Вот тебе мир! Вот тебе папа римский!
Монах (смотрит в кулису, возбужден). Поймал! Поймал! Так его! Так! Во исцеление души и тела!.. Ой, вырвался! Догоняй! (Бросает газеты на землю, бежит следом.)
Джиованни (выбегает, наблюдает за происходящим за сценой). Уйдет или не уйдет?.. Но и мне времени терять нельзя! Товар наш здесь, — уничтожу улики!.. (Выбирает листки из газет.) Вот они. Еще пригодятся… (Задумался.) А что если я подсуну их этому чудотворцу? (Взяв один из молитвенников.) Формат подходящий. (Выбрасывает молитвенники из обложек, вкладывает в обложки листки с «Обращением».) Ну, голуби мира, летите по всем кварталам, и… да хранит вас святой Иаков! (Смеется, убегает.)
Монах (возвращается). Убежал постреленок! Увертлив, как уж, проворен, как сам сатана! Но я еще посчитаюсь с ним: ни одной молитвы продать мне не дал! (Увидал на земле газеты.) Ага, эта красная пропаганда здесь! (Рвет газеты.) Так ее, так! (Топчет ногами, выбрасывает газеты.) Да погибнет наваждение бесовское! (Оглянулся.) Однако сюда идут покупатели! Сверши чудо, святой Иаков, — помоги мне расторговаться!
Входит молодая работница. За ней старик.
Монах (елейным голосом). Синьорина, купите молитву! Пять монет — и врата небес откроются перед вами!
Работница. Пять монет за блаженство рая — это слишком дешево, падре; вот вам десять, и я войду туда вместе с дедушкой.
Монах (принимая деньги). Аминь.
Работница и старик отходят в сторону.
Старик (развернул молитвенник, засмеялся). Однако и шутник же этот святой Иаков! (Монаху.) А ну-ка, преподобный дружище, отпусти мне еще штук двадцать!
Монах (удивлен, развел руками). Двадцать штук?
Старик. У меня внуки, падре. Двадцать внуков. Они будут читать эту молитву и утром, и вечером, и перед обедом!
Монах (подавая молитвенники). Бог да благословит ваше многочисленное семейство.
Рабочий (выходит, быстро подошел к работнице). А где газетчик?
Работница. Мы не видали, но если ты торопишься в рай, непременно купи молитву у их преподобия! (Показывает листовку).
Рабочий (прочел). Вот это здорово! (Хохочет.) Ну, приятель, не откажи в молитве последнему грешнику!
Монах. Вам… сколько?
Рабочий (отбирает). Мало, еще… Ну вот и весь капитал! (Бросает деньги на тарелку.)
Монах. Синьор! Я и в долг поверю: возьмите последних три экземпляра!
Рабочий. Нет, у святых одолжаться грех! Читайте сами, почтенный падре, и завтра же будете в царствии небесном! (К работнице и старику.) Идемте, друзья! (Хохочет.) Нет, никогда я так не смеялся! (Взрыв смеха, все трое уходят.)
Монах (один). Вот, помолился — и всё распродал! А теперь подсчитаем выручку… (Звенит деньгами.) Пять-пять — двадцать пять… (Новый взрыв смеха за сценой привлекает его внимание.) Святой Иаков! В чем дело? Почему они так смеются?! (Берет молитвенник, читает написанное на обложке.) «Молитва во исцеление души и тела».. Ну и что же тут смешного? (Развернул книжку.) Во имя отца и сына… (Читает нараспев.) «Обращение»… (Осекся.) Гм? Обращение? (Протирает глаза.) Помоги мне, святые угодники!.. Что тут за «Обращение»…
В это время к монаху сзади подкрадывается Джиованни.
…Конгресса мира? О пакте Мира между пятью державами? В городе Вене?.. Мошен-ники!!!
Джиованни (выскакивая). Сам мошенник! (Свистит.) Полиция! Взять его! (Прячется за тележку, монах в испуге спасается бегством, но попадает в объятия вбежавшего сыщика.)
Сыщик. Стой! (Схватил монаха.) Что у тебя?
Монах (дрожа). Молитва святого Иакова, Фи-фи-фи-вейского чудотворца!
Сыщик. Что? Дай сюда! (Вырывает книжки у монаха.) Так вот ты чем занимаешься? Ты заодно с ними, церковная крыса! А ну, марш за мной! (Уводит монаха.)
Джиованни (выходит из-за тележки). Пабло! Пабло!
Пабло (выбегает с пачкой газет). «Аванти»! «Аванти»! Покупайте газету «Аванти»!
Навстречу ему идет рабочий, за ним работница, старик и старушка.
Рабочий. Синьор Пабло, доброе утро!
Подростки смеются, хлопают газетчика по плечу.
Занавес
П. Белов На чужбине Записки рулевого
Рис. А. Корстышевского
I. ВОРОТА В ПАНАМСКИЙ КАНАЛ
Я стою на высоком мостике советского торгового корабля, а кругом шумит Караибское море, сверкающее под лучами палящего солнца, синее, как бездонное небо над ним. Шумит и пенится, взволнованное крепким ветром, налетевшим с просторов Атлантического океана.
В моих руках корабельный штурвал. Я знаю, что стоит только повернуть его вправо — и вскоре, словно из воды, поднимутся роскошные пальмы Гаити.
А если повернуть влево, то завтра покажутся берега Южной Америки.
Но нам сейчас не надо ни вправо, ни влево. Нам — в Тихий океан, и я держу на город Колон, приютившийся у самого входа в Панамский канал.
За кормой нашего судна кружат белые чайки, а чуть поодаль летят, распластав белоснежные паруса, наши новые красавицы-шхуны: одна, вторая, третья. Последняя шхуна временами скрывается в волнах. С ее палубы, наверное, еще виден зеленый остров Сент-Томас, который мы покинули сегодня.
Погода благоприятствует нам. Быстро летят будни. И вот наш маленький караван входит в Колон.
Город Колон расположен на земле Панамской республики, но в нем давно уже хозяйничают американцы. Они встречаются там на каждом шагу, особенно солдаты морской пехоты, летчики и моряки. Самые большие магазины принадлежат американцам. Товары в городе, как правило, американские. Деньги — тоже. Преобладающий язык — английский. Даже американские флаги, лихо вздернутые на высоких древках, встречаются в Колоне чаще, чем флаги Панамской республики.
На городской набережной на нас налетела шумная стая оборванных ребятишек. Они протягивали худые ручонки, выпрашивали милостыню.
В центре города — толчея. Множество людей суетится возле магазинов и контор в поисках случайного заработка. Вот в сторонке расположилась группа мужчин. Тут люди разного возраста и по-разному одетые. Одни заняты чтением газет, другие о чем-то беседуют между собой, третьи зорко осматриваются по сторонам, словно давно кого-то ждут. Судя по тому, что некоторые из них прислонились к ограде, а иные присели на корточки, можно заключить, что они здесь давно и не собираются скоро покинуть это людное место.
Но что же они делают здесь?
Всё объяснилось просто: из-за угла показалась женщина с большим свертком в руках, и в тот же миг вся группа людей шумно снялась с места и бросилась к женщине.
Из толпы бегущих легко вырвался вперед высокий черноволосый парень в длинной белой рубахе и в коротких полинявших голубых штанах. Его коричневые пятки часто мелькали в воздухе. Было ясно, что он первым добежит до женщины со свертком. И вот все остальные, очевидно, поняв бесцельность дальнейшего состязания, вдруг остановились и пошли обратно, тяжело переводя дыхание.
Добежав до женщины, парень предложил ей свои услуги носильщика, и они начали торговаться. Торговля шла долго, очевидно, обладательница большого свертка дорожила каждым центом. Наконец они договорились, и парень, взяв ношу, пошел за женщиной.
Решив приобрести несколько местных видовых открыток, я зашел в первую попавшуюся лавчонку. На ее распахнутых дверях живописно лепились американские бульварные журналы. На грязных стенах висели размалеванные наволочки, полотенца, салфетки и платки. На полке — стопки белых, пожелтевших от времени, маек и трусов. На прилавке, под широковещательной рекламой: «Поезжайте, посмотрите», лежали фотоснимки местных достопримечательностей.
Из-за прилавка поднялся тучный торговец и, даже не выслушав меня, начал совать в руки штампованные американские часы, всячески расхваливая их и почти умоляя купить эту дрянь.
Я сказал, что мне нужны почтовые карточки. Но торговец попытался, очаровать меня местными сувенирами и забросал прилавок салфетками, наволочками, платками, полотенцами с аляповатыми видами Панамского канала.
Я отвел глаза в сторону от прилавка, пытаясь дать понять, что такие сувениры меня не интересуют, и увидел на стене большой фотопортрет, на котором был изображен в полный рост бравый американский полицейский, отдающий честь невидимому начальнику. Я без труда узнал в нем хозяина лавки. Рядом с его портретом висел другой, поменьше. На нем объектив запечатлел безусого юнца в полной форме американской военной полиции.
Перехватив мой взгляд, толстяк самодовольно ухмыльнулся.
— Нравится? — спросил он. — Я теперь в отставке, а вот сын — герой. Ловкий парень! Только за год службы в Японии Генри заработал шесть тысяч чистоганом. Я послал ему сигарет всего лишь на двести долларов. О, мой мальчик — настоящий янки!..
Стало противно от пребывания в этой полицейской лавчонке, и я повернулся к выходу.
— Один момент! Один момент! — снова засуетился торговец. — Может быть, вы хотите побывать на мысе крокодилов? Очень интересное местечко. Вот посмотрите. — И он протянул мне открытку, на которой был изображен небольшой песчаный мысок у воды с парой крокодилов.
Видя, что крокодилы меня тоже не интересуют, назойливый торгаш сунул мне в руку снимок группы голых индейцев.
— О, это очень интересно! Это есть только у нас, в Америке.
— Но ведь здесь не Америка, — возразил я.
Торговец расхохотался.
— Америка везде, где есть американцы, — нравоучительно сказал он и добавил:
— Я устрою вам это по дешевке. Хотите, мы поедем вместе? Конечно, все расходы за ваш счет. Но зато вы увидите настоящих дикарей. Богатые туристы не жалеют денег, чтобы взглянуть на них. Эти дикари очень опасны, конечно, если их оставить на свободе.
— Значит, местные индейцы лишены свободы? — спросил я его в упор.
Торговец всплеснул руками:
— Но ведь это же дикари, настоящие дикари! Вы сами сейчас увидите их! — и он взялся за телефон, чтобы вызвать такси. Я остановил его.
Возвращаясь в порт, я невольно залюбовался богатейшей тропической растительностью. Сколько разных плодовых деревьев, сколько ярких, красивых цветов!
Прекрасна и щедра местная природа. Всё она может дать трудолюбивому человеку. Но только очень немногие действительно пользуются ее благами.
II. НА БЕРЕГУ МЕКСИКИ
После короткой стоянки в Колоне нам предстояло пройти через Панамский канал в Тихий океан и следовать в Калифорнию с заходом в Мексиканский порт Мансанилло.
По короткому и узкому каналу осторожно подходим к первому шлюзу и вдруг получаем с берега сигнал остановиться. Оказывается, здесь самостоятельное движение в шлюзах запрещено. В Европе, например, шлюзы Кильского канала мы проходили собственным ходом, а здесь свою машину пришлось остановить.
Берега канала густо усеяны американскими солдатами в полном вооружении, в металлических касках. Их пригнали сюда в таком количестве по случаю нашего прибытия.
Для проводки судна по каналу на мостик поднялись два американских лоцмана. Два других американца с рулеткой в руках приступили к измерениям кубатуры всех судовых помещений на предмет взыскания с нас специального денежного сбора. На носу и на корме появились негры. Это были рабочие, на обязанности которых лежала вся работа по швартовке нашего судна в шлюзах.
Хорошо оборудованный и прекрасно содержащийся советский пароход вызвал немалое удивление американцев. Особенно их поразило отличное питание всего экипажа, а также просторные и чистые каюты, превосходные ванные и душевые кабины и другие удобства.
Справа от нас появились два электровоза. Они шли по рельсам, проложенным вдоль шлюзов. Один из них остановился чуть-чуть впереди, а другой немного позади нас. Между электровозами и правым бортом нашего судна протянулись стальные канаты. Два других электровоза заняли свои места с левого борта.
Так на буксире за береговыми электровозами мы медленно втягиваемся в узкую камеру первого шлюза. С обеих сторон — глухие высокие стены. Вот за нами закрылись тяжелые ворота, и в камеру хлынула вода. Всё выше поднимается пароход. Наконец подъем закончен. Впереди открываются новые ворота, и опять электровозы тащат нас вперед.
Таким способом мы проходим один за другим три шлюза подряд и, поднявшись по этой своеобразной лестнице на высоту около двадцати восьми метров над уровнем моря, вступаем в Гатунское озеро (Гатон Лайк). Вода в нем мутная, грязная. Неровные берега густо заросли разными тропическими деревьями. Изредка встречаются маленькие красивые островки.
Из озера выходим узким извилистым каналом. Справа и слева круто спускаются к самой воде зеленые склоны горного кряжа Кулебра. Там наверху, по дороге, проложенной рядом с каналом, идут, не обгоняя, но и не отставая от нас, машины с американскими солдатами.
С приближением к Тихому океану всё чаще ударяют в лицо могучие порывы ветра. Снова шлюзы с электровозами, и опять американские солдаты.
На этот раз мы спускаемся вниз и выходим из канала. Перед нами раскинулся город Панама — столица Панамской республики. В ожидании шхун встали на якорь. На сборы каравана и последние приготовления перед выходом в Тихий океан ушло несколько часов.
Едва успело скрыться солнце, как наступила ночь. Над нами возник величественный океан мерцающих звезд. Освещенные их призрачным светом, наши корабли вышли в дальнейший путь. Скоро огни Панамы скрылись за кормой.
Утром небо померкло, налетел шквал и обрушился ливень.
Но шквал не застал нас врасплох. Быстро убрали паруса, и шхуны пошли под моторами, взлетая с волны на волну.
Десятки крупных океанских чаек и несколько больших буревестников неотступно следовали за нами. Буревестник тяжел на подъем и, прежде чем успеет оторваться от воды, долго бежит по ней, размахивая крыльями. Но как прекрасен он в полете!
Прочертив своим длинным крылом по воде, обрызганный пеною бури, легко и красиво взмывает он ввысь и парит над бушующим океаном. При виде могучей птицы невольно вспоминается горьковская «Песня о буревестнике».
Несколько дней нам мешает ненастье, но, как поется в песне,
«Туча улетает, Ветер утихает, И опять синеют небеса».Океан снова сверкает так, что на него больно смотреть. Стаи летающих рыб стремительно проносятся над водой. Со стороны далекого берега примчался косяк дельфинов. Они, часто выскакивая из воды, с шумом шлепались обратно.
Жарко, шумно и людно под большим душем на палубе. Под тентами устроились шахматисты и неистовые забойщики «морского козла». Знойный, словно застывший, воздух вдруг всколыхнулся от мажорных аккордов гитары, и над гладью океана широко разлилась русская песня.
Вдруг по палубе разнесся слух о том, что впереди замечен какой-то подозрительный предмет. Все бросились к борту. Действительно, впереди, немножко правее нашего курса, над водой чуть-чуть приподнималась покатая поверхность какого-то предмета.
Дали малый ход.
— Мина! Ей-богу, мина! Чего это капитан не отворачивает? — заволновался повар, отлучившийся по сему случаю от своей плиты.
— А мина-то не простая. Шевелится, — сказал насмешливо один из матросов.
— Как шевелится? — изумился повар.
Кто-то сбегал за биноклем.
— Да это черепаха!
Расстояние быстро сокращалось, и скоро все отчетливо увидели огромную черепаху, изо всех сил старавшуюся отплыть подальше.
Чайки, сопровождавшие наш пароход, закружились над черепахой, и уже через минуту на ее покатой спине по-хозяйски топтались две большие птицы.
Мы снова дали полный ход, и черепаха со своими пассажирами быстро скрылась вдали.
Всё ближе и ближе гористый берег. И вот мы входим в захудалый мексиканский порт Мансанилло. Встали на якорь. На рейде кроме нас почти никого. У небольшого причала одиноко стоит старое военное судно. Еще с рейда виднелось много убогих жилищ и весь город производил унылое впечатление. В одном месте, стиснутые складами, видны железнодорожные товарные вагоны.
Зашли мы сюда только для пополнения запасов топлива и пресной воды, но нашлось время и на посещение берега. Высадившись, как-то сразу оказались в центре этого небольшого города. На некоторых зданиях красовались вывески американских контор. Магазины были заполнены американскими товарами. Местное производство представлено главным образом грубым кожевенным товаром, особенно ковбойскими принадлежностями. Рядом с конской сбруей почти во всех лавках лежали и висели широкополые соломенные шляпы «сомбреро». Недалеко от центра шумел продуктовый базар.
Стояла ужасная жара, и многие двери были распахнуты настежь. Такую вопиющую нищету я встречал только в колониях.
На берегу, в ожидании катера, я остановился возле большой ямы, в которую с шумом врывался ручей. По краям ямы громоздились огромные камни. На них сидели настороженные пеликаны и чайки. На одном из камней устроился с удочкой мальчик лет восьми-десяти. Птицы не обращали на него никакого внимания и то и дело стремительно ныряли в воду за рыбой. Маленький рыболов с нескрываемой завистью посматривал на своих ловких конкурентов.
Но вот у мальчика клюнуло — поплавок скрылся под водой. Мальчик рванул удилище кверху, и над его головой сверкнула серебряная рыбка. Сорвавшись с крючка и описав в воздухе дугу, рыбка упала далеко за спиной мальчика. Он вскочил на ноги и бросился к своей добыче.
Но его опередила одна из чаек. Она схватила трепещущую рыбку и по несла ее в сторону океана. За воровкой с криками устремились другие чайки.
Малыш заплакал. Мне стало жаль его. Я дал ему большой апельсин, затем взял его удочку, поправил наживку и забросил в яму. До прихода катера нам удалось поймать четырех рыбок. Малыш сиял от удовольствия. Он проводил меня до катера и, дружески простившись, снова вернулся к своей яме.
Над бухтой прокатился прощальный басистый гудок, и берег Мексики стал медленно удаляться от нас.
III. СРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ
Через несколько дней мы благополучно прибыли в американский порт Сан-Педро, близ Лос-Анжелоса (Калифорния). Здесь наш караваи разделился. Парусники направились для ремонта в соседний порт Лонг Бич, а нашему пароходу было поручено срочно следовать к американскому городу Лонгвью (штат Вашингтон) на реке Колумбии и забрать там генеральный груз, который обязательно надо было вывезти до наступления нового года.
Шла вторая половина декабря. Для выполнения задания оставались считанные дни.
Быстро пополнив запасы топлива и воды, мы полным ходом пошли на север.
С каждым днем становилось всё холоднее. Большой палубный душ никого уж больше не привлекал, и его закрыли. Гамаки и тенты убрали. Палуба опустела. Все разошлись по своим каютам и включили центральное отопление. На пароходе всё чаще и чаще стали встречаться люди в шерстяных свитерах, в ватных куртках и даже в шубах. Порывистый ветер гнал над океаном тяжелые темные тучи. Временами хлестал холодный дождь. Судно качало. Солнце стало редким гостем.
24 декабря подошли к устью реки Колумбии. Перед нами до самого берега с грозным гулом метались крутые кипящие волны. Моряки знают это место, погубившее за многие годы немало разных судов.
— Тут, брат, смотри в оба, а то, чего доброго, и шею свернуть можно, — недовольно проворчал старпом, стоявший на вахте.
— Да, тут зевать нельзя, — отозвался капитан.
Подошел лоцманский бот, и на борт поднялся местный лоцман, с помощью которого мы благополучно вошли в реку.
Миновав небольшой город Асторию, расположенный возле самой океана, пароход шел дальше вверх по течению глубокой и широкой реки окаймленной высокими лесистыми берегами.
Наше внимание было привлечено неожиданным зрелищем. Справа недалеко от главного фарватера, стояла на приколе большая группа морских торговых кораблей. Судя по их запущенному внешнему виду, к ним давно уж не прикасались заботливые матросские руки. На их высоких палубах царило безмолвие пустыни. Это были безработные суда.
За первой якорной стоянкой последовала вторая. Всего здесь было «заморожено» не менее сотни крупных современных судов. Все вместе они могли бы только за один рейс перевезти не менее одного миллиона тонн полезного груза.
Эта печальная картина сменилась другой, заставившей рассмеяться. Наш пароход быстро нагоняло судно до того нелепое, что не хотелось верить своим собственным глазам.
— Уж не на этом ли «лайнере» служил Марк Твен сто лет тому назад? — пробормотал удивленный боцман.
Перед нами был смешной, давным-давно устаревший тип речного парохода с одним огромным задним колесом. Плицы его неистово шлепали по воде. Трудно объяснить, почему этот допотопный пароход бороздил воды, когда вполне современные суда ржавели рядом.
Продолжая подниматься вверх по пустынной реке, мы прошли под большим мостом, круто развернулись и, приблизившись к правому берегу, подали швартовы на свайную пристань города Лонгвью.
Но где же город? Перед нами только портальные краны на пристани, длинные здания складов да высокая береговая часть моста.
Местный агент, обслуживавший пароход, заявил, что погрузка начнется только после рождественского праздника и закончится не раньше второго января.
— Это нас не устраивает. Мы уйдем вечером 31 декабря, — ответил капитан.
— Но вы не успеете взять весь груз.
— Должны успеть.
— Это невозможно, капитан. Даже с нашими темпами…
— Вот вы говорите о темпах, — перебил агента капитан, — а знаете ли, между прочим, что такую работу у нас сделали бы за два дня?
— Капитан! Вы меня развлекаете.
— Нет. Я говорю серьезно.
— Я не могу этому поверить, капитан. Вы пошутили.
— Ну, хорошо, — сказал капитан, — а нельзя ли начать погрузку несколько раньше? Ну, хотя бы на второй день праздника?
— Что вы! — С неподдельным изумлением воскликнул агент: — Рождество у нас самый большой праздник. Мы его справляли даже во время войны.
Прошла последняя ночь перед рождеством.
Крепкий утренник покрыл пушистым инеем весь пароход. Над рекой курился легкий парок. В воздухе бесшумно крутились первые снежинки. Кругом было пусто и тихо.
Я стоял на палубе и жадно вдыхал чистый студеный воздух, напоенный нежным ароматом хвойного леса. Подо мной струилась незнакомая река с красивыми, но чужими берегами.
— Никак замечтался, дружок? — услышал я за спиной снисходительный басок Кузьмы — своего товарища по каюте. — Ты вот лучше посмотри, что на пристани творится, — добавил он уже серьезным тоном.
Мы перешли на правый борт.
На безлюдной пристани стояло штук двадцать легковых автомобилей. За ветровыми стеклами машин виднелись люди, смотревшие на наш пароход.
И оттого, что люди не выходили из кабин и всё это происходило в мертвой тишине, меня охватило какое-то неприятное ощущение.
— Кто это приехал? — скороговоркой спросил подошедший машинист.
— Господа. Разглядывают, — пробасил в ответ Кузьма и, усмехнувшись, отошел от борта.
Но вот на пристани появились люди, пришедшие сюда пешком. Их прибывало всё больше и больше. Вскоре они заняли всю пристань и закрыли собою машины. Автомобили один за другим покинули пристань.
Многие из пришедших дружелюбно приветствовали нас. Тут были старые и молодые, одиночки и целые семьи. Судя по их скромной и очень пестрой одежде, это был трудовой люд. Между американцами и нашим экипажем завязался оживленный разговор. Многие из пришедших уже дымили русскими папиросами. Постепенно налаживалась непринужденная дружеская атмосфера.
После обеда мы отправились в город. Миновав склады и старательно обойдя большие лужи, подошли к мосту, у въезда на который скопилось несколько автомобилей. Эта своеобразная очередь объяснялась тем, что хозяева моста взимали плату за проезд с каждой проходящей машины.
От моста пошли по прямой, грязной дороге. Шли довольно долго и невольно вспоминали американцев, еще утром прошедших по этой дороге, чтобы взглянуть на наш пароход. Сначала кругом было пусто, а потом дорога превратилась в длиннейшую улицу с белыми одноэтажными стандартными домиками по сторонам. Перед окнами многих домов сушилось белье. Дома не огорожены. Ни деревца, ни кустика. Людей тоже не видно. Пусто.
Эта дорога привела в небольшой низкий городок. Главную улицу Лонгвью занимали магазины, конторы, кинотеатры, гостиницы и кафе. Во многих витринах стояли нарядные елки. Сегодня главная улица была пуста. Безлюдно было и на других улицах. Редко встречались прохожие и еще реже — машины.
Поперек некоторых улиц висели разноцветные гирлянды из маленьких бумажных флажков. Точь-в-точь таких же, какими украшают наши ребятишки детские сады.
Было удивительно скучно в этом пустынном городишке, и мы вскоре вернулись к себе на пароход.
На другой день произошло нечто совершенно неожиданное. К восьми часам утра явились рабочие и началась погрузка.
С утра до вечера плавали в воздухе длинные стрелы портальных кранов. В глубокие трюмы нашего парохода один за другим опускались большие тяжелые ящики.
Местный агент умолял капитана объяснить, чем он сумел покорить сердца рабочих Лонгвью.
— Это удивительно! — восклицал агент без конца.
К вечеру 31 декабря был подан с пристани на пароход последний ящик.
— Погрузка закончена! — прокатилась по всему пароходу радостная весть.
Мы быстро закрыли все трюмы. На каждый люк натянули по два непромокаемых брезента и закрепили их железными шинами и дубовыми клиньями. Закрыли, как говорится, «по-морскому».
На пристани собралось много провожающих. Среди них мы узнавали лица грузчиков. Вот берег медленно поплыл в сторону. Густым сочным басом прогудел наш пароход, прощаясь с жителями Лонгвью. На пристани замахали руками.
— До свидания, товарищи! — крикнули с парохода.
— Счастливого пути! — ответили с пристани.
За два часа до наступления Нового года мы снова были в океане.
В радиорубку то и дело забегали моряки, и каждый просил радиста отправить как можно скорее его поздравительную весточку. Капитан тоже подал две радиограммы. Одна была личная — в Ленинград с новогодним поздравлением. А вторая служебная — в Москву. В ней была всего одна строчка: «Задание выполнено».
Р. Михайлов Главы из повести о Пабло Неруде
«Я приветствую всех коммунистов Чили»[16]
«…И в этой дрожащей цепями ночи
Задумали песню убить палачи».
Николай Тихонов. «Пабло Неруда».Рис. В. Власова
В далекой стране Чили подходы к угольным шахтам Лота и Коронель охраняли войска. На железнодорожных путях лежали трупы шахтеров. Их жены и дети умирали от голода и жажды где-то в пустыне. По ночам полиция врывалась в дома рабочих и производила аресты. За каждое смелое слово людей бросали в тюрьмы.
Президент Гонсалес Видела не мог сделать всё, что требовали от него новые хозяева. Жила и боролась компартия Чили, открыто продолжал борьбу против предателей народа товарищ Рикардо, в парламенте выступал против политики Виделы поэт и сенатор от коммунистов Пабло Неруда.
Вот уже больше двух месяцев как вокруг Неруды плелась сеть заговора. Чилийские правители, изменившие своему народу, обвинили смелого чилийского патриота в государственной измене. У них не было доказательств, они не могли заставить в это поверить ни одного чилийца. И тогда они встали на путь подкупа и угроз.
Неруду нельзя было запугать. Неруду нельзя было лишить свободы: конституция оберегает неприкосновенность сенатора.
Видела добивался, чтобы это право — право неприкосновенности — у Неруды было отнято. Он пустил в ход все средства: фальшивые документы, деньги, обещания, угрозы. Из «Дружеского письма миллионам людей» Видела выписал всё то, что клеймило и разоблачало его собственные поступки, и заявил, что Неруда писал это о чилийском народе.
Видела лгал, изворачивался, угрожал. Он в конце концов заставил Верховный суд вынести нужное ему лживое решение. Но трое судей отказались это решение подписать, и он намекнул, что они замешаны в «заговоре». Его угроза не подействовала: трех подписей он не получил.
Всё равно: решение суда лежало перед ним на столе. Сегодня же он передаст его в парламент. Сегодня сенатор, поэт, коммунист Пабло Неруда предстанет перед сенатом как человек, обвиненный в государственной измене.
Пусть только сенат одобрит это решение! Видела и его американские советники знают, куда упрятать Неруду так, чтобы он исчез навсегда.
Неруда узнал о решении суда накануне дня, о котором рассказывается.
Ночью он набрасывал речь, с которой хотел обратиться к сенаторам. В деревянном домике по улице Патрисио Линча горел свет. Улица казалась пустынной. Но у изгороди недвижно стояли люди, сливаясь с черными тенями деревьев.
Вот уже много дней дом Неруды охранялся его друзьями. Каждый вечер сюда приходили верные люди — рудничные рабочие, угольщики, трамвайщики Сант-Яго. Они оберегали жизнь своего поэта от неизвестных прохожих, которые чересчур часто пытались проникнуть к нему в дом.
Вокруг было тихо. Только с гор, облитых серебряным светом луны, доносился неясный, расплывчатый гул.
На другой стороне улицы послышался скрип гравия. Два человека, стараясь ступать неслышно, направлялись к дверям дома.
Но их перехватили рабочие:
— Вам что там понадобилось?
— Шли с визитом! — нагло ответил один из прохожих, пытаясь вырваться.
В короткой схватке из кармана его выпал пистолет. Молодой шахтер поднял его.
— Убирайтесь вон, ребята, — сказал шахтер. — Еще раз поймаем здесь с этой штучкой — живыми не выберетесь!
Пока шла схватка, люди не заметили, как еще один человек подкрался к дверям дома, прислонил к ним горящий факел и скрылся. Густые столбы дыма уже обволакивали дом. У дверей разгорелось пламя, шахтеры подоспели во-время, чтобы предотвратить пожар. Неруда услышал запах гари и вышел.
— Возвращайтесь в дом, товарищ Неруда, — сказал молодой шахтер. — День у вас будет тяжелый.
— Спасибо, друзья, — сказал поэт. — Но и у вас, я вижу, нелегкая ночь.
* * *
К украшенному колоннадой зданию чилийского парламента подъезжали машины. Старинные «кадилаки», изношенные «линкольны», «форды» едва ли не самых первых марок. Своих машин в Чили не производят. Американские компании почти бесплатно извлекают из чилийской земли медь, селитру, серу, железную руду, свинец, цинк, ртуть, марганец, чтобы перерабатывать их на своих заводах в автомобили, станки, приборы, пишущие машинки и втридорога продавать чилийскому народу.
Так совершается этот гигантский круговорот: американские дельцы именуют его «бизнес», точнее — это грабеж.
Пока пухли денежные мешки селитренных и медных королей, пока народ Чили обливался кровью и потом, в чилийском сенате журчали тихие голоса, один оратор сменял другого и многие из них, называя себя представителями народа, высказывали пожелание видеть его более терпеливым, более послушным.
Но с нижних левых скамей поднимались коммунисты и бросали в зал слова правды. Часто к трибуне выходил смуглолицый человек и своим мягким медлительным голосом приводил в замешательство правительственных чиновников. Он говорил о том, что в шахтах нужно сменить крепления, открыть новые больницы для рудничных рабочих, отказаться от невыгодных договоров с американцами. Он говорил, что сеньорам сенаторам пора, наконец, ближе узнать жизнь простых людей. И сенаторы старались отвести свой взгляд от гневного и насмешливого взгляда сенатора Пабло Неруды.
Вот и сейчас он стоит у высоких колонн чилийского парламента и пристально смотрит на сенаторов! Подходя к широкому подъезду, они по привычке поднимают глаза к фронтону здания, где выбита надпись; «Национальный Конгресс». Может быть, в них, наконец, пробудится чувство национальной гордости и они не захотят, чтобы иностранны хозяйничали в Чили, как у себя дома?..
Многие не хотели бы встретиться взглядом с поэтом. Что ж, он их понимает. Но сегодня он заставит их посмотреть себе в глаза. Неруда вспоминает слова Рикардо:
— Компартия ждет, Пабло, что эту речь запомнят и друзья и враги.
Зал сената гудит. Кожаные кресла, расположенные полукругом, спускаются вниз амфитеатром — это места для сенаторов. Неруда занимает место слева внизу: там, где сидят коммунисты. По правую руку от него и напротив сидят представители буржуазных партий. Места для гостей еще выше, на галерее, отгороженной барьером. Там полно. Люди с галереи всматриваются в лицо поэта: что он скажет сегодня в свою защиту, как отразит клевету, пущенную против него предателями? Сюда приехали горняки, избиравшие Неруду, делегаты Севелла. Где-то в глубине галереи видна большая львиная голова Карлоса Прадо. Ближе к барьеру примостился Александр Перес. Пришли писатели, ученые, художники.
В этом зале не только друзья. Здесь и враги поэта. Это те, кто владеет рудником или пароходной линией или получает с этих предприятий часть доходов. Здесь люди, запуганные и обманутые Гонсалесом. Это, например, сенатор Мигуэль Кручага Токорналь. Старого человека Гонсалес принудил кривить душой, большого знатока законов заставил перекраивать их наизнанку, как это угодно Гонсалесу, — лишь бы очернить Неруду, лишь бы доказать, что его письмо к миллионам людей содержит то, чего в нем никогда не было.
Главный враг поэта отсутствует. Он закрылся в президентском дворце и каждые четверть часа справляется по телефону о ходе заседания.
Неруда долго всматривался в зал, прежде чем начать говорить. Он видел перед собой не холодные или боязливые лица сенаторов, не эти глаза, смотрящие мимо него, не эти сверкающие кольца на выхоленных пальцах. Он видел лицо женщины, склонившейся над телом расстрелянного горняка. Он видел глаза голодного мальчика — сына бастующего рабочего. Он видел перед собой тысячи лиц и тысячи глаз — рабочих Сепелла, пастухов Патагонии, матросов Вальпараисо. И все они молили об одном: хлеба и жизни. Это ради них он пришел сюда, чтобы еще раз потребовать правосудия, чтобы еще раз исполнить свой долг народного избранника.
— Я снова занимаю внимание сената, — сказал он своим спокойным чистым голосом, — в драматический момент, который переживает наша родина.
Наступила напряженная тишина.
— В Чили нет свободы слова, — продолжал Неруда. — Сотни людей, которые борются за то, чтобы освободить народ от нищеты, оскорбляют, преследуют, мучают, заключают в тюрьмы.
Наша страна превратилась в пособницу фашизма и представляет собой угрозу миру и свободе на земле. Это дело рук президента республики!
Кручага Токорналь беспокойно оглянулся. До него доносился медленный голос Неруды, но он плохо вдумывался в смысл его речи, ожидая, когда же тот начнет оправдываться. Вдруг он ясно услышал фразу:
— …Президент Габриэль Гонсалес Видела предался тем, кого он до выборов называл своими политическими врагами и кто, по его же словам, являются давними врагами народа.
— Не пора ли это прекратить? — надменно произнес Токорналь и тут же съежился под взглядом Неруды.
— Меня стараются заставить замолчать даже на этом почетном месте, которое некоторые называют трибуной, — насмешливо сказал Неруда.
— Говорите! — раздался суровый голос с галереи. — Мы вас слушаем.
Это был голос старого горняка Карлоса Прадо.
Неруда заговорил о том, как предатели, которые пытаются лишить его родины, используют это прекрасное слово, чтобы прикрыть им свои грязные сделки.
— Кто смеет здесь говорить о родине? — продолжал Неруда. — Когда нарушают свои клятвы… Когда правят в интересах немногих. Когда народ морят голодом. Когда подавляют свободу. Когда из газет вытравляют свободолюбивую мысль… Когда создают концентрационные лагери и родную землю кусок за куском передают иностранцам. Когда каждый день терпят всё большее вторжение североамериканских чиновников и шпионов в наши внутренние дела… Вот тогда слово «родина» искажают. И нужно мужественно, бесстрашно подняться, чтобы вернуть слову «родина» его настоящий смысл.
— Скажите лучше о своем письме! — раздался язвительный голос Токорналя.
— В письме к миллионам людей, за которое меня обвиняют, никто, даже самый строгий судья, — сказал поэт, — не мог бы увидеть чего-либо другого, кроме чистой и большой любви к моей земле. В меру своих возможностей я принес ей тоже немного славы и известности. Мои мысли более чисты и бескорыстны, более благородного и лучшего свойства — я утверждаю это без ложной скромности, — чем те, которые приходят в голову почтенному сеньору Гонсалесу.
И многие из тех, кто слушал эту страстную речь и кто сидел не только на галерее, но и в кожаных креслах амфитеатра, вспоминали, как чилийский посланник в Мадриде, тогда еще совсем молодой человек, читал свои стихи в окопах солдат республиканской Испании. Вспоминали, как в зимнюю ночь 1942 года расклеивалась на стенах города Мехико его «Песнь любви Сталинграду», как, узнав о катастрофе на селитренных рудниках, он написал свои пламенные строки, обращенные к жертвам Севелла и к тем, кто должен отомстить за кровь погибших. Путь этого человека был отмечен трудной и отважной борьбой. Как можно было не верить его словам?
— Мы слушаем вас, сенатор Неруда! — раздались голоса уже с сенаторских кресел.
— В своем письме к миллионам людей я не говорил подробно о том, как разглашается наша государственная тайна. Я не говорил подробно о том, как вторгаются на нашу землю вооруженные силы одной иностранной державы.
Из вестибюля уже звонили в президентский дворец. Видела потребовал лишить Неруду слова любым способом.
А Неруда продолжал:
— Но я сделаю это теперь, открыто, с этого места, на которое меня послал рабочий народ моей земли.
Меня не остановят ни запугивания, ни подкуп. Я сделаю это как член законодательного органа власти, как свободный человек, как поэт, как чилиец.
На сенаторских скамьях послышались невнятные, дрожащие голоса, и, наконец, кто-то выкрикнул:
— Лишить его слова!
Еще один осторожный голос:
— Нам не интересно это знать!
— А нам это интересно! — покрыл эти голоса молодой, звонкий голос горняка Алехандро Переса. — Мы приехали из Севелла! Вы помните Севелл, сеньоры? Или вам мало трехсот пятидесяти трупов?
В зале наступила тишина.
Неруда продолжал и, казалось, что этот мягкий, певучий голос сотрясает каменные своды:
— Те, кто меня обвиняет в том, что я оповестил американских братьев о нашей трагедии, не скажут и слова против того, что нас предают Соединенным Штатам. Посмотрите, как открыто, в военной форме путешествуют офицеры США по чилийской земле и как поощряют их вмешиваться в наши дипломатические, торговые и общественные дела, в дела нашего собственного дома!
— Это ложь! — раздалось с кресел. — У вас нет ни одного доказательства!
Неруда вместо ответа поднял над головой пакет:
— Здесь фотометрические пластинки, — с усмешкой сказал он, — какие употребляются для съемок с самолета, со специальным указанием, что это — материал для североамериканской армии. Ее главный штаб получил фотометрическую карту наших берегов. В этом неповинны наши солдаты. Это дело рук президента.
Зал словно вздрогнул. Люди подались вперед.
— Американская военная миссия, — Неруда бросал в зал факт за фактом, — увезла все топографические карты Чили, на которых оказались нанесенными реки и озера, даже не нанесенные на наши собственные карты…
Наша армия, — с гневом заявил он, — не должна быть превращена в ударный полк североамериканской армии. Я не хочу видеть солдат, офицеров Чили, низведенных до наемников… Президент республики связал нашу страну с агрессорами, у которых нет иной цели, кроме войны, уничтожения и ненависти.
Именно за то, — взволнованно сказал поэт, — что я защищал независимость моей страны, президент обвиняет меня перед трибуналом. Именно за то, что я защищаю свободу Чили, меня хотят заставить замолчать.
— Вас слушает Севелл! — послышалось с галерей.
— Тебя слушает Тарапака!
— Антофагаста!
— Сант-Яго!
— Лота!
Поэт-коммунист с благодарностью посмотрел в сторону своих друзей.
— Я горд, что преследования сгущаются над моей головой.
В зале прозвучали слова, заставившие многих глубоко уйти в кресла:
— Я обвиняю!..
Человек, обвиненный в измене, человек, который не знал, будет ли еще он завтра на свободе, — сам становился обвинителем!
— Я обвиняю сеньора Гонсалеса Виделу в том, что он — виновник позора нашей родины, — жестко произнес Неруда. — Но я оставляю ему как суровый приговор — приговор, который он будет слышать всю свою жизнь, — душераздирающий плач детей расстрелянных чилийских горняков.
Голос Неруды поднимался всё выше и выше; казалось, в нем слышатся и стоны чилийских детей и женщин, и гневная речь рыбака с Исла Негра, где родились последние стихи поэта, и страшная, торжественная песня шахтеров Лоты, сосланных на остров смерти.
— Я обвиняю президента республики в том, что он насильственно разрушает профсоюзные организации.
Я обвиняю президента республики в том, что он арестовывает и изгоняет испанских республиканцев — борцов против фашизма.
Я обвиняю президента республики в том, что он заставил вооруженные силы действовать, как полицию, против рабочих, что он предоставил в мирное время нашу территорию под иностранные военные базы и открыл двери нашего дома для иностранных солдат.
Я обвиняю президента республики в том, что он провокационно разорвал дипломатические отношения с Советским Союзом.
Я обвиняю сеньора Гонсалеса Виделу, — подвел итоги Неруда, — в том, что он предпринял бессмысленную и бесплодную войну против народа.
И в то время, как Видела метался по своему кабинету, проклиная и Неруду, и чилийцев, и свою нелепую затею передать это дело в сенат, поэт говорил, обращаясь к народу:
— Я приветствую всех коммунистов Чили, женщин и мужчин, про следуемых, изгоняемых, избиваемых, приветствую и говорю им: наша партия бессмертна. Она родилась, как ответ на страдания народа, и эти гонения только возвеличивают ее.
Неруда встретил устремленные на него дружеские и ободряющие взгляды людей, находящихся за сенаторскими креслами. И очень задушевно сказал:
— Меня никто не может лишить доверия, кроме народа.
Когда минуют эти тяжелые, мрачные дни нашей родины, я отправлюсь в селитренную пустыню. И я скажу мужчинам и женщинам, которые испытали такое угнетение, такие пытки, такое предательство: «Вот я с вами. Я обещал быть верным вашей печальной доле. Я обещал защищать вас своим разумом и своей жизнью, если это понадобится. Скажите же, выполнил ли я свое обещание, и дайте мне или отберите у меня единственное право, которое мне необходимо, чтобы жить честно: право на ваше доверие, на вашу надежду, на вашу любовь».
Он закончил свою последнюю речь в сенате словами национального гимна Чили:
Прекрасная родина, прими голоса, Которыми Чили тебе клянется: Ты станешь либо могилой борцов за свободу, Либо оплотом против угнетения!Неруда медленно сошел с трибуны, и никто не посмел преградить ему дорогу. Поэт покинул сенат, зная, что вернется сюда уже не скоро.
Он не подозревал, совершая путь от здания сената к маленькому домику по улице Патрисио Линча, что его уже опережают слова только что произнесенной им речи. Что горняк, выйдя из сената, шепнул о чем-то безработным, стоящим на перекрестке. Что пассажир маленького автобуса показывает шоферу, как сенатор поднял над головой грозный обвинительный акт Виделе — фотометрические пластинки. Что слова «Я обвиняю» уже летят по стране, спускаются в шахты под дном океана, поднимаются высоко в горы, где греются у костров озябшие пастухи, вызывают на лицах людей улыбку гордости и надежды.
И вместе с этими словами от человека к человеку передается прозвище, которым сначала чилийцы, а потом их братья по континенту наградят Пабло Неруду.
Этого человека, который исполнил свой долг сенатора, поэта, коммуниста и перед лицом грозящей ему опасности сделал то, что велела ему совесть, отныне стали называть «Совестью Латинской Америки».
Произошло это 6 января 1948 года.
Полиция сбилась со следа
«В городке ночная дрема,
Дождь к стеклу приник.
Тихо вышел он из дома,
Поднял воротник.
Он идет порой осенней
Улицей ночной.
Не должно быть даже тени
За его спиной.
…………………..
Он идет настороженно,
В сумраке скользя…
Только песню вне закона
Объявить нельзя».
Михаил Матусовский. «Поэт», из цикла стихов «Они удостоены премии мира…»Над Сант-Яго взошла луна.
Она осветила квартал безликих многоэтажных домов в центре столицы. Здесь жили люди с достатком, правительственные чиновники, богатые иностранцы.
Простые рабочие люди ютились в отдаленных кварталах или по берегам реки Мапочо. В рабочих кварталах жизнь не прекращалась даже ночью. Приходили и уходили люди: одни окончили работу, другие шли им на смену. Длинные узкие бараки были разгорожены на клетки; в каждой такой клетке, где могла поместиться одна кровать, спало по восемь-десять человек. У водоразборных колонок на перекрестке улиц толпились женщины с ведрами, кувшинами, чайниками; нужно было напоить горячим кофе мужа, сына. Слышались голоса: «Моему опять сбавили…» Из крошечного оконца доносилась тихая песня: мать укачивала сына.
Прошел последний автобус. В нем было темно и грязно. Он громыхал, точно груда жестянок, связанная веревкой, и грозил рассыпаться на части. Люди в нем задыхались от духоты и темноты. Это был «микро» — автобус для тех, кто не мог платить много.
А навстречу «микро» плыл большой вместительный и комфортабельный автобус, прозванный «гондолой»; развалившись на подушках, в нем сидели два человека в форме офицеров североамериканской армии.
Когда улеглась пыль, продавцы со своими тачками, нагруженными оранжево-красными апельсинами и крупными полосатыми арбузами, продолжили свой путь с базара, они так и не сумели распродать товар: у простых чилийцев было слишком мало песо.
Продавцы остановили тачки — две женщины в черных платьях, с красивыми, но прежде времени увядшими лицами, медленно переходили дорогу. Они шли, и слезы катились по их лицам; кто знает, — оплакивали они мужей, угнанных в ссылку, сыновей ли, погибших на рудниках? В каждой рабочей семье было свое горе.
У памятника чилийскому генералу женщины невольно замедлили шаг и со вздохом посмотрели наверх — туда, где под самыми копытами вздыбленного генеральского коня, свернувшись в клубок, спал мальчик.
Мальчик спал бы там еще долго, но его разбудил острый запах сочных эмпанада — пирожков, которыми так любят лакомиться чилийцы. Он повел вокруг глазами и, увидев такого же, как и он, мальчугана с лотком в руках, спрыгнул с памятника и стал подбираться к спешившему домой лотошнику. Вдруг его схватила за вихор рука в перчатке — и карабинер, выразительным жестом показав на окна Каса де ла Монеда, вблизи которых не разрешалось шататься маленьким оборванцам, потащил мальчишку в сторону.
Каса де ла Монеда, иначе говоря, монетный дом, где ныне помещалось чилийское правительство, напоминал в этот лунный вечер тюрьму: решетки на окнах, часовые, расхаживающие от угла к углу.
И вся страна в эту тревожную ночь казалась огромной страшной тюрьмой, запертой между Андами и океаном.
Полицейские давно были на своих местах. Дом на улице Патрисио Линча был окружен ими. Они получили приказ не спускать глаз с поэта.
Время от времени полицейские проходили мимо окон, не защищенных ставнями, и пытались разглядеть среди гостей знакомое лицо поэта.
С другой стороны улицы за каждым шагом полицейских следили рабочие.
Было странно, что гости так засиделись. Но вот открылась дверь, и большая группа людей вышла из дома. Они сразу же разошлись в две стороны, потом каждая из этих групп снова раскололась на две части. И прежде, чем полицейские успели что-либо сообразить, улица опустела.
Впрочем, насчет гостей у агентов тайной полиции никаких инструкций не было. Им нужен был хозяин дома. И разве могли они догадаться, что с одной из групп ушел и хозяин!
Опасаясь провокаторов, партия заставляла поэта каждые сутки менять место ночлега. Рикардо заявил Неруде от имени Центрального Комитета партии, что он обязан хотя бы на месяц выехать из Чили.
— Моя родина — Чили, мой народ — чилийцы, — сказал поэт, — я не могу оставить мой народ в это тяжелое время.
Рикардо возразил:
— Пабло Неруда не сложит оружия, где бы он ни был.
Мексиканский посол предоставил поэту свою личную машину.
— Я сам вас доставлю к границе, — сказал этот человек, умеющий ценить подлинную поэзию. — В моей машине никто не поднимет на вас руку.
И вот они едут по северным провинциям, откуда Неруда был послан в сенат. Они направляются к границе, которая проходит по вершинам Анд. Никто здесь не знает, что в машине, на которой развевается мексиканский флажок, едет Неруда. Но иногда в горняцких поселках, где люди останавливаются, чтобы отдохнуть от езды или перекусить, к машине подходит человек и приветливо сообщает:
— Возьмите влево. Нам сообщили, что по шоссе справа разгуливают карабинеры.
Граница уже близка. Машина въезжает в главный город одной из провинций; последние формальности — и они окажутся по другую сторону границы. Посол оставляет машину на окраине, а сам идет в муниципалитет. В это время к машине направляется несколько ленивой походкой человек в светлом костюме, неожиданно распахивает дверцу и встречает насмешливый взгляд Неруды. В ту же секунду шофер, стоящий рядом, захлопывает дверцу и схватывает человека за плечо.
— Убери руку, — цедит тот сквозь зубы, — ты что, не узнал?
И показывает на жетон.
Потом агент тайной полиции бежит к ближнему телефону и набирает номер муниципалитета.
— В машине мексиканского посла — Пабло Неруда, — сообщает он. — Не вздумайте пропустить их на ту сторону… Распоряжение президента.
Послу любезно сообщают, что в настоящий момент его машину не могут пропустить через границу: дорога в горах разбита, там ведутся ремонтные работы. Надолго ли? Неизвестно.
Посол возвращается и предлагает перебраться через границу южнее или севернее. Неруда, улыбаясь, говорит:
— Мой дорогой друг, неужели вы не догадываетесь, что ремонтные работы идут уже полным ходом и южнее и севернее? Полицейским снимут головы, если они пропустят меня в вашей машине.
Посол внимательно всматривается в Неруду.
— Вы как будто бы обрадованы… Но чему? Тюремной камере, которая вас может ожидать в Сант-Яго?
Неруда продолжает улыбаться. Прикрыв глаза, он думает о своем народе, о своих друзьях, с которыми он будет вместе в эти тяжелые для Чили месяцы. И, может быть, о серебряных ночах Сант-Яго. Ему не нужно сейчас иных ночей, иного воздуха, чилийский воздух — самый благодатный для него и его поэзии.
— Я заберу вас к себе, — предлагает посол. — И вас и Делию. Гостей мексиканского посла вряд ли посмеют тронуть.
Известие о том, что Неруда принял гостеприимное предложение мексиканца, привело Гонсалеса в замешательство. В его планы совсем не входило осуществить свое грязное дело на глазах иностранцев.
Между тем о травле поэта с возмущением заговорили и в Сант-Яго, и в селитренной пустыне Атакаме, и в угольной зоне. В адрес правительства поступали письма от рабочих, ученых, служащих, домашних хозяек, от коммунистов, от людей, не состоящих ни в какой партии, и даже от представителей радикальной партии, к которой принадлежал и сам президент. И каждое письмо обязательно заканчивалось требованием: «Свободу — Неруде».
Эти слова были подхвачены во всем мире. Советские писатели заклеймили презрением палача и иуду Гонсалеса, замахнувшегося на лучшего поэта Латинской Америки. Передовые французские поэты посвятили стихи своему боевому другу, сражавшемуся в одних рядах с ними за мир на земле. В Европе и Америке раздались возмущенные голоса: поэта преследуют только за то, что он требует свободы для шахтера Лоты и патагонского пастуха!
Московские пионеры на своих сборах с волнением говорили:
— Свободу Назыму Хикмету! Свободу Пабло Неруде!
Несколько позднее в польском городе Вроцлаве собрались на конгресс в защиту культуры представители всех народов — они поставили свои имена под протестом против травли чилийского поэта.
Чилийские предатели поняли, что сделали промах. В своем усердии к американским хозяевам они перестарались.
Видела лицемерно заявил, что Неруде ничто не угрожает. Поэт может свободно ходить по чилийской земле или уехать куда ему угодно. Он, Видела, чист перед Нерудой, он ничего против него не замышляет. Зачем Неруде было переселяться в дом мексиканского посла, когда у него есть свой собственный дом, где его никто не тронет?
О том, что с его ведома дом поэта несколько раз пытались поджечь, Гонсалес умолчал.
И о том, что он отдал тайный приказ усилить слежку за Нерудой, он тоже не сказал и боялся, что узнают о полицейских, посланных на все пограничные пункты с фотографиями Неруды и приказом «не пропускать».
Неруда, узнав о заявлении президента, сказал мексиканскому послу:
— Итак, дорогой друг, простимся: сегодня я уезжаю в Аргентину. Президент подтвердил мое право на выезд.
Посол усмехнулся:
— Вы понимаете так же хорошо, как и я, что вас никуда не выпустят.
— Да. Я это понимаю, — сказал поэт. — Но это должны понять и увидеть те простые люди моей страны, которые еще сохранили хоть искорку веры в нынешнего президента.
Члены Центрального Комитета партии обдумывали решение Неруды.
— Его остановят, — говорили одни.
— Его могут задержать, — говорили другие.
Неожиданно Рикардо, всегда такой осторожный и предусмотрительный, принял сторону Неруды.
— Остановят? — переспросил он и сейчас же решительно заявил: — Да, остановят. Нам это и нужно. Так будет еще раз разоблачено двуличие Гонсалеса Виделы. Задержат? Это у них не выйдет. Мы пошлем с Нерудой наших товарищей. Кроме того, мы пригласим в эту поездку журналистов — наших и иностранцев. А арестовать такого человека, как Пабло Неруда, на глазах у представителей печати, да еще зная, что рядом с ним стоят самые отважные и решительные люди Чили, — на это не решится президент.
В Центральном Комитете решение Неруды было одобрено. Поэт готовился к выезду. Предусмотрительные друзья укрыли Делию в другом доме.
— Ты едешь на мою родину, Пабло, — смеясь, говорила Делия. — Не забудь привезти оттуда букет полевых цветов.
Она была родом из Аргентины.
— Цветы будут, в крайнем случае пограничные, — ответил Пабло.
Он и не предполагал, что случай поможет ему выполнить просьбу Делии.
У подъезда его ждали друзья и приглашенные журналисты. Они сели в машины. Мимо проносились «королевские» пальмы с их гордыми кронами, маленькие, отгороженные друг от друга деревцами или виноградными лозами крестьянские посевы. С гор летел свистящий ветер.
У подножья гор путешественники пересели на лошадей, которые их здесь ожидали. Навстречу по большим круглым камням бежали шумные струи воды, которые ниже, в долине, соединялись в реку. Горы поднимались вверх террасами. Казалось, кто-то высек в этих древних каменных громадах ступени. Шум воды, грохот падавших камней, увлекаемых потоками, ржанье лошадей, возгласы погонщиков сливались воедино.
У пограничного пункта спутников остановили чилийские карабинеры. Их начальник, вглядевшись пристально в приезжих, остановил свой взгляд на смуглом спокойном лице поэта и отдал ему салют.
— Сожалею, сеньор Неруда, — сказал он, — но вам придется вернуться обратно.
— Ремонт дороги? — с усмешкой спросил поэт, жестом руки показывая журналистам на карабинеров. — Беспокоитесь за нашу безопасность?
Начальник был в затруднении. Приказ, врученный ему два дня назад, составлен в туманных выражениях: не препятствовать открыто, но и не пропускать! Начальник был простой человек, он всех этих хитростей не понимал.
— Мое дело повиноваться начальству, сеньор Неруда! — упрямо повторил он.
— А что же вам приказало начальство?
Журналисты вынули блокноты. Карабинер вдруг понял, что проговорился, и резко сказал:
— Я не обязан отвечать на ваши вопросы, сеньор. Говорят, вы человек опасный.
— Может быть, и опасный, — очень мягко сказал Неруда. — Но я опасный для тех, кто торгует своей родиной. Только для них. Подумайте об этом на досуге, сержант.
В это время к ним подошел офицер аргентинской пограничной стражи и, обращаясь к поэту, проговорил:
— Сеньор Неруда, мне не нужно вашего паспорта. Я знаю вас в лицо. И я пропустил бы вас без всякой визы. Но вон за тем домиком стоят агенты американской федеральной разведки. Они присланы, чтобы помешать мне это сделать.
— И это солдат? — вдруг пробурчал чилийский стражник.
— Я солдат, — резко ответил аргентинец. — А рабом быть не желаю. Дед мой был раб, и отец бежал с табачных плантаций. На мою семью хватит ошейников. Одним словом… я хочу, чтобы этот сеньор свободно разгуливал по свету.
Аргентинец отколол от пояса букетик полевых цветов и положил их в руку Неруде.
— Возьмите, — сказал он. — Пусть в ваших стихах будут цветы аргентинской пампы.
Неруда и его спутники молча повернули обратно.
Протягивая Делии цветы, Неруда грустно пошутил:
— Цветы выросли в Аргентине. Им легче было перейти границу, чем мне.
Партия позаботилась, чтобы чилийцы узнали о происшествии на границе. На другой день об этом говорил весь Сант-Яго. Мальчишки распевали песенку о том, как Уолл-стрит преподнес в дар Гонсалесу лживый язык.
Пойманный с поличным, Гонсалес Видела вызвал к себе министра внутренних дел Ольгера:
— Если этого человека, — сказал он, — нельзя заставить замолчать, пусть говорит в тюрьме. Ордер я подпишу лично.
Но президент запоздал. Пабло Неруды уже не было в доме мексиканского посла. Его не было и в своем собственном доме. Его не было ни в одном из тех домов, куда врывалась полиция. Напрасно по всему Сант-Яго и окрестностям были расставлены патрули с приказом задерживать каждого человека, хотя бы издали напоминающего Неруду. Напрасно была усилена пограничная стража.
Неруды нигде не было. Партия надежно укрыла своего поэта.
Десятки друзей поэта были задержаны. Всех их спрашивали одно и то же:
— Назовите место, где в последний раз вы виделись с Нерудой.
И, словно сговорившись, они отвечали:
— Авенида Патрисио Линча.
А поэт Хувенсио Валье со смехом добавил:
— Но тогда я видел там и сеньора президента. Возможно, у него более точные сведения. Помнится, до выборов он называл себя близким другом поэта.
Полиция объявила награду за малейшие сведения о местожительстве поэта.
И вот однажды в полицию явился старик — разносчик почты.
— Я знаю, где находится Пабло Неруда.
Старика обступили полицейские и потащили его в кабинет начальника.
— Где Неруда?
— Он — в Венесуэле.
И старичок показал венесуэльскую газету, в которой была напечатана новая поэма Пабло Неруды — «Хроника. 1948 год».
Старика вытолкали из полиции. А он лукаво посмеивался:
— Как же, дотянутся они до Неруды!
Говорили, что в этот день растянутая улыбка сошла с лица Гонсалеса Виделы. Но через несколько дней среди чилийских властей опять переполох: новая поэма Неруды напечатана и в столице Аргентины. Значит, ему всё же удалось перебраться через границу и сейчас, переезжая из страны в страну, он рассказывает обо всем, что твориться в Чили?..
Но пока агенты североамериканской разведки искали Неруду по другую сторону Анд, на просторах южноамериканского материка, он, как ни в чем не бывало, продолжал жить в столице Чили Сант-Яго. Он никуда не выезжал. Просто он применил маленькую военную хитрость.
Свою новую поэму Неруда написал в первом же доме, где укрыла его партия после возвращения с аргентино-чилийской границы. В этом доме жили простые люди. Они знали лишь простую грубую пищу. Но они с удовольствием поделились ею с поэтом и освободили стул и стол, чтобы он мог работать. Они ходили в носках, чтобы не шуметь, когда он писал. А когда он окончил поэму и перепечатал в пяти экземплярах, они отнесли ее на почту и отправили в столицы пяти государств Южной Америки.
Так поэту удалось пустить своих врагов по ложному следу.
Поэт называл 1948 год — годом карабинов. Грабители народных богатств, поджигатели новой мировой войны заливают землю кровью простых людей.
В южные моря прибывает мистер Трумэн. Он собирается омыть кровавые пальцы в воде голубых морей. Только что он предал смерти двести юношей — греков.
Теперь Трумэн хочет, чтобы на этих берегах говорили лишь на его языке.
Обрати свои взоры к чилийской земле. Глубоко под землей лежит город Лота. Человек выбивает киркой черный уголь из мрачного пласта.
«Я бродил по дорогам и городам Я по свету немало бродил, Но нигде я такой нищеты не видал, Не видал я страданий таких».И поэт рассказывал о трагедии шахтеров Лоты. Сотни шахтеров идут на каторгу Патагонии, в антарктический холод, в пустыни Писагуа. Тиран Чили растоптал их надежды.
Поэт спросил себя:
«Что сделал ты? Пришли твои слова На помощь брату в темной глубине? Разрушил ты губительный обман? И словом пламенным сумел ли защитить Ты свой народ?»Так он спросил себя и ответил: он рассказал народам Америки правду, и тогда сбежались предатели-министры, сбежалась вся стая полицейских псов, чтобы очернить имя поэта. Они закрыли ему выход у Кордильер, чтобы правда не перешла границу. Но не хочет умирать слово поэта, и его сердце свободно, чтобы обвинять.
Он знает: его народ победит, все свободолюбивые народы победят. Уж близится победа.
«Придет тот миг! К нему моя любовь. Нет знамени другого у меня!»В конце поэмы было указано, что она писалась «где-то в Америке». Так Неруда еще раз заставил своих преследователей в поисках автора поэмы метаться по всему американскому континенту.
Но поэма писалась совсем не «где-то»: не вдали от чилийцев, не в чужой стороне. Она писалась в гуще чилийского народа, в самом сердце Чили, в простом, ничем не замечательном доме, в простой рабочей семье.
Сергей Воскресенский Полярное лето
Записки полярника
Рис. Н. Кустова
1. ДОРОГИЕ ГОСТИ
Самолет проходил над островом, закрытым широким ледниковым щитом. Зимними метелями снег на леднике был собран в гребни, — заструги.
Была ночь. Солнце стояло на севере, невысоко над горизонтом. Вершины застругов освещались косыми лучами, а во впадинах между гребнями лежали голубые тени.
Там, где ледник широкими языками спускался к морю, его бороздили трещины, вытянувшиеся вдоль краев языка, по течению. Лед, снег, черные скалы.
Самолет снизился. Теперь пилот мог рассмотреть на берегу пролива сложенные в кучу ящики и бочку, стоявшую поодаль. От ящиков через пролив тянулись, как показалось пилоту, следы саней.
Штурман не спускал глаз с приборов, радист ловил позывные, посылаемые с маленького островка, к которому они держали курс.
Нет, следы, пересекавшие пролив, были оставлены не санями, а тяжелыми гусеницами вездехода.
Пилот повел самолет прямо над ними.
Следы вездехода пересекли второй остров — он был гораздо меньших размеров — и протянулись двумя ровными нитями через другой пролив. У противоположного берега следы обрывались. Здесь же, покосившись набок, стоял и вездеход. Далее в глубь маленького островка тянулись неровные цепочки человеческих следов.
Летчики понимающе переглянулись. То, что они видели, было красноречиво без слов.
Внизу мелькнула крыша дома, черная на южном скате и еще белая от снега на другой стороне. Сразу же за ней проплыли радиомачты, потом баня и, наконец, флажки посадочной площадки.
Самолет сделал над зимовкой круг и пошел на посадку.
По ровному снежному полю, огражденному флажками, носилась небольшая собака с гладкой светлой шерстью. Все ее движения выражали радость и нетерпение.
— Смотрите, — крикнул бортмеханик, — Бельчик! Запомнил нас!
Тяжелая двухмоторная машина пронеслась над посадочной площадкой. Затрепетали красные флажки. Заколебался и пополз в сторону косой дым костра. Попятились назад люди, вышедшие встречать самолет. А широкие лыжи самолета уже коснулись уплотненного ветрами снега. Машина заскользила, вздымая вихри тончайшей пыли.
Бельчика запорошило снегом. Но он без страха подбежал к самолету и приветственным лаем встретил бортмеханика, первым соскочившего на снег. Высокий и сильный человек внимательно вгляделся в наши лица, крепко пожал протянутые руки, потом достал из кармана кусок ветчины и протянул собаке.
— Память-то какая! — восхитился бортмеханик. Он поставил легкий наклонный трап, и на снег спустились еще четыре человека.
Летчики вынесли с собою пачки газет и журналов, письма и целый ящик лимонов.
Мы провели дорогих гостей в дом. В большой комнате, которая называлась у нас кают-компанией, стояли два длинных стола, застланных яркой клеенкой. Один стол пустовал, а на другом высились блюда с пышным белым хлебом, ярко начищенные чайники, сахар и масло, и чайным сервиз, который обычно появлялся только по праздникам.
Когда все расселись, командир машины, невысокий и плотный человек в форменном кителе, посмотрел на пустующий стол.
— Уже работают? — спросил он, кивнув в сторону стола.
— Да, две наши партии уже полмесяца как выехали на работу на дальние острова. На зимовке осталось только девять человек. Пятеро из них составляли мою партию, а остальные являлись обслуживающим персоналом зимовки: повар, радист и кладовщик. Теперь к ним присоединялся и водитель вездехода, потерпевшего аварию.
Рядом со мною сидела Анна Сергеевна — мой постоянный спутник и жена. Напротив устроился Ушаков, молодой помор из-под Архангельска, — рабочий нашей партии. Остальные расселись между летчиками, наполняли чаем их чашки, пододвигали то варенье, то масло.
— Что у вас, рассказывайте! — попросил командир машины, принимаясь за чай.
Я стал рассказывать. Нам оставалось исследовать два острова. Один из них отделял от зимовки пролив шириной около тридцати километров. За ровной гладью заснеженного пролива виднелись плоские берега этого острова, тоже покрытого выпуклым щитом ледника.
Дальше, за пределами видимости, располагался еще один остров, он был гораздо больших размеров. От нашей зимовки до крайнего северного мыса дальнего острова было около двухсот пятидесяти километров.
Прежде чем приступить к исследованиям, мы должны были завезти на острова продуктовые базы. Каждая база состояла из двух или трех ящиков, куда были уложены всевозможные продукты: сахар и масло, крупа и сушеные овощи, консервы и соль, сгущенное молоко и сухари. В маленьких металлических бочках или бидонах около каждой базы мы оставляли керосин.
Продуктовые базы обычно складывались на приметных и видных издалека местах. Чтобы они были еще заметнее, из широких плит известняка или песчаника поверх ящиков мы воздвигали надстройку. Поэтому наши базы издалека напоминали гурии — опознавательные знаки из камней, обычно выставляемые на пустынных берегах.
На сильной машине — вездеходе — он мог одинаково продвигаться по снегу, глинистой тундре и по каменистым россыпям, мы развезли базы по ближнему острову, достигли его северного берега, пересекли еще один пролив и вступили на большой остров. Здесь на крутом склоне глубокой промоины вездеход потерпел аварию. Нечего было и думать продвигаться дальше. Мы оставили на берегу груз и очень медленно, с частыми остановками, необходимыми для того, чтобы заставить работать пострадавшую машину, добрались до берега своего зимовочного островка. Здесь вездеход встал окончательно. Повреждения были настолько серьезными, что не в наших силах было их устранить.
Оставалась последняя надежда на собак. Вокруг зимовки бродило около десятка взрослых собак, но таких, от которых отказались другие партии, уже выехавшие на работу в тундру: или очень старые и больные, или очень молодые, еще не приученные к работе.
У дальнего конца стола сидел Крутов, пожилой человек с красноватым от ветра лицом, с которого не сходило выражение озабоченности. Но у этого человека были на редкость добрые голубые глаза.
Крутов работал в экспедиции второй год. Он умел плотничать, ремонтировал обувь, был хорошим охотником на морского зверя и знал обращение с собаками.
Он долго прислушивался к нашему разговору с летчиками, потом твердо и убежденно заявил:
— Упряжку я всё-таки соберу!
2. СОБАКИ
Крутов привел в порядок старенькую расшатавшуюся нарту, разыскал упряжь, а потом одну за другой стал подбирать собак.
Первым на его зов пришел Серый — старый вожак, приземистый, с широкой грудью и большой головой. У него были умные, чуть усталые глаза. Левое ухо стояло, а правое висело, — было прокушено в одной из драк.
Повинуясь многолетней привычке, он подошел к нарте и сел. Крутов надел на него упряжь и крикнул Найду.
Небольшая черная собака, легко перепрыгивая через высокие заструги, подбежала к Крутову.
— Лапки поправились? — спросил Крутов.
Собака повела своими маленькими стоячими ушками, у которых только самые кончики слегка свисали.
Он внимательно осмотрел ее лапы, потому что знал, — от Найды отказались из-за хромоты.
— Поправились лапки! Умница! Будешь бегать рядом с Серым.
Потом прибежал Бельчик, совсем еще молодой пес, ходивший в упряжке только один год. Его короткая шерсть имела цвет сухого речного песка. Прозвище осталось за ним со щенячьего возраста, когда он действительно был белым. Бельчика оставили из-за его шерсти, — она не защищала собаку от холодов, особенно в дальних поездках. Когда приходилось ночевать под открытым небом, собака сильно мерзла.
Глаза у Бельчика были светлокарие, зоркие и беспокойные. Он примчался с громким лаем. Этот лай был требовательным и настойчивым, призывающим. Бельчик призывал других собак к нарте.
— Организатор! — улыбнулся каюр и ласково погладил уши собаки. — Полай еще, а то Сокол и Нордик не слыхали.
Бельчик тявкнул еще раз, остановился позади Найды и дал надеть на себя упряжь.
— Тузя, Тузя! — закричал Крутов. — Тузя, сюда!
Игривой, легкой побежкой приблизилась к каюру крупная лайка. Темнобурая шерсть собаки была густа, как у медведя. На широкой спине ее лежал загнутый кольцом пышный хвост.
Собака бросилась каюру на грудь так стремительно, что едва не сбила его с ног.
Эту лайку Крутов привез с собой с дальних промыслов, часто ходил с ней на охоту и очень любил ее за веселый нрав. На Тузю никто не посягал, и собака оставалась всегда вместе со своим хозяином.
— Сокол! — позвал Крутов черную собаку, которая дремала у входа в дом. — Соколушка, поди сюда; наверно, устал лежать-то!
Сокол закрыл глаза, притворился спящим.
— Сокол! — громче крикнул Крутов. — Ко мне!
Собака недовольно пошевелилась, вздохнула, но продолжала лежать.
— Сокол! — в третий раз, уже грозно позвал каюр, взял с нарты бич и показал его собаке.
Сокол встрепенулся, встал, сделал несколько шагов и опять лег.
Крутов молча погрозил бичом.
Тогда собака, повизгивая и скуля, поползла к нарте. Она ползла по снегу, точно у нее отнялись ноги, ползла и скулила. Так она подползла к нарте, медленно поднялась, покосилась на бич и понурила голову.
— Придется поработать, Сокол, — сказал Крутов, — положение у нас очень тяжелое. Надо помочь людям, — они тебя кормят. Ишь ты, какой жирный! Тяжело будет бегать. — Каюр запряг собаку.
— А где твой братец? — спросил он Сокола. — Ну, конечно, на своем посту против кухонного окна. Ожидает, когда повар выбросит косточку. Нордик, ко мне!
Черная собака, очень похожая на Сокола, — ее отличали только несколько белых пятен на груди и лапах, — услышав окрик, быстро скрылась за домом.
Каюр бросился за Нордиком, но собака удрала на морской берег и спряталась среди торосов. Долго за нею гонялся Ушаков, пытался соблазнить куском хлеба, но Нордик был хитер.
Теперь в упряжке насчитывалось пять собак, но для длительных поездок с тяжело нагруженной нартой этого недостаточно. Надо восемь, а то и десять.
Крутов задумался. Можно было бы взять Розу, но она кормила целый выводок щенят. Старый Букет был таким дряхлым, что только спал.
— Ли́са возьмем, — посоветовал Ушаков и побежал за собакой в котух — низенький теплый сарай, где зимовали наши собаки.
Лис — небольшая, но сильная собака рыжеватой масти, с широкой грудью и выразительными глазами. Висячие и широкие уши делали ее голову совсем круглой.
Во время дальней зимней поездки собака сильно поморозила лапы. До сих пор на подушечках не зажили ранки. Правда, лапы уже не кровоточили, на ранках успели нарасти корочки, но собака еще ходила так осторожно, точно училась ходить.
— Хочешь в поход, Лис? — спросил Крутов.
Собака ласково потерлась о его колени.
— Лапы забинтуем, — посоветовал Ушаков, — сошьем чулки и будем надевать до тех пор, пока ранки не закроются совсем.
— Дело, — согласился Крутов, — попробуем.
В пару Ли́су каюр подобрал собаку, которую все звали Старухой. Она попала в экспедицию, очевидно, случайно, — никто не знал ее настоящего имени. По всем признакам, ей было очень много лет. В экспедиции ее любили за кроткий нрав и честную — из последних сил — работу.
— Нам на рысях ездить не придется, — сказал Крутов, — упряжка подбирается спокойная, — значит, и Старуха не отстанет от других. — Повозившись около нарты, Ушаков снова отправился на ловлю Нордика. Через несколько минут он передал в руки каюра упирающуюся собаку.
— Лень всё еще держится, — с укоризной заговорил каюр. — Ладно, постараюсь и тебя приучить к трудовой жизни. Будешь ходить в одной паре с Соколом, в самой последней паре, чтобы вас можно было бичом достать! — Крутов показал Нордику бич.
Каюр заставил собак подняться, еще раз осмотрел упряжь. Впереди к нарте прикреплен семиметровый потяг — толстый сыромятный ремень из шкуры моржа. От потяга попарно идут лямки упряжи, которая охватывала шею и грудь каждой собаки.
Крутов сел на нарту. Бельчик оглянулся на него и залаял. Сокол переступил с ноги на ногу, зевнул. Нордик покосился на бич. Серый насторожился, налег грудью на лямку. Подтянулась и Найда.
— Пошел, Серый! — скомандовал Крутов. — Пошли, ребятки!
Скрипнули полозья. Нарта развернулась и заскользила по снегу.
— Поть! — крикнул каюр. Серый повернул налево, объезжая угол дома.
— Та! — еще раз крикнул Крутов, и упряжка вслед за передовым повернула направо.
Вожак хорошо помнил слова команды и быстро выполнял приказы каюра.
Крутов направил собак вдоль островка, прикрикнул, и нарта понеслась с такой скоростью, что за ней трудно было бы угнаться даже хорошему лыжнику.
Вскоре к дому, около которого мы стояли и разговаривали с летчиком, лихо подкатила упряжка. Разгоряченные собаки легли. Жирный Сокол стал хватать снег.
— Пойдет, — коротко, но убедительно сказал Крутов.
— А что собаки будут есть? — спросил Гришин.
— Будем охотиться. А на первое время возьмем небольшой запас мяса и рыбной муки.
— До северной оконечности дальнего острова двести пятьдесят километров, — напомнил нам штурман. — Сколько времени вы протащитесь туда на упряжке?
— Много, — отвечал Крутов. — Самое малое — неделю, а то и все десять дней.
Летчики переглянулись.
— А если мы подбросим вас? — спросил командир машины.
— Вы поможете сохранить нам десять дней для работы на острове.
— Готовьтесь!
Всё приготовлено, но вылет пришлось отложить из-за погоды. Низкая облачность закрыла горизонт, посыпала снежная крупа, видимость сократилась до двух-трех километров. Теперь у нас появилось время, чтобы еще раз прочитать письма, просмотреть газеты и журналы.
Ушаков и Крутов продолжали укреплять нарту, чинили упряжь. Гришин сидел над маленькой — в одном легком чемодане — рацией, проверял ее работу, тренировался в работе ключом. В тесной комнатке радиста вертелся щенок. Буяну недавно исполнилось четыре месяца. Щенок долгое время болел, — очевидно, простудился, но Гришин, любивший собак, вылечил его витамином «В». Этот способ лечения радист открыл сам и очень гордился славой щенячьего доктора. Буян привязался к Гришину и не отходил от него ни на шаг.
Крутов запряг собак и вместе с Ушаковым прокатился по острову, испытывая одометр. Велосипедное колесо, выглядевшее на снегу очень странно и неуместно, катилось за нартой. С каждым оборотом колеса щелкал счетчик. Всё новые, всё увеличивающиеся цифры выползали в окошечке счетчика и показывали расстояние, пройденное нартой.
После испытания Крутов отсоединил одометр от нарты, чтобы не поломать его во время погрузки в самолет. Велосипедное колесо и вилку он положил на пустую металлическую бочку, стоявшую на краю посадочной площадки, и заботливо прикрыл куском парусины.
— Вот, теперь всё в порядке, — облегченно заявил он. — Теперь мне требуется тетрадь и карандаш. Хочу записывать.
Я дал каюру толстую записную книжку в полотняном переплете и карандаш.
3. В ВОЗДУХЕ
Поздним вечером следующего дня — мы уже собирались ложиться спать — подул легкий северный ветерок и разогнал мглу.
— Вылетаем, — сказал командир машины.
Началась погрузка. Я отошел с командиром машины в сторону. На снегу разостлали карту.
Я просил летчика сделать две посадки. Первую — на южном берегу большого острова, около продуктовой базы, которую мы завезли вездеходом. Здесь высаживается маленький отряд Анны Сергеевны. Потом я показал летчику на узкий, глубоко вдающийся в сушу залив на северном побережье. Там должен был остаться я с каюром и упряжкой собак. От места высадки, работая, пойдем к южному берегу, где соединимся с отрядом Анны Сергеевны.
Командир машины отметил на карте места посадок и обещал приземлиться с возможной точностью.
Крутов подтянул к самолету нарту.
Собаки, следившие за действиями людей, заволновались. У Найды поднялись кончики ушей. Бельчик залаял. Серый недоуменно затоптался на месте.
Мы долго провозились с нартой, — она была длинная и с трудом проходила в узкую дверцу.
— Поторапливайтесь, товарищи. — Штурман показал на небо.
Ненадолго выглянувшее солнце снова заволокло кисеей низких облаков. Мелкие редкие снежинки стали лениво падать на землю.
Крутов схватил Серого за шерсть на спине и загривке и подбросил его вверх. Я на лету поймал передовика и опустил его на пол. Серый вразвалку, не волнуясь и не торопясь, прошелся по скользкому гофрированному днищу фюзеляжа и спокойно улегся у нарты.
Одну за другой Крутов подавал мне собак. Последним он просунул в дверцу Бельчика. Собака уже находилась внутри самолета, но не переставала лаять. Бельчик волновался.
В этот момент мы заметили щенка. Несмотря на гул моторов и вихри снежной пыли, гонимой винтами, он делал отчаянные попытки, чтобы заскочить в проем высокой дверцы самолета.
— Выбежал ведь. Был закрыт… — заволновался Гришин. — Буян, Буянушка, через три месяца встре…
В просвете еще не закрытой двери мы увидали бортмеханика. Он что-то прокричал нам, но мы не расслышали. Тогда бортмеханик быстро наклонился, схватил Буяна и осторожно бросил его в самолет.
Щенок прижался к ногам Гришина и замер. Радист встал на колени и громадными меховыми рукавицами закрыл своего любимца.
Бортмеханик вошел последним, втянул за собою трап и плотно задраил дверь. Мы перешли в носовую часть самолета и устроились на ящиках, мешках и санях.
Машина сдвинулась с места и, мягко подрагивая, побежала по снегу.
Мы заметили, что находимся в воздухе, только тогда, когда внизу мелькнули четыре маленьких фигурки провожающих и крыши нашей зимовки.
Самолет взял курс на север.
Собаки присмирели. Все как одна, они тесно прижались к холодному полу. Бельчик засунул голову под нарту и не шевелился. Буян лежал на коленях у Гришина и дрожал.
Самолет шел над проливом. Участки ровного заснеженного льда прерывались вытянутыми полосами торосов. Ребра вздыбленных льдин слабо мерцали то голубоватым, то зеленым холодным светом.
«Как же мы будем пересекать этот пролив по окончании работ?» — невольно подумал каждый из нас.
Проглянуло солнце, и в глазах зарябило от резких теней, отбрасываемых хаотическим нагромождением льдов. Вскоре внизу показались очертания острова, как шапкой покрытого куполом ледника.
Мы прошли над темным скалистым мысом, потом тень самолета скользнула по льду заливчика, за ним снова началась тундра.
Летчик посадил машину на лед в сотне метров от базы.
…Здесь оставались Анна Сергеевна с Ушаковым и Гришиным. У ног радиста крутился и радостно скулил маленький Буян.
Выгрузили палатку и спальные мешки, рацию, легкие сани и три пары лыж. Отряд оставался без транспорта, и до моего возвращения с северного побережья люди должны были надеяться только на свои ноги.
Быстро и сдержанно попрощались.
— Через месяц, не позже, ожидаем вас здесь, — кричали нам вслед и махали флажками, которые были припасены для гуриев, чтобы сделать их более приметными.
Самолет снова взмыл в воздух и круто повернул направо, на север. В иллюминаторы по левому борту были видны нескончаемые просторы скованного льдами моря, а в правые — волнистая поверхность ледникового щита…
…Крутов сидел на нарте и о чем-то сосредоточенно думал. Он поднял голову, осмотрел ребристый пол, на котором было свалено наше имущество, видимо, чего-то не нашел и с беспокойством посмотрел на меня.
— Петрович, — сказал он мне на ухо, — а ведь мы самое главное забыли…
Мне стало не по себе.
— Что?
— Одометр! — прошептал каюр в самое ухо.
У меня отлегло от сердца. Я с трудом удержал улыбку, не хотел обижать Крутова. Тетрадь, в которую он уже занес несколько отсчетов, хранилась у него за пазухой, под меховой рубашкой. Чистые страницы ждали точных цифр. Какой же он путешественник, если к концу работ не сможет сказать, сколько сотен километров пробежали его собаки!
— Ничего, Матвеевич, — успокоил я его, — расстояние будем определять по времени.
— Только и остается, — грустно согласился Крутов.
Он первым выскочил из самолета. Одну за другой я подавал ему собак, каюр принимал их и опускал на снег. Прямо на лед мы выгрузили всё свое имущество и распрощались с летчиками.
Самолет скоро скрылся за грядой холмов, а мы всё стояли и, уже не видя его, вслушивались в затихающий шум моторов.
4. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Мы должны были изучить геологическое строение островов; исследование глубинной части северного острова, покрытой ледниковым щитом, также входило в нашу задачу. Никто еще не проникал в глубь островов, поэтому каждый шаг сулил много непредвиденного. Конечно, будет не легко.
Веселая возня собак вывела нас из задумчивости. Собаки прыгали вокруг ящиков и свертков, катались по снегу, отряхивались, бегали по гладкому снежному полю, радостно визжали, лаяли.
— Мы не одни, Петрович. — Крутов вздохнул и показал на собак. — С ними будет весело. С ними из любой беды выберемся!
На вытаявшем пятнышке галечника поставили маленькую палатку, пол застлали двумя листами фанеры, на фанеру бросили легкую оленью шкуру, а на нее — свои спальные мешки. Потом внесли в палатку ящик с посудой и расходными продуктами. Крутов дал собакам по куску мяса, а сам принялся разжигать примус. Я взял чайник и набил его снегом.
Через четверть часа мы уже пили чай. В палатке было так тепло, что мы сидели в одних свитерах.
Третий час ночи был на исходе. Собаки давно покончили с едой и укладывались спать. Короткошерстный Лис, а вместе с ним Старуха и Сокол улеглись на чуть теплый галечник. Нордик и Найда привалились к стенке палатки. Серый и Тузя растянулись прямо на снегу. Бельчик расположился на нарте.
Нам тоже надо было отдохнуть. Особенно устали глаза, — вокруг было слишком много света. Забрались в мешки, но уснуть не удавалось.
Я вылез из мешка, оделся, взял сумку, анероид-высотомер и бинокль и вышел из палатки. Крутова я попросил сложить из камней гурий.
В какую сторону направить первый маршрут?
У меня в руках была карта, на которую нанесена только береговая линия. Внутренние части острова представляли собою белое пятно. Даже заливчик, на который сел самолет, на карте показан не совсем верно.
Прежде всего надо было определить свое местонахождение.
Я встал на лыжи, вынул компас, взял направление на черное пятнышко, которое отчетливо виднелось на краю широкого ледникового щита, и пошел. Бельчик проводил меня коротким недоуменным лаем.
Я шел, изредка останавливался, отбивал молотком образцы от камней, торчавших из-под снега, записывал и снова шел.
Тундра была ровная, только редкие и широкие ложбины тянулись от края ледника к морскому берегу. Скоро маленькая палатка скрылась из глаз. С каждым шагом я приближался к леднику.
Вот и его подножие. Подъем начался незаметно, — только ноги почувствовали, — идти стало труднее. Через несколько минут подниматься прямо было уже нельзя, — лыжи скользили вниз. Пришлось идти наискось. Было жарко. Я скинул куртку и устроил ее за спиной. Запотевали защитные очки, приходилось останавливаться и протирать их.
Чтобы не отклониться от взятого направления, мне пришлось идти зигзагами. Темное пятнышко, которое привлекло мое внимание, оказалось высоким конусом, сложенным щебнем с примесью галечника и песка. От него вверх по ледниковому склону тянулась глубокая, забитая снегом промоина. Повидимому, талые воды проникали глубоко вниз, достигали основания ледника, а потом, вырываясь на поверхность, выносили щебень и гальку с песком и нагромождали конус, высота которого была не меньше десятка метров. Я взглянул на анероид. Давление понизилось на 12 миллиметров, — значит, я поднялся на высоту около 120–130 метров.
Даже в бинокль я не сразу нашел палатку. Стояла она на темном пятне галечника, а таких пятен на тундре было уже много, и наше жилье было совсем незаметно.
У палатки возник гурий. Дальше смутно вырисовывался морской берег. Неподалеку от берега, отчетливые среди белых льдов, виднелись два маленьких островка.
Я развернул карту и сразу увидал, что эти островки нанесены. Гурий и островки находились на одной линии с ледниковым конусом, у которого я стоял. Теперь было уже не трудно нанести на карту и конус и гурий, — для этого требовалось только знать расстояние от палатки до моря. Я записал свои наблюдения, засек время и пошел обратно, досадуя на то, что определение пройденного расстояния, сделанное по времени, бывает неточным.
В палатке ждал вкусный обед. Мы пообедали, забрались в спальные мешки и уже через минуту спали.
Когда проснулись, солнце било в северо-западный угол палатки, — значит, был вечер.
Быстро напились чаю и стали укладываться.
Бельчик, услыхавший звяканье кастрюлек и ложек, залаял, призывая собак к нарте.
5. УПРЯЖКА БУДЕТ РАБОТАТЬ!
Мы взяли с собою палатку, спальные мешки, примуса и недельный запас керосина и продуктов, которых должно было хватить для поездок по самому дальнему участку острова.
Островки, которые я видел с края ледника, теперь были скрыты от меня полосой увалов. Но я уже знал азимут на них, — встал на лыжи и пошел вперед.
Идти было легко. Я то спускался в широкие, забитые снегом ложбины, то поднимался на плосковерхие увалы, покрытые пятнами вытаявшего галечника или россыпями угловатых обломков. Эти пятна приходилось обходить, — они мешали выдерживать направление.
По лыжному следу бежали собаки. На нарте был небольшой груз, полозья легко скользили по твердому снегу. Крутов сидел на спальных мешках, посвистывал. Ему даже не надо было подавать команду «поть» или «та», — передовой не отклонялся от лыжни ни на шаг.
Приходилось часто останавливаться. Мое внимание привлекала каждая каменистая россыпь, каждый валун.
На каждой новой остановке прежде всего надо было посмотреть на часы, чтобы определить, сколько времени я шел от предыдущей остановки. Значит, для этого я должен был двигаться очень равномерно, — и я знал по опыту, что иду со скоростью около шести километров в час. Записав время, я вытаскивал из-за пояса молоток, отбивал от камня образец и записывал свои наблюдения.
Там, где выступали плиты коренных пород, надо было горным компасом замерить, как они залегают. Отбитые образцы я опускал в занумерованный мешочек и прятал его в рюкзак.
Упряжка то и дело нагоняла меня и останавливалась. Собаки ложились на снег и отдыхали. Бельчик обычно оставался стоять. Он оборачивался в сторону Крутова, вопросительно смотрел на него и тявкал, точно спрашивал: почему остановились?
Кончив записи, я прятал в сумку книжку, засовывал за пояс молоток, брался за лыжные палки.
Крутов обычно выжидал, давал мне возможность уйти подальше вперед, потом трогал собак. С веселым лаем они бросались по следу, и через несколько минут упряжка снова догоняла меня.
Всё чаще и чаще с плоских увалов показывались знакомые два островка. Еще час пути, и мы вышли к берегу моря.
Остановились на ровной площадке морской террасы. Пока Крутов выпрягал собак, я присел на валун и принялся за подсчеты. Для этого пришлось сложить все те короткие отрезки, которые отделяли одну мою остановку от другой. Получалось двадцать два километра.
— Нет, Петрович, — не соглашался Крутов, — здесь добрые двадцать пять.
Я не стал спорить. Конечно, мои определения расстояния страдали большими погрешностями.
Поставили палатку. Пока Крутов готовил обед, я занимался образцами. К каждому надо было написать этикетку, обернуть его плотной бумагой, обвязать шпагатом.
Мы пообедали. Разгоряченные собаки успели остыть, можно было кормить и их. Крутов достал бумажный мешок с рыбной мукой, вспорол ножом и высыпал ее на снег длинной полосой, чтобы собаки не мешали друг другу. Собаки жадно стали хватать корм, но сразу же зачихали, закашляли, стали давиться. Мука забивала им ноздри и глотку. Собаки чихали, чистили носы о снег. Некоторые отходили в сторону. Серый, Бельчик и Тузя продолжали есть. Они выбирали лапки рачков, крупные косточки, плавники.
— Надо искать свежего мяса, — решил Крутов и, прежде чем ложиться спать, вычистил винтовку..
Во сне мне почудился шум самолета. Не успев по-настоящему проснуться, я так и решил, что это приснилось. Не знаю, сколько времени прошло, но я снова был разбужен тем же шумом. Теперь отчетливо было слышно, что неподалеку от палатки пролетал самолет.
В своем мешке пошевелился Крутов, — тоже услыхал самолет.
Вылезать из мешка не хотелось. Ночь была прохладная. За палаткой сухо шелестел снег, мела поземка.
Прислушиваясь к затихающему шуму, мы снова натянули на головы клапаны спальных мешков, собираясь спать. Но скоро опять стали вслушиваться, — даже сквозь клапан доносился гул моторов. Он всё усиливался.
Мы выскочили из мешков, сунули ноги в сапоги и вышли из палатки в тот момент, когда знакомый двухмоторный самолет, чуть накренившись на правое крыло, подлетал к нашей террасе.
Он летел низко, и мы хорошо видели, как открылась дверца и как чья-то рука выбросила темный предмет, который через три-четыре секунды мягко воткнулся в снежный надув на склоне террасы. Самолет развернулся, покачал крыльями и стал удаляться на юг.
Я побежал к снежному надуву, не переставая удивляться, что бы такое могли сбросить нам летчики. Не добежав сотни шагов, я увидал на снегу велосипедное колесо с вилкой, — наш одометр.
«Что могло остаться от хрупкого колеса, сброшенного с высоты, пусть даже, ста метров?» — думал я, подбегая. Но нет, колесный обод не пострадал, цела была и вилка. Я увидал привязанную к вилке банку, — в ней счетчик.
Крутов был в восторге. Несмотря на пронизывающий ветер и поземку, в одном белье, он приплясывал на морском берегу и нежно прижимал к груди одометр.
Сон прошел. Мы вернулись в палатку, согрели чай. Поземка стала утихать.
Собравшись, спустились на морской лед. Крутов останавливал собак ежеминутно, проверял счетчик.
— Работает! — восклицал он, — теперь живем!
Мы обследовали островки. Дальше надо было ехать вдоль берега. Теперь незачем было каждый раз засекать время. От островка взяли по компасу направление на ближайший мыс. Здесь я записал показания одометра, потом занялся наблюдениями.
От мыса к мысу бежали собаки по ровному заснеженному льду. Серый бежал вразвалку, потряхивая своей большой головой. Рядом с ним Найда казалась легкой и изящной. Тузя налег на лямку со всей силой. В то же время его побежка была легкой. Его хвост, свитый в тугое кольцо, лежал на спине роскошным украшением. Острый нос принюхивался к незнакомым запахам, которые приносил с моря ветерок. Собака скалила белые зубы, точно улыбалась.
Лис бежал осторожно. Бельчик с таким любопытством осматривался: по сторонам, что нередко спотыкался о заструги. Сокол и Нордик тянули умеренно. Их лямки иногда ослабевали и начинали провисать.
— Нордик! — кричал Крутов и стучал рукояткой бича по передку нарты. — Сокол, навались, не то угощу!
Старуха не отставала от других, ее лямка была всегда натянута.
Морской лед покрывал снег. Уплотненный метелями и морозом, он был таким твердым, что нарта почти не оставляла следа.
Собаки бежали легко, и за первый день мы прошли тридцать кило метров.
Я шел на лыжах и часто отставал от упряжки. На одной из остановок Крутов привязал к задку нарты веревку. Свободный конец он подал мне. Одну лыжную палку, которая становилась лишней, я положил на нарту. В левую руку взял конец веревки, а в правой оставил палку, чтобы можно было, когда это требовалось, подталкиваться.
К концу третьего дня пути мы свернули с морского берега и поехали через тундру, а еще через два дня, проделав полуторастакилометровый маршрут, остановились у подножия ледника.
Отдохнув, я оставил в палатке Крутова и собак, развалившихся на снегу, встал на лыжи и начал подъем на ледник.
Серый и Найда молча посмотрели мне вслед. Бельчик не удержался, выразил свое недоумение вопрощающим тявканьем.
6. НА ЛЕДНИКЕ
Шел десятый час вечера. Нижняя часть склона ледника была закрыта мощным слоем слежавшегося снега, и я вначале поднимался очень легко.
Было необыкновенно тихо. Вечернее солнце светило мне в спину, слегка пригревало. Впереди себя я видел длинную тень. Я всё время наступал на нее, а она бесшумно скользила вперед.
Скоро склон стал круче, а снеговой покров тонкий. Кое-где проступали голубоватые пятна глетчерного льда. Время от времени я останавливался, брал по анероиду отсчет, крутил в воздухе привязанный на шнурок пращ-термометр, — измерял температуру. Давление понижалось, становилось заметно холоднее. Иногда ложился на бок и с помощью клинометра — несложного приспособления в горном компасе — измерял угол склона. Он не превышал 30°.
Когда анероид показал, что я забрался на высоту в триста метров, солнце стояло уже на севере.
Склон ледника становился всё положе и положе. Некоторое время я еще видел, оборачиваясь, тундру, пятна вытаявших россыпей, ложбины, в которых лежали голубые тени.
Наконец выпуклая поверхность ледника закрыла всю — тундру и далекий морской берег. Во все стороны от меня расстилался ледниковый щит. Как толстый панцырь, он покрывал больше половины острова.
Ледниковый щит своей формой напоминал громадный круглый каравай и имел в поперечнике около восьмидесяти километров. Там, где к нему близко подходил морской берег, от ледника вытягивались языки. Медленно двигаясь, они сползали прямо в море. Окончание ледникового языка разбивалось трещинами, здесь рождались громадные ледяные горы — айсберги.
Ледник, на который я поднимался, являлся остатком — реликтом — древнего оледенения, во время которого льды закрывали все острова сплошным покровом.
В настоящее время ледники могут существовать только там, где осадки, выпадающие главным образом в виде снега, не успевают стаивать за лето. Так было и здесь. С августа и по июнь здесь выпадает снег. В прошлом году на леднике соседнего острова меня захватила пурга в июле. Внутренние части ледниковых щитов называют «областью питания». Здесь происходит превращение снега в фирн — зернистый уплотненный снег, который потом превращается в голубой глетчерный лед. Из внутренних частей льды медленно растекаются к окраинам.
Я продолжал подниматься. Начинали мерзнуть руки. Откуда-то со стороны подул ветерок — и снежная поверхность сразу же пришла в движение. Ветер перекатывал снежинки, и они, мелкие, искрящиеся на солнце, двигались широким, но тонким и просвечивающимся, как кисея, потоком.
Полное безмолвие, царившее на щите, сменилось нежным, чуть слышным шелестом.
А я поднимался и поднимался. Чем выше, тем положе становился склон ледника, а моя тень упорно смещалась вправо.
Солнце стояло на северо-востоке; было около трех часов ночи. По моим подсчетам, я уже удалился от палатки на двадцать пять километров.
Я прошел еще час. Анероид показывал 600 метров. Чтобы проверить себя, я продвинулся еще на километр, но стрелка анероида не стронулась с места. Значит, я достиг внутренней части ледникового щита; поверхность здесь была горизонтальной.
Ветер стих, поток снежинок остановился. Ни один звук не доносился сюда. Ничто не нарушало белого безмолвия безжизненной пустыни. Здесь не было даже скал, которые иногда выступают из-подо льда.
Я записал время и пошел назад.
Мне казалось, что весь обратный путь будет легким и приятным скольжением вниз по склону. Так оно и было, пока склон оставался пологим. Чем больше я приближался к краю ледника, тем круче становился спуск. Мне уже не надо было подталкиваться палками, — лыжи скользили сами и с каждой минутой это скольжение становилось быстрее и быстрее. Меня несло прямо вниз, а чтобы спуститься к палатке, надо было держаться наискось. Всё время я должен был управлять лыжами. От напряжения быстро устали ноги.
Начались участки голого льда. Легкая поземка успела прикрыть лед тончайшим слоем снежной пыли. Я упал один раз, потом второй. После третьего падения пришлось долго лежать и растирать ушибленное колено. Отдохнув, я опять встал на лыжи, присел верхом на палки, чтобы они служили, как тормоз, и заскользил.
Повидимому, я приближался к участку склона наибольшей крутизны, потому что лыжи понеслись неудержимо. В ушах свистело, лицо жег ветер, в глазах рябило от теней, лежавших в неровностях снега. Удерживаясь от падения, почти бессознательно я присел на лыжные палки тяжелее, и скорость сразу же уменьшилась. Металлические штыри на концах палок, когда я садился, бороздили снег и замедляли движение.
Окутанный вихрем снежной пыли, я приближался к краю ледника. Меня еще никто не мог видеть, но мой спуск сопровождался таким скрежетом палок, что не услыхать мое движение было нельзя.
Залаяли собаки. Первым заволновался Бельчик, а потом его волнение передалось остальным. Когда я увидел палатку, лаяли уже все собаки.
У палатки я взял последний отсчет по анероиду. Давление, по сравнению с самым первым отсчетом, перед подъемом, понизилось. Пращ-термометр показывал 4° тепла. Только теперь я обратил внимание на снег. Он стал мягким и голубым. На глазах оседал и насыщался водой.
7. ВЕСНА ИДЕТ
Были первые числа июня. Начиналась весна. На тундре появлялись всё новые и новые пятна щебнистой земли. Снег становился рыхлым. Он податливо оседал не только под ногами людей. В него врезались лыжи и полозья нарты, проваливались собаки.
Еще через два дня мы подъехали к заливчику, куда нас доставил самолет. Забрав весь груз, направились на юг. Еще два дня пришлось затратить для того, чтобы пройти сорок километров и подойти к берегу моря в том месте, где вплотную к нему подступал край ледникового щита. Здесь мы разбили палатку на мелком и уже сухом песке, под защитой массивной скалы песчаника. Неподалеку от палатки уже пробился первый ручеек.
С новой стоянки я еще раз поднялся на ледник и прошел по нему около двадцати километров, чтобы убедиться, что там нет «нунатаков», — окал. Опять передо мною лежала ровная, заснеженная поверхность мощного ледяного панцыря. Ни одного камня, ни выступа скалы не было видно вокруг. Снова, как и несколько дней назад, я очутился в ином мире. Здесь всё еще была зима, — морозец пощипывал уши, — и я невольно подумал, что нам, спасаясь от стремительного натиска весны, возможно, придется подняться на ледник.
На берегу, в нескольких шагах от нашей палатки начинались скалы. Толстые плиты песчаника были обточены ветрами и имели самую причудливую форму. Многие скалы походили на людей или диковинных животных, на поверхности некоторых плит имелись углубления, похожие на маленькие пещеры. Я видел громадный качающийся камень. Он начал сползать, но задержался на выступе своего основания так, что центр тяжести пришелся прямо над точкой опоры. Эту плиту, весом не менее тонны, можно было качнуть одной рукой. Отпущенная, она принимала первоначальное положение. Гигантские столбы песчаника высотою с двух- и трехэтажные здания, обточенные ветром, стояли на берегу моря, как колонны какого-то древнего храма.
За скалами шумела река, хотя воды еще было так мало, что я легко ее перешел. По пути к морскому берегу, а потом и при движении вдоль берега я встретил еще несколько ручьев. Почти все они текли в снежных руслах. Течение было медленным, русла нередко перегораживались снежными перемычками — забоями; в таких местах вода скапливалась и образовывала маленькие озерца.
Над морским берегом летали птицы: белогрудые кайры, серые с ярко-красными лапками чистики, белоснежные чайки. Наступала пора гнездованья, птицы торопились подготовиться к кладке яиц. Пуночки, маленькие и очень похожие на воробьев, порхали над вытаявшей тундрой, стучали клювиками в сухие головки прошлогодних маков. Оживились лемминги — маленькие серые грызуны.
Небо было безоблачным, светило солнце, было тепло. Ветерок, который в начале пути был мне попутным, теперь усилился и дул в лицо.
Уже недалеко от палатки берег опять круто повернул, образуя залив. Поверх льда в заливе стояла вода. Мелкие волны, ударяясь о торосы, шумели. Идти по глубокому снегу против ветра было тяжело, и я свернул на лед. Вода вначале была до щиколоток, но глубина медленно возрастала, и скоро я вынужден был поднять голенища сапог, а через четверть часа снова выбрался на берег.
Ветер стал яростнее. Он поднимал с вытаявших участков морской террасы сухой песок и больно сек лицо и руки. Морские раковины с шелестом передвигались по галечнику и нередко взлетали в воздух.
С трудом я подошел к палатке. Заботливый Крутов завалил ее полы камнями. Собаки лежали, сгрудившись в кучу и повернувшись к ветру спинами. Их носы, глаза, уши были забиты песком. Ветер раздувал шерсть и забрасывал их песком. Песок был даже в палатке. Он проник в кастрюлю с супом, в чай, песком были посыпаны сухари и сахар.
— Нет, — сказал Крутов, — пурга лучше.
8. ПО МОРСКОМУ ЛЬДУ
К утру ветер стих. Собаки долго отряхивались от песка. Мы перетащили нарту на полосу снега, тянувшуюся вдоль подножия ледника, погрузились и поехали. Вода в заливе не убыла, — нечего было и думать пересекать залив на собаках. Оставался путь по леднику.
Край ледникового щита, там, где он соприкасался со льдом залива, был загроможден моренами. Неправильной формы холмы и гряды тянулись на несколько километров.
Мы могли двигаться только выше морен. Выискивая путь, я на лыжах пошел вверх по склону. Крутов осторожно направил вслед за мной собак. На нарте было не меньше трехсот килограммов груза. Для восьми собак это было многовато. Широко расставив короткие лапы, наклонив большую лобастую голову, шел Серый. Его дыхание было тяжелым и частым. Иногда он налегал на лямку так сильно, что начинал хрипеть и задыхаться.
Изо всех сил старалась Найда. Хорошо тянули Лис и Бельчик. Добросовестная Старуха не отпускала лямку и шла по пятам Сокола. Толстому Нордику с первых шагов подъема стало жарко, и он ослабил лямку.
— Ну, ну, не балуй! — крикнул каюр и первый раз опустил бич на широкий зад Нордика.
Начались участки голого льда. Я остановился и стал снимать лыжи, чтобы помогать собакам, но не успел. Раздался крик Крутова.
Нарта лежала набоку. Мы попытались поднять ее, но не смогли. Из одной банки вылетела пробка, и керосин потек на лед. Крутов выхватил из-за пояса нож и двумя ударами перерезал веревки, стягивающие груз. Это позволило поставить нарту, уложить груз и снова крепко-накрепко увязать его веревками.
Выискивая проход между моренными холмами, помогая собакам там, где склон ледника был засыпан щебнем и песком, объезжая пятна голого льда, мы, наконец, поднялись выше морен.
Поверхность ледника здесь была почти горизонтальной, и мы за час легко достигли окончания моренной гряды.
С высоты было хорошо видно, что лед на море ровный и сухой, — пресная вода, залившая лед в бухточке, туда еще не дошла.
Тормозя нарту, мы осторожно спустились с ледника. Морской лед был прикрыт таким тонким слоем снега, что сквозь него просвечивала голубизна льда. Лучшей дороги нельзя было и придумать. Собаки бежали легко и быстро, я не мог угнаться за ними на лыжах.
Крутов предложил мне сесть на нарту.
— Увезут? — посомневался я.
— Садитесь! — настаивал каюр. Я сел на высоко нагруженную нарту.
Впереди, насколько можно было видеть, тянулся пологий ледяной берег, образованный склоном ледника, спускавшегося прямо в море. Кое-где виднелись то голубые, то зеленые обрывы льда. Неподалеку от обрывов торчали впаянные в морской лед небольшие айсберги.
По компасу я взял направление на ледяной мыс, записал показания одометра.
— Пошли! — скомандовал Крутов собакам и помог стронуть нарту с места.
Собаки побежали. В их беге было столько задора, что каюр не удержался и запел. Услышав голос своего хозяина, собаки побежали еще быстрее. Серый понесся вскачь; его висячее правое ухо вскидывалось и болталось, как кусочек тряпки. Кончики стоячих ушек Найды заколебались из стороны в сторону, в такт прыжкам. Кто-то взвизгнул, — кажется, Лис, — залаял Бельчик, тявкнули Сокол и Нордик. Только в побежке одной Старухи чувствовалась усталость. Ее лямка ослабла, — собака бежала тяжело, дышала с присвистом, отставала.
Крутов пропустил между копыльями нарты остол — палку, на конце кованную железом. Металлический штырь врезался в лед и прочертил глубокую борозду. Щелканье счетчика одометра стало редким.
— Перед мысом будь осторожнее, — попросил я каюра. Действительно, впереди скоро показались трещины.
Ледяной мыс представлял собою язык ледникового щита. В своем медленном, но непрерывном движении ледник напирал на морской лед и вызывал появление трещин. Трещины начинались от ледникового мыса и протягивались далеко в море. Вначале они были узкими, едва приметными, но скоро расширились до полуметра. Пара за парой, собаки прыгали через трещины, длинная нарта проскакивала следом и скользила дальше.
Перед самым мысом стояли большие айсберги. Ледяные горы достигали десяти-пятнадцати метров высоты. Они были самой разнообразной формы, но чаще всего пирамидальные и плосковершинные.
Повидимому, своим основанием они сели на дно, и морской лед на этом участке находился как бы в тисках, — с одной стороны напирающий ледник, а с другой — тяжелые, прочно осевшие на дно, айсберги.
Трещины стали еще шире. Мы благополучно проскочили над метровой трещиной. Собаки бежали ровно. И вдруг колеблющиеся ушки Найды застыли в напряженном внимании. Собака вслушивалась и к чему-то принюхивалась.
— Медведи! — шопотом сказал Крутов.
Далеко впереди мелькнули два кремовых пятнышка, большое и маленькое, — медведица с медвежонком.
Увидала зверей и Найда. Она взвизгнула и изо всех сил налегла на лямку. Передовой и все остальные собаки, точно поняв ее голос, тоже нажали.
Нарта понеслась так быстро, что я перестал слышать щелканье счетчика.
Мы въехали в узкий пролив, образованный краем ледника и длинным рядом айсбергов. Нарта проскочила через одну, потом через другую трещину. Впереди, пересекая путь, протянулась новая трещина, широкая и темная. Собаки неслись прямо на нее.
— Поть! Поть! — закричал каюр и выхватил остол.
Послушный Серый взял левее, но Найда рвалась прямо к зияющей трещине, к медведям, которые остановились и смотрели на нас.
— Поть! Поть! — Крутов стал тормозить. Мелкие осколки льда полетели из-под остола, но остановить собак было уже нельзя. Они уже все видели зверей и мчались к ним кратчайшим путем.
— Поть! — еще раз крикнул Крутов.
На этот раз Серому удалось потянуть за собой всю упряжку.
Собаки чуть изменили направление и вырвались на снежный надув, который в этом месте закрывал трещину. Пара за парой, они пробегали по ненадежному перемету.
Мы с Крутовым приготовились спрыгивать, но не успели. Парта взбежала на перемет, и едва сошла на лед, как снежный мост рухнул.
Над черной ледяной водой повисла только задняя треть саней.
Разгоряченные и взволнованные собаки остановились. Крутов вытащил из чехла винтовку и выстрелил в воздух. Медведи наутек бросились в сторону и скрылись среди торосов.
9. ТЯЖЕЛАЯ ДОРОГА
Я взглянул на счетчик. За полчаса мы проехали десять километров. За мысом ледяной берег круто поворачивал вправо, образуя подобие бухты. В глубине бухты чернел островок, — к нему мы и направили собак.
Вот и приливно-отливная трещина, у которой лед точно дышит: в прилив он поднимается, а со спадом воды опускается.
Пологий берег, на котором уже вытаяла полоса каменистой россыпи. Поставлена палатка. Крутов выпрягает собак. Он внимательно осматривает Лиса. Перед поездкой каюр забинтовал лапы собаки, а поверх бинтов надел сшитые из парусины чулки. За поездку чулки протерлись, бинт развязался, и розовые подушечки на лапах Лиса кровоточили.
— Что будем делать? — спрашивает Крутов Лиса. Собака трется головой о колени каюра, скулит, осторожно переступает больными лапами.
В палатке, где уже закипает чай, Крутов развязывает свой рюкзак и достает мешочек с махоркой. Мешочек невелик, но и не мал, — в нем умещается килограмма два махорки. Сшит он из мягкой, хорошо выделанной нерпичьей шкурки.
Я догадываюсь, что собирается делать каюр, достаю из своего рюкзака несколько полотняных мешочков для образцов и отдаю их Крутову.
Крутов пересыпает махорку в мешочки для образцов.
— А из этого буду шить Лису обутки, — говорит он, вытряхивая из кожаного мешочка табачную пыль.
Мы пьем чай, немного отдыхаем. Потом я надеваю полевую сумку, беру молоток и иду в обход по островку. Крутов остается сапожничать.
Островок оказался небольшим. Меньше чем за три часа я обошел его берега.
До палатки оставалось не больше километра, когда на льду, около приливно-отливной трещины, я увидал нерпу. При моем приближении она скрылась. Я прошел немного и оглянулся. Нерпа снова вылезла на лед и грелась под лучами июньского солнца, устроившись у самой трещины.
Крутов кормил собак. Опять он рассыпал по снегу рыбную муку. Собаки лениво ворошили носами серую массу, выискивая косточки, чихали, давились и с обидой в глазах отходили в сторону.
Я показал Крутову на небольшое веретенообразное пятнышко, которое можно было видеть даже от палатки.
— Эх, — обрадовался каюр, — вот это корм!
Он зарядил винтовку и берегом стал приближаться к нерпе.
Едва я успел написать несколько этикеток, как услыхал выстрел.
Вдвоем мы приволокли нерпу к палатке. Орудуя тяжелым охотничьим ножом, Крутов быстро разделал тушу. Отложил печень и несколько кусков нежного жира, потом отрезал каждой собаке по увесистому куску темного мяса с толстым слоем жира.
Собаки, урча, принялись за еду.
Иван Матвеевич поджарил печенку. Такого кушанья — вкусного, ароматного и сытного — давно не было!
Поспав несколько часов, мы стали собираться в дальнейший путь. Первым долгом Крутов сбросил с нарты один мешок с рыбной мукой.
— Пусть лемминги питаются, если им понравится! На место мешка встал ящик с нерпичьим мясом.
Каюр забинтовал Лису лапы, а потом обул собаку в кожаные чулки. Чтобы чулки не спадали, он привязал к каждому по полоске кумача, оторванного от сигнального флажка, а свободные концы полосок связал на спине Лиса. Чтобы полоски не съезжали со спины, каюр скрепил их третьей полосой, а ее привязал к ошейнику.
Лис чувствовал себя смущенным. Широко расставив лапы, он долго стоял на месте, потом пошел, но медленно и осторожно.
Светило солнце. Термометр показывал + 5°.
Мы взяли направление на следующий ледяной мыс и быстро поехали по морскому льду.
Лис шаркал чулками по льду и бежал, выбрасывая лапы далеко в стороны. Тузя, бежавший в одной паре с Лисом, посматривая на него, сторонился. Бельчик полаивал, оборачивал голову назад и вопросительно смотрел на каюра. Так мы проехали около двух часов и достигли мыса.
Выступ ледникового языка широкой лопастью полого вдавался в море и так незаметно сливался с морским льдом, что, если бы не приливно-отливная трещина, нельзя было бы сказать, где кончается ледник.
Некоторое время мы продолжали путь по морскому льду. Снег, покрывавший лед, с каждым шагом становился глубже. Повидимому, этому способствовали торосы, — они защищали снег от сдувания.
Дни стояли теплые, снег рыхлел. Он едва держал собак, а полозья нарты вреза́лись иногда на высоту копыльев.
Мы свернули на ледник, — здесь ветры гуляли свободнее, снежный покров становился всё тоньше и тоньше. Вскоре пришлось остановиться на отдых.
Быстрый бег по морскому льду, потом тяжелое и медленное волочение нарты по глубокому снегу измучили собак.
Кожаные чулки Лиса наполовину сползли с лап, протерлись и порвались. Ранки на подушечках его лап опять кровоточили.
Старуха, едва ее выпрягли, повалилась на бок и не подняла головы даже через три часа, когда Крутов раскрыл ящик с мясом.
Мы давно перестали отличать день от ночи. Да нам совсем и не важно было, что иногда приходилось спать днем, а работать ночью. Теперь же я решил работать и продвигаться только ночью, потому что, когда солнце спускалось к северу, снег подмораживало и он покрывался настом, способным выдержать и лыжника и нарту.
В маршрут я выезжал на шести собаках. Лиса и Старуху Крутов оставил у палатки.
Залив пересекли быстро. Я сошел с нарты у первого обнажения. Покончив с наблюдениями, по компасу я взял направление на следующую скалу. Счетчик одометра показал расстояние. Еще один участок берега лег на карту.
Вдруг на белом льду залива показались два темных пятнышка: они быстро приближались. Мы не трогались с места и ждали. Не прошло и пяти минут, как стало совершенно ясно, что это Лис и Старуха.
— Милые работяги! — растроганно сказал Крутов. — И полдня не пролежать без работы!
Однако собак он не запряг; они налегке бежали за нартой.
На одной из остановок я поднялся на высокую морскую террасу. Она местами уже вытаяла, и мне хотелось собрать коллекцию морских раковин. Нагнувшись, я шел и извлекал из песка крупные толстостенные раковины, — всё, что осталось от жизни того древнечетвертичного моря, в котором они жили.
Внезапно я остановился. Нет, здесь присутствовала и настоящая жизнь! Маленький серо-коричневый комочек — лемминг — перебежал от одного пятна лишайника к другому. Лемминг присел, обхватил передними лапками кустик лишайника и стал быстро грызть. Он был так занят своим делом, что не замечал меня. Я подошел, взял его рукой, одетой в меховую рукавицу, и опустил зверька в другую варежку. Лемминг притих, спрятавшись в самой глубине.
Что с ним делать? Я бы с удовольствием взял его (лемминги быстро становятся ручными), но мне было не до него, да и собаки не дали бы ему долго прожить.
Я осторожно вытряхнул лемминга на песок. Он отбежал несколько шагов и остановился, беспокойно озираясь. Я бросил рядом с ним рукавицу. Спасаясь от опасности, он юркнул в теплую и уже знакомую рукавицу. Я стоял над ним и смеялся, а лемминг и не думал вылезать. Снова я вытряхнул его в заросли лишайника и пошел дальше.
Возвращаясь, чтобы спрямить путь, мы снова поехали по заснеженному льду бухты. Было только шесть часов утра, но уже заметно потеплело. Снежная корочка не держала нарту. То один, то другой полоз проваливался и тормозил движение. Я сошел с нарты и пошел сзади вместе с Лисом и Старухой. Скоро с нарты спрыгнул и Крутов. Проваливаясь в снег по колено, мы медленно приближались к ледяному берегу, на котором стояла наша палатка. На середине бухты стали проваливаться и собаки.
Я шел и думал, что рано или поздно, а нам придется сворачивать на ледник. Так не лучше ли это сделать здесь, где удобно на него подняться?
Своими мыслями я поделился с Крутовым.
— Больше нам ничего не остается делать, — согласился каюр.
10. ОПЯТЬ НА ЛЕДНИКЕ
По леднику собаки бежали быстро, и вскоре берег скрылся из глаз.
В глубине острова лежала большая овальная котловина. Она имела не меньше пятнадцати километров в длину и со всех сторон была окружена крутыми склонами ледника.
Край ледникового щита, по которому мы двигались, был окаймлен холмами морен. К противоположному склону ледника прижималось длинное узкое озеро. Над озерным льдом возвышались небольшие айсберги. К озеру стремились несколько ручьев, они пенились в глубоких ущельях.
До нас, двигавшихся на высоте четырехсот метров над дном котловины, едва доносился очень слабый, но живой и волнующий шум талых вод. На леднике же было тихо. Только время от времени начинала шелестеть поземка. Порывы ветра зарождались где-то в глубине ледникового щита; они заставляли струиться и перемещаться мелкий пылевидный снег.
Проехав по леднику над всей котловиной, мы остановились. Крутов установил палатку и принялся варить обед, а я стал спускаться и сразу почувствовал: в котловине гораздо теплее, чем на леднике.
Внизу, в нагромождении морен, я увидел тонкослоистые суглинки и пески с морскими раковинами. Повидимому, в далеком прошлом, в одну из межледниковых эпох, остров был дном моря. После того как отложились глины и суглинки, остров начал подниматься, — море схлынуло. В ледниковый период, когда климат стал суровее, на острове возник ледник. Раковины меня интересовали по той простой причине, что по ним ученые определяют точный геологический возраст породы, среди которой они найдены.
На отвесных скалах сидели чайки. Много птиц летало вокруг. Всюду шумела вода. На небольших площадках между ручьями, шурша и оседая, таял снег, образуя озерца голубой воды.
Светило и пригревало солнце, а над ледниковым щитом собиралась мгла. Там, повидимому, уже мела поземка.
Закончив работу, я отправился к палатке, и, чем выше поднимался, тем яростнее и сильнее становился ветер. Поземка обволакивала ноги, иногда поднималась до уровня груди. В глазах рябило, немного кружилась голова.
Вскоре всё закрыла воющая и быстро несущаяся белесая мгла.
Я шел, доверяясь компасу. На одной из остановок, вглядываясь в дрожащую стрелку, я услыхал выстрел. Это Крутов беспокоился обо мне. Я пошел увереннее. Еще час борьбы с ветром и снегом — и сквозь метель показалась палатка.
У ее подветренной стенки сгрудились собаки. Здесь же копошился и Крутов, — рыл для собак яму.
Слои зернистого, рассыпающегося фирна чередовались с тонкими, но очень твердыми прослойками голубого льда. Он с трудом поддавался ударам маленькой саперной лопатки. Я взял топор и начал рубить.
Неизвестно, сколько времени продлится пурга. Может быть, несколько часов, а может, и два-три дня. Надо устроить нашим верным спутникам хорошее укрытие.
Я пробил первый слой фирна толщиной около трети метра. Под ним лежал пятисантиметровый прослой голубого льда, а еще ниже — снова фирн. Каждый слой фирна соответствовал одному году, в течение которого накапливался снег. Прослои голубого льда отвечали летним месяцам года, когда на поверхности образовывались лужи, позже замерзающие. Чем глубже, тем слои фирна становятся тоньше, плотнее и постепенно меняют окраску. С течением времени, под возрастающей тяжестью ежегодно выпадающих снегов, фирн превращается в голубой глетчерный лед.
Через час собаки имели надежную защиту. Поверх ямы мы растянули парусиновый тент, прижали его края грузом, — и в яме стало со всем уютно. Лис и Бельчик отсиживались в палатке вместе с нами.
Когда человек пережидает пургу в наглухо застегнутой палатке, ему кажется, что ветер набрасывается сразу со всех сторон. Палатка сжимается, парусина трепещет, двускатная легкая крыша прогибается так низко, что касается головы.
В палатке становится тесно, — в такие минуты даже трудно дышать. Потом, внезапно и оглушительно выстрелив, палатка мгновенно раздувается, точно стремится взвиться вверх и умчаться, оставив нас под серым, низко нависшим небом.
Тонкая снежная пыль пробивается через мельчайшие щели.
Мы сидим, наполовину забравшись в спальные мешки. В ногах устроились Лис и Бельчик. Свернувшись клубком и прикрыв носы хвостами, они лежат и не шелохнутся, но не спят. Их уши подрагивают, они тоже прислушиваются к завыванию метели.
Очень сложно во время пурги приготовить пищу, и мы обходимся одним чаем. Крутов долго разжигает примус и устанавливает его так, чтобы он не задувался. Я расстегиваю вход и, не выходя из палатки, набиваю чайник снегом. Когда через несколько минут снег растаивает, оказывается, что в чайнике воды не больше четверти. Для того, чтобы получить полный чайник воды, приходится несколько раз добавлять снег.
Не весело вылезать из теплого мешка и, выйдя из палатки, сразу же очутиться среди стремительно кружащейся снежной мглы. Но время от времени нам приходится это делать. Правда, собак мы кормим один раз в день, — этого им достаточно; но ведь надо посмотреть, не сорвал ли ветер с их ямы тент, проверить, как прочно держатся забитые в фирн металлические штыри, к которым привязаны оттяжки палатки, поправить брезент, которым укрыт груз на нарте. Двух-трех минут достаточно, чтобы снег набился во все щели одежды. Недаром полярники выворачивают карманы. Если этого не сделать, карманы будут забиты снегом. Одно нас радовало: снежный шторм принес понижение температуры.
«Быть может, это похолодание задержит наступление весны. Легче будет идти», — надеялись мы.
11. ЧЕРЕЗ ЛЕДНИКОВЫЙ ЩИТ
На третий день ветер стих, проглянуло солнце. Поверхность ледникового щита покрылась свежими застругами — вытянутыми по ветру снежными гребнями.
Я встал на лыжи. Отдохнувшие собаки рванули нарту и побежали по моим следам, в сторону моря. Но там, где край ледника подходил к озеру, путь преградили широкие трещины. Мы долго искали прохода, измучились, но не нашли. Пришлось повернуть на юг. Время от времени делались попытки пересечь зону трещин, и каждый раз безуспешно. Пришлось проститься с мыслью выйти к морю.
Оставался один путь — через ледниковый щит. Внутренние части ледника еще никем не пересекались. Мы будем первыми.
Я вынул карту и компас, прикинул, в каком направлении нужно идти, чтобы попасть в те места, где был высажен отряд Анны Сергеевны.
Внимательно присматриваясь, я скоро научился распознавать замаскированные трещины. Снежные мосты над ними чуть заметно прогибались, а цвет снега был ослепительно белым, в то время как на безопасных местах слабо голубел.
Освоившись, я пошел быстрее. Но скоро голос Крутова остановил меня:
— Собаки проваливаются!
Я поспешил к упряжке. Пересекая трещину, которую я спокойно прошел на лыжах, Серый, а за ним и Тузя проломили лапами снежный мост, оставив в нем черные зияющие дыры.
Это было самое страшное. И всё же надо идти. Я пошел еще острожнее, за мною медленно тронулась упряжка. В одном месте провалился снег под моей правой лыжей. Я быстро свернул в сторону и остановился. Крутов не успел затормозить нарту.
— Вперед! — крикнул он. Разворачивать упряжку было уже поздно.
Серый и Найда перепрыгнули провал. За ними бросился Тузя. Лис заробел, а может быть, сильный прыжок ему помешали сделать больные лапы, — на долю секунды он остановился. Этого было достаточно, чтобы собаки, прыгнувшие раньше, рванув потяг, окончательно сбили его с ног. Лис рухнул в трещину.
— Вперед, ребятки! — крикнул Крутов. — Серый, Тузя, вывози! — Собаки с хрипом налегли на лямки. Над краем трещины показалась лобастая голова Лиса, потом он закинул передние лапы и с судорожными усилиями выкарабкался наверх. Пара за парой прыгнули через трещину и остальные собаки. Переползла и нарта.
Мы остановились. Крутов снял шапку и вытер мокрый лоб. Собаки улеглись и как ни в чем не бывало стали вылизывать снег, набившийся между пальцами лап.
— Так дальше не пойдет! — заявил Крутов.
Я лег на живот у трещины. Она была около полутора метров ширины. Голубовато-сизый полумрак царил в глубине. Неровные стенки покрывались фантастическими цветами и узорами из крупных пластинчатых кристаллов инея. Потревоженные пластинки срывались, падали в глубину и там чуть слышно и сухо звенели.
Мне стало понятно, что мы ведем очень рискованную игру с опасностью.
Оставив Крутова с упряжкой, я прошел вдоль трещин в сторону моря. Скоро трещина соединилась с другой и я вернулся обратно.
Нарта была около трех метров длины. Опыт уже показал, что она может преодолеть даже полутораметровые трещины. Собаки, если они бегут быстро, также без труда перепрыгивают такое препятствие.
Я договорился с Крутовым о порядке передвижения. Осторожно и тщательно прощупывая путь, я двигаюсь вперед. Продвинувшись на двести-триста метров, я должен остановиться и подать знак. По моим следам как можно быстрее Крутов погонит упряжку.
Шел я очень медленно и как можно чаще втыкал перед собою лыжные палки, с которых снял кольца. Я пересек около десятка узких — около полуметра — трещин, благополучно перебрался через метровую, прошел еще немного, остановился и взмахнул палкой.
Крутов поднял собак, помог им стронуть нарту, крикнул, намахнул бичом и, крепко обняв одной рукой груз, сам вскочил на полоз.
Собаки чувствовали опасность и работали необыкновенно дружно.
Мне хорошо было видно, что даже Нордик и Сокол тянут с такой силой, что готовы были вырваться из лямок.
С замиранием сердца я следил за нартой.
— Вперед! — кричал Крутов. — Вперед, милые!
Собаки бегут, точно придерживаясь лыжного следа. Еще несколько минут, и Крутов запускает между копыльев остол, — тормозит. Упряжка останавливается около меня.
— Так пойдет, — говорит Крутов.
Курим, отдыхаем. Собаки лежат, горячо дышат, смотрят на нас возбужденными глазами. Снова встаю на лыжи. Вскакивает Бельчик, начинает лаять, хочет поднять упряжку.
Поверхность ледника начинает слабо повышаться, — трещин здесь нет, и я быстро прохожу до следующего понижения. Упряжка то отстает и выжидает моего сигнала, то несется с предельной скоростью и за минуту проходит то расстояние, на которое я трачу полчаса.
Наконец, впереди в голубоватой дымке проступают далекие серые скалы берега, к которому мы стремимся. Поверхность ледника ровно и плавно понижается к морю. Трещины исчезли. Собаки бегут легко и весело. Лямки Нордика и Сокола совсем не натянуты, но Крутов не обращает на это внимания. Путь такой легкий, что нарту потащили бы и четыре собаки. Я хватаю брошенный каюром конец веревки и, держась за нее, скольжу на лыжах позади нарты.
При каждом обороте колеса спица ударяет по счетчику. В окошке счетчика выступают всё новые и новые цифры. Я знаю, что утром счетчик показывал двести семьдесят километров.
Склон ледника становится всё круче и круче. Отчетливо проступает берег, за ним ровное белое поле пролива. Где-то там мы расстались с отрядом Анны Сергеевны.
Мы останавливаемся, достаем бинокли, начинаем всматриваться и сразу же находим два высоких черных гурия, на которых лениво колышутся маленькие красные флажки.
— Семь-восемь километров, — решаем мы, — час-полтора, и там! Но спуск становится таким крутым, что каюр отворачивает собак влево.
Начинаются участки обнаженного от снега льда. Нарта скользит сама, подбивает заднюю пару собак.
Упряжка снова останавливается, я иду на разведку дороги. Немного ниже по склону край ледника упирается в гряду морен. За моренами виднеется ледяной обрыв, а под обрывом река. В реке еще нет течения. Вода скопилась длинными узкими озерками, она стоит, готовясь со дня на день прорвать снежные перемычки и ринуться вперед. Нечего и думать спускаться в этих местах!
Упряжка трогается вдоль края ледника. На лыжах я продвигаюсь ниже по склону, держусь всё время на виду у упряжки, не теряю надежды найти удобный спуск. Так мы проехали целый день, а спуска не нашли. Пришлось разбить палатку и сделать стоянку. На другой день прошли еще пятнадцать километров, прежде чем увидали пологий и безопасным для спуска склон.
Очень большой переход пришлось сделать, чтобы достичь первого гурия. К концу этого дня одометр показывал уже 370 километров.
12. ПУТЬ НА ЮГ
Гурий — каменный знак. Его основание сложено из крупных бесформенных глыб бурого доломита. На доломите лежат плиты светлосерого известняка. Кверху плитки постепенно уменьшаются. На вершине гурия укреплен флажок.
Сколько времени и сил потратили Ушаков и Гришин, чтобы воздвигнуть это!
В нескольких шагах от гурия мы нашли следы саней, но они так обтаяли, что можно было лишь сказать: люди были здесь давно.
В какой стороне могли быть сейчас наши товарищи? Быть может, мы их найдем у базы, где садился самолет?
Пересечь с севера на юг большой остров и потом сразу же найти оставленные на берегу несколько ящиков — дело нелегкое.
Используя легкие ночные заморозки и делая попутные наблюдения, мы, наконец, выехали к самому проливу. Одометр показывал 420 километров.
Прямо перед собой, на заснеженном льду пролива мы увидели крохотную палатку. Издалека она казалась пирамидальным обломком камня, нивесть как попавшим на лед. Но рядом с темным пятнышком — это мы рассмотрели в бинокль — виднелись лыжи и лыжные палки, воткнутые в снег, сани.
Оставив Крутова далеко позади, я быстро побежал к палатке. Последние полкилометра всё прислушивался: не донесутся ли до меня голоса, не залает ли маленький Буян? Всё было тихо. Я подошел к самой палатке, освободил ноги от лыж.
— Здравствуйте, — тихо сказал я.
Никто мне не ответил, в палатке была тишина. Мне стало вдруг страшно.
— Есть кто живой? — крикнул я, расстегивая пуговицы входа.
Только теперь залаял Буян. Я наполовину просунулся в палатку.
Три спальных мешка. Три неимоверно уставших человека открывают глаза, озираются, замечают меня. Они все разом садятся, освобождают плечи от клапанов мешков и, еще не совсем проснувшись, протягивают мне руки.
Отряд Анны Сергеевны уже третий день был в пути. Закончив работу на дальнем участке, они двигались проливом к базе. Накануне они прошли больше двадцати километров и так устали, что не хватило сил вытащить сани на берег, чтобы разбить палатку на земле.
Ушаков первым выскакивает из мешка, разводит примус, выбегает из палатки, чтобы набить снегом чайник.
Медлительный Гришин скручивает папиросу, щурится от яркого света, врывающегося с пролива, молча гладит ворчащего щенка.
Маленькому отряду пришлось очень трудно. Несмотря на то, что они были на целый градус южнее нас, их замучили частые пурги. Свежий влажный снег заваливал палатку, налипая на лыжи, увеличивал тяжесть саней, на которых они возили всё свое имущество. И тем не менее они сделали всё, что требовалось. Все они были здоровы.
Подошла упряжка Крутова. Сбившись впятером в тесной палатке, мы напились чаю. Пока Ушаков мыл и убирал посуду, Гришин поставил радиомачту и настроил рацию. Я передал на наш зимовочный островок сообщение о встрече отрядов. Нам передали поздравление и несколько личных телеграмм.
Снята палатка. Нагружены маленькие сани.
Утро теплое. Ночная корочка исчезла. На всю глубину снег рыхлый и податливый. На ходу опрокидывалась нарта, проваливались собаки.
Показывая путь, Анна Сергеевна на лыжах шла впереди. Вдруг она дала нам знак остановиться, а сама легла на снег и поползла. Мы застыли в изумлении, а Крутов, ни слова не говоря, вытащил из чехла винтовку.
Теперь и мы поняли, в чем дело.
Шагах в пятидесяти от Анны Сергеевны на снегу лежала нерпа. Морской зверь поднял свою круглую головку и внимательно всматривался в ползущего человека. А Анна Сергеевна ползла и — мы слышали — тихонько напевала. Она любила зверей и теперь, подражая движениям передвигающейся по снегу нерпы, приближалась к ней, чтобы получше ее рассмотреть. Нерпы очень любят пение. Прислушиваясь к звукам человеческого голоса, она без всякого страха рассматривала ползущую Анну Сергеевну и не замечала, что другой человек с винтовкой заходит со стороны.
Анна Сергеевна приблизилась к нерпе шагов на шесть-семь. Прогремел выстрел. Нерпа, взметнувшись на задних ластах, чтобы броситься в лунку, упала замертво. Мы подбежали к добыче.
— Зачем? — возмутилась Анна Сергеевна. — Я хотела только посмотреть ее поближе. Ведь жалко.
— А собак чем кормить будем? — спрашивает Крутов. — Собак разве не жалко?
Убитая нерпа лежит у круглой лунки во льду. Через такую отдушину, «продух», которую морские звери поддерживают на протяжении всей зимы, они вылезают на лед, чтобы подышать, а весною — погреться на солнце. Добычу взваливают на нарту, и мы снова продолжаем движение.
Тяжелый путь! Шесть часов затрачиваем на то, чтобы пройти двенадцать километров. Ушаков, Гришин и я тащим сани, Анна Сергеевна сняла лыжи и подталкивает сани сзади. По нашим следам с трудом продвигается упряжка.
Вот, наконец, и база, оставленная вездеходом. Знакомых мест не узнать. Всюду выступили черные пятна земли, вытаяли россыпи камней, береговые скалы.
Надо торопиться, — уже на исходе последняя неделя июня. Следовало бы и людям и собакам дать два-три дня отдыха, но сейчас не до этого.
На другой день на нарту и легкие лыжные сани складываем половину груза и начинаем пересекать пролив. С первых же шагов нарта вязнет в снегу и кренится то на один, то на другой бок. Собаки проваливаются по брюхо. Не легче и людям. Даже лыжи глубоко проседают во влажном зернистом снегу.
Собаки в упряжке не умеют идти шагом. Взвизгивая и полаивая, хрипло и с присвистом дыша, они бросаются за нами вскачь.
Крутов бежит сбоку и придерживает нарту. Ему очень тяжело бежать по глубокому снегу. Он проваливается иногда выше колен.
Через каждые полкилометра мы останавливаемся и отдыхаем.
Собаки немедленно ложатся. Старуха едва тянет ноги, остальные дрожат от напряжения.
На середине пролива Крутов снимает с нарты половину груза и оставляет его на снегу. Восемь часов требуется на пересечение пролива. Наконец, последним усилием вытаскиваем сани на высокий крутой берег нового острова и ставим палатки.
Все устали так, что далее не хочется есть. Лежим в палатке на разостланных спальных мешках, пьем чай и не можем напиться. Собаки лежат на обнаженной от снега и уже сухой террасе, и ни одна из них не шевельнется, не поднимет головы.
На следующий день Крутов поехал на большой остров за остатками груза, а мы втроем, оставив в лагере Анну Сергеевну, отправились на середину пролива, чтобы взять сваленное с нарты накануне.
Мы уже успели вернуться, пообедали, легли отдыхать и только тогда рассмотрели в бинокль упряжку Крутова. К палатке каюр подъехал только спустя четыре часа.
В упряжке было только семь собак. Старуха совсем не могла идти. Каюр выпряг ее и оставил по ту сторону пролива.
— Как вам не стыдно! — возмутилась Анна Сергеевна.
— Ведь не мог же я везти ее сюда на нарте! — возразил Крутой.
— Уж лучше пристрелили бы!!
— Зачем стрелять? Если суждено, так подохнет сама, а нет, так выживет. Я ей целый мешок рыбной муки оставил. — Анна Сергеевна успокоилась.
Я решил дать собакам отдых. Мы же стали выходить в маршруты на лыжах, хотя это было очень трудно, снег совсем раскис.
К вечеру второго дня к палаткам медленно подошла Старуха. Анна Сергеевна взяла ее к себе. Собака жалобно скулила. Ее губы, усеянные седыми волосками, болезненно вздрагивали. Она с трудом вставала, взвизгивала, когда дотрагивались до ее задних лап. Анна Сергеевна достала аптечку и положила собаке на больные лапы компресс.
За неделю мы успели пройти маршрутами большую площадь и разведали путь вперед. Когда Крутов стал запрягать собак, к своему месту в упряжке подошла и Старуха. Каюр погладил ласково ее седую морду и тихонько оттолкнул.
— Беги за нартой, — сказал он, — поправляйся.
13. РАСПУТИЦА
Выезжаем ночью. Легкий морозец охватил поверхность снега. Образовался наст — корочка, выдерживающая и нарту и собак. Время от времени под тяжестью груженых саней или под лыжником снег проседает. Широкие пласты наста с глухим шумом опускаются вниз.
Идем на юг. Ночное солнце светит нам в спину. Дорогу часто перебегают лемминги. Маленькие буровато-серые комочки бегут по снегу от одной проталины к другой. Внезапно они прячутся под снегом, — пользуясь лабиринтом ходов, скрываются от опасности и вновь появляются далеко в стороне.
Весна вступает в свои права. Чем дальше, тем больше встречается ложбин, в которых скопилась вода.
На одной из остановок, лыжи, воткнутые в снег недалеко от палатки, оказываются лежащими на голой земле. Снег тает на глазах. Но только через два дня, совершив необходимые маршруты, трогаемся дальше. Вершины плоских увалов вытаяли совсем. В ложбинах, куда в течение долгой зимы сдувало снег, стоит вода, смешанная со снегом. Чистый снег держится только на пологих склонах, но и он такой рыхлый, что идти по нему невозможно.
Крутов ведет собак по кромке снега, там, где он соприкасается с землей. Здесь узкая полоска его твердая, иногда обледеневшая.
Собаки бегут быстро, послушно выполняют команды каюра, точно сознают, что медлить нельзя.
Путь пересечен множеством ложбин, заполненных снежным месивом и водой. Снег пропитан водой настолько, что он уже не белый, а голубого или зеленоватого цвета.
Серый бросается вперед. За ним, сразу окунаясь в снежную кашу по уши, лезут остальные собаки. Нарта грузнет на высоту копыльев. Сани начинают задевать снег верхней обвязкой копыльев. Снежная каша так глубока, что коротконогому Серому, Найде и Бельчику не достать дна. Они плывут. Но нарта тяжела, под ней набилось столько мокрого снега, что собаки останавливаются. Крутов достает лопатку и, насколько достает рука, выгребает из-под нарты снег. Собаки начинают дрожать.
Встаем по двое с каждой стороны нарты и помогаем собакам. Парта снова продвигается до тех пор, пока под ней не скопится снег.
Маленький Буян — ему сейчас немногим больше пяти месяцем не отстает от Гришина. Он только на миг останавливается перед новым препятствием. Ему страшно. Он еще не просох от предыдущей ледяной ванны. Он дрожит, скулит и лает, а потом с размаху бросается в снежную кашу, барахтается и потихоньку ползет вперед.
С большим трудом мы продвигаемся за день на пятнадцать километров и останавливаемся на берегу большого ручья.
Вода уже прорвала снежные плотины. Бешеный поток мчится так быстро, что голова начинает кружиться от стремительно перекатывающихся мутных волн. Над рекой стоит легкий туман от брызг. Берег сотрясается, слышатся скрежет и удары перемещаемых потоком валунов и галечника.
Мы можем отдохнуть только один день. Подходят к концу запасы продуктов. Кончается собачий корм.
Надо отправляться на поиски продуктовой базы, которая два месяца назад была завезена вездеходом в центральную часть этого острова. Надо и работать.
На поиски базы отправились Крутов, Ушаков и Гришин. Они взяли рюкзаки, одну винтовку и пошли к леднику.
Я укрепил между камнями леер — длинную веревку, — привязал собак, чтобы не разбежались, а сам с Анной Сергеевной вышел в маршрут.
С большим трудом мы переправились через ручей, проследили его до впадения в реку и пошли берегом реки.
Река мчалась в глубоком ущелье. С оглушительным грохотом она срывалась с каменистых ступеней, образуя водопады.
Иногда поток скрывался под снежным мостом, перекинувшимся с берега на берег. Снежные надувы громадными карнизами нависали над самым руслом. Зеленая вода лизала основания карнизов. Надувы рушились и с тяжелым всплеском падали в воду.
На высоких скалах сидели птицы, равнодушно смотрели на нас. Берегом реки мы прошли до ее впадения в большой залив. Обратно, чтобы спрямить путь, направились через тундру.
Бурая равнина почти совсем вытаяла. Из-под небольших пятен снега сочилась вода. Кое-где начинали распускаться цветы: желтый полярный мак, арктический лютик, камнеломка. Жарко. Мы шли и думали о снеге, — как тяжело будет без него передвигаться с нартой!
Когда мы уже подходили к палаткам, нахлынул туман, но через полчаса он уполз в сторону моря.
Приготовили еду, пообедали, скормили собакам остатки рыбной муки, а потом сели за дневники.
Через час я выглянул из палатки. Всё кругом снова потонуло в тумане. Я взял винтовку и пошел встречать ушедших за продуктами. За мною увязалось несколько спущенных с леера собак.
Отойдя от палатки на километр, я выстрелил. Собаки, гонявшиеся за леммингами, насторожились, потом подошли ко мне и улеглись у ног. Где-то впереди, невидимая, шумела река. Я постоял, послушал, выстрелил еще несколько раз. Мне никто не ответил.
Шел первый час ночи, — мне стало тревожно. Я спустился к реке, нашел снежный мост, на котором еще сохранились следы людей, прошел по нему. За рекой следы терялись, и я шел медленно, останавливался, стрелял и прислушивался.
Туман шел волнами. Иногда он был таким густым, что я видел перед собой не больше чем на полсотни шагов. Временами он редел, но ненадолго.
Наконец послышался ответный выстрел. Он был глухим, но близким. Через несколько минут из тумана выплыли фигуры усталых людей. Их рюкзаки были пустыми. Они не нашли базы.
14. ПОИСКИ БАЗЫ
Два дня просидели в лагере из-за тумана. Седые волны перекатывались через тундру мимо нас. Палатки, камни, собаки — всё было мокрым.
У нас оставалось две банки консервов, немного крупы и сухари, — в лучшем случае на два, на три дня.
Крутов готовил обед. Пока он ходил к реке, чтобы почистить песком кастрюлю, какая-то собака стащила открытую банку консервов.
Большим охотничьим ножом каюр вспорол дно последней банки, выложил консервы в суп и вышел из палатки.
Собаки выжидающе посмотрели на руки каюра, но в руках у Крутова не было ничего. Они снова прикрыли носы хвостами. Попробуй узнай, кто из них сделался воришкой!
Крутов посадил собак на леер, вытряс из мешка сухарные крошки, разделил их на девять одинаковых кучек и высыпал перед собаками. Все жадно набросились на еду.
Нет, Крутова не проведешь! Сокол даже не поднялся. Сытый, он презрительно посмотрел на крошки и снова закрыл глаза.
Каюр разыскал среди камней пустую, вылизанную до блеска банку. С нарты он взял бич, подошел к Соколу, поставил перед ним банку и, приговаривая: «не воруй, не воруй», отхлестал собаку.
В новый поход за продуктами решили взять и собак. Из обрывков брезента и парусины сшили сумы. В этих сумах собаки должны были нести свой корм. Утром, оставив в лагере Анну Сергеевну и Буяна, четверо мужчин вышли в глубь острова.
Снежный мост через первую от лагеря реку рухнул. Течение пробило себе путь под этой плотиной, но не стронуло с места тяжелые глыбы плотного снега.
«Только бы сохранились эти остатки моста до нашего возвращения», — невольно подумал каждый, когда мы перешли на другой берег.
Участки топкой глинистой тундры сменялись ложбинами, в которых еще держался глубокий, насыщенный водой снег. Повсюду неслись реки талой воды, переходить которые надо было цепью, держась за руки, чтобы не сбило течением.
Мокрые собаки подолгу скулили перед каждым ручьем, а потом бросались в ледяную воду и плыли за нами.
Лишь к исходу шестого часа мы приблизились к леднику настолько, что стали отчетливо видны промоины, бороздящие его поверхность.
Когда два месяца назад мы оставляли базу, местность, закрытая снегом, казалась идеально ровной. Теперь всё было изрезано глубокими и широкими ложбинами. Трудно было найти такое место, с которого бы открылся обзор на большое расстояние.
Местность стала неузнаваемой. Единственным, что не могло изменить ни своего общего облика, ни положения, оставался край ледника. А мы помнили, что база была сложена неподалеку от него.
Гришин выбился из сил. Он сел на валун и тихо сказал, что у него едва хватит сил на обратный путь.
Крутов, сопровождаемый грязными и голодными собаками, всё еще ходил и всматривался в окружающие увалы.
С Ушаковым я подошел к краю ледника. Мы перебрались через быстрый ручей, протекавший у его подножия, и стали подниматься.
Ледяная вспененная вода не текла, а скользила по своему ледяному, сильно наклоненному руслу. В том направлении, куда бежал ручей, край ледника обрывался. Ручей падал с высоты пятидесяти метров и глухо шумел внизу.
В нижней части склона снег уже совсем стаял. Обнажился лед глетчера. Лед был грубослоистым, как горная порода. Слои шли параллельно краю ледника. По линии контакта слоев лед таял быстрее, и поверхность ледникового щита была похожа на гигантскую лестницу, ступени которой концентрическими кругами опоясывали весь щит.
На льду здесь и там были разбросаны валуны.
Мы поднялись метров на сто, и остроглазый Ушаков увидел базу. Набиваем продуктами рюкзаки, но все не умещаются. Поверх рюкзаков привязываем тяжелые глыбы масла, пластикатовые мешочки с сахаром, мешочки с крупой.
Остатками сухарей кормим собак. Потом разбиваем пустой ящик, разводим костер, кипятим себе чай, закусываем, курим.
Теперь остается наполнить переметные сумы собак. Сумы спокойного и сильного Серого наполняем консервными банками, а остальных нагружаем рыбной мукой и сухарями.
Непривычный груз и непривычное размещение его смущал собак, некоторые пытаются сбросить свой вьюк.
Серый и Старуха степенным шагом идут у наших ног, остальные же трусят рысцой, отбегают в сторону, гоняются по тундре за леммингами. Из неплотно увязанных сумок высыпается рыбная мука, падают сухари. Особенно резв Тузя. Он прыгает и скачет с такой силой, что в его сумках скоро остается только половина сухарей. Нордик и Сокол, несмотря на то, что они сыты, не могут равнодушно пройти мимо утерянного сухаря. Останавливаются и подбирают.
Дорога дальняя. Идем всё медленнее и медленнее, а Нордик и Сокол неотступно следуют за Тузей и время от времени подкрепляются выпавшими сухарями.
Уже пересекли множество ручьев и приближаемся к реке, которую переходили по рухнувшему мосту. Ремни рюкзаков режут плечи и ключицы, мы через силу переставляем ноги. Набегались и устали собаки, они идут рядом с нами. Слышим шум реки. Решаем, если не удастся перейти по мосту, подниматься берегом вверх по течению до тех пор, пока не найдем нового моста или мелкого перехода. Но, кажется, на это не хватит сил.
Река потрудилась. Течение пробилось по трещинам моста, десятки ледяных проток разрезали мост на куски, но не стронули его с места. Рискуя оступиться, перепрыгиваем пока еще узкие протоки, взбираемся на крутой берег и вздыхаем облегченно, — до лагеря осталось меньше двух километров.
15. НАХОДКА
Крутов присел на нарту и долго смотрел на одометр.
Счетчик испортился, — в окошке застыла последняя цифра — 493. Сейчас Крутов сидел и думал, что делать с одометром. Каюру было жалко расставаться с этим нехитрым приспособлением, и в то же время он знал, что его следовало бы оставить, как лишний и бесполезный груз. Крутов достал из-за пазухи изрядно потрепанную записную книжку и что-то долго записывал. Потом с тяжелым вздохом отсоединил тяжелую металлическую вилку одометра от саней, снял счетчик и спрятал его в карман.
Утром, взвалив на плечи спальные мешки и палатки, образцы и посуду, вышли к заливу. Собаки с трудом тащили по зацветающей тундре пустую нарту.
Лед в заливе был неровным, сильно торошенным. Снег таял, вода заливала поверхность льда. Против устья речки, недалеко от которой стояли палатки, мутная речная вода покрыла лед на площади в несколько квадратных километров. Глубина этого наледного озера достигала полутора и двух метров.
Пересечь залив можно было только после того, как раскроются трещины и наледные воды схлынут в море.
В ожидании переправы мы работали.
Запас наших продуктов позволял ждать, но собаки уже расправились со своим кормом и снова голодали. Крутов охотился, но неудачно. Нерпы не любили лежать на залитом водой льду; кроме того, весной они очень осторожны.
Каюр начал варить собакам кашу, и человеческие порции значительно сократились. Правда, он не терял надежды и часами пропадал на залитом водой льду, подкарауливая зверя.
В одном из маршрутов мы продвигались берегом моря. До палаток оставалось не больше семи километров. Впереди на ровной площадке морской террасы возвышалась россыпь темных, округлой формы камней. Нам и в других местах приходилось видеть оставшиеся от разрушившихся скал железистые конкреции шарообразной формы. Но здесь чем ближе мы подходили, тем больше удивлялись, — конкреции имели правильную цилиндрическую форму, и, что самое примечательное, все они были одинаковых размеров.
Велико было наше удивление, когда мы увидели большие жестяные банки, до черноты поржавевшие снаружи.
Ножом я открыл одну банку. Внутри находился хорошо сохранившийся жирный пеммикан. (Пеммикан — мука из высушенного мяса.) Каждая банка весила около трех килограммов. Теперь мы вспомнили, что двадцать лет назад в этих местах работала экспедиция, занимавшаяся съемкой берегов. Это был пеммикан, которым питались собаки наших предшественников.
Мы нагрузили свои рюкзаки банками и бодро зашагали вперед.
Оказывается, и у Крутова была удача. Он всё-таки застрелил нерпу.
Опять на обед мы получили ароматную сытную печенку. Для собак вскрыли банки с пеммиканом.
Собаки с жадностью набросились на необычное для них кушанье, за несколько минут расправились со своими порциями и, сытые, улеглись спать.
16. ПО ЛЕТНЕМУ ЛЬДУ
Утро было солнечным и теплым. Мы вышли из палаток и с надеждой взглянули на залив.
Везде, насколько видел глаз, стояла вода. Только кое-где наледные озера чередовались с полосами торосов, среди которых еще лежал глубокий, ослепительно белый снег.
Но выбора не было. Нарту и маленькие лыжные сани перетащили на лед и уже здесь нагрузили их и запрягли собак. Анна Сергеевна шла первой. Следом за ней тронул упряжку Крутов, а я с Гришиным и Ушаковым потащили маленькие сани, на которых был самый ценный груз — наши образцы.
Анна Сергеевна шла осторожно. Она перешагивала или перепрыгивала трещины, быстро шла на участках сухого льда, медленно пробиралась между торосами, отыскивая наиболее удобный путь для нарт и саней. Там, где вода была мелкая, виднелось ледяное дно. Отчетливые и тонкие, точно ножом прочерченные, проступали на льду трещины, готовые раскрыться и принять в себя поверхностную воду.
Местами вода поднималась выше колена, подбиралась к грузу на санях и нарте. Мельчайшая рябь морщила поверхность озерков и луж, по ним стремительно перемещались тысячи солнечных бликов. Глаза переставали различать дно, и мы продвигались, стараясь не отставать от нашего проводника. Иногда под водой смутно проступали совершенно черные пятна — это были полыньи.
Собаки послушно придерживались направления, которое выбирала Анна Сергеевна. Широкие полосы воды они пересекали без передышки; Крутов знал, что останавливаться было опасно, — лед местами был очень тонок.
Поверхность морского льда во время таяния часто покрывается ячейками — углублениями, которые разделяются тонкими и острыми перегородками. Такой лед режет подошвы сапог, сдирает с деревянных полозьев стружку, глубоко ранит подушечки собачьих лап.
Скоро мы стали замечать на льду капельки крови. Крутов выехал на широкую и сухую льдину, остановил собак. Конечно, первым долгом он подошел к Лису. Бинты и чулочки на его лапах сбились, — они болтались и мешали собаке бежать. Каюр торопливо перебинтовал лапы, — они не кровоточили; значит, поранились другие собаки. Порезали свои лапы Найда и Бельчик, у остальных собак подушечки на лапах были пока целы.
Крутов обул раненых в парусиновые чулочки, и мы снова тронулись.
Анна Сергеевна иногда заходила далеко вперед. Странно было смотреть на ее одинокую фигурку, когда она, прощупывая лед палкой, переходила широкие озера. Создавалось полное впечатление, что она идет по воде, как по суше.
Больше всего воды оказалось на середине залива. Но не лучше было и в торосах, где снег еще не стаял, и в нем грузла и опрокидывалась нарта.
Но вот уже совершенно отчетливо виден берег, его обрывы, устья ручьев. Стало гораздо суше. Всё больше и больше появляется трещин, но они нешироки, — мы легко перешагиваем их.
Здесь, на поверхности тающего льда, образуются тесно сомкнутые, острые иголочки. Они хрустят и ломаются под ногой человека, но больно ранят собачьи лапы. Всё больше и больше появляется на льду капелек крови.
Приливно-отливная трещина. Она так широка, что мы долго продвигаемся вдоль нее и ищем переезд. Постепенно трещина суживается. Анна Сергеевна ее легко перешагнула. Пара за парой прыгнули собаки. За ними переползла нарта. Пересекли трещину и наши сани. Мы на новом берегу.
Июль на исходе. Топкая после таяния снегов тундра начинает понемногу подсыхать. Она пестрит цветами, которые раскрылись все сразу. Нежнофиолетовая и розовая камнеломка, лютик, прижавшиеся к земле подушечки яркоголубых незабудок и множество золотистых маков, которые качаются на своих тонких и упругих ножках.
Первый маршрут от нового лагеря я делаю в направлении пролива, за которым располагается наш зимовочный островок.
День солнечный и теплый. Мы идем, распахнув ватные куртки и обнажив головы. Забравшись на высокий водораздел, видим пролив. Еще неделя-другая — растрескавшийся лед будет окончательно взломан ветрами и вынесен в открытое море. Но сейчас на льду еще много воды, — а значит, мало трещин.
Над проливом дрожит марево. Очертания торосов и айсбергов колеблются; кажется, что они плывут в струящемся воздухе; за проливом протягивается узкая темная полоска — островок. Мы достаем бинокли и сразу же находим четко рисующиеся силуэты строении, две радиомачты. Здесь ширина пролива — только двадцать пять километров.
Но рано еще мечтать о теплой комнате, о книгах, о скором отъезде домой! Надо сделать последние маршруты, снова перетащить груз через тундру.
Вернувшись к палаткам, я узнал, что Анна Сергеевна в своем маршруте обнаружила маленький и незаметный издалека проливчик, который соединяет залив с большим проливом.
Проливчик закрыт прочным и сухим льдом, и по нему без труда могли пройти нарта и сани. Это нежданная радость. Мы с удвоенной энергией продолжали работу. Все, кроме Крутова, выходили в маршруты и проводили в них по двенадцати-четырнадцати часов.
Каюр оставался в лагере. И у него было много забот. Он лечил пораненные лапы собак, — промывал ранки, иногда смазывал их оставшейся в походной аптечке мазью или иодом, бинтовал.
Снова надо было шить чулки. Для этой цели мы пожертвовали чехлы от спальных мешков. Опыт показал, что одной смены чулков собакам хватает лишь на небольшой переход в десять-пятнадцать километров. Впереди лежал пролив, путь по которому, если учесть все объезды широких трещин и озер, не мог быть короче тридцати километров. Значит, каждая собака должна была иметь двойной запас чулков.
Крутов садился у приоткрытого входа в палатку, поджимал под себя ноги и шил и шил. К нашему возвращению из маршрутов он еще успевал приготовить обед. Кастрюли с густым ароматным супом и кашей ожидали нас, заботливо укутанные в спальные мешки.
17. ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ
В очередной срок радиосвязи мы узнали, что одна наша партия уже вернулась на зимовку. Они передавали, что легко и быстро пересекли пролив. Правда, их путь пролегал много восточнее.
Мы попросили сообщить нам о состоянии льда со стороны зимовочного островка.
«Надо торопиться, — отвечали нам, — но пока еще переезд возможен».
На следующий день мы перевезли свой лагерь на берег пролива.
Я попросил Гришина еще раз связаться с островком.
С зимовки сообщили, что ждут нас со дня на день. Мы решили переезжать на другое утро. Товарищи с зимовки просили указать точный час выезда.
— Десять утра.
— В десять утра и от нас выйдет упряжка встречать вас, — передали нам, — повторите азимут, по которому пойдете.
С вечера мы перетащили нарту и сани через широкую приливно-отливную трещину, которая тянулась вдоль самого берега пролива.
Крутов накормил собак остатками нерпичьего мяса. Утром нам оставалось свернуть лагерь, подтащить имущество к саням и погрузить его.
Одна за другой собаки прыгают через трещину и подходят к потягу, уже вытянутому в направлении движения.
Сразу же от берега началась очень тяжелая дорога. Повидимому, здесь лед был взломан самой ранней весной. Образовавшиеся трещины, к счастью слепые, размыло талыми водами, разъело солнечными лучами, — они превратились в широкие и неровные жолобы, в которых всё еще стояла вода. Между трещинами лед в мелких буграх.
Нарта и сани на них кренятся и опрокидываются.
Особенно неровно шла нарта. Она то наезжала на собак и подшибала лапы задней пары, то застревала в очередной промоине. Путь был очень извилист, и Серый не успевал выполнять команды каюра. Собаки натыкались друг на друга, нервничали, путались в упряжи, злобно рычали.
Крутов поднял бич. Первым досталось Соколу и Нордику. Они совсем забыли о лямке, а лишь высматривали, куда удобнее и легче ступить. Нечаянно попало и Старухе. Собака поджала хвост, заробела или обиделась, и тоже отпустила лямку.
Крутов остановил упряжку, распутал сбившуюся упряжь, дал собакам отдохнуть.
— Вперед, милые! — ласково крикнул он. — Нажмем, последний переход!
Впереди расстилалось широкое спокойное озеро. В нем отражались белые облачка, выступы торосов, дальний айсберг.
Анна Сергеевна первой вступила в озеро, и скоро ее ноги до колен погрузились в воду.
Ледяное дно было ячеистым. Небольшие, диаметром в три-четыре сантиметра, ячейки часто сливались, образуя маленькие круглые колодцы. И люди и собаки начали спотыкаться и падать.
За нартой и санями, как за лодками, тянулись пенистые, расходящиеся в стороны пологие волны. Во все стороны побежала рябь. Вспыхнули тысячи солнечных бликов. Анна Сергеевна оступилась, но удержалась с помощью палки. Дождавшись упряжки, она прислонилась к нарте и долго стояла с закрытыми глазами.
— Кружится голова, — смущенно призналась она.
Отдохнув две-три минуты, она надела защитные очки и снова пошла вперед.
Крутов с трудом удерживает собак на месте. В ледяной воде они быстро мерзнут. Упряжка без команды рвется за проводником. Наши сани скользят совсем легко. Мы идем последними, крупным шагом, разбрызгивая воду. У нас уже давно промокли ноги, до пояса мокра и наша одежда.
Наконец озеро пересечено. Начался сухой лед. Его поверхность прикрыта зернистым, похожим на фирн, очень твердым снегом. Острые уголки зерен образуют подобие терки. Скоро на снегу опять заалели мелкие пятнышки крови.
Впереди показались полосы торосистых льдов. Здесь еще много снежного месива, под которым успела скопиться вода. Снова нарта и сани проседают на высоту копыльев, кренятся, опрокидываются. Собаки тянут из последних сил. Они еще не успели просохнуть после перехода через озеро, но им уже жарко. Они дышат часто, с хрипом и присвистом.
Когда всем показалось, что мы уже выдохлись, впереди, среди торосов замелькало черное пятнышко. Оно росло, и вскоре мы уже различали упряжку, вышедшую им навстречу.
Десять собак, которых вел сильный и угрюмый Ураган, остановились на ровной площадке чистого и сухого льда. С порожней нарты спрыгнул молодой каюр. Мы радостно поздоровались.
Крутов внимательно осмотрел собак новой упряжки, потом его взгляд задержался на пустой нарте.
— А одометр где? — спросил он молодого каюра.
— Вышел из строя в первые же дни.
— Так и не послужил вам?
— Он нам громадную службу сослужил, только совсем необыкновенную.
— Какую?
— При переезде по морскому льду нарта провалилась в трещину. Задок нарты задержался одометром, и мы успели весь груз сбросить на лед, а потом уже вытащили нарту. Ну, ясно, потом уж не работал.
Крутов вытащил из кармана счетчик своего одометра. Молодой каюр с уважением посмотрел в маленькое окошечко, в котором выступала цифра 493.
Продолжая разговаривать о людях, с которыми давно не видались, о работе, о походах по снегам и льдам, мы разделили груз на две нарты… Крутов сменил собакам чулки.
Упряжки вытянулись по следу. Чем больше мы приближались к берегу островка, тем суше и ровнее становился лед. Тени редких и мелких торосов голубели густо и мягко. Следы нарт, ушедших далеко вперед, извивались, как полевая тропинка.
Мы с Анной Сергеевной отстали. Было тихо. Солнечные лучи не били в глаза, они шли с запада, стали розовее и не слепили, как на середине пролива. Впереди темнел знакомый берег.
Один раз, когда мы присели отдохнуть, на соседней, поставленной на ребро льдинке закопошилась пуночка, чирикнула, почистила перышки я полетела в сторону островка.
Когда мы подходили к приливно-отливной трещине, люди с грузом и собаками уже ожидали нас на берегу.
Чуть повыше, над обрывом стоял вездеход. Около него суетился механик, повидимому, собираясь заводить, чтобы перевезти груз последние полкилометра.
— Значит, распрягаю? — крикнул Крутов в сторону вездехода.
— Конечно, Матвеевич, считай, что ваш транспорт свое отработал. Теперь я повезу. Как видишь, — и мы не сидели, восстановили.
Анна Сергеевна уселась около своего любимца Серого и стала освобождать его от лямки.
Собаки чувствовали, что закончен большой и тяжелый, на этот раз последний переход. Они разлеглись на теплых плитах известняка, щурились и позевывали, вылизывали мокрые пораненные лапы. Даже на мордах Нордика и Сокола проступало выражение удовлетворенности, — что ж, в конце концов, и они работали, пусть иногда плохо, но бывало и хорошо!
Анна Сергеевна подошла к Старухе и похлопала ее по спине, заставляя встать, чтобы снять лямку.
Собака поднялась, качнулась, но устояла. Когда была снята упряжь, собака ткнулась носом в колени Анны Сергеевны, лизнула гладившую ее руку.
— Что с тобою? — вдруг встревожилась Анна Сергеевна, знавшая, что Старуха не отличалась ласковостью.
Собака повела ушами, сделала резкое движение, точно намеревалась ласково прыгнуть на грудь стоявшему перед ней человеку, но внезапно осела на задние лапы, потом ткнулась носом в камни и затихла.
Анна Сергеевна наклонилась над ней, приподняла голову. Отпущенная голова: снова упала на камни.
— Всё, — сказал Крутов. — Тянула до конца!
Через полчаса на высоком щебнистом берегу, где качались золотистые чашечки маков, вырос маленький холмик.
Зарокотал двигатель вездехода, машина дрогнула и с воем стала взбираться вверх по склону.
Освобожденные от лямок собаки бежали сзади, взлаивали, волновались, завидев крыши строений. Повзрослевший Буян прыгал около самой гусеницы, задирал голову, чтобы видеть Гришина, сидевшего в кузове.
— Хорошую собаку вырастил, — сказал радисту Крутов, — к осени совсем взрослым будет. Встанет на место Старухи.
Море вскрылось за неделю до нашего приезда. С высокого берега виднелась сизая морская ширь. Кое-где, то одинокие, то сбившиеся в полосы, как стайки птиц, осевших на воду отдохнуть, резко белели мелкие льдины, — всё, что осталось от необъятного ледяного поля, закрывавшего море весной.
Горизонт, бывший поутру отчетливым и чистым, стал тускнеть. Быстро падало давление.
К вечеру разразился шторм, и мы в течение двух суток не выходили из дома. Ветер опрокинул радиомачту, сорвал с котуха крышу и укатил к морскому берегу несколько пустых бочек.
Когда на третий день мы вышли к проливу, он был чистым. Вода еще не успела успокоиться, вспененные волны, волоча шуршащую гальку, набрасывались на берег, загроможденный выброшенными льдинами.
Собаки, увязавшиеся за нами, всматривались в сторону пролива, точно припоминали тот путь, который они совершили по льду всего несколько дней назад.
Елена Вечтомова Река
Она порой не широка. Спокоен путь ее и прям. Как лента, зыблется река, — Кувшинки по краям… Струится тихая вдоль дюн, — Гляди — не наглядись, — Протянут сноп стеклянных струн До горизонта вниз. Недвижна неба синева. Жары янтарь и мед. Такая мирная трава По берегам растет. Но шаг неловкий, — в омута́ Швырнет, во тьму стремнин! И снова гладко разлита На зелени долин. Не так ли жизнь учила нас Не верить тишине, Порой обманчивой на глаз Спокойствия волне. И пусть насквозь она видна И тайны глубоки,— Измеряв, выверив до дна, Меняем нрав реки.Арк. Минчковский Уголек
Наше знакомство началось в феврале, в последний год Великой Отечественной войны.
Советские войска, прогнав врага с родной земли, шли дальше на запад.
Инженерная рота, где я служил, остановилась на несколько дней в небольшом венгерском городке Цегледе, неподалеку от Будапешта. Февраль в тех краях теплый, такой, как у нас бывает конец марта или даже апрель. На пустынных улицах Цегледа в выбоинах асфальта, избитого осколками снарядов, уже белело, отражаясь в лужицах, весеннее небо.
Не помню точно, как он у нас появился и за кем и откуда прибежал, только сразу подружился со старшим техником-лейтенантом Бочиным и повсюду его старательно сопровождал.
Был он низенький, с короткими ногами и остренькой, по-собачьи, очень неглупой мордочкой, неведомо какой породы. Сам весь черный и глаза черные. Ну, настоящий уголек. Так его и прозвали солдаты Угольком.
Подружились они с техником неразлучно. Куда бы ни пошел техник, а Уголек — за ним. Бочин идет большой, в длинной шинели, идет быстро, только шинель по ветру раздувается, а Уголек за ним торопится, по сторонам поглядывает.
Техник на доклад к командиру или на офицерское собрание, и Уголек за ним. Потихоньку проберется в комнату, залезет под стул, на котором сидит Бочин, и лежит, будто его и нет тут. Но только не вздумайте обижать техника! Дернешь его за рукав, — Уголек сразу выскочит, зарычит ужасно, будто какой-нибудь страшный зверь. Дескать: «Не трогай моего товарища!» И до какого бы часа ни работал Бочин, а новый друг его всегда с ним. Иногда мы, офицеры, засидимся далеко за полночь. Смотрим карты, предполагаем, как наша армия наступать дальше будет, радио из Москвы слушаем, что на других фронтах, — интересуемся. Рота уже спит, и связной задремлет на стуле. Уголек лежит, делает вид, что спит, а сам одним глазом посматривает, не ушел бы Бочин. Иногда в самом деле заснет, не услышит, как уйдет техник. Ну, потом беда как огорчается.
Он с ним по три раза в день на кухню бегал: к завтраку, обеду и ужину. А если случалось, Бочин где-нибудь на службе задержится, Уголек сердится, за шинель зубами тянет, — пора!.. и сам впереди быстрей техника несется, оглядывается.
Повар Ушаков смеялся:
— Это у меня самый аккуратный посетитель.
Но был доволен: кости зря не пропадали.
Однако, как они ни дружили, а технику часто уезжать приходилось. Он у нас взводом, где все машины, командовал, а на войне, да еще в наступлении, дело это трудное, хлопотливое. Ну, что же! Наш Уголек и тут не растерялся. Техник уедет, он прямехонько к командиру роты и у него живет, за ним повсюду бегает. Как будто и не было Бочина. Но это только пока тот не вернется. Приедет техник — только и видел командир Уголька, даже в гости без Бочина не забежит. Никакой благодарности. Но всё-таки командир роты был единственный человек, на кого Уголек не лаял. Хоть тот, нарочно будто, и ударит Бочина, — Уголек отвернется, словно не видел.
Солдаты шутили:
— Не рискует на начальство лаять, товарищ капитан.
А капитан отвечал:
— Нет, это он со мной не хочет отношений портить: а вдруг Бочин опять уедет?..
Одну странность имел Уголек. Хозяин его всеми автомобилями в роте командовал, а Уголек не любил машин и боялся на них ездить. С трудом его в кабину затащишь — вырывается.
Раз техник с ним по делам где-то задержался. До нашего расположения километров пятнадцать было. Свою машину отпустил, а сам на обратном пути на попутную попросился. Встал на крыло, зовет Уголька, а тот ни за что. Чужой шофер не стал ждать. Техник стоит на крыле, едет, а Уголек во всю прыть сзади бежит, от машины не отстает. Был дождь, дорога грязная, мокрая, весь перемазался, в комок грязи превратился. Бочин пожалел его, постучал шоферу, слез, вместе пешком пошли. К вечеру только в расположение прибыли, оба мокрые, усталые.
Из-за машин с ним целая история вышла. Однажды, уже в Чехословакии, переезжали мы. Обыкновенно в таком случае техник возьмет Уголька, сядет с ним в кабину, — тому и деться некуда, а тут Бочин вперед уехал, Уголька Ушакову поручил. Повар взял Уголька на руки, залез с ним на грузовик поверх своей кухонной поклажи. Уголек недоволен, ворчит, вертится, всё сбежать норовит. А тут в пути встала машина. Ушаков слез на минуту вместе с Угольком, не успел закурить, — сбежал пес. Видно, назад, на прежнее место нашей стоянки направился техника разыскивать, а мы уж километров двадцать уехали. Когда машины на новое место прибыли, — повар всё, как было, технику рассказал. Бочин очень расстроился, будто друга близкого потерял. Вынул из кармана шинели помятый пакетик.
— Вот, — сказал, — я ему и гостинца приготовил — жду. Куда же теперь? А я еще сыну в Ярославль написал, что домой не один приеду, и он меня про Уголька в каждом письме спрашивает.
Только зря грустил Бочин, — нашелся Уголек. Дня через два поехала наша машина по делам на прежнее место. Вернулись ребята наши, — смотрим — и Уголек с ними.
— Едем, — рассказывают, — глядим, нам навстречу Уголек сюда несется. Видно, сбегал, никого не нашел наших и назад по дороге бежит, хочет машину, с которой удрал, догнать. Ну, мы остановились, позвали его. Сразу узнал своих. Скачет, визжит. Очень счастлив, что опять повстречались. Да сразу сам в кабину.
С тех пор перестал он бояться на автомобилях ездить. Только увидит — складываются, он уже возле грузовиков вертится, остаться боится и весь путь с машины не слезает. Видно, не понравилось пешком по двадцать километров бегать.
А раз у техника с ним неудобный случай вышел.
Кинофильм показывали «Петр Первый». Народу много собралось. Сесть негде и вдоль стен стоят. Редкое это на фронте удовольствие — кино. И генерал наш и подполковник были. Бочин пришел с Угольком. Я ему говорю:
— Ты зачем его взял? Мешать будет.
А техник отвечает:
— Жалко мне его. Что же ему одному дома сидеть? Пусть тоже посмотрит. Он у меня смирный.
И правда, картину начали, Уголек под скамейку забрался, лежит, помалкивает. А когда стрелять начали, и совсем затих. Не любил он вообще выстрелов. Но потом, когда Петр с женой в карете поехали, Уголек вдруг как выскочит — да к экрану, прыгает на него, лает, хочет лошадей догнать.
Пришлось свет дать. Технику неудобно. Взял он Уголька на руки, песет через весь зал, стыдно ему за своего друга, а тут еще и генерал здесь. Но генерал ничего, рассмеялся.
— Вот это, — сказал, — зритель, я понимаю.
Бочин так больше и не пришел картину досматривать.
В Чехословакии, в городе Братиславе нас застал конец воины.
Простились мы с гостеприимными чехами, погрузились в эшелон. Возвращаемся на родину. И Уголек с нами в офицерском вагоне едет.
Когда Венгрию, знакомые места проезжали, — офицеры говорят:
— Ну, Уголек, вот твой дом. Слезай, попутешествовал.
А он притих, залез под полку. Будто бы и вправду боится, как бы не высадили.
И вот, в Румынии, на одной из станций потерялся Уголек. Техник куда-то из вагона вышел. Уголек запоздал, выскочил за ним и потерялся. Может быть, спутал эшелоны, — их там много было. Звали, звали Уголька, искали, искали все… Но поезд не ждет, так и уехали.
На техника прямо смотреть тяжело было. Да и все приуныли. Как не приуныть? На войне люди о доме, о близких тоскуют, а Уголек каждому дом напоминал, и каждый солдат для него ласковое слово находил, и Уголек всех своих знал и каждому по-собачьи улыбался.
Но оказалось, зря мы грустили. В Яссах, это перед самой границей нашей, вдруг смотрим, — по шпалам скачет наш Уголек. Прибежал, визжит, прыгает, к технику ласкается. И тот его гладит, смеется. Неизвестно, кто из них и рад больше. Так мы и не узнали, с кем он с той станции приехал и как нас нашел. Только уж тут Бочин его в вагоне на ремень привязал.
— Довольно, — говорит, — тебе бегать.
На ремне Уголек и государственную нашу границу переехал. Когда документы проверяли, один из наших офицеров в шутку сказал:
— У нас тут один иностранец без пропуска едет.
Пограничники посмотрели, рассмеялись.
— Пускай, — сказали, — едет, у нас живет.
Случилось так, что вскоре мне пришлось перейти в другую часть, и я с тех пор больше не видел ни Бочина, ни Уголька.
А позже, через полгода, когда я уже совсем домой вернулся, застаю у себя письмо из Ярославля от Бочина. Он опять на заводе работал и Уголек с ним приехал. Они, оказывается, на Дальнем Востоке побывали и вместе до Порт-Артура дошли.
«Он от меня теперь совсем отбился, — пишет техник про Уголька, — всё с сыном. Тот утром в школу, и он за ним. Потом домой прибежит, поспит, побегает и опять к концу занятий сына встречать. Ну, тут уж до вечера не расстаются».
Так Уголек в пяти странах и на двух войнах побывал, а жить в Ярославле остался.
Александр Валевский Ремешок
Рассказ
Рис. В. Петровой
В воскресный день, с самого утра, на школьном катке толпились ребята.
Безветренная, тихая погода и легкий морозец способствовали успеху соревнования. К двум часам дня оно уже подходило к концу. Осталась только последняя дистанция — 500 метров. Ясно определились два лидера: Коля Сизов из 6-в и Витя Баландин, учившийся в этом же классе во вторую смену. По сумме очков у обоих были равные результаты. Теперь всё решала пятисотметровка.
Болельщики горячо обсуждали успехи и неудачи своих друзей одноклассников. Кое-где споры приняли настолько бурный характер, что ребят пришлось разнимать. Друг Баландина — Лешка — изредка подпрыгивал и кричал:
— Баландин всё равно обойдет! Обойдет! Ура! Да здравствует Баландин!
В шести забегах на 500 метров участвовало 12 бегунов. Волей жребия лидеры состязания — Коля Сизов и Витя Баландин — были разлучены. Сизову достался восьмой номер — он должен был идти в четвертом забеге, Баландину — номер два — первый забег.
Когда лидер вышел на старт, наступила полная тишина. Баландин был почти на полголовы выше своего напарника. Как у заправского бегуна-скорохода, черное трико и серый свитер плотно облегали его стройную и крепкую фигуру. Без шлема, с непокрытой головой, он озорно и бойко оглядывал столпившихся у старта ребят и всем своим независимым и победоносным видом как бы говорил: «Вот я вам сейчас покажу, как надо бегать!»
Он был уверен в себе. Пятисотметровка — это его «коронная дистанция». Правда, за последние дни на тренировках Коля Сизов тоже показывал прекрасное время, но ведь он — Баландин — сильнее, выносливее, находится сегодня в очень хорошей спортивной форме и надеется сбросить одну-две секунды. Нет, Сизову его не достать!
— На старт! — крикнул физрук. — Внимание! Марш!
Баландин пробежал два-три метра без скольжения и, набрав скорость, пошел своим обычным, сильным, размашистым шагом, ежесекундно убыстряя темп.
Лешка, бесцеремонно растолкав ребят, пролез вперед и, сложив руки рупором, начал оглушительно и надрывно кричать:
— Витя! Да-а-авай! Крой!
Он в волнении сплевывал на лед и сопел носом:
— Давай, крой, Витя!
Но Баландин, кажется, не нуждался в моральной поддержке. Он превосходно бежал и только на перебежках как-то мял шаг, раскачивался, терял темп, становился мешковатым и грузным.
— Тяжел, Баландя, на поворотах! — заметил авторитетно один из болельщиков.
— Скребет по льду! — поддержал другой. — Зазнался чемпион!
— Что тако-ое? — протянул нараспев Лешка, услышав замечание ребят. — Да знаете ли вы, мокрые курицы, что вам и во сне не приснится так бегать!
Критики, зная горячий нрав Лешки, благоразумно промолчали.
Баландин пришел первым, показав пятьдесят восемь и три десятых секунды.
Его поздравляли друзья. Ему долго аплодировали. Присутствовавший в полном составе 6-й класс принялся качать своего чемпиона.
Время следующих забегов было ниже показанного Баландиным, и теперь все с нетерпением ждали выступления Коли Сизова.
Он поступил в эту школу всего месяц назад, приехав с матерью откуда-то из Сибири, еще не успел приобрести здесь друзей. Большинство ребят услышало о нем сегодня только впервые, когда он с таким успехом выступил на состязаниях, угрожая побить рекорды их признанного чемпиона.
Коля Сизов был мал ростом, худощав, тих и очень застенчив. Учился он хорошо. Его немногословные, неторопливые, но прямые и точные ответы на уроках освещали всегда самую суть вопроса и вызывали неизменно одобрение учителей. От этого Коля еще больше смущался, краснел, старался не глядеть на товарищей и поднимал взгляд своих серых спокойных глаз только тогда, когда чувствовал, что на него уже никто не обращает внимания. Вот и сейчас, в противовес Баландину, который гордо и самодовольно хвалился своими успехами перед ребятами, Коля Сизов скромно сидел на скамеечке, ожидая забега. Он постукивал по льду своими старенькими, большими и неуклюжими «бегашами», словно пробовал их прочность, и задумчиво вертел в руках оборванный ремешок.
Баландин, оставив, наконец, своих почитателей, проехал мимо него.
— Витя! — окликнул его Сизов.
— Ну? — остановился Баландин. — Чего тебе?
Коля смотрел на ботинки Баландина, перетянутые двумя прочными сыромятными ремнями.
— Выручи на один забег… Порвался, понимаешь?.. — и он показал порванный ремешок. — В левой ноге нет устойчивости, — надо бы укрепить каблук. Посмотри, пожалуйста, всё ли у меня там в порядке. Я, понимаешь, так не вижу, а снимать ботинок сейчас уже некогда.
Коля Сизов присел на лед и вытянул вверх левую ногу.
Баландин неохотно, двумя пальцами в перчатке, взялся за его конек. Его зоркие черные глаза сразу увидели то, чего не мог заметить Сизов, не разуваясь. Расточив старую резиновую подметку, наружу вылезли три заклепки.
— Проживет сто лет! Ерунда! — сказал Баландин, хотя отлично видел, что это совсем не ерунда.
— Надо бы ремешок для страховки, правда? — спросил Коля.
— Ну, так что ж!.. Надевай!
— Да вот достал один, а он лопнул… — смущенно завертел Коля в руках обрывки ремешка.
— Ты и мои порвешь! — презрительно процедил сквозь зубы Баландин. — А я потом изволь по магазинам болтаться! Интересное занятие! Хороший спортсмен должен позаботиться обо всем перед соревнованием, а не выходить на беговую дорожку раззявой и попрошайкой!
— Это верно! — вздохнул Коля Сизов, стыдливо заливаясь румянцем.
— То-то и оно! — буркнул Баландин. — Вперед наука!
И он поехал к группе ребят, которые оживленно звали его к себе.
Кто-то сзади крепко схватил Колю за руку. Он быстро обернулся. Перед ним стояли двое ребят-болельщиков. Коля раньше не видел их. Они подошли к концу разговора его с Баландиным и всё поняли.
— Мы тебе достанем ремешок в три счета! Сейчас! Живо! Посиди здесь, — не отъезжай! — затараторили они в один голос. — Этот индюк никогда ничего не даст!
Коля радостно улыбнулся им. «Давайте!»
Но было уже поздно.
— Четвертая пара, на старт! — крикнул в рупор физрук. — Поторопись! Начинаем забег!
Взмах флажком стартера — и два бегуна рванулись вперед. Сразу стало ясно, что Коля Сизов не уступит, что он полон решимости выиграть призовое место. Уже на первой прямой Коля метра на три оторвался от своего напарника и стал мягкой, скользящей перебежкой стремительно огибать поворот. Вся его легкая маленькая фигурка на какую-то долю секунды сжималась в комок, припадая на сильно согнутую в коленке левую ногу. Руки, как два острых крыла, отлетели назад, словно хотели где-то там, за спиной, погладить клинок правого конька. Затем на мгновение он слегка выпрямлялся, быстро скрестив ноги, перенося центр тяжести слева направо, и снова стремительно несся над голубой ледяной дорожкой, словно стриж в бреющем полете над застывшей гладью реки.
— Перебежечка первый сорт! Красота! Будто по воздуху плывет! — одобрительно заметили болельщики и сразу от волнения зашмыгали носами и загудели, когда Сизов, увеличивая скорость, пошел по прямой.
— Вот это да! Ух, братцы, товарищи, жмет! Смотрите, что делается!
— Ерунда! Захлебнется! — ухмыльнулся Лешка. — Не выдержит темпа. Мало каши ел! — и он ободряюще похлопал по плечу своего друга Баландина. — Верно я говорю, Витя?
Но Баландин не слышал его, не смотрел на Сизова, он в волнении сжимал в руке новенькие, недавно подаренные часы и нетерпеливо следил за скачками секундной стрелки. Ему казалось, что она двигается еле-еле, будто что-то прижимает ее к циферблату и задерживает ход.
Первый круг Сизов прошел за двадцать три и шесть десятых секунды. Оставалось еще полтора круга.
Волнение зрителей нарастало, а вместе с ним, казалось, росла и скорость Сизова. Напарник отстал метров на 50.
Когда Сизов, второй раз обойдя дорожку, миновал старт, физрук громко крикнул:
— Сорок восемь секунд!
— Сорок восемь! — прокатилось гулом по толпе болельщиков, и кто-то неистово крикнул, срываясь на высокой ноте:
— Коля, жми! Ко-о-оленька!
На последний поворот Сизов вышел под сплошной, ликующий неумолкаемый свист. Толпа ринулась к финишу.
Баландин уже не смотрел на часы. Он крепко, до боли двумя руками вцепился в плечо своего друга Лешки. А тот только сплевывал на лед и отчаянно причитал:
— Ай-ай-ай! Ай-ай-ай!
Вот и конец поворота. Короткий отрезок прямой и финиш.
Физрук и его помощники — судьи — волновались не меньше других. Они видели, что Сизов бьет рекорд Баландина, показывая исключительное время. Сейчас он выйдет на прямую. Еще несколько мгновений — и остановленный секундомер покажет 57 секунд. Ну, может быть еще одну или две десятых секунды, но ничуть не больше! Нет, нет! Это ясно!
Толпа свистела, махала шапками, неистово кричала в один голос:
— Си-и-и-зов!
Он последний раз сложился в комочек, присел в резком наклоне на левую ногу и вдруг… Словно неведомая воздушная волна бросила его в сторону. Он звонко вскрикнул, взмахнул в отчаянии руками, пытаясь удержать равновесие, но, увлекаемый инерцией, повалился на лед, перевернулся через голову и, проехав на спине до края дорожки, закопался в снежном сугробе.
На руках его унесли в раздевалку. Он не мог встать на левую ногу. Всё лицо его было в мелких царапинах, порезанное жесткими кристаллами снега.
На все вопросы ребят он ничего не отвечал. И только когда физрук осторожно расшнуровывал ему ботинки, нагнулся и ласково шепнул:
— Ах, дорогой ты мой!.. Что же это случилось такое?!.
Губы Сизова задрожали:
— Ремешок… Нужен был ремешок… — и слеза, обжигая царапины, скользнула по его лицу.
Утром вся школа знала об этом случае.
Со слов случайных свидетелей, которые слышали, как Сизов попросил у Баландина ремешок — история стала известна всем.
Первым, кого встретил Баландин в этот день, был друг, верный почитатель его спортивного дарования и злостный болельщик Лешка.
Он угрожающе мрачно посмотрел на Баландина и сказал:
— Подло! Я тебе больше не друг! Это очень подло!
И он, невзирая на негодующие протесты нянечки-гардеробщицы, несколько раз мрачно сплюнул на пол и яростно растер ногой.
Когда Баландин вошел в класс, его встретило полное молчание и тишина. Но он чувствовал, что в этой тишине уже родились жесткие и гневные слова осуждения. От них не удастся весело отмахнуться. Их нельзя так просто забыть. Они требуют ответа.
Сергей Давыдов Рыбак
Один заядлый рыболов Мне говорит однажды: — Ну до чего же мне улов Попался нынче важный! Поймал я щуку пуда в три, Толста же — в два обхвата. Да во какая, посмотри, У щуки голова-то. — Кричим хозяйке: «Не взыщи Займем мы целый угол!..» И что ж! Котенок утащил Ту щуку… ах, ворюга!Я. Райнис Лиса и крот
Лиса сказала: «Милый Крот, Скажи мне откровенно, Зачем, дружок, так узок вход Норы твоей подземной?..» — «Затем, — из своего угла Ответил Крот Лисице, — Чтоб в гости ты бы не смогла Сюда ко мне явиться…»Перевел Б. Тимофеев
Петер Силс Сороки
Басня
Однажды, пообедав, Кот Уснул на солнце без забот И, пошевеливая лапкой, Играл во сне какой-то тряпкой. Случилось там Сороке быть как раз, Она сейчас же с места сорвалась, К соседке полетела: «Ох, милая, какое дело! Большая новость! Слышь-ка: Кота за лапу укусила Мышка!..» Второй Сороке только б поболтать, — Помчалась к третьей стрекотать: «Ах, дорогая! Новость не простая: Две лапы у Кота мышей отгрызла стая!..» Та, новость услыхав, Всплеснула крыльями — и с дерева стремглав… Кричит, летя от ели к ели: «Кота и вовсе мыши съели!..» Лес загудел… Слух ширится, растет, А тут еще одна Сорока Такую новость разнесла широко: «Подруженьки! Погибший Кот Вдруг ожил и сюда идет! Ведь это страшный суд! Впервые Воскресли мертвые! Спасайтесь все живые!..» Для сплетников полезней нет урока: Не всяким слухам верь, как глупая Сорока!Перевел Б. Тимофеев
П. Кабанова Налим
Басня
Собрались как-то рыбы в путь — На дальние места взглянуть. В Цимлянском новом море Поплавать на просторе. В походе вдруг скандал: Налим отстал! Устроили совет: «Как подстегнуть такого лежебоку? С налимом сладу нет!» И вот пошла морока: Совет к налиму прикрепил леща. За плавники приятеля таща, Под хвост, под бок толкая, Лещ изнемог. «Нагрузка мне такая Не по плечу! Эх, кто бы мне помог! А ну-ка, окуни, сюда! Не справиться! Беда!» И окуни вокруг налима засновали! «Тяни! Толкай! Да в тину не пускай!» Устали! «Довольно нам из кожи лезть! Оставим лежебоку здесь! Пускай один попробует доплыть!» Но тут, взялась откуда прыть, Налим пошел! Пошел! И вскоре В Цимлянском плавал море. С учеником одним вот так пыхтели. Он всё равно учился еле-еле, Как наш налим! Не хватит ли возиться с ним?Владимир Иванов Веселые стихи
Мягкий знак
Петя думал: «Трудно… Сложно… Так писать или не так?» — И поставил осторожно Чуть заметный мягкий знак. Призадумался немного, На тетрадь уставя взор, И решительно и строго Мягкий знак резинкой стер. Он не помнил нужных правил. Снова глянул на тетрадь. Мягкий знак опять поставил И, подумав, стер опять. Вновь задумался сурово. Да, задача непроста. Мягкий знак поставил снова И, подумав, стер с листа. — Эх, беда! — сказал в досаде. Положить перо пришлось. Школьник наш в своей тетради Продырявил лист насквозь!На уроке
Петя с Шурой — две сороки, Скучно им без болтовни. Получили на уроке Замечание они. И… пошла беседа снова У шумливых пареньков. Ольга Павловна сурово Поглядела на дружков: — Вы о чем сейчас болтали? — Мы, — два друга отвечали, — Говорили, что нужна На уроке тишина!Про лыжи
Рассказать хочу про лыжи И про Петю паренька. Рассуждал он, вот поди же: — Лыжи — проще пустяка! Лыжи — это не забота. Даже в бурю и пургу, Захочу — и стать в три счета Первым лыжником смогу: Покачу — и весь тут сказ. Раз! Что мне лыжи? Трын-трава! Два! Кровь, кипи, лицо, гори! Три! — Чтоб на лыжах бегать ловко, С тренировкой дружен будь! Чем упорней тренировка. Тем быстрей на лыжах путь. Напрямик быстрее ветра Мчались лыжники вперёд И считали километры. А у Пети свой был счет: С головой в снегу увяз — Раз! Ноги вытащил едва — Два! Снег и в обуви внутри — Три! Путь у Пети был особым. У ребят всех на виду Шел Петюша по сугробам, Ноги вязли, на беду. Дотащился понемногу. Говорят, что зимним днем Неизменно всю дорогу Лыжи ехали на нем!К. Меркульева На ропшинских прудах
Рис. Н. Ризнича
Форель любит воду чистую, прозрачную, ключевую. Рыба это строгая: издали угадает человека, — вильнет хвостом — и нет ее! Так говорят старые рыболовы.
Но вот мы подходим к берегу большого Ропшинского пруда, и навстречу нам устремляется быстрая стайка рыб. Мы идем по деревянным мосткам, установленным над зеркалом пруда. Посмотрите под ноги: рыбы становится всё больше и больше! Да ведь это форель! В прозрачной зеленоватой воде, освещенные солнцем, рыбки кажутся сиреневыми.
Их сотни, тысячи. Они мчатся к нам отовсюду, и кружатся, вьются, и неотступно плывут за нами, напоминая цыплят, бегущих за наседкой.
— Проголодались, сейчас будете обедать, — говорит моя спутница — заведующая кормоцехом — Антонина Сергеевна Видяева. Она в синем халате, в руках у нее ведро, наполненное серыми комочками. Из ведра пахнет вареным мясом, мукой и еще чем-то.
Антонина Сергеевна разбрасывает корм направо и налево. И сразу вода буквально закипает вокруг нас.
Не следует, однако, думать, что молодые форельки с первого дня, как их стали кормить, начали кидаться людям навстречу. Сперва они расплывались, когда приближался человек даже с кормом. Потом стали робко подплывать, воровски хватали лакомый кусочек и улепетывали с ним. Но вскоре осмелели и сделались совсем ручными.
Когда я, например, опустила в воду руку с кормом, — они начали хватать меня за пальцы, очевидно воображая, что это какой-то новый, особенно вкусный корм.
Да, эта форель ведет себя не так, как те «строгие» рыбы в ручье! Да она и внешне отличается от ручьевой. Когда в азартной погоне за кормом некоторые рыбки выпрыгивали из воды, было ясно видно, что у них вдоль тела — серого, с типичными для форели коричневатыми пятнами — проходит полоса, отливающая на солнце всеми цветами радуги. Это радужная форель, особая, «одомашненная» форма форели. Издавна разводят ее в прудах, которые питаются чистыми ключевыми водами, богатыми кислородом и кальцием. Радужная форель нерестится весной, стойко переносит теплую температуру воды летом, растет быстро. Быстро по сравнению с ручьевой форелью, которая нерестится осенью и за 4–6 лет еле успевает стать рыбкой весом в 150 граммов.
Давно разводили в Ропше форель. Была Ропша одной из пригородных старинных царских дач; в роскошном парке при дворце были выкопаны пруды, питавшиеся чистейшей водой ручья Стрелка и других.
Форель развели сперва ручьевую и лишь с конца прошлого века стали разводить радужную. Но хотя, как мы уже сказали, росла она быстрее ручьевой, попрежнему оставалась редкостью, деликатесом, попадала главным образом на царский стол да в самые роскошные петербургские рестораны. Рабочему или мелкому чиновнику вряд ли приходилось пробовать эту, чудесную на вкус, нежную рыбу. Где уж там! Ведь одна маленькая «порционная» форелька стоила дороже, чем, например, пуд белозерского снетка.
Так ценилась она не только потому, что медленно растет, но и потому, что форель, которую выращивают в прудах, надо кормить с самого раннего возраста.
Чтобы прекрасная эта рыба получила широкое распространение, надо научиться выращивать ее скорее и дешевле, чтобы на многих прудах можно было организовать форелевые хозяйства.
Над разрешением этих вопросов и трудятся наши рыбоводы в Ропше.
Как же заставить форель расти быстрее?
Что если попробовать кормить ее круглый год, и зимой тоже? Форель зимой не спит, а только делается более вялой.
Некоторые заграничные форелеводы указывали, что иногда, «если надо», можно зимой немного подкормить рыбу, но всерьез этим вопросом никто не занимался.
Директор ВНИОРХа — Всесоюзного научного института озерного, речного и прудового хозяйства — Мария Никифоровна Грачева решила поставить опыты выращивания форели в зимних условиях.
Для этого были устроены небольшие садки из металлических сеток, натянутых на деревянный каркас. Садки установили в пруд с проточной водой. Сюда и поместили отобранных после осеннего облова рыбок, весом по 9–11 граммов. Хотя садки были одинаковые, но в одни пустили больше рыбок, а в другие меньше.
Температура воды во всех садках была 3°. В сильные морозы вода всё же покрывалась льдом; его разбивали и сбрасывали. Аккуратно три раза в день форель кормили. Только в два контрольных садка не бросали корм.
Весной рыбок выловили и снова взвесили. Оказалось, что они отлично подросли. Некоторые перетягивали 20-граммовые гирьки, некоторые выросли в 3 раза. А отдельные «великаны» весили около ста граммов!
В контрольных садках, где форель не кормили, картина была иная, В садке, где плавало 50 форелек, рыбки всё же чуть-чуть подросли и стали тяжелее на два грамма. Очевидно, кое-какую пищу в воде они себе находили.
А в садке, где было 200 некормленных, — рыбки совсем не выросли и похудели на 1 грамм.
Любопытно, что лучше всего выросла форель там, где рыбье население было самое плотное, — 600 штук на квадратный метр водной площади. Эти рыбы вдвое перегнали своих собратьев из садка, где было только 50 рыбок на такой же площади. А ведь корма отпускали на каждую штуку одинаково.
Ученые-рыбоводы объяснили эту загадку так:
У радужной форели, которая зимовала при особо плотной посадке — в стаде, — выработался так называемый «стадный рефлекс». Во время кормления рыбки хватали пищу на лету, ни кусочку не давали упасть на дно, а при менее плотной посадке рыба брала корм не так стремительно, иногда его приходилось высыпать в воду, — на кормовой столик, — вода корм размывала, часть его пропадала.
Таким образом, рыбы в стаде получали больше пищи. Кроме того, так как они были очень деятельны и энергичны, то и усваивался в их организме корм лучше; а значит, рыбки росли быстрее. Это были очень важные и интересные наблюдения.
А нельзя ли удешевить корма?
Так как форель — хищник, то заграничные ученые пришли к выводу, что форель с самого малого возраста накрепко «привязана к животному белку», непременно должна питаться животной пищей, а растительную ей можно давать лишь изредка — в виде исключения, и то пользы от этого никакой нет.
Но в Ропше решили выяснить: нельзя ли «отвязать» форель от дорого стоящего животного корма, ввести в рацион ее питания растительную пищу.
Попробовали в одном садке зимой кормить форель животной пищей, а в другом — растительной. Оказалось, что «вегетарианцы» отстали в весе от «мясоедов» только на один грамм!
Но, может быть, мясо сделалось у них от растительной пищи хуже?
Проверили и это. Ничуть не бывало!
Теперь рыб кормят смесью, которая состоит из тюленьего мяса, рыбной и мясокостной муки, мучных отходов, солодовых ростков, моркови, крапивы. Форель в опытных садках получает всевозможные комбинации кормов. Поиски самых питательных дешевых кормовых смесей продолжаются.
Оказалось, что для зимнего роста форели большое значение имеет температура воды. Там, где температура воды не опускалась ниже 5–6°, форель за 108 дней выросла так, как обитатели прудов с холодной водой успевали вырасти только за 180 дней.
Зимнее выращивание форели на искусственных кормах проводится впервые.
И вот представьте себе: лютый мороз, ветер, пруд покрыт льдом. Из кормокухни выходит закутанная женщина в полушубке, в валенках. В руках у нее знакомое ведро с сероватыми комочками. По мосткам подходит она к проруби, которая уже затянута новым слоем льда. И сквозь эту ледяную корочку, как сквозь стекло, видны толпы форели, которые устремляются к проруби.
Женщина пробивает ледяную корку и кидает в воду корм.
Всё же зимой форель ведет себя не так, как летом. Летом у каждого из четырех кормовых столов, расположенных на четырех сторонах пруда, скармливали ведро корма. Зимой эту порцию форель сразу съесть не может и, не доев, расплывается.
Тогда Видяева стала кормить своих питомцев так: давала полведра у первого столика, затем шла дальше — ко второму, третьему, четвертому. И всюду давала по полпорции. А к тому времени, как она, обойдя пруд, возвращалась к первому столику, — форель опять ее ожидала и с новым аппетитом заканчивала еду.
Настойчиво трудясь, ставя всё новые опыты, рыбоводы хотят научиться как можно дешевле и быстрее, — в полтора-два года выращивать «товарную форель», чтобы этим способом воспользовались десятки будущих форелевых хозяйств.
Форель далеко не единственная обитательница ропшинских прудов.
Осенью, после облова, специальные авточаны увозят из Ропши в живорыбные магазины Ленинграда не только форель, но и карпа.
Мне пришлось присутствовать на облове одного из прудов, заселенных карпами. Это были главным образом сеголетки — молодь «сего лета», этого года, еще не товарная продукция, как говорят рыбоводы. Сеголеткам карпа, как и форели, предстояло переселение из выростных прудов в зимовалы, на зимние квартиры. Только перезимовав и прожив еще лето в нагульных прудах, карпы становятся взрослыми, товарными рыбами.
Пруд спускали уже несколько дней, и в пристроенных у водоспуска кошелях появились первые карпы.
Но какие они разные! Есть среди них совсем маленькие рыбки, которые легко могут уместиться на детской ладони, а есть и вполне солидные. Некоторые, серебристые, покрыты ровной чешуей, а иные почти голые, только сбоку ряд золотистых кругов — колец.
Почему же они так не похожи друг на друга? Ровесники ведь, жили в одном пруде, подкармливали всех одинаковым кормом.
Дело в том, что карпы на севере растут гораздо хуже, чем в средней полосе и южных районах нашей Родины. Слишком долго длится у нас зима. А при температуре воды 1–1/2° карп почти перестает двигаться и есть. В некоторых ропшинских прудах, там, где вода потеплее, карпа попробовали подкармливать и зимой. Карп от корма не отказывался. Но кроме корма в желудке у него еще оказались олигохеты — червячки, живущие в иле, — значит, карп и сам не дремал, промышлял, копался в иле и зимой.
Но даже карпы, которые не спят в зимнее время и берут подкормку, слишком медленно растут.
«Надо вывести холодоустойчивую и быстро растущую породу», — решили рыбоводы.
Уже несколько лет, как в Курской области были получены гибриды от скрещивания амурского сазана с карпом. Такого же результата добились и в Новгородской области.
Кандидату биологических наук Валентину Сергеевичу Кирпичникову, который ведет работу по гибридизации амурского сазана с карпом, удалось вывести уже третье поколение.
Курские гибриды несколько лет выращивались в ропшинских прудах. А в прошлом году весной Кирпичников скрестил новгородских и курских гибридов. «Новгородо-курско-ропшинские», — так шутя называют здесь это новое поколение карпосазана. На него возлагают большие надежды.
Ведь родители этого гибрида росли и воспитывались в разных областях, а еще И. В. Мичурин отмечал, что потомки таких родителей дают поколение, которое лучше приспосабливается к новым условиям жизни.
Так и оказалось. С первого взгляда видно, что гибриды сеголетки гораздо крупнее местных карпов.
Десятки тысяч мальков, которыми зарыблен пруд, — одна семья — родные братики и сестрички. Собственно, даже не семья, а часть семьи. Всей семье — численностью в 85 тысяч мальков-гибридов было бы тесно в одном пруде, их расселили еще в двух. Всё восьмидесятипятитысячное население этих трех прудов произошло от одной матери. Это большая рыба, покрытая ровной серебристой чешуей. Чешуйчатым был и отец этого многочисленного семейства.
А вот дети уродились у них разные; тут произошло так называемое расщепление. Тех, что покрыты серебристой чешуей, так и назвали «чешуйчатыми», а голых с золотыми кольцами, по-разному расположенными на теле, — «разбросанными».
Из всего этого разнообразного потомства надо отобрать лучших и создать из них свое стадо производителей, унаследовавших от карпа быстрый рост, а от сазана — устойчивость к холоду.
Всё это рассказывает научная сотрудница ВНИОРХа — Любовь Игнатьевна Лебедева. Она тут же, на облове, делает «навески»: берет из кошеля ведро рыбы (с водой, конечно!), узнает вес всей рыбы в ведре, пересчитывает рыбок, чтобы узнать средний вес; отдельно пересчитывает и взвешивает гибридов чешуйчатых и разбросанных, чтобы узнать, какие лучше растут.
Оказывается, гибриды намного, иногда в 2–3 раза, обогнали карпов — и по росту, и по весу. Среди них попадаются рыбки в 60, 80, 100 и больше граммов! Их отсадят в отдельные садки; зимой они будут под особым наблюдением.
Но и на карпов, выловленных из пруда, тоже нельзя обижаться: хоть и отстали от гибридов, но для наших северных мест совсем они неплохие, — толстенькие, упитанные. И это тоже не случайно. Им созданы самые лучшие условия для роста, развития, буквально с первого дня жизни.
Как только сошел снег и немного обсохла земля, ложе нерестового пруда хорошо очистили, пробороновали. Вскоре оно зазеленело свежей травкой. А туда, где оказались плешинки, привезли несколько возов лучшей луговой травы с дерном. Она быстро прижилась. Только после этого пруд залили водой.
Когда вода нагрелась до 10°, сюда пустили на нерест карпов. Через несколько дней вода еще потеплела, и тогда опытный глаз рыбовода обнаружил на каждой травинке еле заметные желтые бисеринки-икринки. Они приклеились к растениям, их омывало водой, и в них уже бурно развивалась жизнь.
Так вот для чего нужна была хорошая трава в нерестовом пруде! Теперь к пруду привезли несколько возов навоза и уложили на берегу грядкой так, чтобы вода постепенно его размывала. Привезли и вылили несколько ведер навозной жижи в места поглубже, где не было икринок. Сачками из планктонного газа собрали с поверхности других прудов с полкилограмма планктона и тоже спустили его в нерестовый пруд.
Зародыши в икринках развивались три дня. Затем, прорвав оболочку, из каждой выклюнулись личинки — маленькие уродцы с огромным желточным мешком — запасом продовольствия, которым снабдила их мать.
А к тому времени, как желточный мешок рассосался и личинка стала искать, чего бы покушать, вся вода кишела микроскопическими рачками — планктоном.
Только поспевай хватать!
Когда же личинки подросли и стали приличными мальками, до 350 миллиграммов весом, их выловили и прямо с питательным планктоном переправили в выростной пруд, где тоже заранее всё было подготовлено к приему гостей и где подрастали всякие туфельки, хиронамиды и прочий лакомый корм для мальков более старшего возраста.
Ну как тут было не расти и не толстеть!
И всё-таки самыми крупными оказались чешуйчатые гибриды. И хотя рыбы так отличались друг от друга, но во время обловов вели себя одинаково.
Уже почти спущен пруд, местами обнажилось ложе, а в кошеле совсем еще мало рыбы. Куда же девались карпы?
— Пойдемте, — говорит мне Лебедева, — я вам сейчас их покажу.
Идем вдоль пруда Быстрянка № 4, где идет облов, к Быстрянке № 3, откуда через речку Быстрянку поступает вода в 4-й Быстрянский. Спешим, насколько позволяет вязкий ил, который буквально сдирает с ног резиновые сапоги.
Наконец мы возле «монаха», — так называют наружную вертикальную часть водоспуска. Сильной струей воды здесь выбита довольно глубокая яма.
— Вот они, жулики, куда забились, — говорит Лебедева.
Обычно светлая, прозрачная вода в яме черна. Да ведь это карпы!
Огромными стаями, очевидно за какими-то своими вожаками, они мечутся, то подплывая к «монаху», то заворачивая обратно. Отдельные карпы толкутся у самых берегов, пытаясь зарыться в ил.
— Почуяли, что вода спадает, ищут выхода… Ой, что это у тебя на голове, дружок?
Лебедева опускается на колени у водослива, где толпа карпов гуще всего, и просто так, рукой вынимает из воды рыбку. На голове у нее два белых пятнышка.
— Чешуя содрана. Кто это ее так угостил? — хмурится Любовь Игнатьевна, выпуская обратно карпа и подхватывая другого, — вот и у этого… Ловили вас, что ли?
Назад мы идем вдоль речки Быстрянки и тут, на перекатах, видим множество рыбы; она стремится вверх, против течения. Рыбок кружит, переворачивает, бьет о камни, сносит вниз. Но они упорно пробиваются вперед и вперед, спасаясь из мелеющего пруда…
— Вот они откуда, белые пятна, — усмехается Лебедева. — Да, тут еще и не так можно ободраться!
Но проходит время. Уже только ручей бежит по ложу пруда. Видно, чуют карпы — в яме не отсидишься. И кошель наполняется рыбой.
Теперь только успевай сортировать да отгружать в брезентовые чаны на повозках, да скорее переправлять в зимовалы.
В одном из кошелей плещутся крупные рыбины. Это карпы двухлетки. Они делают гигантские прыжки. Вот один чуть не выпрыгнул из сетки, зацепился плавником и повис. Он отчаянно бьется о сетку. Приходится срочно снимать его сачком и водворять обратно.
— Среди этих двухлеток есть меченые. Весной мы отрезали им часть нижних лучей хвостового плавника. Сейчас их найдем и посмотрим, как они подросли. — Лебедева ловко подхватывает сачком одну из крупных рыбин; но у той хвост вполне нормальный. Вытаскивает еще несколько. У всех хвосты как хвосты! Я смотрю на Лебедеву вопросительно. Она пожимает плечами:
— Отросли…
— Как это? Не понимаю!
— Хвосты отросли!
Действительно, ни одной рыбы с подрезанным плавником… Отросли хвосты — и всё тут! Не от плохой жизни, конечно!
— Ладно, — говорит Лебедева, — а пока что, лучшим гибридам я всё-таки хвосты подрежу; уж за зиму, я полагаю, они никак не отрастут!
В пруде Быстрянка № 3 карпов кормили, а в Быстрянке № 4 они жили на естественных кормах. Тех и других отправят на зимовку в два разных пруда, с теплой и холодной водой, и будут вести наблюдения по четырем группам, чтобы узнать, в каких условиях карпы-гибриды лучше растут и зимуют.
Перед тем как выпустить в зимовалы, карпов купают: им устраивают пятиминутную солевую ванну. Делается это для того, чтобы уничтожить жаберных сосальщиков и других паразитов.
Солевая ванна освобождает рыб от этих неприятных жильцов, однако карпам это купанье не доставляет особого удовольствия. Самые слабые рыбки при погружении в солевую ванну испытывают так называемый шок: они теряют подвижность, всплывают и лежат на боку, слабо шевеля плавниками. Некоторые переворачиваются кверху брюшком и так медленно плавают. К чести ропшинских карпов, должна сказать, что большинство держалось в солевой ванне молодцом: медленно, но плавали, как бы с трудом раздвигая воду. И очень мало лежало «в обмороке».
Но вот пять минут прошло. Ванна окончена. Теперь — под «душ», в свежую струю воды у «монаха». Соль смыта, рыбки быстро приходят в себя, снова весело плавают.
Можно и выпускать. Вильнув хвостиками, они расплываются, как бы растворяясь в воде…
Счастливой зимовки!
Мы пожелаем счастливой зимовки и матери этого многочисленного семейства. Всё лето плавала она в особом пруде, вместе с форелями производителями. Эту огромную — в 6 килограммов весом — рыбу сразу можно было узнать. Даже в воде ясно была видна на ее теле, немного ниже спинного плавника, большая белая цифра «5».
— Наша рекордистка, — говорят о ней рыбоводы.
И в самом деле рекордистка. Она дала не только весьма большое, но и стойкое к жизненным невзгодам потомство. Из 85 тысяч ее детей-мальков уцелела и выросла почти половина!
Теперь остается только подсчитать. Примерно 40 000 гибридов-сеголеток — весом в среднем 38 граммов каждый — дают полторы тонны живого веса. А если после зимовки выживет две трети рыбок, они к следующей осени вырастут уже до 500 граммов каждая.
Значит, общий вес их достигнет чуть ли не полутора десятка тонн!
Понадобится целая колонна авточанов, чтобы увезти эту семейку. Да, пятерок зря не ставят!
Недавно в ропшинских прудах появились гости, прибывшие издалека: байкальский омуль и ряпушка родом из Бурят-Монголии, из Баунтовских озер — отличные рыбы из семейства лососевых. Икра омуля и ряпушки доставлена на самолете.
К переселению омуля в ропшинские пруды многие рыбоводы относились недоверчиво. «Омуль! В Ропше? — говорили они. — Что вы? Да он у вас не выживет. Ведь в Байкале какая чистейшая вода, какие глубины! А в ропшинских прудах вода хоть и не плоха, да мало ее, мелко, пруды заросли водорослями, ила на дне целая подушка. Летом нагревается вода в прудах чуть не до 30 градусов. Скрутится, сварится ваш омуль!»
А омуль выжил! Выловили его даже больше, чем предполагали. И, снимая с чашки весов трепещущую рыбу, научный работник — Валентина Исаевна Ампилова — записывает вес омуля: 53 грамма, затем — 58… 63… и скромно говорит:
— Ничего, вырос прилично.
Что касается ряпушки, — дело сложнее.
Вы спросите: «А зачем было привозить ряпушку издалека? Ведь она водится и поближе — в Финском заливе и некоторых озерах Ленинградской области». Да, водится. И все эти ряпушки так же, как и бурят-монгольская, питаются главным образом планктоном.
Но дело в том, что баунтовская гостья — единственная из ряпушек, которая нерестится весной. Это и определило ее судьбу.
На широких просторах, залитых весенней водой, развивается богатейший планктон, но мало ценной рыбы, которая могла бы его как следует использовать.
Особенно важно переселить баунтовскую ряпушку в новые водохранилища-моря: Куйбышевское, Цимлянское и другие. Ведь к осени водохранилища, как говорят инженеры, «срабатываются», уровень воды в них понижается, икра осенне-нерестующих рыб обречена на обсыхание и гибель. Икра рыб, нерестующих весной, напротив, попадает в самые благоприятные условия для развития, так как водохранилище в это время наполнено. Ряпушке будет там раздолье.
Но к такому переселению ее нужно подготовить: воспитать и вырастить в прудах.
И вот тут-то ряпушка и причинила рыбоводам немало волнений и хлопот.
Зарыбляя весной пруды, выпустили десятки тысяч мальков ряпушки, а при облове попадают в кошель только сотни рыбок. Правда, вид у них хороший: рослые, упитанные, но всё же их оказалось слишком мало.
Куда же девалась большая часть рыбок? Что могло с ними случиться? Первое подозрение пало на омуля, с которым ряпушка находилась в одном из прудов.
Дело в том, что еще летом В. И. Ампилова отсадила несколько ряпушек в аквариум, чтобы было удобнее за ними наблюдать. А через некоторое время туда пустили довольно крупного омуля.
Ампилова по нескольку раз в день навещала рыбок.
И вот однажды она не досчиталась одной ряпушки. «Что такое? — подумала она. — Может быть, лаборантка, меняя воду, нечаянно выплеснула рыбку! Надо ей сказать, чтобы была внимательнее».
Но через несколько дней еще одна ряпушка бесследно исчезла. Теперь Ампилова и лаборантка дружно обрушились на кошку. Эта нахалка наловчилась здесь ловить рыбку!
Кошка была наказана и с позором изгнана из аквариальной.
Несколько дней всё было благополучно.
Но вот однажды, подойдя к аквариуму, Ампилова увидела юного омуля, одиноко плавающего в пустом аквариуме. Последние ряпушки исчезли.
— Вот что! — сказала Ампилова и подозрительно посмотрела на омуля: — Кажется, кошка была ни при чем!
Омуль безмятежно вильнул хвостом и опустился на дно.
— Съел! Слопал, негодяй, признавайся! — возмущенно воскликнула Ампилова.
Но разве от омуля можно было чего-нибудь добиться?
Пришлось ему попросту вспороть брюхо. И не зря. Ряпушки оказались там, как Красная шапочка в брюхе волка, с той лишь разницей, что Красная шапочка оказалась жива и невредима, а жизнь ряпушек была окончена.
Итак, омуль действительно мог съесть в пруде немало ряпушек. Но ведь в других прудах, например Артемьевском, который как раз при мне облавливали, омуля не было, а ряпушки всё-таки оказалось немного. В этом пруде была форель. Может быть, это она погубила часть ряпушек? Могли поразбойничать и колюшки, которые незаконно здесь развелись в немалом количестве. А может быть, ряпушке было слишком жарко? Ведь в сибирских озерах вода холоднее.
Кроме того, отдельные ряпушки были найдены в других прудах, куда баунтовскую гостью не высаживали. Очевидно, часть рыбок каким-то образом ускользнула из пруда, Может быть еще тогда, когда они были чуть заметными, тонкими, как волос, личинками.
Так или иначе, люди боролись за жизнь буквально каждой выловленной ряпушки.
Как только появлялась в кошеле рыба, ее сразу сортировали, отделяли ряпушку от форели, осторожно подхватывали сачками, отсаживали в более спокойный отсек, чтобы не било ее водой о неводок. Соберется несколько рыбок, — сейчас же их в ведро и в соседний пруд, в садок; там вода спокойнее, почище.
Поток рыбы становится гуще, — только успевай поворачиваться. А тут еще вороны слетелись со всего парка, разгуливают по вязкому ложу пруда, вдоль протоков, по краю еще наполненных водой впадин, так и норовят подхватить беззащитную рыбку. И сороки тут стрекочут, и галки — все тут.
— А ну-ка Юра, шугни их! — говорит Фенюшкин, командир облова, заведующий ропшинским отделением системы прудов.
Юра, студент практикант рыбного техникума, подхватив ружье, быстро уходит. Вскоре раздаются выстрелы. С криком взмывает вверх туча хищников. Улетели. Да только ненадолго, — скоро снова будут здесь. Много охотников поживиться рыбкой! Во время облова Кировского пруда карпы битком набили впадину, где еще оставалась вода. Ночью сюда прокрались, неизвестно откуда взявшиеся, два енота.
Пес Полкан, честно охранявший по ночам пруды, выследил воров и вступил с ними в бой. Во-время подоспевший хозяин Полкана отбил от разъяренного пса изрядно потрепанных енотов и посадил их в клетку.
Облов Артемьевского пруда продолжался.
— Василий Васильевич! — кричит Фенюшкину молодая белокурая работница, которая только что понесла ведро с ряпушками. — Ваня едет; я их прямо к Ване!
Два возчика — Ваня и Федор Иванович — переправляют рыбу в брезентовых чанах в зимовалы.
В повозку Федора Ивановича носят ведра с форелью, а в Ванину — ряпушку.
— Ну, Ваня, вези, да смотри выпускай поосторожнее!
— Знаю!
Ваня отправляется в отдаленный пруд с самой чистой водой.
Возвращаясь, радостно сообщает:
— Все живые. Одна сперва на бок легла, как я выпустил, а после повернулась, хвостом крутнула и пошла, и пошла…
Попадаются слабые, поврежденные при облове; этих везти далеко нельзя.
— Давайте, — предлагает Ампилова, — пустим их в соседний пруд, к карпам.
Две научные работницы ВНИОРХа, две Аси, спешат с ведром, где вяло плавают ряпушки, к пруду.
— Ой, смотри, одна на бок легла, — волнуется Ася, — не донесем!
— Попробуем всё-таки, — говорит другая Ася, — может, еще придут в себя!
Она осторожно опускает в пруд одну рыбку. Ряпушка беспомощно вплывает, лежит почти неподвижно, потом вдруг оживает, выравнивается. Вот замерла на миг, вот вильнула хвостиком — и ушла.
Выпустили вторую, третью… И эти следом! Все, кроме одной. Эту уже не разбудить. Не — в формалин. Пригодится для исследования.
Выжившие ряпушки представляют особый интерес. Ведь они оказались самыми стойкими, — значит, их потомки сумеют еще лучше приспособиться к новым условиям жизни.
И всех волновало: как перезимуют эти маленькие новоселы?
Но вот зима миновала. Не подвела ряпушка, хорошо перенесла холод, даже подросла. Ее бережно пересадили в нагульные пруды, — пусть растет и развивается дальше.
Ну, что ж, ряпушка как будто приживается к новым местам, — это хорошо. Но одни волнения сменяются другими. Теперь рыбоводов тревожит: сохранит ли ряпушка свою ценную особенность — нереститься весной, не изменится ли она в новых условиях.
Это покажет будущее.
С каждым годом возрастает рыбье население ропшинских прудов. Увеличивается не только по количеству. Вот еще новые рыбы появились в Ропше: нельма и пелядь.
Нельма прибыла из Кубенского озера Вологодской области.
Нельма — родная сестра волжской белорыбицы, одной из самых ценных рыб. Три тысячи километров проходила белорыбица, поднимаясь по Волге и ее притокам, чтобы добраться до своих привычных нерестилищ на реке Белой и Уфе. Теперь этот путь ей вскоре преградят Сталинградская и Куйбышевская плотины.
А нельма издавна жила в Северной Двине. Но и ее путь к нерестилищу был долог: вверх по Северной Двине и ее притоку Сухоне — в Кубенское озеро, а отсюда еще дальше — в речки Кубину и Ельму.
Но вот, лет сто назад реку Сухону перегородили плотиной, и молодь нельмы оказалась запертой в Кубенском озере. Оставалось либо погибать, либо приспосабливаться к новым условиям жизни.
Многие, наверное, и погибли… Но самые стойкие выжили, выросли и дали потомство. Так постепенно образовалось особое местное стадо нельмы — обитательницы Кубенского озера. Она отлично тут прижилась, а метать икру ходит попрежнему в реку Кубину, только поднимается совсем невысоко — километров на пятьдесят.
Всё это разузнали сотрудники ВНИОРХа. Кроме того, им удалось выяснить, что нельма в Кубенском озере вдвое быстрее растет и развивается, она становится взрослой гораздо раньше, чем ее прародители, жившие в Северной Двине. Значит, рыба эта особенно ценная. Вот и доставили ее в Ропшу на воспитание, чтобы затем переселить в другие озера и водохранилища.
С пелядью тоже стоит поработать. Это рыба удивительно стойкая ко всяким жизненным невзгодам. Она выносит и холодные и высокие температуры, водится даже в таких озерах, где зимой от заморов — недостатка кислорода — погибает почти всё рыбье население. А пелядь чувствует себя неплохо. Она откладывает икру на подземных ключах, несущих воду, богатую кислородом, и, что особенно важно, нерестится в декабре — подо льдом.
Привезенная зимой икра пеляди была проинкубирована, и в мае ее личинки выпустили на новое место жительства. Пищи в прудах было уже вдоволь. Пелядь хорошо прижилась и как следует выросла за лето.
Рыбоводы возлагают на нее большие надежды. Предполагают в первую очередь пустить в «плохие» озера, где не могут жить ее более нежные сиговые собратья.
Почетное дело поручили партия и правительство труженикам рыбного хозяйства — вместе со всеми работниками сельского хозяйства создать в 2–3 года в нашей стране изобилие продуктов питания и сырья для легкой промышленности, чтобы советские люди ни в чем не испытывали недостатка.
Много для этого надо потрудиться рыбоводам; так организовать дело, чтобы с каждого гектара водной площади можно было получить побольше ценной вкусной рыбы, надо повышать урожай рыбы.
Центральная экспериментальная производственная станция ВНИОРХа — Ропша с каждым годом расширяет свою деятельность и вскоре станет одной из научных баз для наших северных и северо-западных районов.
Здесь будут ставить интересные и самые необходимые опыты — выводить, воспитывать и улучшать породы промысловых рыб и создавать новые, жизнестойкие породы. В перестроенных по-новому прудах Ропши будет жить маточное стадо радужной форели, карпов-гибридов и других ценнейших рыб. Отсюда они будут расселяться по водоемам и водохранилищам нашей Родины.
Сколько впереди дела — большого, увлекательного, трудного, радостного!
А. Еромицкий Кусочек дерева
Из рассказов о химии
Рис. В. Тамби
Посмотрите вокруг себя… Вот мебель. Сделана она, как видно, из самых дорогих сортов дерева, но странное дело — это «дерево» не горит.
О том, как рубашка в поле выросла, мы все с детства знаем из сказки замечательного педагога и писателя К. Д. Ушинского. Но та рубашка, которую вы носите, вероятнее всего, выросла не в поле, а в лесу.
Есть такая «кожаная» обувь, для изготовления которой не понадобилось кожи, или теплый шерстяной свитер, который связан из… дерева.
Всё это похоже на загадку. Но ее разгадка — действительность. Несгораемое дерево, необыкновенные обувь, рубашка, свитер и многие еще более необычайные предметы созданы искусством наших химиков, на химических заводах.
«Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие… Куда ни посмотрим, куда ни оглянемся, везде обращаются перед очами нашими успехи ее прилежания».
Два столетия назад произнес эти слова отец русской науки — Михаил Васильевич Ломоносов. Он призывал ученых проникнуть во «внутренние чертоги» вещества и первый открыл двери этих «чертогов».
Теперь химики не только хорошо знают состав всех известных нам веществ, но умеют строить и изобретать новые вещества, так же, как конструктор создает новую машину или строитель — новое здание.
У химиков есть свои «кирпичи» — невидимые глазом молекулы, которые состоят из еще более мельчайших частиц — атомов.
Изменяя атомный состав молекул, химики создают новые молекулы и из них строят вещества, которых раньше не существовало.
Каменный уголь, который раньше шел только в топки печей, служит теперь для изготовления сотен различных, иной раз совершенно неожиданных вещей и предметов.
Дерево — один из самых древних строительных материалов, но никто лет шестьдесят тому назад не предполагал, что из него можно построить шелковое платье, сделать сахар.
Кусочек дерева в наши дни стал волшебным источником, из которого возникают самые разнообразные материальные блага.
Советская наука, поставленная на службу народу, творит чудеса.
О кусочке дерева и скрытых в нем сокровищах пойдет речь в этом очерке.
БУМАГА ИЗ ЕЛИ
«Всякий высоко ценит деятельность Чай-луна: он изобрел производство бумаги, и слава его живет до сих пор», — так китайская летопись говорит об изобретении бумаги, которое относится еще к 105 году нашей эры.
«Бумага — орудие ученых, основа книг. Бумага… — сокровище учеников, фундамент человеческой дружбы. О, моя бумага, ты воистину величественное творение», — писал в XVI веке автор панегирика — похвалы бумаге.
Советский Союз — страна передовой культуры. Невиданными тиражами издаются у нас учебники, художественные и научные произведения, журналы и газеты. К бумаге привыкли. Она глубоко вошла в нашу жизнь, и редко кто вспомнит, перелистывая страницы, что бумага — это тоже превращенный «кусочек дерева».
Структура, строение ели, сосны и любого другого растения известна. Целлюлоза, или клетчатка, — вот тот «строительный материал», из которого — вместе с некоторыми другими веществами — состоит твердый остов, или «скелет» дерева и трав.
Молекула целлюлозы — сложное сооружение: в ней триста тысяч атомов. Природа «позаботилась» о том, чтобы это сложное сооружение было прочным. Прочность клетке целлюлозы придает лигнин («лигнум» по-латыни означает «дерево»). Но то, что необходимо дереву, совсем не нужно для бумаги. Если лигнин перейдет в бумагу, то она станет хрупкой, ломкой и быстро пожелтеет на солнце.
Поэтому одна из главных задач при изготовлении бумаги — удалить из древесины лигнин. Для этого предварительно превращенную в мелкую щепку древесину варят в котлах, прибавляя кислоты и щелочи, которые растворяют лигнин.
Когда хозяйка варит суп, она старательно удаляет накипь. Бывает «накипь» и при варке древесины: то затесался между ее волокнами едва заметный сучок, то кусочек дерева не проварился — всё это надо устранить вместе с раз личными примесями и водой. Обезвоженный бумажный «суп» становится похожим на кашицу. Ею наполняют ванны, в которых смонтированы барабаны с ножами. Кашица еще раз измельчается этими ножами. Для отделки в бумажную массу добавляют каолин, мел и другие вещества в зависимости от того, для чего предназначается бумага, будет ли она писчей или типографской.
Когда-то в котлы для варки бумаги клали не дерево, а тряпки; разотрут их в большой каменной ступе и черпают кашицу тонким ситом. Вода быстро стекала, а в форме оставались густо переплетенные волоконца. Застывая, масса принимала форму сита — листа. Для просушки листы укладывались на печь — и на этом производство бумаги заканчивалось.
В наши дни существуют сложные и «умные» бумагоделательные машины. Эти машины так велики, что каждая из них занимает целый цех, из одного конца которого не увидишь, что происходит в другом. Вместо сита здесь огромная сетка, заполняющаяся бумажной массой. Сетка всё время трясется, точно в лихорадке. Вода стекает, а волоконца перемешиваются и масса густеет.
Затем отжимают воду из пробегающей сырой бумажной массы, а «печь» без огня высушивает листы. Пробежит влажный лист между большими валами, которые изнутри прогреваются паром, — и станет сухим и гладким.
Бумагу сворачивает в рулон сама бумагоделательная машина, а разматывают его в типографии — тоже автоматически — специальные размоточные машины, которые одновременно и режут бумагу на листы нужного формата.
В каждой тетради школьник находит заботливо вложенный листок промокательной бумаги. И самая тетрадь, и листок промокательной бумаги «выросли», может быть, рядом, в одном и том же лесу, но свойства у них различные: на промокательной бумаге не напишешь — чернила расплываются, тетрадочным же листом написанное не промакнешь.
Почему?
Да потому, что писчую и печатную бумагу проклеивают канифолью, которую получают из смолы хвойных деревьев. На проклеенной бумаге чернила и типографская краска не расплываются. Промокательная бумага не проклеивается, потому-то она и впитывает чернила.
Каждый знает, что бумага боится воды. Стоит только попасть листу бумаги под дождь, и он сразу размокнет. Совсем недавно в лаборатории химического факультета Ленинградского университета имени А. А. Жданова профессору Б. Н. Долгову и старшему научному сотруднику М. Г. Воронкову удалось так «перевоспитать» бумагу, что теперь она уже не боится воды.
Вы можете свернуть лист этой «перевоспитанной» бумаги в кулек и налить в него воду — она не вытечет. Снова разверните бумажный лист — он будет совершенно сухим.
А вот перед вами лист тоже «перевоспитанной» промокательной бумаги. Она выполняет свою задачу, впитывая чернила, но они нисколько не расплываются, как будто перед вами не промокательная, а лучшая проклеенная бумага!
Вам могут предложить написать чернилами на любом листе бумаги, а сотрудники лаборатории обработают бумагу специальным раствором. Попробуйте-ка смыть написанное влажной тряпкой! Это вам не удастся. Как не сказать о такой бумаге — у нее осталось прежнее свойство: «что написано пером — не вырубишь топором» и прибавилось новое: «водой не смоешь».
Тушью напишите — и тушь не смоете. Красками нарисуйте и можете сколько угодно водить по бумаге влажной тряпкой или губкой — рисунок останется. Если тряпочку или губку слишком намочите в воде, на бумаге останется множество капелек воды, но и они не впитываются в промокательную бумагу. Поблестят, поблестят на бумаге капельки воды — и испарятся. Захотите стряхнуть их — и они скатятся с бумаги, как шарики ртути.
Старые книги, рукописи, карты, ценные документы часто портятся и разрушаются оттого, что отсыревают, то есть пропитываются небольшим количеством влаги. Неизмеримо легче будет выдерживать натиск веков бумага, к которой вода даже не пристает.
Бумага — это не только книги и газеты, это и тара. Из нее делаются прочные мешки для цемента и удобрений. Они очень удобны и дешевы, но под действием воды размокают, и влага начинает вредно действовать на содержимое, а в мешках из новой бумаги можно будет и воду носить, точно и не мешки это, а ведра!
Появится на обоях пятно-другое от сырости, и неприглядный вид приобретает комната. Обои же из новой бумаги не только отлично противостоят сырости, — их можно мыть.
Существует еще много свойств, которыми ученые наделили бумагу. В чем же секрет?
Ученым удалось покрыть бумагу тончайшей пленкой из вещества, молекулы которого отталкивают от себя молекулы воды, как бы обращают воду в бегство. Поэтому такие вещества и называются гидрофобными («гидро» — по-гречески — «вода», «фобос» — «страх»).
Чтобы сделать бумагу водостойкой, ее обрабатывают раствором такого вещества, в котором особым образом чередуются атомы кремния, углерода и другие атомы. Можно также при изготовлении бумаги внести в измельченную бумажную массу немного этого вещества.
Почти два тысячелетия человечество знакомо с бумагой, и вот сегодня советские ученые открывают в ней всё новые и новые чудесные свойства, — вернее, «воспитывают», «прививают» ей эти свойства.
«КАМЕННОЕ ДЕРЕВО»
Не только бумагу, но и дерево сумели «перевоспитать» химики.
Слышали ли вы о «каменном дереве»? А такое дерево есть и весьма успешно соперничает с металлом.
Подшипники для прокатных станов, шестерни для автомобилей, челноки для ткацких станков — всё это части машин, несущие очень ответственную службу. Их и изготовляют из «каменного дерева». Эти части машин прочнее металлических и обладают на редкость ценными свойствами, которых не имеют такие же детали из металла.
Известно, что смазка облегчает работу машин, но, пожалуй, немногие знают, что часто в подшипниках прокатных станов смазкой служит не масло… а вода. Есть теперь и шестерни, которые при работе не издают шума.
Эти удивительные подшипники и бесшумные шестерни — из «каменного дерева».
Как угодно могут быть сложны детали из «каменного дерева», а их не надо ни сверлить, ни точить, ни шлифовать. Они штампуются. В пресс закладывают измельченную древесную крошку и пропитывают ее искусственными смолами. В древесную крошку можно впрессовать стальную сетку, и без того прочный материал станет еще прочнее.
Дерево идет на изготовление ответственных деталей в машиностроении. Его и обрабатывают, как металл, на металлорежущих станках. Этот «металл» по происхождению близок к фанере.
Для производства обычной фанеры стволы березы или сосны разрезают на длинные тонкие листы. Эти листы накладывают друг на друга так, чтобы волокна в них шли вдоль и поперек, и затем склеивают.
Этим достигается прочность. Фанеру не расколешь, и разрезать ее тоже трудно. Чем больше склеить слоев, тем прочнее фанера.
А если листы фанеры пропитать под давлением искусственными смолами, они приобретают особую прочность, водостойкость, химическую стойкость. Все эти качества позволяют использовать фанеру для изготовления труб. Но как свернуть фанерные листы в трубу?
Оказывается, для того, чтобы листы фанеры свернулись в трубу, достаточно взять при склейке нечетное число слоев, — фанера сама свертывается.
Если трубы из фанеры чем-либо и отличаются от металлических труб, то только тем, что они служат гораздо дольше и очень легки. Поднять такую трубу и перенести на новое место не стоит большого труда. Прочность трубопроводам из березы придают смолы, добытые химиками из того же дерева, из которого делается фанера.
ШЕЛК ИЗ ЕЛИ
Еще совсем недавно для производства шелка разводили червей, питающихся листьями тутовых деревьев. Теперь не листья, а стволы деревьев идут в дело.
Как шелковичный червь создает шелковые нити, — известно с давних времен. Питаясь листьями, шелковичный червь перерабатывает их в своем организме в особую жидкость, которую он затем выделяет в виде тонкой, быстро затвердевающей в воздухе нити.
А вот другая картина. Густой лес с вековыми елями.
Глубокую его тишину нарушили голоса людей, вооруженных электрическими пилами. С легким жужжанием врезается пила в дерево.
Поезд, груженный древесиной, въезжает на территорию завода. В одном из цехов могучие машины «разжевывают» древесину в щепу.
Щепой загружают большие варочные котлы. За сутки под влиянием щелока древесина «разварится», превратится в мелкие волоконца. Но выделить волокна целлюлозы — это еще полдела. Нити из них не спрясть — уж очень они коротки, годятся только для производства бумаги. А что если растворить целлюлозу и выдавить из раствора нить, как выдавливает ее паук? Но для этого надо превратить целлюлозу в раствор, а это трудно. Целлюлоза химически очень прочна. Только одно вещество — аммиачный раствор гидрата окиси меди — растворяет ее.
Но есть и другой путь — окольный. Можно так подействовать на целлюлозу некоторыми химическими веществами, что молекулярное строение ее изменится и она станет гораздо «уступчивей».
Много еще произойдет с целлюлозой изменений, прежде чем она превратится в вязкий янтарного цвета прядильный раствор. Из раствора можно получить уже длинную нить. Но для этого сначала надо укоротить молекулы целлюлозы. Как это понять?
Дело тут в том, что представления о размере нити и молекулы разные.
По сравнению с длиной волокна целлюлозы ее молекула, конечно, карлик, но среди других молекул она великан. В пространстве, которое занимает по длине одна молекула целлюлозы, могли бы разместиться почти тридцать тысяч молекул воды!
Такие длинные молекулы делают раствор слишком вязким, но химики знают способы, как изменить их строение. Они обрабатывают целлюлозу химическими веществами и выдерживают ее в особом помещении при определенной температуре. Здесь целлюлоза, как говорят, «созревает», — другими словами, ее молекулы распадаются на более короткие. Еще несколько превращений, и раствор, тягучий, как мед, готов.
Этот раствор пропускают через особые колпачки с мельчайшими отверстиями Колпачки внешне похожи на наперстки. Из их бесчисленных отверстий тянутся нити, которые не сразу увидишь. Начинают они свой путь в ванне наполненной серной кислотой и другими веществами.
Не всякое вещество в состоянии «принять» ванну из жгучей серной кислоты.
Целлюлоза — это «цепь» из атомов, то есть, по сути дела, нить. Когда нить за нитью располагаются друг подле друга, то их параллельные пучки образуют волокно. Если в такие же параллельные ряды уложить, например, соломинки, то разорвать их все сразу будет нелегко; разорвать же одну соломинку за другой не стоит никакого труда. Дело тут в том, что нити или соломинки плотно соприкасаются друг с другом, силы трения между ними увеличиваются, а это и придает прочность волокну.
При параллельном расположении «нитей» из молекул станет особенно прочным и искусственное волокно. Сами молекулы так, конечно, не разместятся. Но есть способ заставить их занять определенное положение. Способ этот несложен: нить, которая еще мгновение назад была жидкостью, пропускают через диски, вращающиеся с разной скоростью. Более быстро вращающийся диск будет с некоторой силой увлекать за собой нить, — значит, и вытягивать ее. В параллельные нити вытянутся при этом и молекулы, и искусственное волокно сразу станет вдвое прочнее.
Десятки тонких, едва видимых глазом нитей веретёна свивают в одну прочную нить. Из аппарата в аппарат, из цеха в цех переходят нити будущего искусственного шелка, и, наконец, их наматывают на бобины — катушки.
А вот и ткацкий цех. Здесь ткут шелковую ткань, а затем с валов печатных машин, точно волны, сбегают яркорасцвеченные ткани.
Один кубометр древесины, конечно, это немного. Однако он дает столько шелка, что из него можно сшить пятьсот платьев или же выработать четыре тысячи пар чулок. Нужно было бы собрать урожай хлопка с половины гектара, состричь шерсть с 25–30 овец, размотать свыше трехсот тысяч коконов шелковичного червя, чтобы выработать столько же тканей или пряжи.
С того момента, когда на завод поступает древесина, до выпуска шелка проходит всего пять-шесть дней. Намного опередили наши заводы медленное производство естественного шелка.
Кажется, чего лучше. Но нам надо иметь как можно больше тканей, производить их в более короткие сроки и удешевлять производство. Недавно советские инженеры — Н. Л. Лившиц, Н. И. Морозов, Е. М. Могилевский — построили новую машину — «шелковый комбайн». Эта замечательная машина объединяет процессы изготовления шелковой нити, а значит, упрощает и удешевляет выпуск шелковых тканей.
Шелковичный червь за всю свою жизнь дает лишь полграмма шелковой нити. А каждая из прядильных машин, этот «механический шелкопряд», в четыре-пять дней совершает пожизненную работу почти полумиллиона шелковичных червей. Только один завод искусственного шелка выпускает столько же волокна, сколько вырабатывают его за то же время все тутовые шелкопряды на всем земном шаре.
Прошло то время, когда шелк был предметом роскоши. Красивые, прочные и дешевые ткани из искусственного шелка охотно раскупают советские люди. Недавно советское правительство приняло решение об увеличении производства шерстяных тканей и тканей из искусственного волокна.
В 1953 году наши заводы выпустили тканей из искусственного волокна почти в девять раз больше, чем в довоенном, 1940 году. Пятый пятилетний план по выпуску шелковых тканей выполнен на два года раньше срока.
Чтобы одеть двухсотмиллионную семью советских людей, наши текстильщики должны дать в 1956 году свыше семи миллиардов метров тканей. Много нужно пряжи нашим текстильным фабрикам, чтобы обеспечить их сырьем. На помощь хлопкоробам, льноводам и животноводам приходят химики.
Наши рубашки растут не только в поле и в лесу, но, конечно, и на хлопковых плантациях. Но многие рубашки, сделанные из хлопка, уже не сатиновые и не ситцевые, а шелковые. Это чудесное превращение стало возможным потому, что хлопок побывал в руках химиков.
Удивительным искусством облагораживать материалы владеют химики! Из хлопка они получают шелк, а из дерева изготовляют искусственную шерсть. Так она и называется — «древесная шерсть». Искусственную шерсть примешивают к натуральной шерсти и ткут красивые и прочные костюмные ткани.
Есть еще один искусственный материал, пользующийся большим спросом, — штапельное волокно. Штапельное — значит резаное. Длинные нити искусственного шелка режут «под рост», то есть на длину нитей хлопка и шерсти. Такие нити можно прясть на обычных машинах. Самые штапельные волоконца особенно тонки, и, прежде чем нарезать, их свивают в один жгут, в котором много тысяч нитей.
Штапельное волокно смешивают с хлопчатобумажным. Его присутствие придает тканям особенно приятный вид.
Шелк, шерсть, штапельное полотно — это еще не всё, что химики производят из древесины. Теперь в лесах «растут» даже каракулевые шкурки. Взглянет любой специалист на черного или серебристого цвета мех, залюбуется им и никак не догадается, что каракуль… из вискозы, то есть из ели!
Если «перестроить» молекулы древесной целлюлозы, можно создавать шелковое волокно, подобное естественному. Очевидно, можно создать и иное волокно, лучшее, чем естественное, более прочное, а может быть, и обладающее иными качествами и притом не только из дерева, а из любого сырья — лишь бы суметь составить из молекул цепь.
Ясно, что молекулы нового волокна должны быть достаточно длинными, как нити или цепи. Чтобы получить молекулу-цепь, надо «сковать» ее из отдельных небольших звеньев, из маленьких молекул.
Но как «сковать» молекулы-звенья в одну цепь?
Кузнец сначала нагреет крайние звенья цепочек, потом бьет по ним молотом, расковывает их, соединяет звенья соседних цепочек и тут же заковывает.
Химик тоже соединяет отдельные звенья в длинную цепь, только «молот» химика — это высокая температура или высокое давление. Удивительно искусно орудует химик своим «молотом». Кузнец не спускает глаз с металла, а химик «бьет» по невидимым звеньям. Он «расковывает» молекулы, и это ему удается потому, что он заранее выбрал такие вещества, в которых есть непрочные звенья. В них атомы слабо связаны друг с другом и под действием высокой температуры связь и вовсе обрывается, — звено «расковано!»
Кузнецу надо сковать раскованные части, а здесь — в одно мгновенье — это сделают сами же звенья. Химик уверен в том, что это непременно произойдет, потому что вещества, на которых он остановил свой выбор, это так называемые непредельные, или ненасыщенные, соединения.
Атомы веществ соединяются друг с другом под действием химических сил. В ненасыщенных соединениях не все эти силы исчерпаны, и поэтому они могут и стремятся присоединять к себе еще другие атомы. Вег почему «раскованные» звенья в ненасыщенных соединениях мгновенно сцепляются друг с другом, и образуется длинная молекула-цепочка. В них уже угадываются длинные нити будущих волокон.
Но разве только у искусственных волокон большие молекулы? Нельзя ли «сковывать» молекулы и других веществ, таких, например, как каучук? Ведь и в его молекуле немало атомов — двадцать шесть тысяч! Так зародилась мысль о создании искусственного каучука.
КАЛОШИ И ШИНЫ ИЗ ОПИЛОК
История каучука необычайна, но самые яркие страницы в его историю вписали советские люди.
Судьба каучука тесно связана с именем Колумба.
В открытом им Новом свете — Америке — однажды он увидал черный шарик, которым любили играть индейцы. При ударе о землю шарик подскакивал. Прыгающий шарик — это, конечно, занятная забава, но Колумб не придал ему большого значения.
Матросы Колумба привезли рассказы о прыгающем шарике, но вскоре о нем в Европе забыли. Прошло много лет, и уже в XVIII веке участник одной из научных экспедиций в тропические леса Южной Америки вместе с письмом прислал в Париж образец смолы какого-то дерева. И эта смола и письмо немало удивили французских химиков.
«В провинции Квито, — писал ученый, — этой смолой промазывают ткани, делая их наподобие вощеных… Тамошние индейцы называют извлекаемую ими смолу „каа-учу“ и произносят это слово как „каучук“. Из каучука индейцы также выделывают непромокаемые сапоги».
«Каа», в переводе с индейского, — «дерево», «у-чу» — «плакать». «Каа-учу» — это «слезы дерева». Удивительную смолу индейцы так прозвали потому, что раненное ножом растение начинает как бы плакать слезами, белыми, словно молоко. Этот сок, вытекающий при надрезе коры, твердеет на воздухе.
В наши дни каучуковые плантации заняли обширные пространства в тропических странах с жарким и влажным климатом — и на Цейлоне, и на Суматре, и в Индокитае, и в Бразилии, и в Бельгийском Конго, и в Индонезии. За последние сто лет добыча каучука увеличилась в пять тысяч раз. Но везде, где каучуковые плантации принадлежат капиталистам, каждая капля его достается людям ценой непосильного труда и преждевременной смерти. «Людские слезы» — так можно назвать там каучук.
Каучук — это автомобильные шины, непромокаемые ткани, калоши, детские игрушки. Более тридцати тысяч различных предметов изготовляют, правда, не из одного каучука, а из резины.
Резина — это тот же каучук, но только смешанный с серой при температуре 120–150°. В калошах же из чистого каучука, без серы, мудрено вернуться домой в морозный день: потеряв свою гибкость, они становятся жесткими и ломкими. А если после дождя выглянет солнце, то от непромокаемого плаща вы сами рады будете отделаться: он станет липким, как смола. Таково уж свойство каучука.
Сера неузнаваемо изменила свойства каучука потому, что ее молекулы, точно балки, ложатся между молекулами каучука и скрепляют их. Умело положить «балку» из молекул — это большое искусство, но химики научились «строить» и самый каучук; а это вещество очень сложное по своему строению.
Впервые в мире создал это сооружение творец искусственного каучука — Сергей Васильевич Лебедев. Советский Союз стал родиной искусственного каучука.
* * *
Памятная дата в истории искусственного каучука — 3 декабря 1909 года. В этот день на очередном заседании Русского физико-химического общества петербургский химик Сергей Васильевич Лебедев продемонстрировал маленькую стеклянную трубку с комочком неизвестного вещества, подобного каучуку. Этот образец весил около одного грамма…
В своей работе над искусственным каучуком, «строительным материалом», Лебедев избрал непредельные, или ненасыщенные, соединения, то есть такие вещества, которые еще могут присоединить к себе соседние молекулы. В этих соединениях каждый новый кирпич-молекула прочно становится на отведенное ей химиком место.
Из всех ненасыщенных соединений Лебедев для своих исследований отобрал сначала шестнадцать, а потом окончательно остановился на дивиниле, одном из углеводородных соединений. Казалось, ничего отрадного не мог сулить Лебедеву его выбор.
Дивинил — это и жидкость и газ. Жидкость при температуре минус 9–10°. Но уже при плюс 4° эта жидкость начинает превращаться в газ.
Добыть дивинил очень трудно, но еще труднее его сохранить, так как он очень нестоек и легко изменяет свои свойства.
Но Лебедев знал, что у дивинила есть и огромное преимущество — способность его молекул уплотняться. При этом он густеет и, наконец, становится твердым телом. Надо было только «приручить» дивинил, заставить его изменяться в нужном направлении.
Тысячи неудач и препятствий ждали ученого на этом пути. Опыты приходилось вести в темноте, так как даже солнечный свет влиял на поведение молекул дивинила.
Труды ученого увенчались успехом. В 1931 году опытный завод в Ленинграде выдал первую партию искусственного каучука.
Тайну изготовления нового вещества пытались разгадать многие зарубежные изобретатели. Больше десятка лет безуспешно трудился над этим американец Эдисон. Ему помогали изобретатели и ученые, состоявшие у него на службе, однако и они ничего не добились.
Спирт, необходимый для производства каучука, Лебедев получал из хлеба и картофеля. И Эдисон и прочие зарубежные ученые очень долго не верили, что можно делать автомобильные шины и калоши из хлеба и картофеля.
Академик Лебедев умер в 1934 году. Наши ученые продолжили его опыты и нашли новые способы получения искусственного каучука.
На плантациях каучук добывают из сока растущих деревьев — гевеи, а наши ученые научились использовать для этой цели не только срубленное дерево, но даже стружки и опилки. На всех лесопильных заводах много этих отходов.
Конечно, ни из картофеля и хлеба, ни из стружек и опилок калоши и шины не слепить. Из всех этих веществ сначала добывают спирт, однако подвижному, как вода, спирту еще очень далеко до упругого и водонепроницаемого каучука. Мостиком к каучуку служит дивинил.
Нетрудно получить спирт, но нелегко превратить его в дивинил. На какие только ухищрения не придется пойти для этого!
Прежде всего спирт нагревают до температуры в четыреста с лишним градусов. Однако даже такой высокой температуры недостаточно для того, чтобы начались нужные химикам превращения. Для этого необходимо присутствие особых веществ — катализаторов.
Катализаторы — это подлинно чудесные ускорители химических процессов. Понять, как действуют катализаторы, не трудно. Попробуйте зажечь кусочек сахара — он обуглится, но не вспыхнет. А если положить на сахар щепотку пепла от папиросы, то от пламени спички сахар загорится сразу, хотя пепел, взятый отдельно, не горит. Пепел здесь выступает в роли катализатора.
Для того, чтобы получить удобрения из воздуха, нужен один катализатор, для производства жидкого топлива — другой; для получения искусственного каучука — третий. Нелегко подобрать нужный катализатор, а для того, чтобы увеличить силу катализаторов, надо их обрабатывать каждый раз особым способом.
Пары спирта в огромной печи встречаются с накаленными катализаторами и превращаются в дивинил. Но беда в том, что вместе с дивинилом образуются еще и примеси. Каучук же может быть получен только из чистого дивинила, — значит, от всех этих примесей надо избавиться.
Дивинил и примеси-газы, — как же отделить их друг от друга? Но, может быть, некоторые из них при понижении температуры превращаются в жидкость?
Так и есть. Смесь газов и дивинила помещают в холодильник. Часть примесей сгущается, и ее удаляют, но часть не превращается в жидкость, дивинил остается загрязненным. Как предмет и его тень, неразлучны дивинил и оставшиеся примеси. Есть еще один выход в борьбе с примесями — надо укрыть от них дивинил!
И вот смесь газов с дивинилом — снизу вверх — впускают в высокую стальную башню, где льется керосиновый «дождь».
Керосин в качестве «дождя» взят потому, что он из смеси всех газов поглощает преимущественно дивинил, другие же газы в нем почти не растворяются. Примеси прорываются сквозь сеющийся на них керосиновый «дождь», а раствор керосина с дивинилом стекает на дно башни.
Отделить дивинил от керосина уже просто: нагревают эту смесь в одном из аппаратов, и дивинил испаряется и улетучивается. Недолго он остается в виде паров — в холодильнике он превращается в жидкость. Но это всё еще сырой дивинил: немного примесей в нем всё же есть.
Как избавиться от этих назойливых спутников дивинила?
Нагреть жидкий дивинил? Безуспешно; ведь у него и у примесей одна и та же температура испарения. Но у жидкого дивинила и воды различный удельный вес, — значит, смешиваться они не будут, а вот примеси с ней смешиваются. Вот почему дивинил «промывают» водой.
«Промытый» дивинил — вещество чистое, прозрачное. Из него уже можно получить каучук, и он поступает в большой стальной аппарат — полимеризатор. Не один год пришлось бы дожидаться, пока молекулы дивинила, соединяясь друг с другом, вытянулись бы в длинные цепи искусственного каучука. Но химики и здесь позаботились о катализаторе, используя для этой цели металлический натрий. В его присутствии дивинил густеет, изменяет свое строение, становится каучуком. Проходят какие-нибудь 15–20 часов, и из аппарата вынимают горячую тягучую светложелтую глыбу. Это и есть искусственный каучук.
Из опилок — спирт, из спирта — дивинил, из дивинила — каучук и, наконец, резина, из которой производятся десятки изделий.
Кусочек дерева, опилки — это пока самое дешевое, хотя и не единственное, сырье, из которого получают искусственный каучук. Каучук, оказывается, можно сделать из многого.
Детские мячи наполняют на заводе воздухом, то есть газом. Трудно поверить, что и самый мяч мог быть сделан… из газа. Но это так. Ленинградский ученый Борис Васильевич Бызов разработал способ получения искусственного каучука из газов, отходящих при обработке нефти.
Кто бы мог подумать, что каменные глыбы — в соединении с углем — можно превратить в мягкий и гибкий каучук! Но и этим необыкновенным искусством овладели наши химики.
В Армянской ССР на многие десятки километров тянутся желтые горы. На этих горах нет не только каучуковых деревьев, но даже травинки, и всё же эти бесплодные горы дают каучук.
Они сложены из извести. Сплавляя известь с углем, получают карбид кальция, из этого серого тусклого камня добывают газ ацетилен, а из него после ряда процессов — искусственный каучук.
И получается, что калоши, которые вы носите, могут быть сделаны из опилок, картофеля, угля, нефти, камня.
Под знойным небом тропиков по каплям собирают сок каучуковых деревьев. А заводы искусственного каучука уже много лет работают в разных концах Советского Союза. И не каплями производят они каучук, а тысячами тонн, и сырье для этих заводов дешевое и доступное.
На каучуковых плантациях несколько лет трудятся тысячи рабочих, чтобы добыть тысячу тонн каучука, а на советском заводе десять-пятнадцать рабочих вырабатывают то же количество каучука за три-четыре дня.
На автомобильном заводе вам скажут, что для шин нужен каучук, который истирается медленно. От аэронавтов вы услышите, что в воздушных шарах каучук не должен пропускать водород. Водолаз потребует, чтобы его костюм был непромокаемым. Природа дала нам всего несколько видов каучука. Химики же наделяют каучук самыми различными свойствами, и это делает его незаменимым в хозяйственной жизни нашей страны.
«Калоши и шины из опилок» — так называется глава об искусственном каучуке. Но можно было бы, пожалуй, назвать ее и иначе — «Калоши и шины из спирта», — ведь опилки-то превращают сначала в спирт. Что же происходит с ними, прежде чем они станут спиртом? Как из опилок получить спирт?
САХАР И СПИРТ ИЗ ОПИЛОК
Срубленное в лесу дерево привезли на завод. Быстро распилили и отправили в цехи, где из него сделают оконные двери и рамы, мебель; а у пилорамы осталась груда опилок.
День за днем, месяц за месяцем, — и на заводе накопилась уже по груда, а целая гора опилок. Они загромоздят заводской двор, будут мешать работать, и целыми вагонами придется вывозить опилки на свалку. Нет, не придется! Опилки — громадная ценность. Они поступят в химический цех, пристроенный к деревообделочному заводу. Здесь производят гидролиз, или осахаривание древесины.
Сахар из древесины — это уже давно звучит привычно для химиков. Каждое растение — это сахарный завод, в котором вырабатываются сахаристые вещества. Сырьем для «зеленой фабрики» служит почвенная вода с растворенными в ней веществами и углекислый газ, улавливаемый листьями из воздуха. Из этого сырья растения и создают сахар.
Из больших сахарных молекул состоит крахмал. Именно поэтому становится сладким во рту белый пшеничный хлеб: под действием слюны крахмал превращается в виноградный сахар. Из сахаристых веществ построена и целлюлоза.
Молекула целлюлозы, мы знаем, — очень сложное «сооружение», «высотное здание» в мире атомов. В производстве каучука отдельные звенья из молекул «сшивают» в большую молекулу искусственного каучука. Но даже эта молекула во много раз меньше молекулы целлюлозы.
При осахаривании древесины химикам надо не строить, а разрушать молекулы. Если молекула целлюлозы распадается на части, то «развалины» этого «высотного здания» окажутся частицами виноградного сахара.
Нелегкое дело — разрушить молекулы целлюлозы; прочны крохотные ее клетки.
Но прочность молекул целлюлозы не смутила химиков. В стальных башнях гидролизных аппаратов они сумели поднять такую «бурю», что молекула целлюлозы распадается на свои составные части и дает сахар. Но для этого загруженные в башни опилки и стружки нагревают до двухсот градусов, подвергают давлению и обрабатывают серной кислотой. А эта кислота настолько могучее средство, что приходится заранее позаботиться, чтобы под ее натиском не разрушились внутренние стенки самих аппаратов.
После того как удалось расколоть молекулы целлюлозы, немудрою уже получить и самый кристаллический сахар и вывезти его в мешках с завода. Но гидролизный сахар превращают в спирт, тем более, что это не трудно сделать с помощью дрожжевых грибков.
В двухстах различных отраслях промышленности применяется спирт из древесного сахара: и в производстве искусственного каучука, искусственного шелка, кинопленки, бездымного пороха и многого другого.
Из одной тонны опилок вырабатывают столько же спирта, сколько из тонны картофеля или трети тонны ржи. Целые горы картофеля и хлеба сберегает стране производство спирта из опилок.
Гидролизная промышленность в нашей стране самая молодая: они зародилась и развивалась в годы пятилеток. Успехи ее так велики, что еще перед Великой Отечественной войной она выдвинулась на первое место в мире.
В пятой пятилетке намечен значительный рост гидролизной промышленности. В сравнении с 1948 годом производство спирта из опилок увеличивается в 5,6 раза.
НЕЗАМЕНИМЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ
Строить из дерева и удобно и дешево. У него много достоинств, но есть и существенные недостатки, — оно гниет и горит. Ученые взялись за разрешение задачи создания несгораемого и негниющего дерева и разрешили ее. Замечательно, что составы, которыми пропитывают дерево, чтобы придать ему эти новые свойства, получают тоже из дерева.
Во Всесоюзном научно-исследовательском институте фанеры и мебели вам могут показать дерево, которое не боится огня. Отколют от него лучинку, поднесут к ней спичку, но лучинка не загорится, а только чуть-чуть обуглится. Брусок такого дерева, пропитанного специальным составом, можно долго держать на огне. Он едва обуглится по краям.
На одном из московских заводов собрались лучшие мебельщики столицы — им показали столы, стулья, кровати, изготовленные, по-видимому, из самых красивых сортов дерева.
— Прекрасная мебель, — в один голос сказали специалисты.
Представьте себе их удивление, когда мебель стали бросать в пылающую заводскую печь. Не горит! Выяснилось, что мебель не боится пламени потому, что она не из дерева. Мебельщикам немудрено было ошибиться, — предметы, которые им показали, подобно дереву, держались на воде, но делали их не краснодеревцы, а химики.
На ином заводе можно увидеть вал, поднять который, казалось бы, под силу только нескольким сильным мужчинам. Но вот к валу подходит подросток и легко его берет. Что за силач этот молодой рабочий! Да вал этот только с виду тяжелый. Он не стальной и в несколько раз легче стального, а в прочности ему не уступает.
Можно было бы назвать еще много таких предметов из загадочного материала — дерево не дерево, сталь не сталь, стекло не стекло. Для таких материалов и название пришлось придумывать — пластические массы.
Первые пластмассы были изобретены для замены слоновой кости и янтаря. Слоновая кость и янтарь добываются с большим трудом и дорого стоят. Из слоновой кости делали биллиардные шары, — и быстро редели стада слонов в джунглях Африки и Азии.
Заменить слоновую кость и янтарь, правда, не удалось, но зато были созданы материалы, имеющие куда более важное значение, чем биллиардные шары.
У привычных нам материалов немало достоинств, но много и недостатков: дерево легко обрабатывается, но горит и гниет, стекло прозрачно, но хрупко, сталь прочна, но ржавеет. Надо было найти заменители дереву, стеклу, стали. Такими заменителями и оказались пластмассы.
Трудно даже перечислить все пластмассы — так их много. Они уже давно и прочно вошли в нашу жизнь. Зубная щетка, сумка для книг, ручки, гребенки, чернильница, красивая цветная чашка, тарелка, настольная лампа — всё это из пластмасс.
Из них и та первая игрушка, к которой тянется младенец…
Пластмасса, из которой делают игрушки, называется целлулоидом, и, как это ни странно на первый взгляд, эти игрушки «растут» на хлопковых плантациях.
Удивительный материал — хлопок! Легка и тонка его нить, но почти так же прочна она, как и нить металлическая. Хлопок и горит плохо, но легко становится сильно взрывчатым веществом. Если хлопок полит азотной кислотой, — будьте осторожны с этой безобидной на вид ватой: не только от удара, даже от падения на нее ученического пера она взорвется!
Вату, пропитанную азотной кислотой, можно всё же «укротить». Если растворить ее в смеси эфира и спирта, тогда из раствора, не страшась взрыва, можно получить прозрачную пленку. Эта же вата в присутствии спирта и камфоры превращается в целлулоид.
Утратив способность взрываться, целлулоид окончательно всё же не смирился. Он сохранил еще легкую воспламеняемость. Но и на нее удалось накинуть узду. Пластмассы из целлулоида становятся негорючими, если подействовать на хлопок уксусной кислотой и некоторыми другими веществами. Невоспламеняющийся и негорючий целлулоид — это еще одна победа химиков, выступающих в роли дрессировщиков самых неподатливых веществ.
Изготовляются пластмассы просто, — еще легче получить из них изделия любой формы.
Точно отмеренную порцию порошка, смешанного со смолами, насыпают в форму и закладывают в пресс. Одно движение педали или рукояти — и из-под пресса выходит готовый предмет. Любого размера и формы могут быть эти предметы. После пресса их не надо ни полировать, ни красить.
Топор или молоток — предметы простые. Но сколько труда и усилий надо затратить, чтобы их сделать!
Надо добыть руду, привезти ее на завод, расплавить в домне. Затем металл надо ковать, точить, опиливать, закалять.
Нелегко сделать и фарфоровую чашку или тарелку. Через много человеческих рук должны они пройти, прежде чем появятся у нас на столе.
А из пластмасс уже теперь штампуют не только чашки и тарелки, а корпуса моторных лодок, и в недалеком будущем в один-два приема будут штамповать из них целые кузова автомобилей…
Много труда, времени и ценных материалов сберегают стране пластические массы.
* * *
Из чего же делают пластмассы?
Галалит, молочный камень, — так называется одна из первых пластмасс, полученных химиками; ей отроду немногим больше полувека.
Молочный камень… Да, именно из молока, превращенного предварительно в творожистую массу — казеин, изготовляют пластические массы, которые прочны, как кость, и которые можно пилить, строгать, обтачивать… Из молочного камня могут быть пуговицы на вашей рубашке и гребенка, которой вы расчесываетесь.
Бумолит и тектолит — это «бумажный» или «текстильный камень», это бумага или ткань, пропитанные смолами, нарезанные на куски и спресованные под большим давлением.
Гибкая и слабая бумага в руках химиков становится прочным и твердым материалом, который служит в электротехнике изолятором, а ткани превращаются в… шестерни и подшипники, которые смазываются водой.
Формалин — это формалиновый камень. Его впервые в 1904 году получил русский химик А. М. Настюков. Из формалина с помощью карболовой кислоты получают смолы, которые превращаются в так называемые бакелитовые пластмассы.
Части автомобилей, самолетов, радиоприемников, музыкальных и медицинских инструментов, клей, лаки — чего только не изготовляют из этих пластмасс!
Вот красивый плащ, такой тонкий, что, свернув его, можно положить в карман, словно это носовой платок. Можете не искать в материале, из которого сделан плащ, текстильные нити — их там нет. Материал для плаща не сошел с ткацких станков, и не на текстильной фабрике он изготовлен, а на химическом заводе.
Он изготовлен из смол, открытых советским ученым, академиком А. Е. Фаворским. Этот плащ очень крепок, хотя сырьем для него послужил… газ ацетилен. Газ же, в свою очередь, добывают из угля и извести, сплавленных в тусклый серый камень — карбид кальция. Прозрачный и гибкий плащ из серого камня — это ли не чудо?
Достойное место в ряду этих удивительных производств занимает дерево. В больших стальных сосудах без доступа воздуха древесину нагревают до высокой температуры. Древесина при этом не сгорает, но выделяет газ и жидкие продукты, в реторте же остается древесный уголь.
Искусственные красители, лечебные средства, кинопленка, уксусная кислота, духи… какие только вещества не извлекают химики из древесины! Среди этих веществ много таких, которые участвуют и в производстве пластических масс.
Древесный спирт — один из многих продуктов сухой перегонки дерена. Из него производят тот формалин, который в особенно большом количестве расходуется для производства пластмасс.
Уксусная кислота из дерева — это не только пищевой продукт, но важнейшее сырье для производства и красителей, и медикаментов, и пластических масс.
Уголь и известь, вода и воздух, отходы коксовых, нефтеперегонных заводов, продукты сухой перегонки дерева — вот то сырье, из которого вырабатывают самые различные пластмассы. Что может быть дешевле такого сырья, безграничного по своим запасам? Однако в руках химиков это сырье превратилось в вещества, которые стали заменителями таких дорогих и редких материалов, как естественные смолы, кость, редкие породы дерева. Право, есть чем гордиться химикам!
Сырье-то у пластмасс простое, а свойства, которыми наделяют их химики, самые различные. Одни прочны, как металл, и легки, как дерево, другие прозрачны, как стекло, и гибки, словно ткань, третьи не проводят электрический ток, четвертые не боятся самых крепких кислот и щелочей. И возможности эти беспредельны. Откуда же такое разнообразие качеств?
Оказывается, в особенностях строения пластических масс и в искусстве химиков возводить очень сложные сооружения из атомов.
Молекулы воды, поваренной соли, спирта состоят всего из нескольких атомов, а в молекулы пластических масс, каучука входят десятки тысяч атомов. Чтобы получить эти большие молекулы, химикам надо было научиться «сшивать» маленькие молекулы в цепочки больших.
«Иголок», которые могли бы это сделать, конечно, не существует, но есть вещества, которые помогают молекулам соединиться друг с другом. Вы знаете, это катализаторы.
Найти «иголку»-катализатор труднее, чем найти иголку в стоге сена. Это самая трудная задача химиков в создании новых веществ. Когда катализатор найден, остается подобрать температуру и давление, при которых наиболее выгодно вести «полимеризацию» молекул, то есть «сшивать» их в большие молекулы. При образовании более сложных молекул вещество уплотняется, и, управляя этим процессом, химики получают вещества, подобные маслам, смолам, каучуку и многим другим.
Пластические массы — величайшее достижение нашего времени. И наш век — век металлов, век электричества, век атомной энергии — имеет, пожалуй, право именоваться и веком пластических масс.
* * *
Искусственный шелк, искусственный каучук, пластические массы еще не исчерпывают всех возможностей «кусочка дерева».
Ведь не только само дерево, но даже еловые шишки, даже корявый невзрачный сосновый пень неузнаваемо преображается, едва прикоснется к ним рука химика.
Вот конфеты с лимонным и апельсинным вкусом. А вот гвоздичное масло с приятным запахом. Можно подумать, что свой вкус и аромат им передали растения, выросшие в солнечных республиках: Грузии или Узбекистане.
Ничего подобного! Деревья, приносящие эти плоды, росли под небом нашего Севера. Это сосна и ель. У них нет цветов, их плоды — шишки. И вот эти шишки да еще кора и ветки дают вкус лимона и аромат цветов. Сотни самых различных веществ добывались из сосны и ели. Но для этого они должны были пройти через аппараты химических заводов.
А вот какие сокровища таятся в пне. Выдернув из земли или болота, его привозят на завод и здесь из пня добывают смолу, а из нее вырабатывают канифоль и скипидар.
Канифоль нужна не только скрипачам, натирающим ею смычок. Она нужна и бумажным фабрикам, и мыловаренным заводам, и фабрикам эмалевых красок и лаков.
Скипидар применяется и как лекарственное средство, и на парфюмерных и текстильных фабриках.
Чего только нет в хвое, — и целебные витамины, и питательные белки, и ценные жиры нашли в ней химики. Но до сих пор все эти богатства миллионами тонн сжигались вместе с ветвями и другими отходами лесосеки. На протяжении многих веков, с той древней поры, когда человек с топором в руках пришел в лес, пылали костры. Их зажигали для того, чтобы очистить лесосеки. Теперь эти костры будут потушены. Неисчислимые богатства не будут больше улетать с дымом.
Простой кусочек дерева оказывается богатством в руках людей, но ждущих милости от природы.
Химическая переработка дерева дает не только шелк, каучук, спирт, сахар, канифоль, бензин.
В настоящее время из дерева изготавливают около двадцати тысяч различных веществ и предметов, и, конечно, всё большее и большее количество богатств откроет в ближайшем будущем химия — наука, которой принадлежит одно из первых мест в разрешении задачи создания изобилия материальных благ, в осуществлении величественного плана построения коммунистического общества.
Примечания
1
Бухенвальд — концентрационный лагерь близ Веймара, где 18 августа 1944 года совершилось злодейское убийство Эрнста Тельмана.
(обратно)2
Этими строками Гете Тельман заканчивает свое последнее, дошедшее к нам письмо.
(обратно)3
Местное название железнодорожной станции — Хэйдаохэцзы.
(обратно)4
Хорошо (китайское).
(обратно)5
Нет (китайское).
(обратно)6
Хорошо, советский товарищ! (кит.)
(обратно)7
Рассказ написан Юлиусом Фучиком в связи с событиями, сопровождавшими фашистский путч в Испании в 1936 г. (Примеч. ред.)
(обратно)8
Апа́ (туркм.) — сестра — обращение к женщине с оттенком уважения.
(обратно)9
Осторожнее!
(обратно)10
Ака́ — брат (старший) — обращение к мужчине с оттенком уважения.
(обратно)11
Бык — полисмен.
(обратно)12
Скеб — штрейкбрехер.
(обратно)13
В США аптеки торгуют мороженым и закусками.
(обратно)14
Джейран — антилопа, живущая в пустыне.
(обратно)15
Кабельтов — около 0,4 километра.
(обратно)16
Главы из повести.
(обратно)
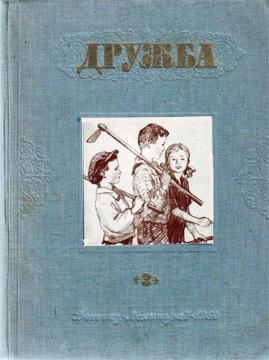

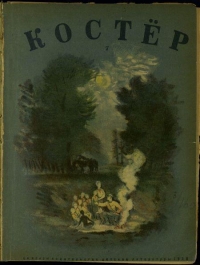




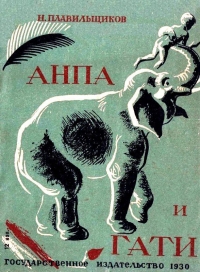


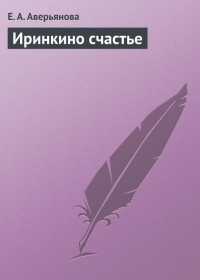

Комментарии к книге «Литературно-художественный альманах «Дружба», № 3», Юлиус Фучик
Всего 0 комментариев