Фрида Абрамовна Вигдорова Мой класс
Высокое призвание советского учителя
Каждый год в ноябрьский день в нашей школе собираются выпускники минувших лет. И тогда школьные стены становятся свидетелями необычного зрелища: за партами сидят не подростки, не юноши, а взрослые и даже пожилые люди — рабочие, инженеры, врачи, архитекторы, учёные и воины — герои Великой Отечественной войны.
По давно установившейся традиции, они рассказывают о том, как живут, как работают, какие строят планы на будущее. И всегда эти люди, разных возрастов и профессий, окончившие школу много лет назад, находят для своих учителей слова, полные глубокой любви и благодарности. Одного педагог научил серьёзно, добросовестно работать, другому помог преодолеть неуверенность в своих силах, третьему подсказал любимое дело. И всех учитель научил отличать хорошее от плохого, благородное от низкого, научил понимать, в чём счастье и смысл жизни, в чём долг советского человека.
Давно это было, но и через много лет после окончания десятого класса эти люди с волнением говорят о том, какой неизгладимый след оставила в их жизни школа, о том, как дорого им всё связанное с нею, с учителями. Они и теперь, став взрослыми, проверяя свои поступки, спрашивают себя: а что сказал бы, что посоветовал бы тот, кто учил меня в детстве?
Каким же настоящим, душевно богатым человеком надо быть, чтобы щедро делиться с детьми — год за годом, из поколения в поколение — всем лучшим, что в тебе есть, отдавать им лучшие силы ума и сердца и, отдавая, постоянно, день ото дня становиться богаче!
Михаил Иванович Калинин, глубоко чтивший работу учителя, говорил: «Учитель отдаёт свою энергию, кровь, всё, что у него есть ценного, своим ученикам, народу… Учитель, с одной стороны, отдаёт, а с другой стороны, как губка, впитывает в себя, берёт всё лучшее от народа, жизни, науки, и это лучшее снова отдаёт детям».
Да, работа учителя поистине требует всего человека и в то же время делает его счастливым, потому что это большое счастье — видеть, как при твоей помощи растут и складываются новые люди, как зреет их мысль, как формируется характер.
Каждый из вас, читателей, задумывается над тем, какое дело избрать для себя в жизни. И, наверное, многие из вас уже теперь, на школьной скамье, спрашивают себя: а не стать ли мне учителем? Но для того чтобы решить это, надо заглянуть в глубь профессии, узнать о её трудностях и о том, каких качеств требует она от человека. Вот почему так важны и ценны для нас книги учителей, книги, в которых педагоги рассказывают о своей работе, делятся своим опытом и раздумьем.
В повести «Мой класс» автор, сам по профессии педагог, рассказывает о молодой девушке, которая только начинает работать в школе, о том, как она ищет, думает, иной раз серьёзно ошибается, огорчается и радуется, учит ребят и в то же время учится сама, познавая наопыте высокое счастье быть советской учительницей.
Ещё далеко не всё ладится в её работе, но любовь к детям, стремление узнать их помогают ей найти верный путь во многих случаях. Учительница, от лица которой написана эта книга, повествует о своей работе правдиво и просто, это и заставит читателей волноваться вместе с нею, думать о рассказанном.
Мне кажется, что эту книгу с интересом и пользой для себя прочтёт и студент педагогического вуза, и молодой учитель, и пионервожатый. А старшеклассник, ознакомившись с записками молодой учительницы, более глубоко, чем прежде, задумается об учителе и его нелёгком, но благородном и радостном труде.
Заслуженный учитель РСФСР,
кандидат педагогических наук,
директор 110-й школы Москвы
И. Новиков.
I. Начало пути
1-е сентября
По тихому переулку, по середине мостовой, шагает мальчик лет семи, в длинных брюках и куртке с золотыми пуговицами. В руке у нет портфель, а на лице такое выражение, что и не расскажешь. Он, видно, уверен, что все глаза устремлены на него. Он старается быть скромным, но сознание, что он, такой нарядный и деловитый, идет в школу, переполняет его счастливым волнением.
Я тоже иду в школу и тоже впервые. В руках у меня список учеников. Изредка я заглядываю в него и снова читаю фамилии, которые знаю уже наизусть: Антонов Володя… Выручка Ваня… Мне почему-то кажется, что он высокий, худощавый. Гай Саша… Ильинский Витя — мой однофамилец… Какие они все?
Чем ближе к школе, тем больше ребят идёт в том же направлении и тем тревожнее у меня на сердце. Просто-напросто я боюсь. Мне кажется, войдя в класс, я забуду всё, что приготовилась сказать. «Здравствуйте, дети, — говорю я шёпотом. — Я ваша учительница. Меня зовут…»
Вот она, школа — большое кирпичное здание. Во дворе людно и шумно, и я отчётливо замечаю всё, что происходит. Повсюду тесные кучки оживлённых, громко разговаривающих ребят. Малыши, такие же торжественные и принаряженные, как тот, что первый встретился мне на улице, держатся за руки матерей. Высокий майор, слегка наклонившись, разговаривает с немолодой женщиной, как видно учительницей, и бережно, чуть прижав к себе, держит за плечо сына, а у того на лице сквозь первую робость так и светится любопытство. У самого крыльца ещё один малыш горько, громко плачет и повторяет сквозь слёзы:
— Не хочу в первый класс. Хочу во второй, к Вове!
Вова, немного растерянный, стоит рядом.
— Мы с ним в одной квартире живём, — поясняет он. — Я его привёл, а он… — и, немного справившись со своим смущением, доканчивает: — маленький ещё, не понимает…
Со всех сторон слышатся весёлые приветствия, удивлённые возгласы:
— Как вырос! Не узнать!
— Что ж ты не писал?
— У нас полкласса новеньких — видали список? Целых восемь человек!
Всё это я, как ни странно, вижу, слышу, запоминаю и… чувствую, что сердце у меня колотится куда быстрее обычного.
Из дверей школы выходит Людмила Филипповна, директор. Два дня назад, когда я говорила с нею в ее кабинете, она показалась мне маленькой, худенькой, немного сутулой старушкой, очень похожей на мою соседку Татьяну Ивановну. Но сейчас я не замечаю никакого сходства: Людмила Филипповна быстро, почти не сутулясь, проходит по двору, легко поднимается по ступенькам дощатой трибуны. Всё затихает. И директор совсем молодым, звонким и сильным, голосом поздравляет нас всех, учеников и учителей, с началом учебного года.
— Это первый послевоенный учебный год, — говорит она. — Мы с вами навсегда запомним его, запомним это ясное сентябрьское утро и то, как мы собрались у дверей школы, чтоб начать занятия под чистым, свободным небом. И сегодня, в такой большой праздничный день, я хочу напомнить вам о тех людях, которым мы обязаны своей свободой и счастьем, — о тех, кто храбро, самоотверженно сражался с врагом на фронтах Отечественной войны. В этих боях погибли наши бывшие ученики — Гриша Данилов, Павлик Медведев, Нина Полянская.
Мы слушаем её в глубокой тишине. Она желает нам успеха, надеется, что мы будем упорно и хорошо работать. Потом она поднимает руку — что-то сверкает: это колокольчик; по всему двору разносится его весёлый звон, и по его зову двери школы широко распахиваются перед нами.
Сорок пять минут
— Что ж, пора, — говорит заведующий учебной частью Анатолий Дмитриевич. — Сейчас вместе войдём в класс, и я познакомлю вас с детьми.
— А можно мне самой?
Он внимательно смотрит на меня и, помедлив, отвечает.
— Не полагается… Ну да ладно, идите. И не надо так волноваться, пожалуйста…
И вот я открываю дверь и вхожу в класс. Вижу распахнутое настежь окно, яркое голубое небо за ним и красную крышу дома напротив, но не различаю ни стен класса, ни лиц учеников. Кое-кто из ребят встаёт, другие продолжают сидеть. Я молча стою у стола и жду. Постепенно, не спеша, с грохотом и стуком поднимаются остальные.
— Здравствуйте! Садитесь! — говорю я громко и не узнаю своего голоса. В горле у меня пересохло, в ушах шумит. Так же громко, словно мне предстоит перекричать целую толпу, я продолжаю: — Меня зовут Марина Николаевна. Я ваша классная руководительница… («Ведь я даже написала всё, что скажу, — мелькает у меня в голове. — И ничего-ничего не помню… как же так?») На уроках географии мы с вами будем изучать нашу страну — её леса и реки, долины и горы. На уроках естествознания мы будем…
На последней парте двое ребят перешёптываются, а мальчики, сидящие слева, даже и голоса не понижают: их, видно, совсем не заботит, что я слышу их беседу.
— Пожалуйста, тише, — прошу я.
Они взглядывают на меня внимательно, даже удивлённо, умолкают ровно на секунду — и снова разговаривают. Один из них — черноглазый, с живым, смышлёным лицом. Другой — светловолосый, худенький: воротничок голубой рубашки свободно болтается вокруг длинной, тонкой шеи, глаза смотрят пристально и чуть насмешливо.
Тогда я беру в руки хрестоматию для четвёртого класса и начинаю читать совсем тихо:
— «Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно — конечно, в том случае, если бы не съел её аист. Но случилось одно происшествие…»
Шум продолжается. Не повышая голоса, я продолжаю читать. Сидящие поближе прислушиваются к чтению.
— «…Я придумала! Я нашла! Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь к нему посредине…»
— Потише, вы! Не мешайте слушать! — ворчит кто-то.
Я делаю вид, будто ничего не заметила, и продолжаю читать. Понемногу становится тихо, и только в самых забавных местах вспыхивает дружный смех. Вот лягушка летит над лугами и лесами, все восхищаются ею, а ей не терпится похвастать своей выдумкой, и наконец она квакает что есть мочи: «Это я! Я!» Конец сказки я читаю в полной тишине, у ребят оживлённые, улыбающиеся лица. Когда раздаётся звонок, они окружают мой стол и начинают наперебой спрашивать;
— А в моей хрестоматии этой сказки нет — почему?
— А английский язык у нас будет?
— А тетрадки будут давать? А то у меня только две, и обе в клетку.
Я стараюсь ответить всем. Голос у меня уже обычный, и я забыла, что сорок пять минут назад мне было страшно. Кого бояться? Ребят? Но вот мы с ними посмеялись над храброй хвастуньей-лягушкой и уже чувствуем себя так, словно не первый день знакомы.
…Я совершила немало ошибок на этом своём первом уроке: не сделала переклички, не произнесла вступительного слова и прочла сказку Гаршина, которую совсем не собиралась читать. Если уж говорить правду, я просто спряталась за эту самую лягушку, чтобы выиграть время и справиться со своим волнением. Я не выполнила ничего, что намечала, когда шла на урок. Но эти первые сорок пять минут научили меня простому и необходимому правилу, которого, как ни странно, я до сих пор не знала: если хочешь, чтобы тебя слушали, не кричи.
И ещё много простых, несложных истин усвоила я в те дни, уже далёкие, но такие памятные, словно всё это было вчера.
С чего начинать?
Вечер. Я сижу за своим столом. Передо мною груда тетрадей — первый диктант. Сбоку пристроилась Галя. Перед нею тоже тетрадь, в руках чёрный карандаш. Посапывая, склоняя голову то на один бок, то на другой, она старательно выводит палочки. Светлые волосы поминутно падают ей на лоб. Мне видны только эти непослушные вихры, краешек щеки и курносый нос.
Галя — моя соседка по квартире. Мы с нею знакомы уже семь лет — с самого её рождения. Её уважение ко мне безгранично: в этом году она поступила в первый класс и исполнена почтения ко всему, что связано со школой и ученьем. Мы с нею всегда дружили, но теперь я учительница — это не шутка! Галя, с колыбели звавшая меня просто Мариной, стала теперь называть меня по имени-отчеству. Время от времени она поднимает на меня круглые карие глаза и тихонько вздыхает. Я велела, не мешать мне, и она добросовестно молчит; но я вижу, что ей это нелегко.
Скоро я забываю о Гале и целиком погружаюсь в тетрадки. Красный карандаш не остаётся без дела — я подчёркиваю слово за словом (исправлять ошибки будут сами ребята).
Вот чистая, аккуратная тетрадь, красивый, ровный почерк. Чья это? Толи Горюнова… Ага, такой невысокий, хрупкий и худенький. Ребята зовут его Тоней, и он в самом деле похож на девочку: чуть что, сразу смущается и краснеет. У него нет ни одной ошибки. А вот в следующей тетрадке все буквы топорщатся, разбегаются, полей нет, и в конце — жирная клякса. Кира Глазков? Нет, не помню, какой он. Ошибки у Киры странные: «мальчик» без мягкого знака, в двух местах пропущены слова и вместо «корзинка» почему-то «курзинка».
Вид следующей тетради приводит меня в ужас: грязно, неразборчиво, что ни слово, то ошибка. Вот ещё такая же тетрадь, ещё… Я откладываю их в сторону.
— Что, плохо пишут? — слышу я сочувственный Галин голос.
— Плохо, — отвечаю я сердито и думаю: что делать с такими? Тут даже не поймёшь, с чего начинать…
— Галя, ужинать и спать! — слышится из коридора, и в дверь заглядывает Татьяна Ивановна, Галина бабушка.
— Тише! — строго говорит Галя. — Марина Николаевна проверяет тетради.
Бабушка поспешно прикрывает рот ладонью: ясно, что я занимаюсь очень важным делом и мне нельзя мешать. Она замечает моё огорчённое лицо и спрашивает участливо, совсем как Галя:
— Что, плохо пишут?
— Вот, поглядите, — отвечаю я: — маленький диктант, всего страница, а ошибок…
— Да-а, — задумчиво говорит Татьяна Ивановна. — Как ни говори, война тоже виновата. Дети из Москвы уезжали, некоторые не одну школу переменили. Ребятам трудно приходится — и по хозяйству, и в магазин сходить, и за меньшими приглядеть. Тоже ведь и лето за плечами, позабыли всё. Ну, ничего, вспомнят понемножку!
Галя с бабушкой уходят, а я снова принимаюсь за работу.
Тайны обыкновенных слов
На ближайшем уроке грамматики мы стали разбирать ошибки первого диктанта.
— Почему ты написал «мидведь»? — допытывалась я у Вани Выручки, который оказался вовсе не высоким и не худощавым, а напротив, маленьким, плечистым крепышом.
Он молчал.
— Скажи, что называется корнем слова?
На этот вопрос Ваня ответил бойко, отчётливо, но это не меняло дела: на столе передо мной лежал диктант, и там рукою Вани так же ясно и отчётливо было написано: «мидведь».
— Ну, теперь подумай, какой корень в слове «медведь», — продолжала я.
— «Мед» и «вед»! — с каким-то забавным и радостным удивлением воскликнул со своего места Толя Горюнов.
Класс обрадованно всколыхнулся: всем показалось очень занятным, что в слове «медведь» названо уменье мишки ведать мёд. И хотя Толя поступил не по правилам (он должен был поднять руку и ответить только после того, как я разрешу), у меня не хватило духу сделать ему замечание.
— Некоторые из вас думают так, — сказала я: — грамматические правила сами по себе, а грамотность сама по себе. Одно другого не касается: можно писать правильно и не зная правил. Это неверно. Конечно, если просто заучить правило, как Ваня, не подумав о том, что медведи любят лакомиться мёдом, толку не будет. Но если учить правила осмысленно и помнить о них, когда пишешь, тогда другое дело. Не напишет «пирчатка» тот, кто знает, что корень этого слова «перст», то есть палец.
— А напёрсток! — снова воскликнул Толя. — Его тоже на палец надевают!
— И перстень тоже! — подхватил всё ещё стоявший у доски Ваня.
— Вот, вот. Смотрите, как интересно знать происхождение слова, его скрытый смысл! Каждый из вас, конечно, давно сообразил, что подушка — это вещь, которую кладут под ухо. А какие ещё слова вы мне назовёте с этим корнем?
Поднялись руки:
— Ушат!
— Наушники!
— Ушанка!
А Толя снова удивил нас своей находчивостью.
— Оплеуха! — заявил он с восторгом.
— Это простой корень, — подзадорила я. — А кто скажет, от какого корня происходит непривычное, странно для нас звучащее слово «скопидом», то есть скупой человек, скупец?
После небольшой заминки несколько ребят отыскали разгадку:
— Тут два корня — «копить» и «дом». Скупой, вот он и копит!
«Что ни говори, а если на уроке интересно — полдела сделано, — решила я. — Важно, чтобы ребята поняли: грамматика — вовсе не скучный предмет».
Разговор в учительской
У меня всегда был в запасе набор разноцветных мелков. Они помогали наблюдать состав слова: выписанные красным мелком суффикс или приставка легче определялись и запоминались лучше. К каждому уроку я старалась приготовить какие-нибудь занятные, неожиданные примеры и никогда не могла пожаловаться на невнимание ребят: они хорошо, слушали и хорошо запоминали. И я двигалась по программе очень быстро.
Мы проходили правописание приставок из — воз — низ — раз — без — чрез — через, и чтобы для ребят яснее стала разница между глухими и звонкими согласными, я затеяла игру. Да, это была почти игра.
— Как называется место для молотьбы? Ну-ка, Серёжа!
— Ток!
— А место, где ремонтируются суда? Кто знает?
— Док!
— Как называется помещение, в котором мы живём?
— Дом! — раздаётся дружный хор голосов.
— А отдельная книга в собрании сочинений?
— Том, том! — кричат ребята.
Мы перебрали много таких пар, много слов, которые отличались друг от друга только начальными согласными: одно начиналось со звонкого согласного звука, другое — с глухого. От меня в класс и от класса ко мне, словно мячи, летели слова: жар — шар, зуд — суд, бот — пот… При этом особенно отличались Боря Левин, Толя Горюнов и Саша Гай — они отвечали мне раньше, чем я успевала договорить.
Я была очень довольна: на меня смотрят смеющиеся, блестящие глаза, всем интересно — и мне не меньше.
Но всё время, пока шёл урок, я помнила, что в углу на последней парте сидит Анатолий Дмитриевич. Он сидит у меня уже четвёртый день кряду. И хотя лицо его спокойно, невозмутимо, мне кажется: что-то ему не нравится, что-то я делаю не так.
После уроков, в учительской, он сказал мне:
— Давайте поговорим, Марина Николаевна.
Я сажусь напротив, складываю руки на коленях и сама чувствую, что у меня вид провинившейся ученицы. Анатолия Дмитриевича неподвижное, почти угрюмое лицо, над глазами нависли густые, мохнатые брови. Мне становится не по себе. Вот он раскрывает свой блокнот и, к моему удивлению, говорит:
— У вас живые уроки. Они будят мысль ребят, заставляют их расшевелиться. Ведь именно этого вы и добивались?
— Да, конечно.
— Я рад, что вы понимаете: надо не просто заниматься грамматикой — надо научить ребят искусству открывать тайны обыкновенных слов. Это увлекательные поиски. И если запоминанию помогает игра, к которой вы прибегли сегодня, — в этом тоже нет беды. Но я хочу вас предостеречь. Вспомните, многие ли ребята принимали сегодня участие в уроке?
— Многие! Конечно, многие! Помните…
Анатолий Дмитриевич не даёт мне договорить. Кажется, он улыбается самым краешком губ.
— Про дом и том сообразили все, — говорит он. — Ну, а что… до остального, так ведь руку поднимал всё больше один мальчик — такой смуглый, черноглазый, как его…
— Горюнов.
— Да. И ещё Гай — этого я знаю, его брат у нас в восьмом классе. А вот рядом со мной сидел мальчуган, так он просто не поспевал следить за вашими вопросами. А вам, наверное, казалось, что понятно всем. Вы хорошо объясняете, но, не успев закрепить, двигаетесь дальше. Я боюсь, не забыли бы вы о повседневной, черновой работе. Если приучите ребят к таким вот особенным, развлекательным урокам, они будут ждать чего-то из ряда вон выходящего и с неохотой станут заниматься простыми, будничными упражнениями.
— Но ведь уроки не должны быть скучными?
— Нет, конечно. Нужно научить детей видеть интересное и в обычной работе… Скажите, — вдруг перебил себя Анатолий Дмитриевич, — какие ошибки делают ваши ученики?
— Как «какие ошибки»? Всякие…
— На какое правило ошибок больше всего? На безударные гласные? На сомнительные согласные?
Этого я не знала. Я помнила, что у меня десять двоек за диктант, но не могла сказать напамять, у кого из ребят какие ошибки.
— А это очень, очень важно, — заметил Анатолий Дмитриевич.
Скоро сказка сказывается…
Да, это было очень важно. Я поняла это, когда в следующем диктанте Ваня Выручка написал «ночное» через «а». А казалось, он теперь твёрдо должен был знать, как внимательно надо думать над смыслом слова, над тем, каков его корень. Я увидела, что понимание и навык не одно и то же. Можно понимать, знать, а рука тем временем всё-таки пишет своё, привычное.
По совету Анатолия Дмитриевича, я стала приглядываться к ошибкам каждого. Теперь я знала, что у Выручки неладно с безударными гласными, у Лабутина — с падежными окончаниями, а Глазков просто рассеян и невнимателен — отсюда «курзинка» и «малчик». Поняв, у кого какое уязвимое место, я почувствовала себя увереннее, как врач, который сначала вздумал лечить своих пациентов одинаково от всех болезней, а потом разобрался, что глаз, ухо, печень, сердце и лёгкие — совсем разные вещи!
Да, в те первые дни и недели всему приходилось учиться. Вот, к примеру, сорок пять минут урока — как с ними быть? Готовилась я изо всех сил, старалась рассчитать каждую минуту, но мои расчёты постоянно нарушались. То быстро всё расскажу, повторю с ребятами, а глядишь — до звонка ещё двадцать минут, и не знаешь, чем их заполнить. В другой раз, кажется, и оглянуться не успела, не рассказала и половины того, что хотела, — уже звонок…
Программу первой четверти по русскому языку я прошла с классом в один месяц. Мне казалось: я толково всё рассказываю, ребята хорошо понимают, но потом я снова убеждалась, какой длинный и трудный путь от понимания до навыка. Поняла я и другое: надо думать не только о тех, кто соображает быстро, ловит объяснения на лету. Надо помнить о тех, к кому приходится обращаться не раз и не два, прежде чем убедишься; да, теперь он понял. Снова и снова мой красный карандаш изгонял из тетрадей неправильные окончания, лишние мягкие знаки, и снова я спрашивала Ваню: «Так какой же корень в слове «лесник»?»
Или выходил к доске Серёжа Селиванов, способный, неглупый мальчуган, и начинал, спотыкаясь и перевирая, не соблюдая знаков препинания, читать «У лукоморья дуб зелёный»:
Там на невиданных дорожках Следы невидимых зверей…Нет, не так!
…на невидимых дорожках Следы невиданных зверей… —поправлялся он под смех всего класса. Под конец он безнадёжно запутывался и умолкал, беспомощно глядя на меня.
И тогда я рассказала ребятам историю, памятную мне с детства. В одной книге, название которой я уже забыла, рассказывался такой случай. Одному мальчику велено было выучить басню «Волк и Ягнёнок». Заткнув пальцами уши, нагнувшись над книгой, он по двадцать раз безнадёжным тоном повторял одни и те же слова: «Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью напиться… Ягнёнок в жаркий день… Ягнёнок в жаркий день… в жаркий день…», но слова никак не укладывались в памяти: то одно, то другое ускользало, и приходилось начинать сначала.
К этой унылой зубрёжке прислушался другой мальчуган. «А я уже знаю», сказал он немного погодя и без запинки прочёл наизусть всю басню. И он объяснил удивлённому приятелю, каким образом ему удалось так быстро и легко всё запомнить: «Ты повторяешь слова и не думаешь, что они означают. А я, когда читаю, стараюсь представить себе всё, что описано в басне. Жаркий день — значит, солнце печёт, трава зелёная, и ручей течёт и журчит. А рядом густой, тёмный лес, из него выходит голодный волк — тощий, злой, зубастый. Увидал ягнёнка на берегу, обрадовался — и к нему! А ягнёнок весь белый, глаза круглые — испугался. Я так всё себе воображу, будто на картинке, и потом уже не забуду, не спутаю».
Пока он всё это говорил, первый мальчик тоже ясно увидел и волка, и ягнёнка, и их встречу у ручья. Все слова стали на места, наполнились живым и понятным значением, и басня быстро запомнилась вся целиком…
— Про волка и ягнёнка — это легко представить, а как представишь невиданных зверей?.. Ведь их никто не видал, — возразил Серёжа.
— Давайте попробуем представить себе, какие они, — предложила я.
После небольшого раздумья поднял руку Саша Гай:
— Неведомые дорожки — это, значит, по ним никто людей не ходил, никто их не знает, они заросшие, загадочные такие. А невиданные звери — это звери из сказок. Вот учёный кот. Конёк-горбунок, какие-нибудь необыкновенные звери с двумя головами. И жар-птица…
— Какой же жар-птица зверь? — критически заметил кто-то.
— Ну, не зверь, а всё-таки невиданная птица, сказочная. Конечно, она там тоже есть.
Саша положил начало: после него ребят уже трудно было остановить: каждый добавлял свои подробности к описанию невиданных, небывалых зверей. И потом, читая пушкинские строки, никто уже не путался и не называл зверей невидимыми, а дорожки невиданными.
Партия в шахматы
Раз после уроков я увидела, что кое-кто из ребят не уходит: собрались вокруг парты Горюнова. Толя вытащил шахматную доску и расставляет фигуры.
— Кто из вас играет? — спросила я, подойдя ближе.
— Я, — ответил Толя. — И вот Саша, — кивнул он на Гая, — и Глазков.
— Можно мне попробовать? — спросила я.
Ребята переглянулись, и Толя, по обыкновению краснея, ответил:
— Пожалуйста, Марина Николаевна. Вы с кем будете играть?
— Хочешь, сыграем с тобой?
Мы перенесли доску на мой стол, уселись друг против друга, ребята тесно окружили нас — и сражение началось. Толя оказался серьёзным противником — толковым, расчётливым, осторожным. Я играла немногим лучше его и неожиданно почувствовала, что волнуюсь. Во-первых, мне казалось, что все симпатии на стороне Толи, все желают ему удачи, а это много значит — отношение окружающих! Притом я вдруг поняла, что от исхода этой партии многое зависит, и решила, что мне просто необходимо выиграть. Сдвинув брови, плотно сжав губы, мой противник изучал доску. Рядом стоял его приятель Саша Гай, и на его лице отражалось всё, что происходило на поле боя. Он так переживал каждый Толин ход, словно это его, а не Толю ожидали победа или поражение.
Я не очень-то могла наблюдать за окружающими, но не заметить, как ведёт себя Боря Левин, было невозможно. Он «болел» за того, кому изменяло счастье. Он не столько радовался хорошим ходам, сколько огорчался, если кто-нибудь из нас делал неправильный, по его мнению, ход. Стоило мне или Толе взяться за фигуру, как раздавалось полное отчаяния «Эх!..». В иные минуты он даже отворачивался, не в силах смотреть на наши действительные или воображаемые промахи.
— Ты мешаешь, — сдержанно сказал наконец Толя. — Раз не можешь смотреть спокойно, уходи.
Боря присмирел.
Через некоторое время я, сманеврировав своим чёрным конём, сняла Толиного слона. Положение белых усложнялось. Я посмотрела на серьёзное лицо Толи, на морщинку, залёгшую у него меж бровей, и сквозь невольный азарт игры вдруг подумала: «Зачем я так стараюсь выиграть? Ведь он совсем мальчик. Даю же я иной раз Гале обыграть меня в шашки. Он огорчится, а для меня проигрыш — не велика беда».
Был мой ход — он, повидимому, решал судьбу партии: вслед за слоном я могла заставить Толю пожертвовать ладьёй, и тогда… Но я стала сосредоточенно разглядывать противоположный угол доски, словно обдумывая какую-то совсем новую комбинацию, и пошла пешкой, давая Толе возможность воспользоваться неожиданным преимуществом. Но он посмотрел на меня с таким откровенным изумлением, что мне стало неловко, а присмиревшие было ребята зашевелились, и кто-то разочарованно прошептал: «Поддаётся…»
— Вы ошиблись, Марина Николаевна, — сказал Толя. — Возьмите ход обратно.
— Я сама виновата, впредь буду осторожнее, — возразила я, чувствуя, что тоже краснею.
Но Толя не воспользовался моим великодушием, он не хотел победы, добытой по милости уступок и снисхождений. Он сделал какой-то нейтральный ход, и тогда я пошла так, как собиралась прежде. Белые сделали ещё несколько попыток защититься, но тщетно: через несколько ходов стало ясно, что положение их безнадёжное.
— Мат! — хором сказали ребята.
Толя поднял на меня тёмные глаза и вдруг расплылся в широчайшей улыбке. Все шумно вздохнули, и начался обычный в таких случаях разговор: «А вот если бы Горюнов догадался…», «Если бы Марина Николаевна пошла той пешкой…»
Я взглянула на часы: партия длилась сорок минут. Если бы я разговаривала с Толей сорок минут подряд, узнала бы я о нём больше, чем сейчас? Едва ли.
«Сперва я дал ему сдачи…»
Как-то на перемене дежурный педагог Елена Михайловна подвела ко мне двух мальчуганов — моего ученика Борю Левина и ещё одного, незнакомого. Оба были взлохмаченные, красные. Боря — тот походил на драчливого петуха: весь взъерошился, и даже его короткие светлые вихры как-то задорно встали дыбом.
— Ваш Левин ведёт себя возмутительно, — услышала я. — Ни за что ни про что избил Женю Волкова — я сама видела, как он налетел на него.
— Что случилось? — спросила я у Левина и услышала непостижимый ответ:
— Сперва я дал ему сдачи…
— Сдачи дают не сперва, а в ответ, — едва сдерживая улыбку, сказала Елена Михайловна. — С этого не начинают.
Так мы с нею ничего и не добились. Каждый пытался убедить нас, что он прав, но доводы обоих были сбивчивы и туманны.
Левин был задира и вспыхивал по всякому поводу: он сердился на неугодных ему персонажей книги, на дождь, который опять помешает после уроков гонять мяч во дворе, на оборвавшийся шнурок башмака. Входя в класс, я то и дело слышала: «У, чёрт!» или: «Вот как дам!»
Но на уроках Боря не мешал; напротив, учился он с упоением. На его подвижном, щедро позолоченном веснушками лице я всегда могла прочесть отражение своих мыслей: он думал вместе со мной и так сильно переживал всё, что я рассказывала, словно это происходило с ним самим.
По географии мы начали проходить тему «Картины природы и жизни населения СССР». Через десять дней Левин принёс мне тетрадь, в которой описал все зоны, хотя я успела рассказать только о полярной зоне и о тундре. Он прочёл весь учебник, от корки до корки, и не просто переписал приметы каждой зоны, но совершил воображаемое путешествие.
Каждый новый раздел в тетрадке начинался с того, что Боря пересаживался на какой-нибудь новый вид транспорта. «Я мчусь на оленях, — писал он. — Вокруг, насколько видит глаз, расстилается снежная равнина. Это тундра. Резкий ветер свистит в ушах, не даёт вздохнуть. Но что это? Словно разноцветные прожектора ходят по небу». Далее следовало описание северного сияния, которое, вероятно, очень удивило бы полярников: Боря описывал его совсем как салют на Красной площади.
«Я пересаживаюсь на самолёт — и вот я в тайге…» читала я. «За плечами у меня охотничье ружьё», говорилось дальше. В следующей главе сообщалось: «Мне уже не нужна тёплая меховая одежда. Я еду на верблюде». Так он побывал в Донбассе и в Заволжье, в Артеке и на Сахалине — я едва успевала следить за пейзажем, за встречами, за описанием климата, растительности, животного мира. И всюду у него оставалась та же горячая, убедительная интонация очевидца.
— Ты уже проглотил весь учебник, чем же ты будешь заниматься на уроках географии? — спросила я.
— Мне всё равно интересно, — ответил он, энергично мотнув головой.
И это была правда. О чём бы я ни рассказывала, Боря всегда находил, что добавить. Обо всём он говорил так, точно видел это своими глазами.
— Около города Кировска есть опытная сельскохозяйственная станция, так там, в таком холодище, на мёрзлом болоте, выращивают картофель, капусту — и клубнику даже! — объявлял он с воодушевлением. — Вот такие ягоды, — добавлял он несколько менее уверенно, пальцами показывая, каких именно размеров клубнику выращивают на Севере.
Память у него была цепкая, надёжная. Неожиданно он с увлечением цитировал большие отрывки из каких-то неизвестных мне книг:
— Двадцать лет назад хибинские края были пустынны — одна тундра, лес и камень. А теперь на этом месте, на берегу синего озера, вырос город Кировск, прямо как в сказке. Тут и телефон есть, и телеграф, заводы, фабрики, рудники, школы, техникумы. А на горе кольцо зелёного камня — апатита. Это из-за него тут всё ожило. Хибины — это мине… (он запинается, но верная память выручает, и он залпом, всё с тем же воодушевлением выпаливает трудное слово) …минералогический рай! Каких там нет камней! Есть красные, называются эвдиалиты — про них есть сказка, что это капли запёкшейся крови. А ещё есть зелёные эгирины, фиолетовые плавиковые шпаты. И ещё сфены — они как золото!
Правда, о многом рассказывала и я, о многом говорилось в учебнике. Но о «минералогическом рае» ни я, ни учебник не упоминали. Ссылаться на источники Боре и в голову не приходило: всё прочитанное он тотчас усваивал и уже воспринимал как своё.
Заступник
Очень интересовал меня Лёша Рябинин. Плотный, крепко сбитый, он был неразговорчив и незаметен, но я видела, что остальные слушаются его беспрекословно. Дежурит кто-нибудь, из сил выбивается — никак не выгонит ребят в коридор, а Лёша только бровью поведёт — и всех словно ветром выдует из класса. Он ничем не выделялся среди других, разве только ростом: он был самый высокий и, повидимому, самый сильный в классе.
Как ни странно, я скоро обнаружила в нём нечто общее с Борей Левиным. Раз, выходя из школы, я услышала во дворе шум. Подошла к возбуждённой кучке ребят и увидела, что всегда спокойный Лёша ухватил за шиворот Чеснокова и трясёт его изо всех сил, сквозь зубы повторяя:
— Попробуй ещё, тогда узнаешь! Вот попробуй!
Увидев меня, он не выпустил Чеснокова, но трясти перестал.
— Что у вас тут происходит? — гневно спросила я.
Рябинин молчал.
— Я спрашиваю, что случилось? Почему ты бьёшь Чеснокова? Что он сделал?
— Пускай сам скажет, что он сделал, — неохотно ответил Лёша.
— Говори, — обратилась я к Чеснокову. Тот молчал, глядя в сторону. Молчали и остальные.
— Так в чём же всё-таки дело? — повторила я.
И тогда в круг вступил Юра Лабутин:
— Марина Николаевна, Рябинин не виноват. Он за меня заступился… Меня Чесноков косым дразнит, — добавил он тише.
Рябинин отпустил Чеснокова, взял из рук Гая свою шапку и надвинул её на самые брови. Только после этого он заговорил:
— Я ему добром говорил, Марина Николаевна: отстань от Лабутина, не приставай, не трогай. А он всё своё: то косым, то очкастым. Лабутин и очки перестал носить. А если он очки носить не будет, у него косина не пройдёт. Так доктор сказал.
— Так дело было? — спросила я Чеснокова.
— Да… — тихо ответил он.
— И не стыдно тебе?
Он опять промолчал.
— Мы все ему говорили, — раздался голос Гая. — Лабутин виноват, что ли, что у него глаза больные? Чего ж его дразнить!
— Я больше не буду, — не поднимая головы, ответил Чесноков.
Страница за страницей
Что может быть проще устного счёта? Всего то десять минут в начале урока арифметики. Но стоит в эти десять минут присмотреться к ребятам. Рябинин считает спокойно, глядя на доску, чуть шевеля губами. Он поднимает руку одним из последних, но я не помню, чтобы он хоть раз ошибся. Лабутин же тянет руку, едва я успеваю договорить. И ошибается в трёх случаях из пяти. Трофимов незаметно старается решить письменно. Раз я подошла и молча положила свою руку на его плечо — он покраснел и быстро спрятал бумагу. Кира Глазков и тут верен себе: когда весь класс делит, он умножает; когда все складывают, он вычитает. Поэтому я смотрю на него особенно пристально и внушительно повторяю: «54 умножить на 15. Слышишь, Кира? Умножить!» И он улыбается и кивает в ответ.
Киру Глазкова я на первых порах запомнила по нелепым ошибкам в тетрадке: при виде его я сразу вспоминала «курзинку» или что-нибудь в этом роде. Рассеян он был необыкновенно. Однажды, когда он решал задачу у доски, у него получилось, что в классе было 40½ учеников. Он так и написал: «Ответ — 40½ человек». И только громкий хохот всего класса заставил его посмотреть на доску внимательней.
— О чём ты размышляешь всё время? — спросила я, с трудом удерживая улыбку при виде его озадаченной физиономии.
— Он марки собирает! — ответил за Киру Саша Гай.
«Опасное увлечение!» подумалось мне. Это я помнила по своим школьным годам: иной начнёт собирать марки и забудет всё на свете.
Боря от приёмов устного счёта приходит в неподдельный восторг, как будто я учу его творить настоящие чудеса. Например, я объясняю, что для умножения двузначного числа на сто один надо мысленно написать множимое дважды (скажем, 44 × 101 = 4444). И вот Боря на всех переменах множит двузначные на сто один. Иногда он проверяет результат на бумаге и всякий раз в новом приливе восторга кричит: «Получилось! Верно!»
Или придумывают ребята предложения на какое-нибудь грамматическое правило. У Чеснокова почти всегда те же предложения, какие приводила в пример я. А у Саши Гая всегда что-нибудь своё, и если надо придумать несколько предложений, они обычно связаны между собою, так что получается как бы маленький рассказ. Вот как он, например, просклонял слово «медведь»:
«Захотелось медведю (дательный) отведать мёду. Нашёл медведь (именительный) ульи и уже хотел полакомиться. Увидали пчёлы медведя (винительный), налетели на него и стали жалить. Не хватило у медведя (родительный) терпения, и бросился он наутёк. Так расправились пчёлы с медведем (творительный). Вот и весь рассказ о медведе (предложный)".
Или я нахожу в его тетрадке такой грамматический разбор:
«Астрономия (подлежащее) очень интересная наука (сказуемое). Я (подлежащее) хочу (сказуемое) стать астрономом. Если я (подлежащее) открою (сказуемое) новую планету, то назову её «Коммунизм».
Володю Румянцева я первое время мысленно называла «Мы с Андрюшей». Румяный, круглолицый, с блестящими карими глазами, он сидел на одной парте с худым, бледным молчаливым Андреем Морозовым. Куда бы мы кого ни выбирали, Володя неизменно кричал: «Морозова!» Что бы он ни делал, о чём бы ни рассказывал, он всегда начинал одинаково: «А вот мы с Андрюшей…» А я про Андрюшу могла пока сказать только одно: безукоризненно грамотен, очень аккуратен, отличный ученик.
Отвечая урок, Андрюша точно, добросовестно излагает учебник, а Толя Горюнов всегда говорит своими словами, добавляя то, что слышал от меня на уроке или узнал из других книг.
Да всего не перечислить! Но всё, что происходит в классе, на перемене, во время уроков и после них, — всё для меня как новая книга, где всякая страница приносит что-то новое и интересное. И с каждым днём я видела, что становлюсь наблюдательнее, начинаю обращать внимание на такие мелочи, которых прежде, конечно, не заметила бы.
Десять плёнок
На переменах я обычно не уходила в учительскую, а останавливалась в коридоре у окна; ребята окружали меня, и мы разговаривали сразу о тысяче вещей. Нередко после такого разговора я шла в библиотеку и спрашивала «Занимательную физику», или «Спутник следопыта», или ещё какую-нибудь книгу, которую ребята, оказывается, знали чуть не наизусть, а я совсем не читала. Прочитав «Занимательную минералогию» Ферсмана, я узнала целые страницы, которые пересказал нам на уроках географии Боря: свои сведения об эгиринах и плавиковых шпатах он черпал именно отсюда.
Однажды Лабутин спросил меня, почему листья осины всегда дрожат, и только звонок, возвестивший начало урока, спас меня от позора. Вечером я села за книгу Дмитрия Кайгородова «Рассказы о русском лесе» и тут-то поняла, что, всей душой любя лес, зная о нём множество стихов и рассказов, самого леса я не знаю совсем. Деревья, их особенности и привычки, живая жизнь леса — обо всём этом я узнала много нового, неожиданного.
Прежде мне казалось, что преподавать в начальной школе может каждый грамотный человек и уж мне, с моим высшим образованием, это, во всяком случае, будет нетрудно. А оказалось другое: хочешь учить по учебнику, слово в слово, — пожалуйста, тогда вполне хватит того, что ты знаешь. Но если отвечать на все «почему» и вызывать новые «почему», тогда надо неутомимо читать, искать, смотреть во все глаза, и с каждым разом станешь убеждаться: мало ты знаешь!
И ещё я замечала: чем больше узнаю сама, тем больше хочется знать ребятам. Вот сегодня я рассказала им о нашем Севере; назавтра несколько человек приносят виды северной природы, книгу о челюскинцах, о папанинцах. Серёжа Селиванов вылепил из коричневого пластелина юрту, Витя Ильинский сочинил стихи.
Однажды, когда мы прочитали «Ваньку» Чехова, произошёл забавный случай. Я принесла в класс аллоскоп, и рассказ ожил. Вот скамья, на ней лист бумаги, рядом мальчуган на коленях. Новая картинка: дед Константин Макарыч, весь закутанный в широчайший тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в колотушку. Дальше — хозяйка бьёт Ваньку по лицу селёдкой. На следующей картинке — лес, молодые ёлки, окутанные инеем; дедушка с Ванькой приехали срубить ёлку для праздника.
И вдруг вспыхнула плёнка аллоскопа. Видимо, лампочка была слишком близко от объектива. Я мигом выдернула штепсель, но плёнка сгорела. Ребята были в отчаянии. На перемене они окружили меня и все в один голос кричали, что непременно надо досмотреть историю Ваньки Жукова.
— Другой такой плёнки у меня нет, — объяснила я.
Ребята не стали больше спрашивать, не сговаривались между собой, но на другой день я неожиданно оказалась обладательницей десяти плёнок с историей Ваньки Жукова. Выяснилось, что чуть не весь класс спозаранку отправился на поиски плёнки, и десяти ребятам посчастливилось найти её. Каждый из них, входя в класс, торжественно объявлял:
— Марина Николаевна, а у меня есть…
— Плёнка! — хором кричали остальные.
Да, это было хорошо! Постепенно между мной и классом возникала близость, понимание, чувство взаимного интереса.
Но, несмотря на то что работа моя как будто ладилась, я чувствовала себя скверно. Главной причиной моего огорчения были братья Воробейко и Коля Савенков.
Как поступить?
Сначала расскажу о Коле.
Он мне почему-то сразу не понравился.
У него были маленькие, глубоко посаженные глаза и большие оттопыренные уши.
Должно быть, от привычки высоко поднимать брови на лбу у него прорезались глубокие морщины; лицо его было угрюмо и неприветливо.
В первые дни Коля Савенков безучастно сидел на задней парте и, казалось, не обращал на меня внимания. А я время от времени поглядывала в его сторону и невольно настораживалась.
— Нельзя приходить в школу с такими грязными ногтями, — сказала я ему однажды.
— Подумаешь! — буркнул он.
Я вспыхнула:
— Разве можно так разговаривать с учительницей?
— А чего? Я ничего не сказал, — ответил он равнодушно и отвернулся.
— Я не стану проверять твои тетради, — сказала я в другой раз. — Посмотри, какие они мятые, грязные. В руки взять — и то неприятно!
— Ну и не надо. Не берите.
Я даже не могу сказать, что Савенков отвечал грубо, — нет. В его тоне звучало холодное равнодушие. Всем своим видом он словно говорил: «Мне всё равно, существуешь ты на свете или нет. Не приставай ко мне».
В первое время Савенков даже не мешал. Чаще всего он просто смотрел в окно или строгал что-нибудь перочинным ножом. Но однажды во время урока он пустил бумажного голубя. Я рассердилась и резко отчитала его.
Савенков спокойно выслушал выговор и всё время смотрел мне в лицо холодными, испытующими глазами. Ему как будто доставляло удовольствие, что я из-за него сержусь, волнуюсь, прерываю урок.
На другой день во время урока он вдруг встал и неторопливо прошёлся по классу. Я велела ему сесть. Он лениво, через плечо, поглядел в мою сторону и так же неторопливо вернулся на место.
С тех пор не проходило дня без того, чтобы Савенков не досадил мне какой-нибудь выходкой. Мне казалось, что он преследовал одну цель: огорчить, обидеть, рассердить меня. Во время перемен он носился по коридору или начинал прыгать через парты, и дежурные никак не могли выпроводить его из класса. На уроках, смотря по настроению, он либо дремал, либо пускал бумажных голубей. За весь сентябрь он не выполнил ни одного домашнего задания, ни разу не ответил как следует у доски. Чаще всего он и не выходил к доске, а когда я называла его фамилию, с места угрюмо и вызывающе заявлял, что уроков не готовил. И не раз, похвалив кого-нибудь из ребят за удачный ответ, за хорошо прочитанное стихотворение, я ловила на себе злой, враждебный взгляд Савенкова.
Надо отдать ребятам справедливость: они старались помочь мне, останавливали Савенкова.
— Ну, что ты носишься бестолку? — спрашивал Рябинин.
— А твоё какое дело!..
— Не мешай слушать, — негромко просил Горюнов.
— Подлиза! — отрезал Савенков.
— Замолчи сейчас же, а то получишь! — горячился Левин.
— Посмотрим ещё, кто получит…
Такой ответ, как правило, сопровождался тумаком.
Что тут было делать?
Помню, в лекциях по педагогике нам не раз говорили, что в подобных случаях надо как можно скорее поручить ученику какую-нибудь ответственную работу.
И я предложила ребятам избрать Колю Савенкова классным организатором.
Скажу по совести: их очень удивило это предложение. Но они не стали спорить.
Коля был избран, и скоро мы убедились, что это не произвело на него ни малейшего впечатления.
— Ты составил список дежурств? — обращалась я к нему.
— Пускай Гай составляет, он самый аккуратный, — угрюмо отвечал Николай.
— Сведи, пожалуйста, ребят в раздевалку, — говорила я.
— Сами сойдут, не маленькие.
В перемены, стоя с ребятами у окна, я не раз замечала, что Савенков прислушивается, точно хочет подойти и принять участие в нашем разговоре.
Но, встретив мой взгляд, он тотчас делал независимое лицо и выкидывал какой-нибудь из своих обычных «номеров»: свистел, с гиканьем врезался в толпу ребят или начинал ломиться в класс, куда во время перемены входить не разрешалось.
Он попрежнему не слушал ни меня, ни кого-либо другого. Он не выполнил ни одного моего поручения и не утруждал себя приготовлением уроков.
— Тебя, видимо, придётся исключить из школы, — говорила я.
— Ну и исключайте! — отвечал он.
— Савенков, выйди сейчас же из класса! — иной раз говорила я, доведённая до отчаяния его возмутительным поведением.
— Ну и пойду! — угрюмо заявлял он, забирал сумку и отправлялся домой.
Я не видела выхода, не знала, как быть.
Я вспоминала свои школьные годы, свою учительницу — она вела нас с первого класса по седьмой. Мы попали к ней восьмилетними малышами, а простились в пятнадцать лет. Она была для нас самым лучшим человеком на свете, самым умным, справедливым и добрым. Мы слушались её беспрекословно — да, пожалуй, это нельзя назвать послушанием, тут было нечто другое. В каждом слове Анны Ивановны, в каждой мелочи мы чувствовали её правоту, мы понимали: нужно поступить только так, как ждёт она от нас.
И теперь я пыталась понять: чем же завоевала нас Анна Ивановна? Что это было такое — неуловимое и покоряющее? Уловлю ли я этот секрет, овладею ли им?
Мучительно доискиваясь, как быть с Колей Савенковым, я вспомнила поразивший меня когда-то случай. Это было ещё во время войны. В школе, где я проходила педагогическую практику, в четвёртом классе один мальчуган, паясничая и кривляясь, выкрикивал «Хайль!» в подражение какому-то персонажу из фильма «Похождения бравого солдата Швейка». Остальных это ненавистное словечко раздражало, они просили мальчика перестать, но он никак не мог угомониться. Войдя в класс, преподавательница услышала это. И тогда она сказала детям:
«Встаньте все, у кого отец, мать, сестра или брат находятся сейчас на фронте».
Встало десятка полтора ребят.
«Встаньте, у кого кто-нибудь из родных вернулся с фронта инвалидом».
Снова поднялось несколько человек.
«Встаньте те, у кого отец погиб на войне».
В глубокой, напряжённой тишине встали три мальчика.
«Видишь, — сурово сказала учительница, в упор глядя на озорника, — вот кого ты обижал своим нелепым выкриком, вот кого ты осмелился оскорбить! Ты должен извиниться!»
Мальчик опустил голову.
Вспоминая это, я подумала: «Вот я с Савенковым пряма и резка, а к чему это приводит? С каждым днём он ведёт себя всё хуже и хуже. Нет, не умею я найти выход».
И такие это были для меня тяжёлые дни, что иной раз и в школу итти не хотелось.
Я понимала: нужно поговорить с Анатолием Дмитриевичем, но самолюбие не позволяло. Что же, не успела начать, а уже прошу помощи? И я старалась не слишком часто попадаться ему на глаза, а встречаясь где-нибудь в школьных коридорах, поскорее проходила мимо. Он бывал у меня на уроках, хвалил за то, что ребята спокойно сидят и с интересом слушают.
Советы его всегда бывали просты: «Разве вам не говорили, что задавать вопрос надо всему классу, чтобы все думали над ним, а потом уже вызывать ученика? Ведь вы как делаете: «Саша, какие существительные относятся к первому склонению?» Вот у вас и думает один только Саша Гай, а остальные полагают, что первое склонение их вовсе не касается».
Когда Анатолий Дмитриевич заходил в класс, Савенков сидел смирно. Это глубоко возмущало меня. «Какая трусость, — думала я: — завуча он боится и при нём помалкивает, а со мной чувствует себя безнаказанным».
Самое главное
— Знаете, — сказал как-то Анатолий Дмитриевич, — походите-ка вы на уроки к Наталье Андреевне. Она чудесный человек и талантливый педагог. И ведь опыт огромный — шутка ли, сорок лет человек отдал школе! Поглядите, послушайте, вам будет интересно.
Но я не пошла. Сейчас даже понять этого не могу, но во мне говорило странное упрямство и желание найти выход, найти самой, чего бы это мне ни стоило.
Как-то Наталья Андреевна подошла ко мне в учительской и сказала ласково:
— Можно побыть у вас на уроке?
— Конечно, — ответила я.
Она пришла — и не раз, не два. Садилась на задней парте и слушала, смотрела. Правду сказать, я не очень люблю, когда на уроке у меня сидят посторонние. Это неуловимо, но ребята ведут себя как-то иначе: мы с ними уже не остаёмся с глазу на глаз, и невольно, должно быть, они, как и я, чувствуют себя связанными присутствием чужого, стороннего человека. Но когда в класс приходила Наталья Андреевна, этого почти не было. От неё веяло такой доброжелательностью, таким спокойствием! Она от души смеялась, если я или ребята шутили, внимательно слушала их ответы и одобрительно кивала, если ответы были хорошие. Мне она говорила: «Это славно, что вы ребят называете по именам», или: «А вы замечаете, вон тот мальчуган всё молчит и молчит. Почему это он у вас такой неразговорчивый?»
Однажды она попросила:
— Расскажите мне поподробнее о своих ребятах.
Я рассказала ей о Горюнове, Левине, Гае. Рассказала и о Савенкове. Она слушала очень внимательно, то сдвигая брови, то сдержанно постукивая пальцами по краю парты, и я видела: она живо принимает к сердцу мои волнения и огорчения. Потом она сказала:
— Приходите ко мне, я вам тоже о своих расскажу.
Я стала бывать у неё. В классе у Натальи Андреевны всегда царило оживление, какое создаёт только дружная, слаженная работа. Посидеть на её уроке, послушать, как разговаривает она с ребятами, как охотно и толково они отвечают, было по-настоящему радостно. И в такие часы у меня было какое-то неясное чувство, словно всё это когда-то уже было со мною. Не сразу я поняла: это было в школьные годы; вот так же радостно и интересно бывало нам на уроках Анны Ивановны.
Ещё интереснее, чем самые уроки, оказались рассказы Натальи Андреевны о её ребятах. Слушая её, я узнавала о них такие подробности, какие могут быть известны только самому близкому человеку — пожалуй, только умной и наблюдательной матери. И я заметила: с особенным оживлением и любовью Наталья Андреевна говорит не о самых лучших и примерных учениках, но о тех, с которыми трудно.
Один из её ребят год прожил в оккупированной местности. Однажды фашист для чего-то велел ему принести топор. Мальчуган испугался: «Зарубит» — и лишился речи.
Ноги у него тоже отнялись. Выздоровел он не сразу и не до конца — остался заикой. В первый класс он поступил с двухлетним опозданием — ему уже минуло девять лет. На уроках он сидел молчаливый, безучастный и со слезами на глазах смотрел в окно, ожидая, когда за ним придёт мать. Чувствовалось: он очень стесняется, что он такой большой — не только старше всех, но и выше всех чуть ли не на голову.
Наталья Андреевна стала подчёркивать это как достоинство. «Вот Витя у нас самый высокий, он поможет повесить картину», говорила она. «Витя, ты выше всех, помоги мне достать книги с верхней полки». Зная, что мальчик мучительно смущается, когда его неожиданно спрашивают на уроке, она старалась предупредить его взглядом или какой-нибудь случайной фразой: «Напишем сейчас вот это предложение, а потом Витя расскажет нам…» И Витя успевал внутренне подготовиться.
Ни одна Витина удача не оставалась незамеченной, ни одна буква, которую Витя написал сегодня красивее, чем вчера, не была упущена. Исподволь, шаг за шагом Наталья Андреевна заставила мальчика самого поверить в свои силы.
Теперь Витя учился в четвёртом классе. Он постепенно выровнялся, подружился с учительницей, но всё ещё держался в стороне от товарищей.
— Понимаете, — рассказывала Наталья Андреевна, — ему мешало самолюбие. Он видел, что другие лучше учатся, бойчее, свободнее себя чувствуют. Надо было как-то поднять его в глазах класса. Нашёлся повод и для этого. Витя удачно нарисовал в тетрадке зимний лес и испуганного, скачущего во всю прыть зайца. Я велела ему перерисовать картинку на отдельном большом листе. Затем повесили её на доске и всем классом придумывали рассказ: что тут изображено, что было до того, как заяц испугался и поскакал по лесу, что случилось с ним потом… Раза два я сказала: «Это Витя хорошо нарисовал, выразительно. Поглядите, какие у зайца испуганные глаза, как он прижал уши! Мы уже давно не рассказывали по такой хорошей картинке». И что же? Мальчики посмотрели на Витю с уважением, а человек становится сильнее, когда в него верят другие. Ведь правда?.: Но вот если в Вите надо было поддерживать каждую едва заметную попытку расправиться, поднять голову, оглядеться, то с Валей пришлось поступить совсем по-иному. Этот мальчуган пришёл в школу с твёрдым убеждением: «Я самый лучший. Я самый умный. Всё, что я делаю, хорошо». Конечно, это единственный сын. У меня в классе семнадцать единственных — прямо беда! Тут уж, знаете, корень зла не в самом Вале, а в Валиной маме — это она убеждена в превосходстве своего сына над всеми остальными детьми. А знаете, что я в этих случаях делаю? Приглашаю родителей в школу. Им совсем не вредно побывать на уроках и убедиться, что их ребёнок не лучше и не хуже других. Очень полезно узнать, что некоторые дети читают более бегло и лучше считают в уме.
— А с Валей самим вы что делаете?
— С Валей? Я его не одёргиваю, не твержу всё время: «Не зазнавайся, не заносись», но встать над одноклассниками ему не позволяю. Вот он насорил и хочет, чтобы за ним убрал товарищ. Но нет, пусть уберёт сам! Вот он решил задачу раньше всех и победоносно оглядывается. А я ему: «Это хорошо, что ты задачу решил, но поля где? И почему так небрежно написал? Клякса на кляксе. И тетрадка у тебя помятая, неопрятная…» Знаете, с ним, пожалуй, ещё труднее, чем с Витей. Такой неровный и заносчивый характер! И надо выправить во-время, а то ведь все эти колючки и углы отвердеют, оформятся окончательно — вырастет человек плохим товарищем, плохим работником… Да… не просто это.
— Вот именно, — со вздохом ответила я.
— Ну, а те, кто учится хорошо, — благополучные дети, успевающие ученики? Вы думаете, с ними просто? Вот, к примеру, у Володи и Мити в тетрадях одно и то же — пятёрки. Табели одинаковые. А ребята разные. Володин сосед опрокинул чернильницу, залил парту. Володя заставил его всё вытереть и вымыть, а мне ничего не сказал. А Митя? Тот поминутно руку тянет: «Наталья Андреевна, Коля измазал свою тетрадку! Наталья Андреевна, Коля просил у вас учебник, а у него есть свой!» А я его спокойно спрашиваю: «Разве ты Коля? Коля мне всё сам скажет, если захочет».
Мы сидели с Натальей Андреевной в её пустом классе. Было уже темно, а мы всё не зажигали огня. Дождь стучался в окна, и мне, хоть я и слушала её с жадным вниманием, было очень грустно. Я понимала всё, что говорила Наталья Андреевна, и в то же время никак не могла решить самого важного, о чём непрестанно думала: как же мне быть с Колей? Вот она умная, талантливая, думала я, она всегда находит верный путь. А у меня нет этой искры, какого-то особого дара, я ничего не могу придумать — и ничего у меня не получится.
— Но что же, что же самое главное в нашей работе? — спросила я тихо. — Я понимаю, готовых рецептов нет, всякий раз нужно поступать по-разному. Но неужели же нет чего-то самого главного, что поможет даже в самом трудном, самом запутанном случае?
— Самое главное? — задумчиво повторила Наталья Андреевна. — Вот я вам расскажу такой случай. Работала у нас молоденькая учительница. Побывала я у неё на уроках. Как будто недурно. Уроки по всем правилам методики. Спрашиваю: «Хорошие у вас ребята?» — «Хорошие», отвечает. «Скажите, вон тот, на первой парте, что он собой представляет?» — «Прекрасный мальчик. У него одни пятёрки. Очень развитой и смышлёный». — «А тот, черноглазый, в голубой рубашке?» — «Это троечник, средний ученик. Но дисциплинированный». — «А вон тот, курносый, с веснушками?» — «А у этого вообще четвёрки, но по арифметике ниже пяти не бывает»… И, понимаете, — продолжала Наталья Андреевна, — вдруг все эти ребята — черноглазые и голубоглазые, смуглые, светловолосые, веснушчатые, — все стали на одно лицо, и уже только одно отличало их: четвёрочник, троечник, двоечник, отличник… Ну, подумайте сами, разве можно охарактеризовать школьника одними отметками! Как будто отметка может исчерпать человека, будь он даже только восьми лет от роду! Вот это я ей и сказала. А она мне так спокойно: «У меня их сорок, не могу я знать каждого в отдельности». Я вам скажу: мне страшно стало. Как же работать с детьми, если не знать их? Как учить их — даже орфографии или таблице умножения? Сорок ребят — это сорок разных характеров, и тут, поверьте, нет двух похожих, которых можно спутать друг с другом. Учителю не знать своих детей — значит лишиться глаз и обречь себя на работу вслепую, без малейшей надежды на успех. Просто безумие какое-то!
Она помолчала, потом заговорила спокойно:
— Вы говорили, что ваш Савенков — очень испорченный мальчуган. И верно, в нём много неприятного: угрюм, резок, любит делать назло. А всё-таки приглядитесь к нему внимательней. Да вы дома-то у него были?
— Нет.
— Что вы! Непременно надо побывать.
— Я знаю, что надо. Но понимаете, Наталья Андреевна, у меня к нему очень неприязненное чувство. Ко всему, он ещё трус: при Анатолии Дмитриевиче ведёт себя смирно, а только тот за дверь, опять начинает изводить весь класс и меня.
— Да, это тяжело, конечно, — медленно проговорила Наталья Андреевна, — но я уверена, в конце концов вы и его поймёте. Знаете, вот уже сорок лет я в школе — и не припомню случая, чтобы ничего, совсем ничего нельзя было сделать. Вот вы спрашиваете, что самое главное. Для воспитателя самое главное, самое важное — понять ученика. Бывает, беседуешь с учеником на уроках, на экзаменах, оцениваешь его знания, случается даже — даёшь ему характеристику и всё ещё по-настоящему ничего о нём не знаешь. И ждёшь, ловишь, подстерегаешь ту минуту, тот иногда непредвиденный случай, который откроет тебе сокровенное в человеке. В такие минуты, как под лучом прожектора, всё озаряется, всё становится ясно…
Новые башмаки
Однажды мне дали ордера на обувь и одежду, надо было их распределить. Обычно мы с ребятами такие вопросы решали сообща: они лучше знали, кто в чём нуждается, и я прислушивалась к их мнению.
— У Савенкова башмаки совсем прохудились, — нерешительно сказал Саша Гай.
— Ну, Савенкову давать нельзя, — возразил Юра Лабутин. — Да он и сам не просит, понимает, что ему на ордер рассчитывать не приходится.
«А всё-таки дать надо», решила я. Савенков действительно ходил в рваных башмаках.
Когда он явился в школу (по обыкновению, опоздав на целый урок), я вручила ему ордер. Он посмотрел на меня с таким глубоким, неподдельным изумлением, что мне стало не по себе. Ордер он взял и на другой день пришёл в новых кожаных башмаках. Во время перемены я заметила, что его нет в коридоре, и приотворила дверь класса. Николай стоял у окна, поставив ногу на батарею центрального отопления, и бережно вытирал башмак носовым платком. Я тихо затворила дверь и медленно пошла в учительскую.
С трудом я закончила в этот день занятия и, не задерживаясь, пошла домой. Мне было глубоко, мучительно стыдно.
Этот мальчишка раздражал меня, мешал мне. Я не любила его, и он это знал. Ведь если вспомнить, он день ото дня вёл себя всё хуже. Не было ли это ответом на мою неприязнь? И почему я невзлюбила его с первого дня? Что я знала о нём, кроме того, что он угрюм, неприветлив, что у него грязные тетради и неопрятные руки? Ведь Савенков всего-навсего одиннадцатилетний мальчик. Как же я допустила, чтобы у нас началась эта глухая взаимная вражда? Почему у меня не нашлось для него приветливого слова? Как это могло случиться?
На другой день я пошла к Савенкову домой. Он увидал меня ещё во дворе, но не подошёл, не поздоровался, а только посмотрел угрюмо и подозрительно.
— Колька, к тебе учительница пришла, жаловаться будет! — услышала я за своей спиной.
Николай свистнул и с независимым видом умчался на улицу.
Я позвонила, и через минуту мне отворила дверь женщина лет тридцати пяти с хмурым, усталым лицом.
— Вам кого?
— Я к Савенковым… из школы.
— Из школы? — настороженно переспросила она. — Пожалуйста, проходите…
Я пошла за нею в конец скупо освещённого коридора. В небольшой опрятной комнате за столом сидела девочка лет шести, неуловимо похожая на Николая: то же скуластое лицо, те же серые глаза, только взгляд не такой хмурый и губы совсем ребячьи — добрые, пухлые. Когда я вошла, она встала и выжидательно посмотрела на мать.
— Вы кто же будете? — спросила женщина, тоже с ожиданием глядя на меня. — Учительница?
— Да, я учительница вашего Николая. А вы его мать?
— Нет. Он мне пасынок. Мужа на войне убили, вот я и осталась одна с ними двоими.
Она сказала это просто, даже буднично, но я сразу почувствовала, что передо мною усталый, подавленный горем человек.
— Что, верно озорничает Николай? — спросила она.
— Да нет, я не потому, — ответила я. — Просто мне хотелось посмотреть, как он живёт.
— Ну, если будет баловать, скажите: его дядя ремнём поучит. Такой у нас порядок, он уж и сам знает. Вот в прошлый раз во дворе окно расколотил, так с ним дядя по-своему разговаривал. А дома он ничего, помощник. И за девочкой поглядит, и обед из столовой принесёт, и дров наколет.
Пока мы разговаривали, сестрёнка Николая подошла ко мне и стала рядом, внимательно прислушиваясь и переводя пытливый взгляд с матери на меня.
— Как тебя зовут? — спросила я.
— Лида.
— Любит она Колю, — мягко сказала мать. — Они у меня дружно живут. Он с нею в парк гулять ходит, сказки ей читает смешные… «Мойдодыра» какого-то… — Она помолчала минуту, потом сказала тише: — Коля в отце души не чаял. Как пришла похоронная, он на себя стал не похож — почернел, с лица спал. А раньше весёлый был… Мы с ним про отца не говорим. А ей он рассказывает, какой папка был, да как ходил, да что говорил. Лида-то его совсем не помнит…
Женщина говорила всё это спокойно, негромким, ровным голосом. Слёзы катились по её щекам; она не утирала их, а может быть, и не замечала. Я поспешно отвела глаза. Она прибавила:
— Мы ведь отца ждали, совсем приготовились встречать. Убили-то его за неделю до победы, а похоронная пришла уже после войны…
Я знала: надо бы ещё посидеть, порасспросить, но поняла, что сейчас не могу этого сделать. Ещё раз уверив Савенкову, что приходила не с жалобой, я распрощалась и ушла.
У дверей на лестнице поджидал Николай. Он в упор, со злостью посмотрел на меня, и в этом взгляде я прочла: «Нажаловалась? Рада?» Он подождал, пока я спустилась на несколько ступенек, потом решительно повернулся, вошёл в квартиру и с размаху захлопнул за собой дверь.
По дороге домой
Назавтра я встретилась с ним неподалёку от школы. Против своего обыкновения, он шёл медленно и, казалось, кого-то поджидал. Увидев меня, он приостановился, подождал, пока я поровняюсь с ним, и негромко сказал:
— Здравствуйте, Марина Николаевна…
— Здравствуй, — ответила я.
Мы вместе дошли до школы, молча поднялись наверх, в класс.
На уроке Николая не было слышно. Весь день я ходила с таким ощущением, словно случилось что-то важное и хорошее, хотя я и не могла бы точно определить, что именно.
На другой день, выходя из школы, я встретила Савенкова на улице; он прохаживался вдоль забора, засунув руки глубоко в карманы.
— Ты что тут делаешь? — невольно спросила я.
— Так… — ответил он неопределённо и зашагал рядом со мной.
Я сбоку поглядывала на него. Он, видно, о чём-то упорно думал — шевелил бровями, поджимал губы. Лицо его показалось мне сегодня не таким угрюмым и неприятным.
— Вы Лиду видели? — вдруг спросил он.
— Сестру твою? Как же… Очень на тебя похожа.
— Лицом?
— Ну да. Характера ведь я не знаю, его за один раз не разглядишь.
— Какой у неё может быть характер! — возразил Николай. — Она ещё маленькая.
Помолчали. И вдруг он сказал:
— До свиданья, Марина Николаевна, — и мигом свернул в проходной двор.
Я пошла дальше, озадаченная. Очень уж странный получился у нас разговор, и ещё более странно он оборвался. «Может быть, я что-нибудь не так сказала? Он, кажется, обиделся!» подумала я.
С тех пор почти каждый день Николай поджидал меня у школьных ворот и шёл со мною до конца нашего переулка. Разговор у нас почти всегда бывал односложный. Как-то за всю дорогу Николай произнёс только несколько слов:
— Вот, все говорят: мачеха, мачеха… и в книгах тоже… А она не такая. Она никогда не обидит.
Понятно, он говорил о своей мачехе. Но не успела я и рта раскрыть, как Савенков с обычным «До свиданья, Марина Николаевна» исчез за углом.
Если с нами шёл ещё кто-нибудь из ребят — а это бывало чаще всего, — Николай не говорил ни слова, и по лицу его нельзя было понять, слушает ли он наши разговоры или думает о своём.
Однажды, когда мы с ним шагали вдвоём в какой-то особенно дождливый и хмурый день, он предложил:
— Дайте я понесу тетради.
— Спасибо, — ответила я. — Только, пожалуйста, осторожно, чтоб не помялись.
Он бережно взял у меня толстый пакет.
— Марина Николаевна, а бывает так, что пришла похоронная, а человек жив? — В голосе Николая звучали и тоска и упрямая надежда. — Вот мне рассказывали: приезжает к одной старушке человек с фронта и говорит: «Вашего сына убили, я своими глазами видел». Ну, она плачет, расспрашивает. Проходит месяц. Сидит она вечером одна в квартире, вдруг — звонок. Идёт она открывать, спрашивает: «Кто там?», а ей из-за двери: «Мама, откройте!» И вовсе не убили её сына, только ранили…
Николай замолчал и пристально посмотрел на меня.
— Бывает, — ответила я не сразу. — Всё бывает. Вот у меня погиб брат, я долго надеялась, что он вернётся. Но прошло уже три года… Видно, на самом деле погиб.
Мы стояли уже у моего подъезда — в этот раз Савенков не простился со мной на обычном углу.
— Зайди ко мне, — предложила я.
Он сначала отступил, а потом, вдруг, решившись, шагнул в дверь и, похлопывая ладонью по перилам стал подниматься за мной по лестнице. Поворачивая ключ в замке я заметила на его лице уже знакомое мне смущённое и сосредоточенное выражение.
— Раздевайся, садись, — говорила я через минуту, не глядя на Николая.
Разложила по местам портфель, тетради и, захватив полотенце и мыло, вышла на кухню умыться.
Когда я вернулась, Николай стоял у книжного шкафа.
— Книг-то сколько! — сказал он, проводя рукой по стеклу.
— Выбери себе какую-нибудь, — предложила я.
Николай быстро взглянул на меня, густо покраснел и снова отвернулся к шкафу.
— Зачем, что это вы… — услышала я удивлённый, недоверчивый ответ.
— Возьми, — повторила я, открывая дверцу. — На память. Вот видишь: «Каштанка» Чехова. Эту книгу мне подарила когда-то моя учительница Анна Ивановна, и я берегу её до сих пор. Видишь, написано: «Марине на память о нашей крепкой дружбе за годы школьной жизни».
— Сколько же вам тогда было лет?
— Двенадцать.
— Как же вы дружили? Разве с учительницами дружат?
— Очень дружили! И до сих пор дружим, — ответила я. — Ну, выбирай, какая тебе нравится.
Николай неуверенно провёл рукой по корешкам и, остановившись на одном из самых толстых, вытащил… «Основы электротехники». Это была книга брата. Не сдержав улыбки, я сказала:
— Это, пожалуй, будет для тебя скучновато. Может, лучше вот эту? — И я протянула ему «Детство» Горького.
— Эту, — согласился Николай, краснея ещё больше; сунул книгу в выцветшую сумку от противогаза и направился к двери.
— Погоди, куда ты! — Я даже растерялась.
— Нет, я пойду. Спасибо, Марина Николаевна!
И не успела я ни удержать его, ни проститься толком, как он уже сбегал с лестницы, перепрыгивая через три ступеньки.
Драка
На уроках он теперь сидел тихо — кажется, я могла бы забыть о нём, если бы, объясняя что-нибудь, не встречала его напряжённый, внимательный взгляд. Вскоре он принёс мне свою домашнюю тетрадь, в которую переписал уроки за последнюю неделю. Почерк оставался плохим: что ни буква, то кривобокое чудовище; зато не было ни одной кляксы, а поля были.
Обычно, кроме отметки, я писала в тетрадях несколько слов: «Чисто и аккуратно» или «Грязно», «Небрежно», «Не забывай о полях». Ребята, получив проверенную тетрадь, сейчас же смотрели, что написано в конце, причём тут всё бралось в расчёт: каким карандашом написано — синим или красным, крупными буквами или мелкими. Красный карандаш считался более лестным, синий — не так, зелёный или коричневый почему-то огорчали.
Под Колиной работой я написала: «Чисто, но почерк плохой».
— Покажи, что у тебя? — сказал Гай.
— Не дам, — процедил Николай, проходя на своё место.
— Я видел! — вмешался Морозов. — Марина Николаевна написала: «Чисто». А только он всё переписал в один раз — это не дело, так всякий сумеет. Надо каждый день писать как следует.
Николай уже сидел на своей парте, и вид у него был такой, точно не о нём речь. Только по быстрому взгляду, который он бросил на Морозова, я поняла, что он не пропустил ни слова.
После уроков я едва разняла их. Вот уж, действительно, когда у меня руки опустились! Кажется, только что всё наладилось, и вот опять драка, опять всё сначала!
Мне незачем было спрашивать, кто начал первый: Морозов никогда не участвовал ни в каких драках, и сейчас потасовку затеял, конечно, Савенков.
— За что ты его?
— А какое его дело! Чего он суётся, куда не просят?
— Не понимаю. О чём ты говоришь?
— Вы написали в тетрадке «чисто». А он влез: «Это каждый сумеет, надо каждый день чисто писать». Какое его дело?
— Он прав, уроки надо всегда готовить чисто. Но даже если бы ты рассердился за дело, неужели ты думаешь, что колотушки — такое уж хорошее объяснение?
— Так ведь он иначе не поймёт. Это для него самая хорошая наука, — убеждённо ответил Савенков.
— А что бы ты сказал, если бы я стала так учить тебя?
Действие моих слов было самое неожиданное: Савенков поднял голову, посмотрел на меня и широко улыбнулся — и от этого его лицо стало совсем мальчишеским, открытым и простым.
— Я больше не буду, Марина Николаевна, — сказал он. — Вот честное слово, не буду!
Тетради его день ото дня становились чище, и всякий раз он ревниво смотрел, что я написала в конце.
Хорошим классным организатором Коля не стал, мы сменили его. Но последняя парта в правом ряду больше не мешала мне на уроках.
— Савенкова-то вроде подменили — не кричит, не дерётся! — с комическим удивлением заявил как-то Боря Левин.
Николай тотчас ткнул его кулаком в бок. При этом он насупился и покраснел, словно Боря вмешался во что-то глубоко личное, что касалось только его одного.
Борис никогда не оставался в долгу, но тут и он, как видно, почувствовал, что сказал лишнее.
— Не лезь! — крикнул он только, но сдачи не дал.
— Сам не лезь, куда не просят, — веско отозвался Савенков.
Галя
— Скажи, Галя, девочки в вашем классе часто дерутся?
Мы уже кончили работу: я проверила тетради, Галя приготовила уроки, и мы, как всегда, сидели на диване, беседовали.
— Дерутся? — удивлённо переспросила Галя. — У нас в классе никто не дерётся.
— Разве девочки никогда не ссорятся?
— Ссориться — это совсем не то, что драться, — философски заметила Галя. — У нас если девочки ссорятся, они сразу идут и жалуются Зинаиде Павловне, и Зинаида Павловна разбирает, кто прав, а кто нет. Совсем не нужно драться. Это, наверно, ваши ученики дерутся?
Да, ничего не поделаешь: мои ребята чуть ли не всякий спор разрешают кулаками, и я никак не могу отучить их от этого. Но и картина, нарисованная Галей, мне не по душе. «Идут и жалуются»? Нет, это неправильно.
— Расскажите про ваших мальчиков, — просит Галя. — Воробейки, наверно, опять в школу не пришли? Покажите мне Сашину тетрадку. И Васину тоже.
Галя уже знает всех моих ребят по именам и даже различает почерки. Она любит листать тетради, смотреть отметки, близко принимает к сердцу и пятёрки и двойки. Но о своей школе она рассказывать не любит.
…Всё минувшее лето Галя мечтала о школе, с утра до ночи о ней говорила, только о ней и думала.
Школа завладела её мыслями безраздельно. Слова «класс», «учительница», «учебники» она произносила почтительно и благоговейно. Первого сентября Галя встала в пять утра и попыталась тут же отправиться на занятия.
С первых же школьных дней Галя стала умолять бабушку, чтобы ей сшили форму. «У всех девочек есть форма, — говорила она голосом, в котором слышались мольба и требование, надежда и отчаяние. — Зинаида Павловна говорит, если мне не сошьют форму, она переведёт меня в другую школу!»
Домашних, признаться, удивила такая угроза, но форму Гале сшили: коричневое платье и чёрный передник. Она помчалась в школу, как на крыльях. Вернулась Галя после уроков печальная. «Ну как, — спросила я, — что сказала Зинаида Павловна о твоей форме?»
«Ничего не сказала, — скучно ответила Галя. — Чудная какая-то: сама велела, а сама не радуется».
Как-то утром Галю долго не могли добудиться: она не хотела итти в школу. «Почему? — добивались мы. — Что случилось?» Не сразу, с запинкой она рассказала, что Зинаида Павловна велела девочкам дома связать вместе десять спичек. «Я связала, бабушка видела. А в классе нитка лопнула. Я вынула катушку и опять стала перевязывать спички. А Зинаида Павловна посмотрела и говорит: «Ты зачем домашнее задание делаешь в классе? Я тебе поставлю двойку». Я ей объясняю, что просто нитка оборвалась. А Зинаида Павловна говорит: «Девочки, кто видел, как она в классе делала домашнее задание?» Лена подняла руку и говорит: «Я видела». Тогда Зинаида Павловна объяснила всем, что я говорю неправду. Почему же она Лене поверила, а мне не поверила?»
«Подумаешь, важность! — сказала бабушка. — Ну, не поверила, тут беды нет никакой. Одевайся и беги».
Галя оделась, собрала книги, и я видела из окна, как она уныло побрела в школу, о которой так мечтала всё лето.
Однажды Галя неаккуратно выполнила урок: посадила кляксу, сделала ошибку. Огорчённая, она всё написанное взяла в скобки и вывела крупными буквами: «Это плохо. Напишу ещё». И аккуратно всё переписала. Учительница перечеркнула страницу красным карандашом и поставила под работой двойку. Я заметила, что с тех пор Галя больше уже не пыталась переделать небрежно выполненный урок.
Быть может, каждый из этих случаев сам по себе не так уж важен, но я видела: с каждым днём в Гале угасает любовь к школе. И это был для меня очень серьёзный, очень наглядный урок. Я поняла: передо мной человек. Не важно, что ему только семь лет, — я должна уважать его. Он всё чувствует, всё понимает. Ценит привет и ласку, не прощает равнодушия и несправедливости.
Братья Воробейко
«Воробейки» — Саша и Вася, о которых спрашивала Галя, уверенная, что они «опять в школу не пришли» — были близнецы. Саша появился на белый свет всего на час прежде Васи, но вёл себя так, словно был старше по крайней мере лет на пять. Вася слушался его во всём, не рассуждая: он преклонялся перед братом, слепо ему верил и во всём старался подражать. Внешне они совсем не походили друг на друга: Саша — высокий, с длинным лицом и узкими, безмятежно дерзкими глазами; Вася — маленький, добродушный, курносый, над правой бровью у него коричневая родинка — она почему-то придаёт Васиному лицу забавное, удивлённо-вопросительное выражение. Оба они второгодники и попали в мой класс из другой школы в середине октября.
Памятно и необычно началось моё знакомство с Сашей Воробейко. В большую перемену я вышла с ребятами из класса. Вернувшись, я увидела, что на столе попрежнему лежит мой портфель, стопка тетрадей, но сумки нет. Я огляделась, выдвинула ящик стола, посмотрела в шкафу — сумки не было.
— Что вы ищите, Марина Николаевна? — спросил Рябинин.
— Сумку. Я оставляла здесь сумку, и её нет.
— Где Воробейки? Саша — дежурный, он оставался в классе, — послышались голоса.
Воробеек не было — ни Саши, ни Васи. Они ушли, не сказавшись, и явились в школу только на другой день.
— Где сумка? — встретили их ребята.
— Какая сумка? — вопросом на вопрос ответил Саша.
— Ты вчера дежурил, сумка лежала на столе, а когда Марина Николаевна пришла с перемены, ни тебя, ни сумки не было, — спокойно, внушительно сказал Рябинин.
— Никакой я сумки не видел.
— Ты дежурный — ты и отвечаешь, — твёрдо сказал Рябинин. — Зачем с урока ушёл?
— Нужно было — вот и ушёл.
С этими словами Саша уселся на свою парту, не удостоив Лёшу ни единым взглядом.
Тут бы мне вмешаться, сказать Саше, что он не может уходить из школы, когда вздумается, посреди занятий, — наверно, все ребята ждали, что я скажу что-нибудь такое. Но я промолчала. По совести говоря, я просто побоялась сказать что-либо. «Бог с ней, с сумкой, — подумала я. — Авось обойдётся как-нибудь».
Но, конечно, не обошлось. Через неделю у Гая пропала коробка цветных карандашей, ещё через несколько дней — пенал у Лабутина. Класс гудел, как осиное гнездо: на переменах и после уроков говорили только о кражах.
— Это тех же рук дело, что и с сумкой, — слышала я.
— Знать бы кто — дал бы я п-подлецу! — заикаясь от волнения, заявил тихий Глазков.
Только Воробейки — Саша, а значит, и Вася, — казалось, ничуть не интересовались происходящим и не участвовали в обсуждении. В школу они ходили не часто, приготовлением уроков себя не утруждали, и в журнале против их фамилий трудно было обнаружить что-нибудь, кроме двоек.
Моё поведение — я понимала это — было нелепо. «Он, конечно, смеётся надо мною, думает, что я слепа или боюсь его», думала я о «старшем» Воробейко и… молчала.
— В другой раз надо будет всех обыскать, — сказал однажды Рябинин. — Хуже нет, когда все друг на друга косятся и никто никому не верит, а один гад ходит и радуется.
Но я не могла себе представить, что стану рыться в портфелях ни в чём не повинных ребят. Что, если бы это я сидела на парте, зная, что ни в чём не виновата, и меня вдруг стали обыскивать? Я не забыла урока, полученного от Гали: я твёрдо знала, что чувством собственного достоинства обладают все люди, даже самого малого возраста. И когда Рябинин сказал мне: «Марина Николаевна, что вы сомневаетесь, ведь это Воробейкиных рук дело!» — я ответила:
— Не пойман — не вор, Лёша. А вдруг мы ошибаемся? Что тогда?
— Да не ошибаемся, Марина Николаевна! Вот попомните моё слово!
И я «попомнила». Однажды во время перемены в учительскую вошёл милиционер.
— Вы будете товарищ Ильинская? — сказал он, вежливо поздоровавшись. — Разрешите взять в отделение вашего ученика Воробейко Александра, есть на него серьёзная жалоба, — и милиционер протянул мне густо исписанный лист бумаги.
Я мельком взглянула, но от волнения ничего толком не разобрала: речь шла о каком-то грузовике с яблоками, который Саша вместе с приятелями ухитрился опустошить.
«Вот и выход, — пронеслась мысль. — Возьмут его — и дело с концом». И вдруг, неожиданно для себя, даже каким-то не своим голосом, я сказала:
— Нет, это мой ученик, и я не могу отпустить его с уроков. Я сама зайду вечером к начальнику милиции и поговорю с ним.
Когда я вышла в коридор, у дверей учительской толпились ребята, и было ясно, что им уже всё известно. Придя в класс, они ещё некоторое время не могли успокоиться, и я расслышала, как кто-то с упрёком сказал Саше:
— Вот, Марина Николаевна за тебя заступилась…
И этот мальчишка, несомненно испуганный, всё ещё бледный, нашёл в себе силы ответить сквозь зубы:
— Очень нужно!
Сразу после уроков я пошла к Саше на дом. Меня благожелательно встретил Воробейко-отец, грузный, плечистый мужчина высокого роста. Он подал мне стул, сам опустился на кровать напротив и внимательно выслушал всё, что я рассказала.
— В классе это, конечно, Сашка воровал, — сказал он, когда я кончила. — Ничуть не сомневаюсь. И признаться вам откровенно, Марина Николаевна, я давно махнул на него рукой. Поверьте мне, ему одна дорога — в трудовую колонию.
— Что вы… — начала я растерянно, но он не дал мне договорить.
— Нет, уж вы мне поверьте. Я весь день на работе, ребята одни, присмотру, прямо скажем, никакого. Могу, конечно, отправить Сашку в деревню к жене — так ведь разве она с ним сладит? У неё там ещё двое. А он и брата портит и сам уже совсем увяз. Того и гляди, натворит какой-нибудь уголовщины. Распустился, совсем распустился!
Он сказал это без горечи, спокойно и равнодушно, как говорил бы о жильцах соседнего дома, о прохожих на улице, о жителях Марса, если только там кто-нибудь живёт.
Что было делать? Читать нравоучения? Возмущаться, доказывать, что он, отец моих учеников, который должен быть моим помощником и союзником, не смеет говорить так о своих детях?
— Простите, но, мне кажется, вы сами виноваты в том, что они распустились, — сказала я, почти пугаясь своего резкого тона: всё-таки этот человек был чуть не вдвое старше меня. Но я уже не могла остановиться. — И почему вы так легко решили насчёт трудовой колонии? Никто не имеет права перекладывать воспитание своих детей на чужие плечи!
— А я, знаете, не верю в воспитание уговорами: «Саша, не воруй, да Саша, перестань…» Его надо наказать. В колонии на него найдут управу, а мы с вами тут ничего не сделаем. Не взыщите: что думаю, то и говорю.
Я ушла от него в смятении. Меня глубоко возмущало это ленивое, спокойное равнодушие, и в то же время… В самом-то деле, что я могу сделать с Сашей? Отец считает его безнадёжным: ведь и правда, растёт вор. И лгун. Как я его переделаю? Не лучше ли отдать его в более твёрдые, опытные руки?
Эти мысли точили меня и дома. Я стояла на кухне у своего чайника, не замечая, что он отчаянно фыркает и плюётся, и мысленно доругивалась с Воробейко-отцом, пока Мария Фёдоровна, соседка, не сказала мне с недоумением:
— Мариночка, что вы смотрите? Чайник давно кипит… И отчего это у вас вид такой усталый?
— Не усталый, а огорчённый, я уж вижу, — поправила Татьяна Ивановна. — Что стряслось? Рассказывай уж.
— Да что… Есть один мальчишка в моём классе. Ворует. Из милиции приходили.
— А родители? — спросила Татьяна Ивановна.
— Мать в деревне, отец говорит: в трудовую колонию — одна дорога.
— Вот и прекрасно! — воскликнула Мария Фёдоровна. — Что же вы расстраиваетесь? Уж если отец так считает, значит его возьмут и развяжут вам руки.
Должно быть, этого-то совета мне и не хватало. Наскоро напившись чаю, я отправилась в милицию.
— Да, — сказали мне в детской комнате, — у них во дворе подобралась бойкая компания. Видно, есть руководитель повзрослей да неопытней, чем эта мелюзга. Ваш Воробейко пока ни в чём уличён не был, а вот теперь мы посмотрим, что он такое… Не вызывать его? Почему не вызывать? Вы за него ручаетесь? (Тут на меня посмотрели с особенным вниманием, словно оценивая, надёжный ли из меня выйдет поручитель). Так ведь это не просто слово «ручаюсь». Раз ручаетесь, стало быть, в случае чего, будете за него в ответе… Ну ладно, посмотрим. Телефона у вас нет? Адрес какой? Ладно, давайте держать связь.
На другой день после уроков я попросила Сашу остаться. Мы выждали, пока ребята разошлись, и я начала свой первый серьёзный разговор. Собственно, настоящего разговора не было: собеседник упорно молчал.
— Ты не волнуйся насчёт этой истории с грузовиком и яблоками. Я вчера была в милиции и поручилась за тебя. Но я хочу поговорить с тобой ещё вот о чём. Ты ведь знаешь, в классе участились кражи. Это очень неприятно. Просто нельзя понять, кто виноват. (Саша искоса взглянул на меня быстрым и, кажется, чуть насмешливым взглядом). Так вот, я хочу попросить тебя: возьми, пожалуйста, на себя заботу о шкафе. Знаешь, там у нас хранятся тетради, книги наши. Вот тебе ключ, возьми — следи, чтоб всё было в порядке.
Надо отдать Саше должное: он посмотрел на этот ключ, как на гремучую змею, он отбивался от чести, которую я ему навязывала, как только мог:
— Не знаю… не могу… Да как же я буду отвечать? Да что я могу сделать?..
Но ключ я ему вручила.
Почему я это сделала? Ведь я не вдруг решила, я обдумывала этот разговор накануне и ночью долго не могла заснуть. Мне казалось: я обращаюсь к лучшему, что есть в Саше.
Мне вспомнилась картина «Путёвка в жизнь». Там руководитель колонии для беспризорных (его играл чудесный артист Баталов) вот так же вручил вору Мустафе деньги. Мне вспомнилось его суровое, взволнованное лицо, сдвинутые брови: вернётся ли Мустафа или сбежит с деньгами? Вместе с ним ждёт и волнуется зритель. И Мустафа возвращается: большое, неожиданное доверие что-то перевернуло в нём, сделало его другим человеком. Это была правда, этому нельзя было не верить. И ведь вот Макаренко действовал так же, об этом рассказано в «Педагогической поэме»: вчерашнему вору Карабанову он дал доверенность, на получение пятисот рублей и, когда Семён привёз деньги, даже не стал их пересчитывать. А потом он поручил Карабанову получить ещё большую сумму, и когда тот потребовал, чтобы Антон Семёнович проверил деньги, Макаренко твёрдо ответил: «Я знаю, ты человек такой же честный, как и я. Я это и раньше знал, разве ты этого не видел?» Это был смелый поступок и хороший, смелый разговор.
Почему же у меня от разговора с Сашей нет радости, а только смутный осадок на душе, и самый разговор уже кажется фальшивым, ненастоящим? Видно, нельзя просто подражать кому-то, а надо каждый раз самой думать, самой решать, как поступить.
Кражи в нашем классе прекратились, но легче мне не стало: братья Воробейко как были чужими в классе, так и остались чужими. Они всё реже приходили в школу, и однажды Рябинин сказал:
— Марина Николаевна, Воробейко отдал мне ключ от шкафа. Говорит: «Тебе сподручнее следить за тетрадками, а я в школе почти не бываю». Я ключ взял. Ничего?
— Ничего, — ответила я упавшим голосом.
Наш вожатый
А жизнь шла своим чередом. Мы уже выпускали в классе газету под названием «Дружба». Один номер мы посвятили краснодонцам, другой — Александру Матросову.
Произошло ещё одно важное событие: к нам пришёл пионервожатый.
Лёва Виленский учился в девятом классе. Я его знала: нередко заставала у Натальи Андреевны. Он был её учеником в начальной школе, и они остались большими друзьями. Кажется, дня не проходило, чтобы Лёва в перемену или после уроков не забежал к ней. Думаю, что именно Наталья Андреевна посоветовала в комитете комсомола направить Лёву вожатым в мой класс.
— Хороший у вас будет помощник, — сказала мне Наталья Андреевна. — Можете во всём на него положиться.
Она знала Лёву с одиннадцати лет, он пришёл в её класс в год войны. Вместе со школьным интернатом они эвакуировались в Горьковскую область. Там всем, особенно вначале, пришлось нелегко — и ребятам и учителям. Школа на первых порах не отапливалась: чернила замерзали, опухшие пальцы с трудом удерживали карандаш. В доме не было света, долгие вечера проходили при тусклом мерцании трёх коптилок. И уже тогда было видно, что Лёва не из тех, кто опускает руки, если становится трудно. От него никогда не слышали ни жалоб на усталость, ни отказа от работы; он многое умел делать сам и ещё большему научился. Наталья Андреевна рассказывала, что летом школьники помогали колхозу: работали в поле, на огороде; почти для всех это было непривычно и нелегко — это тоже было испытанием не только выносливости, но и характера. И худой, близорукий Лёва выдержал экзамен.
— Вы сами увидите, каков он в деле, — сказала Наталья Андреевна и добавила смеясь: — Расспросите его о механической мастерской — сразу познакомитесь!
Позже я действительно спросила Лёву, что это была за механическая мастерская, и вот что он рассказал мне:
— В сорок четвёртом мы вернулись из эвакуации, первым делом всё обежали, осмотрели — как в школе, во дворе. А во дворе, в самом углу, стоял домик, в нём прежде была какая-то мастерская. Зашли мы туда. Мрачно, грязно, пол перекосился, мусору целые горы. И тут же всякая металлическая рухлядь — станки брошенные, никуда не годные. В общем, мерзость запустения. Ну, взялись мы, можно сказать, засучив рукава — не смотреть же на такое, в самом-то деле! Анатолий Дмитриевич помог, учителя… Такую устроили мастерскую! Работали желающие… ну, и я в том числе.
Он не сказал, что с первого дня был душой этой затеи.
— Что же выпускала ваша мастерская? — спросила я.
— Гибкий вал для танков! — ответил Лёва.
И как ответил! Выразительней, с большей гордостью нельзя было сказать. Да и было чем гордиться!
Впрочем, когда происходил этот, разговор, я уже хорошо знала Лёву. Но когда он, высокий, худой, в очках, впервые пришёл к нам в класс, ребята не могли скрыть своего разочарования.
«Умелые руки»
Он был тихий, этот Лёва, вежливый, но, к сожалению, на моих ребят эти качества не произвели впечатления.
— Маменькин сынок, — сказал Левин.
— Очкарик! — отрезал Выручка.
— Вот у пятого «А» вожатый так вожатый! Лучший вратарь во всей школе, — подвёл итог Лабутин.
Я пристыдила их, сказала, что Лёва хороший комсомолец, лучший ученик в своём классе, но никакими хорошими словами я бы его не выручила, если бы он сам себя не выручил — и не словом, а делом.
Вскоре после того как он пришёл к нам и познакомился с ребятами, Лёва сказал мне:
— Марина Николаевна, давайте проведём анкету, всего один вопрос: «Чем бы ты хотел заняться в свободное время?»
— А зачем анкету? Может, просто спросим у ребят, что их интересует?
— Один скажет, другой промолчит — анкета, по-моему, лучше.
Я согласилась. Мы задали ребятам этот вопрос и просили ответить письменно. Ответов было множество, и если свести их воедино, все они говорили об одном: хочу знать, хочу уметь.
«Есть ли люди на других планетах?»
«Остынет ли Солнце?»
«Как появился первый человек?»
«Как починить электрический чайник?»
«Как собрать радиоприёмник?»
Левин же написал кратко и энергично: «Хочу уметь клеить резину». И хотя он не объяснил, зачем ему «уметь клеить резину», мы с Лёвой поняли: Боре нужно знать, как быть, если лопнет камера у футбольного мяча.
На сборе отряда Лёва сказал ребятам:
— Почему есть кружки рисования, пения, танцев, а кружков, где учатся работать, нет? Давайте устроим такой кружок и будем учиться работать. Надо всё уметь делать. Нехорошо, если человек становится втупик перед сломанной табуреткой или перегоревшими пробками. Я знаю одного парнишку, так у него если оторвётся пуговица, он целый день ходит следом за мамой, за сестрой, за бабушкой и упрашивает: «Пришейте, пришейте», а если им некогда, он так и остаётся без пуговицы.
— Что же, — иронически спросил Боря Левин, — может быть, ты хочешь устроить кружок кройки и шитья?
— И это было бы неплохо, — спокойно ответил Лёва, не обращая внимания на смех ребят. — Только таким кружком я руководить, к сожалению, не смогу: не умею ни кроить, ни шить. Но я могу научить вас чинить электрический прибор — и утюг и чайник. Могу показать Боре Левину, как клеить резину. И модель радиоприёмника могу сделать.
В кружок записалось семь человек, но скоро прибавилось ещё столько же.
Каждый раз, как на уроке надо было показывать диапозитивы, мы мучились: портьер не было, шторы, служившие в военное время для затемнения, истрепались, и мы занавешивали окна всякой всячиной. Это требовало много времени и было ненадёжно — в самую критическую минуту что-нибудь непременно падало, сваливалось.
Левины кружковцы начали с того, что из газетной бумаги сделали светонепроницаемые шторы и на круглых палках подвесили их над окнами; теперь в любую минуту можно было быстро и прочно «затемниться». Потом Лёва научил их клеить резину, и ребята стали сами чинить себе калоши. Потом они сделали для класса книжную полку.
У Лёвы оказались поистине золотые руки: он умел делать всё и за что бы ни брался — всё у него выходило споро, быстро, точно.
Он великолепно играл в шахматы, и ни одному из ребят ни разу не удалось его обыграть. Он умел ответить на любой вопрос. Он знал, отчего трещит костёр, отчего в еловом лесу нет ни красных, ни жёлтых, ни синих цветов, почему в лесу много поваленных ветром деревьев, а в поле одинокое дерево скорее устоит под ударами ветра.
Я видела, что ребята стараются подражать Лёве. Он отлично знал азбуку Морзе, и все они стали выстукивать: «Бес-са-раб-ка… Ва-ви-лон… Звон бу-ла-та… Щу-ро-гла-зый…»
— Понимаете, Марина Николаевна, — с воодушевлением объяснили мне ребята, — слог, в котором есть буква «а», означает точку! Все остальные слоги — тире. Забыл, как изображается буква, — вспомни слово, которое начинается с этой буквы, произнеси его по слогам — и всё в порядке!
Лёва сказал, что мы непременно пойдём отрядом в поход. Благодаря ему у нас в шкафу завелась походная аптечка. Юра Лабутин избран был санитаром, и впереди стало вырисовываться нечто заманчивое и увлекательное; поход!
«И с грузовиком тоже я…»
Готовясь к ёлке, мы инсценировали басни Крылова, придумали много шарад.
Братья Воробейко стояли в стороне от всего этого. Изредка и они оставались после уроков, но были посторонними, равнодушными зрителями, а мы — участниками; их присутствие, пожалуй, даже стесняло нас.
Однажды я прочла ребятам забавную сценку; действующими лицами были учитель и два ученика; один растерянный, — у доски, второй — подсказчик. Сценку попробовали разыграть. Трофимов исполнял роль учителя без особого воодушевления, но выходило недурно: получился этакий строгий, неумолимый педагог, он разговаривал сухо, холодно, и его ничуть не трогали муки не выучившего урок ученика. Подсказывал Володя Румянцев. Этот искренне увлёкся ролью: шипел изо всех сил, всплёскивал руками, таращил глаза. Получалось очень смешно. С лодырем дело обстояло хуже; Кира Глазков добросовестно выговаривал слова роли, но выходило пресно, неубедительно.
— Может быть, Володе и Кире лучше поменяться? — предложил Лёва. — Володя так горячо подсказывает, что, наверно, и ловить подсказку будет с превеликим усердием.
Ребята засмеялись. И вдруг Саша Воробейко сказал:
— Дайте-ка мне!
— Что дать? — не сразу поняла я.
— Дайте я попробую того, который у доски.
Все зашевелились, зашумели. Кира с готовностью сказал:
— Правда, пускай попробует!
Саша вышел к доске. Он подавал реплики так выразительно, так забавно и верно, так естественно прислушивался к подсказке, запинался и перевирал, что мы без смеха не могли слушать и дружно похлопали ему.
Тут я увидела, что Александр Воробейко не равнодушен к похвалам. Он порозовел, глаза блестели, и хоть он пытался сохранить обычное полунасмешливое выражение лица, ему это плохо удавалось.
В субботу опять была репетиция. Накануне свободного дня мы разрешили себе остаться в школе подольше. Ребята сбегали домой, пообедали и вернулись. Саша примчался раньше других. Тут мы увидели, что он не тратил времени даром: за эти дни он придумал немало нового. Он делал вид, будто у него что-то записано на ладони, или потихоньку вытаскивал из кармана клочок бумажки и заглядывал в него. Не спуская глаз с учителя, он в то же время так вытягивал шею в сторону подсказчика, вставал на цыпочки, изгибался, поднимал брови, что прямо-таки начинало казаться; вот у него на наших глазах вдвое вырастает левое ухо! Он был ужасно горд своими выдумками — и не зря: на ёлке самый большой успех выпал на его долю.
С тех пор Саша стал чуть ли не самым ревностным участником наших постановок и всегда с жаром добивался новых ролей.
Раз ему случилось играть патетическую роль, и мы убедились, что она ему совсем не удаётся.
Я готова была жертвовать художественными достоинствами нашей самодеятельности, лишь бы видеть Сашу вместе со всеми, но боялась, что ребята, придирчивые и строгие судьи, отнимут у него роль. Однако этого не случилось. Мальчики наперебой давали ему советы: «Ты горячей говори, горячей!» Или: «Да попроще ты, чего завываешь? И руками не маши, как мельница».
Роль оставили за Сашей.
Рассказать, что было дальше, мне трудно, потому что никаких событий я припомнить не могу. Да их и не было. Разговаривать с Сашей стало легче и проще. У нас с ним отношения стали почти дружеские — это обязывало его ко многому. Если вечером все, в том числе и я и Саша, горячо, азартно обсуждали, как поставить новую шараду, то неловко, совестно ему было назавтра притти в школу, не приготовив домашнего задания, или плохо, путано отвечать у доски. А если готовил уроки Саша, то готовил их и Вася. И самое важное: они перестали быть чужими в классе.
Много позже Саша Воробейко сказал мне;
— Марина Николаевна, а ведь это я воровал тогда, и с грузовиком тоже я…
— Знаю, — ответила я.
— И я знал, что вы знаете, — со вздохом проговорил он.
Ушанка
Как-то после уроков, уходя домой, я по привычке заглянула в свой класс и увидела Лёву, окружённого кучкой ребят: тут были Гай, Горюнов, Ильинский, Выручка, Саша Воробейко и Рябинин. Лёва горячо объяснял что-то, обращаясь главным образом к Лёше Рябинину, а тот стоял красный, смущённый и как будто недовольный.
— Да разве это твои деньги, что ты ими распорядился? — услышала я слова Лёвы.
— А что, он на себя, что ли, потратил? — возразил Саша Воробейко.
Я ничего не понимала.
— Зачем он вообще покупал? — сердился Лёва. — Это школа должна была сделать, а не он. С какой стати Савенков будет принимать от него подарки?
— Так не от меня же, а от всех! — возмущённо крикнул Лёша.
— Что у вас случилось? — вмешалась я.
Все разом обернулись и хором начали объяснять. Прошло немало времени, прежде чем я поняла, в чём дело.
У нас постоянно было около семидесяти рублей общих классных денег. На эти деньги мы покупали цветную бумагу, краски, портреты писателей, иной раз и книги в классную библиотеку. Деньги обычно хранились в классе, в нашем шкафу, но как-то само собой вошло в обычай, что распоряжается ими хозяйственный Лёша Рябинин: он всегда знал, что именно надо купить. И вот, видя, что Коля Савенков ходит в морозы в изодранной шапчонке, Лёша распорядился по своему усмотрению: он взял классные деньги, купил шапку-ушанку и пять минут назад вручил её изумлённому Лёве со словами: «Отдай Савенкову».
Вожатый попытался объяснить, что «частная благотворительность» тут неуместна, что она может только обидеть Николая, что надо действовать иначе, через школу… Но Лёша, а за ним и остальные стояли на своём: что же Савенкову обижаться на товарищей? Ведь Лёша купил шапку не на свои, а на общие, классные деньги.
— Прежде всего ты должен был посоветоваться со мной и с Лёвой, — сказала я. — Почему ты нас не спросил?
— Так ведь, Марина Николаевна, когда же было спрашивать! — рассудительно начал Лёша. — Иду я по улице, ищу клей и кнопки, и ещё вы сказали портрет Чехова поискать. Деньги со мной. Гляжу — какая шапка подходящая! Вы только посмотрите — тёплая, хорошая! Ну, я и купил. Что же мне было — пропустить её, что ли?
Мы с Лёвой переглянулись, и, я уверена, он подумал в эту минуту то же, что и я: а вот мы пропустили, не подумали о том, что Коля Савенков ходит в дырявой шапке и хорошо бы купить ему новую. А Лёша об этом думал, и трудно упрекать его за то, что он сделал.
— Что ж, Лёва, — сказала я: — вы, конечно, правы, но что сделано, то сделано. Может, всё-таки отдадим шапку Николаю — не возвращать же её в магазин!
Лёва прошёлся по классу раз, другой. В серьёзные минуты он всегда расхаживал взад и вперёд.
— А как же мы это сделаем? — спросил он.
— Вручим на отрядном сборе! — воскликнул Витя Ильинский.
Я просто похолодела. Неужели ребята и вправду решат устроить такое? К величайшему моему облегчению, Саша Воробейко сказал резко:
— Тоже выдумал! Может, ещё под музыку её вручать?
— Отдать надо в одиночку. Лучше пускай Лёва отдаст, чтоб Николай не стеснялся, — поддержал Саша Гай.
— А по-моему, лучше отдать Колиной маме. Сказать, что от школы, и всё. А она сама ему подарит, — сказал Толя Горюнов.
— Точно! — скрепил Воробейко.
Это неотвязное словечко, несмотря на все мои протесты, просто рябило в речи ребят: его употребляли все.
На том и порешили. Лёва отнёс злополучную ушанку (впрочем, надо отдать справедливость Лёшиному вкусу: действительно очень хорошую и тёплую) матери Савенкова.
— Я ей сказал: «Вот Николаю от школы новая шапка». Она сперва удивилась, стала отказываться, но я ей растолковал, что это от школы и, так сказать, в деловом порядке: чтоб голова не мёрзла и не переставала соображать на уроках, — доложил мне потом Лёва и при последних словах улыбнулся застенчиво и немного иронически, так что я тотчас поняла: Савенковой он этого, конечно, не сказал, а сказал какие-то гораздо более простые и добрые слова, которые не хочет повторять. — Ну, она поблагодарила — и всё в порядке.
Без громких слов
Больше я о шапке не говорила, никто и не вспоминал о ней. И вдруг дней через десять Лёва буквально ворвался в учительскую. Я поразилась: этого с ним никогда не бывало; обычно, если ему нужно было поговорить со мной, он входил чинно, краснея и извиняясь. Теперь он порывисто протянул мне мелко исписанный листок и воскликнул:
— Нет, вы только посмотрите, Марина Николаевна? И они хотят это поместить в школьной стенгазете!
Следом за Лёвой в учительскую вошёл редактор стенгазеты Юрий Лаптев, ученик девятого класса. Недовольно и укоризненно поглядывая на Лёву, он подошёл к нам и остановился с видом человека, который ждёт, чтобы капризный малыш перестал наконец буянить.
Я взяла листок и прочла:
«О товарищеской чуткости»
Чуткость — неотъемлемое качество советского человека, и её надо воспитывать в нашем подрастающем поколении. Недавно в классе 9-Б заболел ученик Сазонов; товарищи навещали его на дому, носили ему уроки и объясняли пройденное. Когда Сазонов выздоровел и вернулся в класс, оказалось, что он не отстал от остальных учеников. Особенно помогали Сазонову ученики Вальдман, Павловский и Глебов.
Другой пример: класс 4-В проявил товарищескую чуткость и заботу о Коле Савенкове. Мальчики узнали, что у Савенкова плохое материальное положение и что отсутствие тёплой шапки мешает ему регулярно посещать школу. Они вскладчину купили Савенкову шапку, тем самым показав себя хорошими товарищами и настоящими пионерами».
— Нет, — сказала я, — этого нельзя печатать.
— Но почему же, Марина Николаевна! — с недоумением и обидой воскликнул Лаптев.
Я не успела ответить: к нам подошёл Анатолий Дмитриевич, который с момента появления Лёвы в учительской, сидя за своим столом, искоса наблюдал за происходящим.
— Позвольте взглянуть, — сказал он, вооружаясь очками.
Внимательно, не торопясь, он прочитал заметку и повернулся к Лаптеву:
— Кто же это писал? Очень уж язык-то… суконно-казённый.
— Написано плохо, — согласился юноша. — Но ведь я знаю: и Лёва и Марина Николаевна вовсе не потому не хотят, чтобы мы эту заметку печатали. А я считаю: обязательно надо печатать — мы должны воспитывать ребят на хороших примерах.
— Должны, — в свою очередь, согласился Анатолий Дмитриевич. — Но знаешь, по-моему, такая заметка может научить ребят только одному… (Он замолчал, медленно — я думаю, не без умысла — протирая и пряча очки. Мальчики насторожились, на лицах обоих так ясно читалось: «Да ну же, говорите скорее!») …По-моему, она научит только нечуткости и бестактности, — досказал Анатолий Дмитриевич. — Ну, посуди сам, что особенного сделали ребята, которые навещали Сазонова? Неужели было бы естественнее оставить товарища одного? Или вот с шапкой — зачем обставлять это событие такой пышностью? Чтобы подчеркнуть: вот, смотри, Савенков, какие мы хорошие и чуткие? Вы бы ещё перед строем ему эту шапку преподнесли, под барабанный бой! (Так Саша Воробейко сказал: «под музыку», мелькнуло у меня). А ты не думаешь, Юра, что Савенкову тяжело будет носить эту самую шапку? Ведь у него есть и самолюбие и чувство собственного достоинства. Для чего же усложнять такое простое дело?
Лаптев выслушал, кусая губы, — он как будто не соглашался с завучем и колебался ещё.
— Я понял, Анатолий Дмитриевич… — сказал он после паузы.
Тут прозвенел звонок, и мы разошлись по своим классам. Но после уроков в учительской снова зашёл разговор о случившемся.
— А знаете, наш редактор не так уж виноват, — сказала мне Наталья Андреевна. — Вот посмотрите, что люди пишут, — и она протянула мне раскрытую книжку.
«…когда кто-нибудь из детей сообщает, например, что он сегодня в своей квартире помог одной старушке дрова носить, о таких поступках знает наш детский коллектив и приветствует их», прочитала я.
— Это пишет московская учительница, — пояснила Наталья Андреевна, — человек опытный, знающий, не чета нашему семнадцатилетнему редактору. И заметьте, она, так же как и этот мальчик, руководствуется справедливой мыслью: надо воспитывать на хороших примерах. А вы представьте, как раздувается от гордости мальчуган, которого приветствуют — подумать только: приветствуют! — за то, что он помог старушке дров натаскать! Вместо того чтобы удержать от лишних, громких слов и показных жестов — приветствуют!
Наталья Андреевна тяжело поднялась с дивана. Щёки её залил тёмный румянец, густые брови сдвинулись. Впервые я видела её такой возмущённой.
— Вот он и будет «совершать хорошие поступки» только в расчёте на похвалу и одобрение окружающих, с оглядкой на зрителей, — продолжала она. — А если зрителей не окажется, он ещё, пожалуй, подумает, стоит ли быть хорошим…
В комнате было много народу, в том числе и учителя, такие же молодые, как я, — и все мы с интересом слушали Наталью Андреевну.
— Сколько раз, — сказала она, — я читала: мальчик случайно нашёл кошелёк с деньгами и возвратил его владельцу — какой благородный, какой прекрасный поступок! Да позвольте, как же ещё он мог поступить — оставить кошелёк себе? Тогда почему же не объявлять особую благодарность всем, кто не дерётся, не ругается, не ворует? Почему о поступке обыкновенном, нормальном, единственно правильном говорится, как о чём-то необычайном? Как будто это подвиг, требующий всех душевных и умственных сил: не присвоить чужую вещь!
— А знаете, я всё-таки не могу вполне согласиться с вами, — в раздумье сказала преподавательница биологии Елена Михайловна. — Вот мы читаем иной раз о ребятах, которые предотвратили крушение поезда или бросились на помощь утопающему, — что же, по-вашему, и об этом писать не надо?
— Голубчик! — воскликнула Наталья Андреевна и даже остановилась от неожиданности. — Да разве это одно и то же? Верно, бывало так, что ребята предотвращали крушения, входили в горящие дома, — так ведь тут нужна смелость, решительность, нужно уменье не бояться опасности, рисковать собою ради других. А чтобы не присвоить чужую вещь, чужие деньги, нужно только одно — быть честным!
— Совершенно согласен с вами, Наталья Андреевна, — сказал Виктор Михайлович, преподаватель физики в старших классах, работавший, как и я, первый год. — Понятно, ребятам надо рассказывать о хороших, благородных поступках, да делать-то это надо с толком, без всяких громких слов. Ведь когда подчёркиваешь не существо поступка, а его форму, тем самым рискуешь вызвать желание не столько возвратить найденную вещь, сколько получить благодарность. Верно я говорю?
Он спросил это совсем по-мальчишески, словно школьник, ожидающий одобрения, — и все мы рассмеялись.
Я очень люблю эти разговоры в учительской — они возникают иногда по самому малому поводу. Приходит с урока кто-нибудь из преподавателей, опечаленный или обрадованный, задумчивый или удивлённый, и рассказывает о случае, который произошёл только что в его классе, или о разговоре с кем-нибудь из учащихся. Его выслушивают, потом обычно начинается спор об услышанном или просто разговор — раздумье вслух.
Вот и сегодня. Ну, конечно, каждый знает, как важно учить и воспитывать на примерах, достойных подражания. Хороший поступок, яркий характер, высокая мысль быстро находят доступ к сердцу ребят, рождают в них желание стать такими же и поступать так же.
Но как это делать?
Я совершенно согласна: надо так, как сказал Виктор Михайлович, — просто, без шума, без громких слов.
Родительское собрание
Первое родительское собрание я созвала только в октябре, в конце первой четверти.
Уже после я поняла, что лучше бы дожидаться прихода родителей в классе. Я познакомилась бы с каждым приходящим, и потом было бы легче разговаривать со всеми вместе. Но я не догадалась так сделать. Я сидела с книгой в учительской и, только когда часы показали семь, пошла в класс, волнуясь, кажется, не меньше, чем перед первой встречей с ребятами.
В классе было человек двенадцать. Казалось, эти взрослые люди смотрят на меня неодобрительно и жалеют, что их дети попали к такой молодой и неопытной учительнице. Я рассказала им о программе четвёртого класса, объяснила, какой это трудный и ответственный год для учеников, и попросила устроить так, чтобы у ребят дома был отдельный угол для занятий. Говорила я плохо, официально и, хотя готовилась и заранее обдумала, что сказать, теперь с трудом подбирала слова. «Было бы чрезвычайно важно, если б детям дома были созданы нормальные условия для занятий…» слышала я себя со стороны. А ведь я всю жизнь ненавидела такой вот сухой, канцелярский язык. И я с ужасом думала, что родителям тоже противно меня слушать. Наверно, говорят себе: «Вот бумажная душа! Каково-то с нею ребятам…»
Когда я кончила, немолодая женщина в пуховом платке, сидевшая на первой парте, вдруг сказала:
— А мальчики довольны вами, Марина Николаевна. Мой как придёт из школы, сразу докладывает: что учительница сказала, да как посмотрела, да что велела выучить.
Я почувствовала, что краснею до ушей, и не знала, что ответить.
— Довольны, правда, — отозвалась круглолицая женщина с ясными синими глазами (по этим глазам я сразу решила, что это мать Саши Гая). — Мой говорит: у нас учительница добрая, зовёт всех по именам, на уроках шутит, смеётся и объясняет понятно.
— Это всё хорошо, а всё-таки с ними надо построже.
Это сказал человек, которого я тоже «узнала»: его смуглое, цыганское лицо и угольно-чёрные волосы в первую же секунду напомнили мне Серёжу Селиванова. И говорил Серёжа таким же неторопливым, солидным не по возрасту баском, должно быть в подражание отцу.
Слова Селиванова заставили всех присутствующих обернуться к нему.
— Ну, не скажите, — возразила женщина в пуховом платке, — это как с кем.
— С такими, как мой, определённо строгость нужна, — настаивал Селиванов. — Да я полагаю, что и всем не помешает. Мальчикам нужна крепкая рука, твёрдая дисциплина, это уж верно… Я вас попрошу, — обратился он ко мне, — если мой малый станет вольничать, вы мне дайте знать. Мы ему трёпку — и порядок!
— Хорошо, что вы меня предупредили, — ответила я, уже не смущаясь. — Теперь я к вам за помощью не обращусь, как бы мне с вашим Серёжей ни было трудно. Разве можно бить ребёнка?
— А что же? Меня в детстве ещё как секли — и ничего, вырос человеком.
Я не успела возразить. Вместо меня ответила худенькая женщина, до сих пор молча сидевшая в углу:
— Это вы оставьте. Теперь не прежнее время, теперь в школе не допускают таких наказаний, чтобы унижать детей.
— Дома — не в школе, — спокойно возразил Селиванов. — Ничего тут унизительного нет. Отец — не чужой человек, почему же не поучить парня? Для его же пользы делается.
— Хороша польза! — насмешливо воскликнула мать Саши. — Нет, товарищ, это вы напрасно. Или, может, вы шутите?
— Зачем шутить! Я только думаю, вы меня не так понимаете. Я же не говорю, что надо истязать: поучить — значит, в меру, для острастки.
— Так вот, — заговорила я наконец: — только в том случае я смогу обращаться к вам, товарищи, за советом и помощью, если все вы мне обещаете, что никакого такого «ученья» не будет и в помине.
— Вы очень молодая ещё, — без раздражения, как будто даже сочувственно сказал мне Селиванов, — потому судить не можете…
— Молодость — не порок, — сдержанно произнёс высокий человек в очках. — И мы видим сейчас, что молодость рассуждает разумно и справедливо.
Я с благодарностью посмотрела на него. Селиванов пожал плечами, но чувствовал себя, повидимому, неловко: слишком ясно было, что все остальные с ним несогласны.
Когда деловая часть кончилась, я объявила наше собрание закрытым, и тут все подошли к моему столу.
— Давайте познакомимся! — сказал человек в очках. — Моя фамилия Горюнов, я отец Толи.
— А я мать Саши Гая, — подхватила синеглазая женщина, подтверждая мою догадку.
— А я Румянцева, — представилась худенькая, которая тоже спорила с Селивановым. — Как у вас мой Володя, не очень озорничает?
Она была совсем молодая, небольшого роста, — её можно было принять за девочку, и у меня мелькнула мысль, что Володя скоро перерастёт её.
Совсем иначе выглядела мать Киры Глазкова: пожилая, немного сутулая, она зябко куталась в пуховый платок; волосы у неё были почти совсем седые. Я уже знала, что у неё пятеро детей, Кира — младший. Но взгляд у этой пожилой, утомлённой женщины был совсем как у её одиннадцатилетнего сына. Сидя на собрании, она вопросительно и словно удивлённо смотрела прямо в лицо каждому выступавшему. И мне подумалось: «Слушает совсем как Кира!»
— Я все ваши дела знаю, — весело сказала мать Гая. — К нам каждый день мальчики ходят, я их разговоры слышу. Иногда, знаете, даже кажется, что своими глазами всё видела: и как десять одинаковых плёнок вам принесли, и как в Третьяковскую галлерею ходили…
— И газету какую хорошую выпустили, — вставила Румянцева. — Мне Володя все уши прожужжал.
— Покажите нам газеты, интересно посмотреть, — попросила Выручка.
Я открыла шкаф, извлекла оттуда две газеты, потом показала последний номер, три дня назад вывешенный рядом с доской.
Родители с любопытством проглядывали заметки, смеялись остроумным карикатурам нашего художника, Толи Горюнова. То и дело слышался чей-нибудь удивлённый и довольный возглас: мать узнавала сына или находила его имя под какой-нибудь заметкой.
— Вот как! А мой, оказывается, стихи сочинил! — изумлённо воскликнула Ильинская, увидев подпись Вити под стихами:
Вот известный наш атлет — Это Боря-самолёт: Он и ловкий, он и гордый, У него во всём рекорды. Он вратарь, и он бегун, Он и лыжник, и прыгун, И, как чайка над морями, Он летает над скамьями.Тут же красовалось очень похожее изображение Бори Левина — действительно ловкого гимнаста, который в последнее время увлекался прыжками через все подходящие и неподходящие препятствия. Такие заметки — рисунок с текстом — пользовались у нас большой популярностью, стихи распевались, как частушки, а неожиданности вроде «скамьями» и «атлёт» никого не смущали.
Потом я показала лучшие тетради, пояснила, за что ставится пятёрка, за что — тройка.
— А вот у Вани ошибок нет, а четвёрка стоит — это почему же? — ревниво спросила Выручка.
— А клякса? И вот ещё «не» пропустил. За это отметка снижается, — ответила я.
— Это хорошо, что вы с ними строго насчёт аккуратности, — сказала мать Киры Глазкова. — Мои старшие, когда учились, такими неряхами были — беда! И нос всегда в чернилах и тетрадка в пятнах. И Кирюша раньше тоже был такой, а теперь, смотрю, почище стал писать — и матери поглядеть не совестно.
— А как ведёт себя Боря? — с некоторой опаской в голосе опросила Левина. — Я вижу, он у вас тут над скамьями летает?
— На уроках хорошо, а в перемену с ним иной раз сладу нет, — призналась я. — Страшный драчун!
— Это «он и ловкий, он и гордый»? И говорит: «Сперва я дал ему сдачи»? — спросил Горюнов, и все засмеялись.
— Он самый. Он всегда начинает с того, что даёт сдачи.
— А знаете, ребята его любят, — сказала мать Гая. — Саша рассказывает, что Боря делится с ребятами марками, книги даёт читать. Саша про него говорит: «Горячий, а товарищ хороший».
— Да, про марки и мне Кирюша говорил, — поддержала Глазкова. — Мой ведь тоже марочник. Только, видно, ни ему, ни Боре такой коллекции не собрать, как У Морозова. Тот чуть не с шести лет собирает.
— А я и не знала, что Морозов собирает марки! — удивилась я.
— Как же! — сказал Горюнов. — У него превосходная коллекция, очень обширная и собрана с большим знанием дела.
«Какой скрытный! — подумала я. — Ведь ни разу ни единым словом не обмолвился».
— А мой Сергей — охотник, — сказал Селиванов. — Он заметку написал в газету, да постеснялся отдать. Вот, я захватил для вас. — И он, неловко улыбнувшись, протянул мне листок, исписанный крупным косым Серёжиным почерком.
…Дома я первым делом достала из портфеля листок, который дал мне Селиванов. Вот что я прочла:
«Прошлым летом мы жили в деревне у дедушка. Ружья у меня своего нету. Стану просить у отца, а он даст и скажет: «Бери, только всё равно ничего не убьёшь». А я скажу: «Убью». А он смеётся и говорит: «Конечно, свои ноги убьёшь».
Когда идёшь на охоту, встанешь утром рано — и сразу к озеру. Смотришь, утки плавают. Сидишь, поджидаешь. Только они на тебя поплывут, сердце так и замрёт. Ну, думаешь, сейчас! Но вдруг снялись утки и полетели на другое озеро. Встанешь с горем, идёшь на другое озеро, там их нет. На третьем тоже нет. Плюнешь и пойдёшь домой. По дороге заглянешь на первое озеро, где утром был. Утки там. Сядешь, притаишься. Смотришь, утки поплыли к другому берегу. Досада берёт. Только захотел встать, вдруг кто-то бах по уткам! Они на меня. Я вскинул ружьё — бах! — и промазал. Улетели. Иду домой, прихожу уже вечером. Садимся ужинать всей семьёй. Отец говорит: «Вкусный ужин с утятиной». Все смеются, а у меня только уши горят.
Помню, когда мне было восемь лет, я купил снегиря за три рубля. Посадил его в клетку — и на печку, чтоб отец не увидел. Сидим мы вечером, а снегирь и запел. Отец говорит: «Что это у тебя за птица?» А я говорю: «Нет, это, верно, на улице». Потом опять снегирь запел. Я тогда сознался и снял его с печки. А отец не заругал, только засмеялся и говорит: «Ладно, держи птиц, только больше не ври».
Долго я сидела над Серёжиным листком и всё думала, какое у меня поверхностное представление о людях. По словам Селиванова на собрании, я решила, что он человек грубый, жёсткий. А со страничек Серёжиной заметки смотрел совсем другой человек, не такой, каким я его представляла.
Однажды после занятий ко мне подошёл в коридоре невысокий смуглый человек с пристальным взглядом зорких, глубоко посаженных глаз.
— Вы будете Марина Николаевна?
— Да, я.
— А я отец Виктора Ильинского.
— Очень рада.
Мы обменялись рукопожатием. Я пригласила его в учительскую; мы сели на диван, и я выжидательно посмотрела на Ильинского, не понимая, что могло привести его ко мне.
— Видите ли, Марина Николаевна… — помолчав, заговорил он. — Я вас хотел спросить, как Виктор ведёт себя в школе.
— Прекрасно. Ни на что не могу пожаловаться, — ответила я.
— А с товарищами как?
— По-моему, хорошо. Они его уважают. Он ведь у нас вожатый звена. Учится тоже хорошо — впрочем, это вы по табелю знаете.
— Это-то я действительно знаю, — задумчиво повторил Ильинский. — А пришёл я к вам вот почему. Виктор, по-моему, очень загордился. Приходит из школы и каждый раз объявляет: «Вожатый сказал, что у меня хорошие организаторские способности. А ещё он говорит, что я очень инициативный. А Марина Николаевна сказала, что у меня прямо математическая шишка!» Я, понятно, рад, что он способный… Только, знаете, боюсь — не зазнался бы. И товарищи любить не станут, и характер испортится. Мне жена давно уже толкует: «Зайди к учительнице, что-то уж больно Виктор воображать о себе стал. Вчера бабушке нагрубил, сегодня за хлебом не пошёл: «У меня, говорит, сбор отряда, это поважнее вашей булочной!»
Я слушала и удивлялась. В школе Виктор был неизменно вежлив с учителями и спокойно-дружелюбен с товарищами. Я не замечала в нём ни зазнайства, ни желания верховодить.
«Эх, — сердито подумала я, — целый день проводишь с ними в школе, думаешь о них дома, а ничего, в сущности, ещё не знаешь! Непременно надо побывать у всех дома, поглядеть, каковы они в семье, а то получается, что видишь только половину правды».
В гостях у Саши Гая
И случилось так, что дня через два после этого разговора ко мне в перемену подошёл Саша Гай и сказал смущённо:
— Марина Николаевна, к нам дедушка из Тулы приехал… мамин отец… Он говорит: «Передай своей учительнице, что я хочу с ней познакомиться и приглашаю к нам в гости».
Саша проговорил всё это негромко, запинаясь и при этом смотрел на меня чуть испуганно: не обижусь ли я, не рассержусь ли.
— Передай дедушке большое спасибо и скажи, что я завтра непременно к вам приду, — ответила я.
На другой день (это было воскресенье) я выгладила свою самую нарядную блузку, и Татьяна Ивановна повязала мне мой любимый галстук — синий с горошками.
Татьяна Ивановна и Галя всегда принимают близко к сердцу всё, что со мною происходит. С тех пор как погиб брат и я осталась одна, Галина бабушка сделала меня членом своей семьи.
Ещё во время войны, возвращаясь домой из института или из читальни, я находила в кресле чайник, надёжно укутанный тёплым платком, и под подушкой — кашу. В воскресенье меня звали обедать или, не спрашиваясь, устраивали обед у меня в комнате. Просто Татьяна Ивановна входила с кастрюлей и говорила: «Ну вот, нынче обедаем у тебя».
Так же просто, не сговариваясь, она оставляла у меня Галю, если ей надо было куда-нибудь уйти, и так же, не заводя со мною предварительных обсуждений, однажды собственноручно побелила мою комнату. В один прекрасный день, когда я вернулась из института, оказалось, что дома у меня всё перевёрнуто вверх дном, а Татьяна Ивановна водрузила на стол табуретку и стоит на этом сооружении с огромной кистью в руках, критически разглядывая последний недомазанный угол. Видя, что я остолбенела на пороге, она сказала только:
«Что смотришь? У меня там в комнате суп, раздевайся и ешь».
И вот сейчас она тем же критическим взглядом окинула меня с головы до ног и сказала:
— Сходи, сходи в гости. Нечего всё время сидеть, уткнувшись носом в книжку… Галя, принеси-ка мамин флакончик, сейчас мы её надушим.
Что и говорить, сборы получились торжественные и немножко забавные, но ведь я и правда так давно не бывала в гостях! Мне было приятно, что иду я в семью Гай не по делу, а именно в гости. Приятно, что вот приехал из Тулы Сашин дедушка и хочет познакомиться со мной, Сашиной учительницей.
Саша ждал у парадной двери и, увидев меня, весь просиял. Пока мы поднимались на четвёртый этаж, он не умолкал ни на минуту:
— А я думал, вы не придёте! А дедушка говорит: «Раз сказала, что придёт, значит придёт». А я говорю: «А может, Марина Николаевна сегодня занята?» А он говорит: «Раз Марина Николаевна обещала, значит…» — Тут Саша энергично нажал кнопку, и звонок отчаянно задребезжал.
Дверь открыла Сашина мама.
— Ему уж не терпелось — раз двадцать выбегал вас встречать, — говорила она, здороваясь, и провела меня в просторную комнату с высоким потолком.
Я сразу почувствовала здесь спокойный и добрый уют. Посреди комнаты стоит большой стол, покрытый пёстрой скатертью, рассчитанный на многолюдную семью. На стене, на потемневшем холсте в старинной раме, мчатся к зубчатому лесу воины на таких лихих, длинногривых, крутошеих конях, какие бывают только в сказках… Из-за стола мне навстречу поднимается худощавый седой человек.
— Здравствуйте, будем знакомы! — дружелюбно говорит он, протягивая тёмную крепкую руку. — Иван Ильич. А вас Марина Николаевна зовут, правильно?
Меня усадили за стол. Иван Ильич сел напротив. Саша стал подле него и пристально смотрел на меня, стараясь угадать, нравится ли мне дедушка.
— Вот приехал навестить своих… с лета не виделись, — сказал Иван Ильич, внимательно глядя на меня. — А какая вы молоденькая, я смотрю! Сколько ж вам лет?
— Двадцать два, — отвечаю я и вдруг чувствую, что это в самом деле что-то немного.
— Двадцать два! И образование какое же?
— Высшее. Я педагогический институт окончила.
— В двадцать два года — институт… А я к двадцати двум годам уже одиннадцать лет на заводе проработал. И образование имел три класса приходской школы, — задумчиво говорит Иван Ильич. — Мне сейчас шестьдесят один, а я на своём заводе уже пятьдесят лет работаю. Тульский оружейный — знаете? Бывали у нас в Туле?
— Нет, не приходилось.
— Приезжайте. Будущим летом приезжайте. У нас хорошо. Сад есть. Он хоть и в ладонь величиной, а всё в нём найдётся — и крыжовник, и клубника, и смородина, и цветы. Помнишь, какие цветы, а, Сашок?
— Вы бы поглядели, Марина Николаевна! — с жаром подхватывает Саша. — Там и анютины глазки, и розы, и гвоздика! А на самой большой клумбе посерёдке — каны, — знаете, такие красные-красные…
— Мы с ним любим в саду работать. Всё лето в земле копались, как кроты, — усмехается Иван Ильич.
Улыбается он совсем молодо, несмотря на седые усы; его светлые, чуть прищуренные глаза тоже молодые и, похоже, не нуждаются в помощи очков. И я спрашиваю, кажется, в точности таким же тоном, как и меня иной раз спрашивает о чём-нибудь во время урока Саша:
— Иван Ильич, а что же вы делали на заводе, когда вам было одиннадцать лет?
— Начинал мальчиком на побегушках, — неторопливо поясняет он. — Потом стал работать сдельно, присматривался ко всему, приноравливался. Подзатыльников в ту пору тоже получил немало. К девятьсот десятому году был уже мастером. А теперь помощник начальника цеха.
— У дедушки за пятьдесят лет, кроме праздников, такого дня не было, чтобы он на завод не пошёл. Сейчас у него отпуск, — вставляет Саша.
— Да, это правда. Не упомню такого случая, чтобы на завод не пошёл. В сорок первом году в первый раз такое вышло: немцы были уже под самой Тулой, на Косой горе. Лучшее оборудование, ценные станки — это мы всё отправили на Урал. Завод стоял. Утро настаёт, а тебе итти некуда, и такая пустота — куда деваться, не знаю, всё из рук валится… Тяжело было. Словно кого похоронил.
Он умолк на минуту, вспоминая недавнее, но уже такое далёкое время — первые месяцы войны… Лицо его стало строже, словно вдруг похудело, резко обозначились не замеченные мною прежде морщины, и я впервые поняла, что передо мною старик, много видевший, много перенёсший.
— И тут, в самые эти тяжёлые дни, присылают за мной с завода, — продолжал он. — Меня как раз дома не было, прихожу — мне супруга говорит: «За тобой присылали, директор просит на завод притти». Я тут же, не заходя в дом, — на завод. Меня без всякого пропустили к директору. Встал он мне навстречу, поздоровался и говорит: «Надо завод восстанавливать, Иван Ильич». А я ему: «Спасибо за память, я хоть сейчас готов». Пошли мы по заводу. В цехах стужа, окон нет, полкорпуса льдом заросло. А станки стоят… всё лом, всё лом один, ветхость негодная! Вставили мы кое-как стёкла, соорудили печки-времянки, сбили лёд, стали ремонтировать станки. Легко сказать — «восстановить», а каково это было делать! Ни напильников, ни резцов, ни фрез, ни одного исправного станка — ничего не было. Из-под снега откапывали негодный инструмент, бросовые детали, разыскивали всё, что только можно было, и если хоть малость было похоже на станок, ремонтировали и тащили на завод — на салазках, на тачках, кто как мог…
— Мама рассказывала про него: домой придёт, а руки у него обмороженные, распухли все, — негромко говорит мать Саши.
— А другие как же? — мягко возражает Иван Ильич. — Я, другой, третий — каждый помогал. И сами себе не верили, удивлялись, радовались: откуда всё взялось? Отремонтировали всё, что было свалено в лом.
Каждая вещь на своём месте, не тесно и разумно: у каждого отделения свой угол. Уж токарные станки — так токарные, фрезерные — так фрезерные. И в самую осаду, когда немец был на подступах к городу, завод наш работал во всю силу. Люди приходили, спрашивали: кто так спланировал, кто так сделал? А нам никто не планировал, мы всё сами. И на заводе у сына то же самое было. Он у меня тоже оружейник. Мы все оружейники, весь род…
Пока Иван Ильич рассказывал, Ольга Ивановна, мать Саши, накрыла на стол, налила нам чаю. Саша помогал хозяйничать: быстро и без лишнего шума принёс ей посуду, бегал на кухню и делал всё, как в школе, — охотно, без напряжения. Но каждую минуту, когда Саша был в комнате, он прислушивался к разговору, хотя по всему было видно: рассказы эти он слышит не в первый раз.
В передней снова задребезжал звонок — пришёл отец Саши, высокий, светловолосый, с подстриженными, как у тестя, тоже начинающими седеть усами. Он весело поздоровался, быстро прошёл на кухню умыться и затем присоединился к нам. Немного позже пришёл старший брат Саши — ученик восьмого класса нашей школы.
Мне было хорошо с ними — просто и свободно, как со старыми друзьями. Я и о себе рассказала немного — это у меня получается не часто и как-то всегда обрывисто, а тут мне захотелось рассказать, как я с шести лет жила вместе с братом, как училась до седьмого класса у Анны Ивановны, как потом, уже во время войны, училась в институте и как весною сорок второго года получила известие, что под Гжатском погиб единственный родной мне человек — старший брат… и как этой осенью пришла в школу и вот — стала учительницей Саши.
— Трудно вам с ними, с мальчишками? — спросил Иван Ильич и тут же, не дав мне ответить, перевёл речь на другое: должно быть, он подумал, что при Саше об этом говорить не следует, и решил отложить это до более удобной минуты.
— А теперь мы вам покажем всю нашу семью, — сказала Сашина мама, и на столе появился семейный альбом.
Мы долго листали его. Мне показали всех: самого старшего брата, юного черноморца в лихой бескозырке и с милой, мальчишеской, совсем как у Саши, улыбкой, и самого Ивана Ильича в молодости, и его же лет десять назад с маленьким Сашей на коленях (Саша сконфузился: ему неловко было, что мне вдруг показывают его, ученика четвёртого класса, толстощёким бутузом в платьице.)
Одну за другой мне показывали фотографии — то выцветшие от времени, то совсем недавние — и рассказывали о родственниках и друзьях.
Мне казалось, что я уже давным-давно знаю этих людей, давно освоилась в этом доме.
Наконец я собралась уходить. Иван Ильич с Сашей пошли проводить меня.
Был мягкий зимний вечер, в воздухе лениво кружились редкие снежные хлопья. Саша побежал вперёд, заскользил по ледяной дорожке.
— Хороший малый, — сказал дед и повторил свой прежний вопрос: — А трудно вам, наверное, с мальчишками?
— Бывает очень трудно, — призналась я.
— Это и понятно. Я про свою работу скажу: у каждой машины свой характер, к каждой требуется свой подход. А уж к живым людям, да ещё к ребятам…
Мы подошли к трамвайной остановке.
— Рад, очень рад был с вами познакомиться! — сказал на прощанье Иван Ильич, крепко пожимая мне руку, и я совсем близко увидела его серьёзные и ласковые глаза, молодо глядящие из частых стариковских морщин.
Я от всего сердца ответила на это дружеское рукопожатие, простилась с Сашей, и вскочила на подножку подошедшего вагона с таким чувством, будто этот человек не просто до трамвая проводил меня, а напутствовал в дальнюю, нелёгкую дорогу.
Старший в семье
В квартиру, где жили Рябинины, меня впустила соседка. Я подошла к двери, которую она мне указала, и остановилась: из-за двери слышался громкий Лёшин голос:
— К первому склонению относятся существительные женского рода, например «вода», «земля». Ко второму склонению относятся…
«Уроки учит», подумала я и постучалась.
— Войдите!
Я толкнула дверь. Лёша тихо охнул от неожиданности, я тоже остановилась: думала увидеть его за учебником, а он стоит в фартуке, с засученными рукавами, держа в руках тарелку, с которой каплет вода, и смотрит на меня в совершенной растерянности.
— Вот ты как поспеваешь — и уроки учить и посуду мыть, всё вместе? — весело сказала я.
— Всё вместе…. — смущённо подтвердил Лёша.
Он вытер руки, пододвинул мне стул и стал отвязывать фартук.
— Кончай с посудой, что ж ты! — сказала я и огляделась.
Комната была небольшая, очень чистая — самая хозяйственная девочка не прибрала бы лучше. Наверху, на антресолях, помещались кровать-раскладушка и столик с Лёшиными учебниками. «Я там сплю и занимаюсь», пояснил он и, как всегда, толково и не торопясь рассказал мне о своём житье-бытье. Мать — проводник на железной дороге, в семье трое ребят, Лёша — старший. На нём лежит всё хозяйство. Рано утром он отводит малышей в детский сад и идёт в школу. После уроков убирает комнату, готовит обед, приводит братишек домой, кормит, укладывает спать и только после этого садится по-настоящему за уроки. Раз в три дня приезжает мать — стирает, чинит и снова уезжает, оставляя весь дом на Лёшу.
Немного позже, когда мне случилось вторично зайти к Рябининым, я познакомилась с матерью Лёши, Анисьей Матвеевной; она как раз вернулась из очередного рейса. Тут я убедилась, что Анисья Матвеевна уважает своего спокойного, рассудительного мальчугана. Она советовалась с ним обо всех делах, как с равным.
— Валенки-то Фёдору будем покупать? — спросила она при мне.
И Лёша ответил:
— Не надо. Я отдавал чинить — смотри, как новые. Зиму вполне проходит. А вместо того будет тебе пуховый платок, мёрзнешь ты…
Мать попыталась возразить, но Лёша прервал её:
— Потом решим. Марине Николаевне неинтересно слушать про эти дела.
Сказано это было решительно, но ничуть не грубо, а спокойно и просто.
Как и в первый раз, в доме было чисто, опрятно. Малыши, спокойные и добродушные, словно два медвежонка, беспрекословно слушались старшего брата.
Весь он был очень ладный, собранный, неизменно деловитый и трудолюбивый. В своё время, получив от Саши Воробейко ключ, он сразу же в классном шкафу навёл образцовый порядок: засучив рукава, протёр все полки мокрой тряпкой, расставил книги и наглядные пособия; каждая мелочь у него на своём месте, всё под рукой, всё легко найти. Ежедневно он кнопками прикалывает на мой стол большой лист белой бумаги, а после занятий снова прячет его в шкаф. И всё, о чём ни попросишь Лёшу, он делает быстро, охотно и толково. Я нередко думаю: каким он станет, когда вырастет? Должно быть, отличный будет мастер в любом деле, спокойный, уравновешенный, и окружающие будут уважительно прислушиваться к его слову…
Думая о Лёше, я впервые поняла, до чего это увлекательно — отгадывать, какими станут мои мальчишки лет через десять, через двадцать! Что из них получится? И как-то они помянут тогда меня, учительницу начальной школы?
Мишина мама
На первых порах, знакомясь с родителями своих учеников, я ощущала некоторую неуверенность. Я не забыла ещё встречу с отцом Воробейко. К тому же была и другая причина.
В нашей квартире, кроме меня и Татьяны Ивановны с дочкой и внучкой, живёт ещё одна семья: отец, мать и единственный сын — четырнадцатилетний Миша. Приходя из школы, он начинает рассказывать об уроках, об учителях — почти всегда насмешливо, чуть ли не с издевкой, — и его иронический тон встречает полное одобрение родителей.
— Сегодня Елена Ивановна, бедняжка, совсем стала втупик. Я нашёл у Гоголя одно предложение длиной в три версты и прошу её: дескать, разберите, пожалуйста. Начинает она разбирать — и не знает, что это за предложение. Сначала сказала: «сложносочинённое», потом — «сложноподчинённое», покраснела вся — и ни взад, ни вперёд…
— Недоучка… — кратко резюмирует Мишина мама, Мария Фёдоровна.
Разговор происходит на кухне. Мишина мама жарит котлеты, Татьяна Ивановна печёт оладьи. Бабушка явно чувствует себя неловко.
— Зачем же вы так про учительницу? — вступается она.
— Но она действительно недоучка, — пожимает плечами Мария Фёдоровна. — Не понимаю, как это ей разрешили преподавать в старших классах. А преподавательница географии? Миша знает втрое больше неё!
Через несколько дней Миша сообщает, что получил за диктант тройку. Мария Фёдоровна негодует:
— Это она мстит тебе! Я её насквозь вижу. Теперь она будет придираться к тебе на каждом шагу.
— Дай мне взглянуть на твой диктант, — прошу я Мишу.
Мальчик приносит тетрадь. Грамматических ошибок нет, однако синтаксических — шесть.
— Отметка заслуженная, — говорю я. — Тут у Миши шесть ошибок, и все грубые.
Мишина мама начинает спорить, доказывает мне, что синтаксические ошибки нельзя равнять с орфографическими, утверждает, что диктант для седьмого класса выбран непосильный: если продиктовать такой текст самой Елене Ивановне, она тоже с ним не справится… Спорить с Марией Фёдоровной бессмысленно.
Не раз мы пытались втолковать ей, что, говоря в таком тоне об учителях сына, она воспитывает в нём неуважение к ним. Бесполезно! «А за что их уважать? — возражает она. — Эти учителя почти поголовно безграмотные люди, и Миша это видит не хуже меня… Вы извините, Марина Николаевна, я, конечно, не говорю о присутствующих…».
В школе она не бывает, во всём полагается на мнение сына и неизменно защищает его. И я думаю, найдётся ли такой учитель, который сказал бы ребёнку или подростку: «Твоя мать безграмотная, неумная женщина, не слушай её»? Конечно, нет — такого учителя у нас нет и быть не может. Я могу чувствовать себя тысячу раз правой в споре с отцом или матерью моего ученика, но я никогда не позволю себе, даже в самой мягкой форме, представить свои разногласия с ними на суд детей. Почему же эта женщина, не задумываясь, оскорбляет людей, которые воспитывают и учат её сына?
Вначале бывало, вызывая родителей в школу, я всякий раз думала: «А что, если сейчас явится такая Мария Фёдоровна? Как я буду себя держать, что скажу?» И вот однажды мне показалось, что такой разговор неминуем…
Отец и сын
Нужно было поговорить с отцом Юры Лабутина. Домашние задания Юра готовил хорошо. Но стоило мне сказать: «Объясни, как ты решил задачу?» — он становился втупик. Иной раз, вызывая его к доске, я предлагала ему задачу того же типа, как та, что он совершенно правильно решил дома, но он только беспомощно смотрел на меня и молчал. Сначала я думала, что он смущается; я помнила, что он стесняется своих очков и больных глаз.
— Но ведь дома ты решил точно такую же задачу, Юра, — говорила я. — Посмотри, ведь это совсем простая задача. Ну, как ты решал дома? Вспомни!
Он молчал. Тогда я попросила его передать отцу записку с просьбой зайти в школу. Отец не ответил и не пришёл. Три раза я звонила ему на завод — всё безрезультатно.
Меня удивляло и сердило, что отец так невнимателен к делам собственного сына, но когда Лабутин наконец пришёл ко мне, я увидела, что сердиться нечего. Этот рослый немолодой человек был очень смущён и искренне просил прощения.
— Пожалуйста, Марина Николаевна, будьте добры, извините меня, — повторял он, сдерживая могучий, прямо оперный бас. — Кругом виноват, знаю. Но поверьте: до того занят — оглянуться некогда. Домой прихожу заполночь, ухожу чуть свет. Юру почти не вижу. Да, да, я понимаю, что «некогда» — это не оправдание, но вот никак не мог раньше…
И быстро, горячо, совсем как Боря Левин говорил о футболе или Кира Глазков — об альбоме марок, Лабутин объяснил мне: он придумал приспособление, которое облегчит и упростит работу электросварщика. Но сам он высшего образования не имеет, только опыт порядочный, а хочется, прежде чем представить свою «рационализацию» на суд инженеров, самому всё до мелочей додумать. Вот он и сидит на заводе круглые сутки…
— Всё-таки мне очень надо было повидаться с вами, — сказала я Лабутину. — Видите ли, домашние работы по математике у Юры сделаны безукоризненно, а вот в классе он не может решить и более лёгкую задачку. Как по-вашему, чем это объяснить?
Странно было видеть, как он покраснел.
— Дело в том, — признался он, — что Юра по вечерам всегда дожидается моего прихода, как бы поздно я ни пришёл, и просит помочь. «У меня, говорит, задача не выходит». А я прихожу усталый, спать хочу. Спросишь: «А в классе вам объясняли?» — «Объясняли, отвечает, да я забыл». Ну, возьмёшь и решишь…
— А ему остаётся только переписать?!
Я понять не могла: человек только что рассказывал мне, как он бьётся над разрешением трудной задачи, желая во что бы то ни стало решить её самостоятельно, и этот же человек спешит на помощь сыну при первой же неудаче. Да что там — при неудаче! Юра, как видно, даже не пытается сам разобраться в уроках, он беззаботно ждёт отца, в полной уверенности, что тот не просто поможет, а сделает всё за него.
— Вот спросить вас, — сказала я: — какие качества вы цените в людях? Вы, конечно, назовёте и волю, и настойчивость, и упорство, сами вы так энергично, так страстно добиваетесь своего. А в сыне воспитываете вялость, безволие.
— Вы меня поймите, — возразил он. — Трудно ему отказать: может, он и в самом деле не усваивает на уроках?
Мы долго говорили, даже спорили. Не сразу он согласился со мной и пообещал, что заставит Юру своими силами добиваться верного ответа в решении задач.
Это был разговор двух людей, которые уважают друг друга. Ни на секунду я не почувствовала, что Лабутин обижен на меня или сам старается сказать мне что-либо обидное. Нет, от встречи с отцом Юры у меня не осталось ни капли горечи.
С тех пор, помню, я стала постоянно бывать в семьях своих учеников и вскоре навестила многих. По совести говоря, сама я гораздо больше училась, нежели советовала и наставляла, — для советов и наставлений у меня не было ещё ни опыта, ни знаний. Но я чувствовала: опыт день ото дня прибывал — незаметно, по крупице.
Многое увидела я в семьях своих учеников и теперь куда лучше понимала их.
На уроке, уловив рассеянный взгляд Вани Выручки, я не делала ему вслух замечания, потому что знала: у него серьёзно заболела мать. Увидев, как на мой вопрос: «Кто не приготовил сегодня уроков?» — Лёша Рябинин, вспыхнув, поднимает руку, я только после занятий спрашивала его о причине, потому что знала, как много забот падает на его двенадцатилетние плечи.
А с того дня, вернее — вечера, как мы с Лёвой Виленским побывали в семье Володи Румянцева, началась новая полоса в жизни нашего класса.
«Папа приехал!»
Володя Румянцев был невысокий широкоплечий мальчуган с ясными карими глазами. Я уже рассказывала, что он дружил с Андреем Морозовым — мальчиком, который ни в чём на него не походил. Володя был добродушен, весел и мягок. Андрей — замкнут, суховат и тщеславен. Володя был преданным другом, он принимал близко к сердцу всё, что происходило с Андреем, и никогда не говорил: «Я», а всегда: «Мы с Андрюшей». Морозов старался отвечать ему тем же, но это плохо ему удавалось: он не умел дружить. Он вместе с Володей приходил в школу и вместе с ним уходил, но никогда не радовался Володиным удачным ответам, и его мало трогало, если Володе случалось получить двойку. Между тем если Андрею ставили четвёрку, на круглом, румяном лице Володи ясно читалось искреннее огорчение.
Володя жил с матерью и бабушкой. Много и охотно он рассказывал об отце, ссылался на его мнение по каждому поводу: «Вот папа говорит…» Это произносилось таким тоном, как будто они с отцом ни на день не разлучались. Между тем Володин отец, кадровый офицер, уже четыре года не был дома, только писал часто. Теперь он должен был приехать, его ждали со дня на день, и все Володины рассказы и планы на будущее начинались словами: «Вот папа приедет…»
Незадолго до зимних каникул Володя захворал. Мы все чувствовали, что в классе его не хватает, хотя он не был ни классным организатором, ни вожатым звена. Просто не хватало его весёлого и доброжелательного присутствия. Жил он недалеко от меня, и я решила по дороге домой навестить его. Ко мне присоединился Лёва.
Дверь открыл сам Володя. У него флюс. Отчаянно распухшую щёку ему повязали тёплым серым платком; концы забавно свесились в разные стороны над макушкой, придавая его лицу сходство с загрустившим зайчонком. Увидев нас, Володя просиял и даже подпрыгнул на одной ноге.
— Ух, как хорошо, что вы пришли! — заговорил он, немного шепелявя из-за своего флюса. — Раздевайтесь, пожалуйста, раздевайтесь!
Не успели мы раздеться, как в передней раздался длинный, настойчивый звонок. Володя с недоумением посмотрел сперва на нас, потом на дверь:
— А это кто же?
Лёва, стоявший ближе всех к двери, открыл её. На пороге стоял высокий военный с чемоданом в руках. Володя, застыв на месте, смотрел на него изумлённо и растерянно, даже рот приоткрыл: то ли он не узнавал вошедшего, то ли не верил собственным глазам. А тот молча, видимо сдерживая волнение, и тоже с вопросом в глазах смотрел на мальчика.
В дверях соседней комнаты появилась высокая седая женщина.
— Вася… — очень тихо сказала она.
И тут с Володей произошло что-то необычайное. Он кинулся к нам, потом к отцу, потом снова ко мне.
— Марина Николаевна! Бабушка! Это папа! Папа приехал! — кричал он, не помня себя, со слезами в голосе.
Отец повернулся к нему, обнял, поцеловал, но мальчуган продолжал метаться. Радость взрывала его, искала выхода. То он кидался к бабушке, то к телефону: надо позвонить маме на работу — как же без мамы? — то снова к нам: «Садитесь, Лёва, Марина Николаевна! Бабушка, да что же ты сидишь?»
А бабушка действительно сидела, совсем обессилев, и крепко держала обеими руками руку сына, словно боялась, что он вырвется и уйдёт. Румянцев стоял подле неё, всё ещё в шинели, и лицо у него было такое счастливое…
— Мы пойдём… извините… — наверно, уже в десятый раз тихо повторил Лёва.
И тут — кажется, впервые — Румянцев увидел нас.
— Я — учительница Володи, — сказала я, отвечая на его молчаливый вопрос.
— А я пионервожатый, — прибавил Лёва.
Румянцев быстро шагнул к нам и спросил испуганно:
— Вы что же, жаловаться на Володьку?
Мы оба невольно засмеялись.
— Зачем же непременно жаловаться? — успокоительно сказал Лёва. — Нет, мы просто навестить… — И снова повторил: — Вы извините…
— Это вы нас извините, — отозвался Румянцев. — Только обещайте, что непременно придёте в другой раз, — хорошо? И я к вам непременно приду — в школу, к вашим ребятам. Мне Володька много писал, хочу поглядеть, познакомиться. Можно?
— Конечно!
Мы простились и вышли.
Лёва медленно спускался с лестницы. Плечи его опустились, он вдруг показался мне ужасно усталым. На площадке он споткнулся и остановился, поправил очки.
— Сколько раз, сколько раз я представлял себе, как отец вернётся домой! — сказал он нетвёрдым голосом. — Наверно, я чувствовал бы себя, как Володя: не знал бы, куда деваться от счастья. Вы видели, какой он был?
Я промолчала.
— Мой отец погиб в сорок втором году под Смоленском, — еле слышно докончил Лёва.
Сбор отряда
Василий Дмитриевич Румянцев действительно пришёл к нам на сбор отряда.
Ребята во все глаза смотрели на его ладную, рослую фигуру, на открытое лицо, разглядывали ордена и медали.
Володя не раз нам рассказывал про отца, а однажды принёс в класс вырезку из «Красной звезды» со статьёй, в которой упоминалось имя капитана Румянцева.
Василий Дмитриевич не сел за мой столик — он прошёл на середину класса, подсел на парту к Лёше Рябинину и, обращаясь ко всем сразу, спросил:
— Ну, друзья, о, чём же вам рассказать?
На минуту все примолкли, собираясь с мыслями. Потом из дальнего угла раздался голос Вани Выручки:
— Расскажите про ордена, который за что!
Ребята одобрительно загудели. Василий Дмитриевич задумчиво оглядел их, прошёлся по классу, снова подсел к Лёше и начал:
— Я знаю, вам кажется: раз орден, значит что-то необыкновенное человек сделал. А я вам ничего такого рассказать не могу. Вот у меня орден за форсирование Днепра. Если бы я не умел хорошо плавать, если бы ещё мальчишкой, подростком не упражнялся в ловкости и выносливости, то наверняка погиб бы при переправе, не выплыл бы… А плыть пришлось под огнём неприятеля, и притом не налегке, а в одежде и с оружием. Право, даже и не знаю, что ещё рассказать про этот орден… А вот другой, тоже Красного Знамени, — этот за то, что вывел роту из окружения… Так разве тут во мне было дело? Нет, друзья: всё дело в людях, которые шли со мною и всё это вынесли. А почему вынесли, как по-вашему? Разве уж такие они богатыри были, необыкновенные силачи? Верно, солдату нужно быть крепким, выносливым, закалённым, но это ещё далеко не всё…
Василий Дмитриевич помолчал, что-то припоминая.
— Я расскажу вам сейчас про нашу медицинскую сестру Наташу Ильину. Она была совсем молодая девушка, только что кончила десятый класс, курсы медсестёр — и сразу попала на фронт, на передовую. Помню, в первые дни я смотрел, как она жмурилась и вздрагивала, заслышав свист пули, и думал: какова ты будешь в бою? Я видел, что и её мучит эта мысль, ей хотелось поскорей испытать себя. Она просилась, чтоб её отпустили с разведчиками, но ей сказали: подожди. Но скоро вышло так, что ей пришлось сразу, без всякой подготовки, окунуться в самую гущу боя. Трое суток без перерыва, без отдыха она оказывала первую помощь раненым, перевязывала их, вытаскивала из-под огня. И никто из нас не слышал от неё жалоб на усталость, хотя все эти трое суток некому было сменить её.
Потом Наташу послали в разведку. Командира разведчиков ранило в расположении немцев. Он потерял сознание. Наташа упала в снег рядом с ним и притворилась мёртвой. Ходившие мимо немцы толкали её, один ударил сапогом по лицу — она не вскрикнула, не приоткрыла глаз. Когда стемнело, она потащила командира к своим. Она ползла с ним по снегу около пяти километров, без еды, почти не отдыхая, обморозила и в кровь ободрала руки, но не остановилась, пока не доползла до своих.
На полдороге раненый командир очнулся и сказал ей: «Оставь меня, всё равно не дотащишь», но она даже не ответила, будто и не слыхала… Так вот, как по-вашему, что помогло этой девушке?
— Наверно, она была тренированная физкультурница, — после небольшого молчания сказал Селиванов.
— Она была крепкая девушка, это правда. Но то, что она сделала, оказывалось не под силу и людям покрепче, — возразил капитан Румянцев.
— Она была волевая! — воскликнул Саша Воробейко.
Румянцев внимательно посмотрел на него:
— Да, ты прав: у неё был твёрдый характер, крепкая воля. А это очень много. Помню, в юности я прочитал письма Феликса Дзержинского. Никогда их не забуду! В 1914 году Феликс Эдмундович сидел в тюрьме. Там было холодно, голодно, тоскливо, одиноко; заключённые умирали от чахотки, от сыпняка, от брюшного тифа. А у Дзержинского было очень слабое здоровье, и все думали, что ему не выжить. Но послушайте, что он писал родным (Румянцев вынул из бокового кармана записную книжку и перелистал её): «Хочу вернуться и вернусь, несмотря ни на что, так как моё физическое состояние зависит здесь почти целиком от моей воли, подлинной моей воли». Казалось бы, как воля может переломить болезнь? Но он сказал себе: я выживу. Я нужен народу, я должен бороться, должен жить. И он остался жив, несмотря на холод, голод, болезни. Вот когда я понял: есть нечто посильнее даже, чем физическая сила, — это сила духа. Наши люди на войне были сильны духом, вот почему они вынесли всё. Вот почему и Наташа, почти девочка, делала то, что, казалось, было выше её сил. Она была комсомолка, а человек, который любит свой народ, воюет во имя идеи, выше и справедливее которой нет на свете, и верит в победу, — это самый волевой, самый сильный и самый непобедимый боец на свете… Ты что хочешь спросить? — перебил себя Василий Дмитриевич, заметив, что Гай поднял руку.
— Я хочу… — Саша встал, оглянулся на товарищей. — Я хочу спросить: а если нет силы воли, что тогда?
— А ты думаешь, человек так прямо и рождается с сильной волей? Нет, друг, волю тоже надо в себе воспитывать.
— Как? — раздалось сразу несколько голосов.
— Как? Да начиная с малого, с самых что ни на есть мелочей. Есть такое слово: дисциплина…
— А-а, дис-цип-ли-на… — протянул Воробейко так выразительно, что Румянцев, видно, сразу понял, как часто Сашу попрекали этим словом.
— Что, брат, не в первый раз про неё слышишь? — спросил он, встал, прошёлся вдоль парт и, остановясь возле Саши, вновь заговорил: — Давайте подумаем вот о чём. Проснулись вы утром, надо собираться в школу. Ещё темно, время зимнее, но свет горит, вода и газ поданы. Это работники городского хозяйства позаботились о том, чтобы без перебоев снабжать город водой, газом, электрической энергией. Выходите на улицу. Мимо вас проносятся со звоном трамваи, скользят троллейбусы, развозя людей на работу, в метро через каждые три минуты проносятся поезда… Магазины открыты — у всех свои заботы, свои дела, все на работе.
Ребята слушали, переглядываясь, немного озадаченные этим отступлением.
— Всё это так обычно, что вам и в голову не приходит задумываться над этим. А вы всё-таки оглянитесь и призадумайтесь над тем, сколько народу работает на вас. Так может быть, — продолжал Румянцев, — только потому, что есть у людей большое общее согласие, есть дисциплина. А это означает: раз ты член коллектива, умей подчиняться общему правилу, твёрдо установленному порядку. Без этого весь ход нашей жизни распался бы, всё пошло бы вкривь и вкось. Вы, верно, думаете: это всё очень просто и всем ясно, так к чему я об этом говорю? А вот к чему. Каждый из вас понимает, как необходима дисциплина на производстве и в армии. Ну, а в классе как же, в школе? Речь идёт о самых обыкновенных вещах: не опоздать, не разговаривать во время урока, аккуратно готовить домашние задания, короче говоря — подчиняться общим правилам. И, верно, многие думают: да разве от этого зависит, буду ли я хорошим работником и храбрым воином? Ведь мои сегодняшние школьные обязанности — пустяки, мелочь по сравнению с тем, что ждёт меня в большой жизни. Так ведь? Почему же вы считаете, что закалять мускулы надо с детства, а закалять волю, характер — необязательно? Разве сильная воля приходит сама собой? Нет, конечно. И все вы хорошо знаете, что ваше воспитание зависит не только от ваших учителей и родителей, а и от вас самих. Почитайте-ка биографии больших, настоящих людей, и вы увидите: с малых лет они воспитывали в себе те качества, которые мы уважаем и ценим. Это очень важно. На фронте труднее всего было тем, кто не привык к дисциплине в довоенной жизни. Вот я и хочу, чтоб вы поняли: когда вы видите на груди у военного орденскую ленточку, знайте: необязательно совершил он необыкновенный подвиг, но обязательно за этим знаком отличия кроется воля, уменье преодолевать все, даже самые большие трудности.
Я сидела на парте рядом с Колей Савенковым. Я боялась, что ему больно будет увидеть человека, который вернулся в свою семью, к своему сыну, — вернулся оттуда, где навсегда остался Колин отец.
Но Коля не отрываясь смотрел на Румянцева, и ни одна тень сторонней, горькой мысли не прошла по его лицу, на котором, как и на лицах других ребят, отражалось всё, о чём рассказывал капитан.
Когда Румянцев кончил и ребята столпились вокруг него, Коля Савенков протиснулся вперёд и всё время, пока тот отвечал на сыпавшиеся градом вопросы, держал его за рукав. А Василий Дмитриевич, должно быть о чём-то догадавшись, несколько раз провёл рукой по упрямой стриженой голове мальчугана.
По дороге домой я думала: сколько я читала ребятам о героях Отечественной войны, сколько рассказывала, а вот такого впечатления не было. Да, конечно, рассказ очевидца и участника ни с чем сравнить нельзя! Но, кроме того, я почувствовала, что Румянцев обладал ещё одним важным секретом: он рассказывал так, что подвиг стал для ребят зримым и осязаемым: героическое, возвышенное оказалось близким и понятным.
Зоина учительница
Как-то в перемену Лёва вошёл ко мне в класс, чем-то взволнованный.
— Марина Николаевна, — быстро сказал он, — я узнал один очень важный адрес. Я знаю, где живёт учительница, у которой в четвёртом классе училась Зоя Космодемьянская. Вы понимаете, Зое было тогда одиннадцать лет — как нашим ребятам. Надо пойти к ней, правда? Может, она согласится притти к нам. Я уверен, это будет так же хорошо и интересно, как беседа на сборе с Румянцевым. Как по-вашему?
— Пойдём вместе, — предложила я.
Лёва обрадовался: он и сам хотел просить меня об этом.
В тот же вечер мы с ним пошли к Лидии Николаевне Юрьевой.
Мы долго блуждали среди каких-то маленьких домиков, похожих друг на друга, как грибы-дождевики. Я то и дело проваливалась в сугробы и наконец, совсем отчаявшись, сказала:
— Лёва, давайте отложим поиски до воскресенья, мы тогда пойдём засветло.
Но тут он воскликнул:
— Да вот же он, дом семь!
Через две минуты мы оказались в крошечной комнатке, где едва умещались две кровати и стол, словно осевший под высокими стопками ученических тетрадей. В простенке над столом я сразу заметила портрет юноши лет семнадцати с красивым, открытым лицом.
— Знакомьтесь, мой отец, — сказала Лидия Николаевна, когда навстречу нам поднялся невысокий, седой, как лунь, старик с длинной белоснежной бородой. — А это — племянник… (Тут только мы заметили круглолицего мальчугана лет четырёх, смотревшего на нас во все глаза.)
Потому ли, что мы перед этим столько времени блуждали, потому ли, что во всей обстановке этой комнаты было что-то строгое, но мы с Лёвой оба одинаково смутились, не сразу сообразили, куда именно нас усаживают, и наконец, стараясь помочь друг другу, довольно сбивчиво принялись объяснять цель своего прихода. Лидия Николаевна, маленькая, хрупкая, слушала и молча изучала нас пристальным взглядом. Выслушав до конца, она ещё немного помолчала, потом глухо, словно через силу, вымолвила:
— Трудно мне это будет… мне тяжело говорить об этом. И гибель Зои и гибель моего сына — всё это так тесно связано и так больно. Боюсь, ничего не выйдет.
Лёва побледнел и попытался встать.
— Вы извините нас, — тихо сказал он. — Конечно, если так, то не надо… мы не знали…
— Погодите, — остановила Лидия Николаевна, кивнув ему, чтобы он опять сел.
Мы молчали, как мне показалось, очень долго.
— Надо пойти, — вдруг сказал старик. — По-моему, надо пойти.
— Я понимаю, — негромко ответила дочь.
Они разговаривали так, словно нас с Лёвой не было в комнате.
— Я понимаю, я же сама учительница. Но, боюсь, плохо получится.
— Хорошо получится. Расскажи про девочку и про Володю расскажи… и всё будет, как надо, — твёрдо закончил он.
Лидия Николаевна встала и вышла из комнаты.
— Тоскует, — сказал её отец, внимательно глядя на расстроенного Лёву. — Сколько времени прошло, а не утихает — болит. Внук погиб вскоре после Зои, по Зоиному призыву пошёл… — Он несколько секунд смотрел на портрет. — Вот я переехал к ней, младшего внучонка привёз, чтоб ей было не так одиноко. Тесно, конечно, а всё же лучше вместе…
В эту минуту вернулась Лидия Николаевна с каким-то пакетом в руках. Сдвинув в сторону пачку тетрадей, она положила пакет на стол, развернула и достала большую групповую фотографию.
— Вот, — сказала она: — это выпуск четвёртого класса, в котором училась Зоя. Вот она, видите? А это брат её, Шура. А это Зоина тетрадь — посмотрите, какая чистая: ни одной помарки. А это моего Володи тетрадь… тут помарок сколько угодно… — Она улыбнулась сквозь слёзы.
Она показала нам всё, что было в пакете: школьные тетради Зои и Шуры Космодемьянских и Володи Юрьева, их детские рисунки, фотографии, и на прощанье сказала:
— Стало быть, в субботу, в семь часов вечера. Не волнуйтесь — приду, я ведь понимаю, что это нужно.
…Некоторое время мы шли молча.
— Лёва, — неуверенно заговорила я, — может быть напрасно мы её растревожили? Пожалуй, не нужно было просить…
— Сам старик сказал, что нужно, — убеждённо возразил Лёва. — А уж он-то понимает!
И я не могла не согласиться с ним.
Герои рядом с тобой
Лидия Николаевна пришла на сбор отряда минута в минуту — ровно в семь часов. Она была гладко причёсана, в простом чёрном костюме, с белоснежным воротничком вокруг шеи. Глаза её смотрели ласково, и от этого неузнаваемо изменилось всё лицо: в прошлую нашу встречу взгляд у неё был не то чтобы неприветливый, но замкнутый, почти угрюмый, и это с первой минуты так смутило нас с Лёвой. А тут, увидев наших ребят, она совсем просветлела. Она села за столик, спокойно положила на него руки и заговорила так просто и естественно, словно полжизни провела за этим самым столом и уже сотни раз беседовала с нашими ребятами:
— Одиннадцать лет назад, первого сентября 1935 года, я пришла в четвёртый класс — я должна была учить ребят и стать их классной руководительницей, как у вас Марина Николаевна. И вот подходит ко мне маленькая смуглая девочка и говорит:
«Лидия Николаевна, пожалуйста, посадите меня на одну парту с братом. Он тогда будет лучше слушать».
А братишка её стоит среди мальчиков и о чём-то с ними оживлённо разговаривает. Когда я усадила его рядом с сестрой, он насупился и исподлобья поглядел на товарищей — ну, как сделал бы, наверно, каждый из вас. Вы ведь любите иной раз сказать о девочке этак свысока: «Девчонка!».
Но я и других мальчиков сажаю с девочками, значит со всеми выходит одинаково. А сама поглядываю на брата с сестрой и думаю: «Разные какие!»
Это — Зоя и Шура Космодемьянские. Зоя серьёзная, сосредоточенная, на уроках внимательно слушает. А Шура живой, непоседливый. Но хоть характеры у них разные, а они очень дружат, это сразу видно. В школу приходят вместе и домой уходят вместе — и всегда оживлённо разговаривают, смеются. А на уроках иной раз бывает так: Шура сперва сидит тихо, а потом у него на парте откуда-то появляется бумажная игрушка, и он уже целиком ею занят, ничего не слышит. Смотрю, Зоя молча кладёт руку на бумажку. На лбу у неё от напряжения появляется морщинка: видно, она боится, как бы не упустить чего-нибудь из моих объяснений. И Шура без единого слова отдаёт игрушку.
Зоя часто оставалась после уроков в школе и помогала товарищам: одному объяснит, как решать задачу, другому растолкует грамматическое правило.
Помню, Любовь Тимофеевна, её мама, пришла ко мне с просьбой не задерживать девочку после уроков. Я пообещала. Но Зоя ушла домой очень огорчённая. На другой день после занятий я напомнила ей, что нужно сразу итти домой. А она отвечает: «Знаете, я всю ночь думала и решила, что я права. Я поговорила с мамой, и мама позволила мне помогать товарищам».
И я тогда подумала: вот девочке едва двенадцать лет, а она умеет убедить взрослого в том, что считает важным, нужным, справедливым, умеет отстоять своё мнение не упрямством, а глубокой верой в свою правоту.
Как-то, беседуя с ребятами, я сказала — не помню уж, по какому поводу, — что у меня нет «любимчиков». Со мною все согласились, но некоторое время спустя один мой ученик, Боря, спросил:
«Лидия Николаевна, вот вы говорите, что у вас нет любимчиков, а разве вы Зою Космодемьянскую не любите?»
В первую минуту я даже растерялась, а потом решила: вопрос задан просто, значит и ответить надо так же просто.
«Зою? Конечно, люблю, — сказала я. — А можно ли её не любить? Помогала она тебе решать задачи?»
«Помогала», отвечает Боря.
«А тебе помогала?» спрашиваю кого-то ещё.
«Помогала».
«А тебе? А тебе?»
Переглянулись мои ребята. Видят, что Зоя для каждого сделала что-нибудь хорошее.
Следующей зимой Зоя и Шура учились уже не у меня. Они росли, переходили из класса в класс, менялись конечно — в вашем возрасте три-четыре года сильно меняют человека. Но что-то главное оставалось неизменным. И когда я слышала, что говорят учителя о Зое в пятнадцать, в семнадцать лет, я снова узнавала маленькую Зою — ту, которая училась у меня в четвёртом классе. Она попрежнему скромная. Как и прежде, хорошо учится. Всё так же дружит с братом, и он попрежнему слушается её, но не как младший старшую, не по обязанности, а потому, что любит и уважает сестру. И всё отчётливее становится в Зоином характере одно свойство… как бы вам его определить?..
Лидия Николаевна задумалась.
— Вот ты, — неожиданно сказала она, обращаясь к Толе Горюнову, сидевшему прямо перед нею, — как ты думаешь: подсказывать — хорошо?
— На уроке? Подсказывать? Нет, нехорошо, — по обыкновению краснея до ушей, ответил Толя, удивлённый таким оборотом разговора.
— Ну, а если товарищ попросит тебя: помоги, мол, подскажи, — ты подскажешь?
Толя на мгновенье замялся, оглянулся на меня и, покраснев ещё больше, со вздохом признался:
— Подскажу…
— Как же так: считаешь, что нехорошо, а всё-таки подскажешь? Почему же?
— Так ведь товарищ обидится! — не вытерпел Боря Левин.
— Вот-вот! Понимаешь, что нехорошо, да боишься обидеть. А вот Зоя если в чём-нибудь была уверена, так уж ничего не боялась. Раз был такой случай. Во время диктанта одна девочка спросила у Зои, как пишется какое-то слово. Зоя отказалась ответить. Девочка возмутилась. Поступок Зои обсудили на собрании, и многие говорили, что она вела себя не по-товарищески. Но Зоя твёрдо стояла на своём: она всегда готова объяснить, растолковать непонятное, но подсказывать во время контрольной работы не станет, потому что считает это неправильным и нечестным.
Чтобы так поступить и так отстаивать потом своё мнение, нужно быть настоящим человеком. Вы ведь сами знаете, как ребята не любят плохих товарищей, как недружелюбно относятся ко всякому, кого считают плохим товарищем. И не мне рассказывать вам — очень многие из вас полагают, что подсказка нужна: не подскажешь — значит, подведёшь товарища. Так ведь?
Зоя никогда не отказывалась помочь тем, кто в этом действительно нуждался. Но способному и вдобавок ленивому ученику она могла сказать прямо и резко: «Сам должен выучить. Все одинаково могут это сделать, а ты просто не хочешь заниматься».
Рисковала она из-за резкости потерять любовь товарищей? Да, рисковала. Но она не боялась этого. Ей не нужна была любовь, купленная снисхождением, уступками. Вы знаете такое слово — принципиальный? Вот Зоя была принципиальным человеком, она ничего не боялась и всегда поступала так, как считала правильным и справедливым.
И ребята понимали это. Они уважали Зою, потому что видели: она требовательна не только по отношению к другим, но прежде всего к себе самой. И в малом и в большом.
Помню, в первую военную осень ученики старших классов поехали рыть картошку. Работать было трудно — все дни лил дождь; туфли, калоши вязли в грязи, невозможно было ходить. Как-то вечером, когда остальные ребята уже уснули, Зоя приготовила для всех тесёмки, чтобы привязывать калоши к ногам. Наутро все смогли выйти на работу. В другой раз, в очень уж холодный и ненастный день, все остались дома. Зоя вышла в поле одна и работала, несмотря на дождь и слякоть.
Почему я вам это рассказываю? Потому что хочу, чтобы вы поняли: всё, за что мы уважаем и любим Зою: прямота, стойкость, мужество, — всё это вырастало и крепло в ней с детства.
Однажды Зоя задала мне такой вопрос:
«Лидия Николаевна, вот вы сказали, что позорно говорить неправду. А если случится, что попадёшь к врагам? Как же тогда? Ведь там правду сказать нельзя».
Я ответила, что скрыть правду от врагов родины — значит выполнить свой долг. Зоя выслушала молча, потом сказала:
«Да, можно ответить: не скажу, не могу сказать».
Это было в тридцать пятом году. А двадцать седьмого января сорок второго года я прочитала в «Правде» о том, как Зоя ответила на допросе у немцев: «Нет, не скажу!» Она осталась верна тому, что поняла и решила в детстве…
И снова Лидия Николаевна замолчала и задумалась. Я поглядела на своих мальчиков: все сосредоточенно, не отрываясь смотрели в лицо Зоиной учительницы и ждали следующего её слова.
Лидия Николаевна заговорила по-прежнему негромко, спокойно, только пальцы её рук, прежде спокойно лежавших на столе, теперь крепко переплелись.
— Когда Зоя погибла, шесть юношей из нашей школы, моих учеников, пошли добровольцами в Красную Армию. Среди них был Шура Космодемьянский. Он вместе с товарищами ворвался в расположение той самой немецкой дивизии, офицеры и солдаты которой замучили Зою, и отомстил за сестру. Среди них был и мой мальчик, мой сын Володя. Семнадцати лет он уже окончил танковое училище и стал лейтенантом, командиром танка. Он храбро бился с врагом, был награждён тремя орденами Отечественной войны и, так же как и Шура, погиб незадолго до победы.
По классу пронеслось что-то, словно внезапно все сорок ребят тихо вздохнули. Но Лидия Николаевна не сделала паузы: разняв руки, она вынула из лежащего рядом на столе пакета карточку.
— Подойдите сюда, — продолжала она. — Взгляните, вот они: Зоя, Шура, Володя…
И мои всегда шумные ребята не повскакали с мест, не кинулись к ней, стараясь обогнать и оттеснить друг друга, — они встали совсем тихо и так же тихо, без возгласов и толкотни, подошли к столу и стали по очереди разглядывать всё то, что видели мы с Лёвой несколько дней назад в маленькой комнатке Лидии Николаевны: тетради, портреты, рисунки.
Не знаю, как точнее выразить то чувство, которое пробудил этот разговор. Пожалуй, вернее всего сказать так: герои рядом с тобой. Всмотрись в своих товарищей, в тех, кто учится и живёт рядом с тобой: всё, что заложено в них уже сейчас, потом, в жизни, даст всходы, каждый сможет стать героем, и ты тоже. Ты справедлив, честен, стоек? Таким ты будешь, и став взрослым. Ты солгал? Ты не умеешь справиться с собой, не учишься, ленишься? Смотри, подумай над этим теперь, потом будет гораздо труднее выпрямить себя, переломить въевшуюся скверную привычку. Ты думаешь, будто комсомольцем можно стать только в четырнадцать лет? Но ведь качества, без которых нет коммуниста, нет комсомольца, ты можешь воспитывать в себе уже сейчас.
После встречи с Лидией Николаевной ребята сами предложили Лёве устроить в классе особый уголок-выставку, которая расскажет об участниках Отечественной войны, бывших учениках нашей школы, Лёва поддержал их. И ребята горячо взялись за осуществление своей затеи. Это была жаркая, взволнованная работа. Ребята расспрашивали учителей, у которых когда-то учились будущие воины, повидались с некоторыми из них. Не дожидаясь, чтобы я или Лёва ещё что-то объяснили, ребята пытливо доискивались самого главного: как юноши, ещё недавно сидевшие в том же классе, за теми же партами, стали мужественными, храбрыми бойцами.
Вот какую подпись сделал под одним из портретов на нашей выставке Ваня Выручка:
«Юрий Антонов учился в нашей школе. Он окончил её перед самой войной и потом пошёл на фронт. Ю. Антонов был десантником. Он храбро справлялся со всеми трудностями. Он переплывал широкие реки, по многу часов находился в ледяной воде. Он переносил и жару и холод. Один раз он ничего не ел десять дней подряд.
Он закалялся с детства. Они с братом любили ходить в походы. Они всегда уговаривались не жаловаться ни на солнце, ни на дождь. Если их в пути заставала гроза, они всё равно шли неутомимо. Когда братьям было по пять лет, они научились кататься на коньках и на лыжах. Когда им было по десять лет, они уже умели ездить на настоящем велосипеде, а в пятнадцать умели водить машину. Они были очень закалённые и войну встретили без страха. Старший брат в нашей школе не учился, но тоже был героем.
Ю. Антонов был хорошим другом и всегда выручал товарища в беде. Он вытащил с поля боя раненого командира.
Наталья Андреевна рассказала, что когда Ю. Антонов у неё учился с первого до четвёртого класса, то тоже был хорошим товарищем и всем помогал и сначала думал о других, а потом о себе.
Теперь он на Дальнем Востоке. Когда он вернётся в Москву, то обязательно придёт к нам в школу и сам обо всём расскажет».
Старый друг
В тот день я из школы пошла в Ленинскую библиотеку.
Со студенческих лет я люблю особенную тишину этого высокого зала — тишину, насыщенную работой многих людей. Ровный свет заливает страницы книг, раскрытые тетради конспектов, руку, стиснувшую карандаш, замершую на полуслове в поисках самой нужной, вот-вот готовой проясниться мысли, и другую, в которой перо так и бегает по бумаге, нанизывая строку за строкой. И, оторвавшись на минуту от собственной работы, чего только не прочтёшь на этих лицах, чаще всего молодых, чуть хмурых от напряжения, с углублённым, пытливым взглядом, со сжатыми губами, на которых изредка дрогнет счастливая улыбка (это значит: я нашёл то, что искал, я прав, моя догадка верна!) или улыбка изумлённая (она означает: как это чудесно! Я и не подозревал, что такое возможно!).
Рядом со мною сидела девушка лет восемнадцати; она читала, сжав щёки ладонями. Видимо, позабыв обо всём на свете, она лишь изредка останавливалась и глубоко вздыхала. Мне хотелось заглянуть в книжку, посмотреть, что же эта девушка читает, но не удавалось: ее локоть заслонял страницы. Потом я забыла о ней и погрузилась в «Историю моего современника» Короленко. Через некоторое время я услышала, как моя соседка захлопнула книгу и откинулась на спинку стула. Я подняла голову, встретилась с ней взглядом, и она, отвечая на немой вопрос, с улыбкой сказала:
— «Сказки об Италии» Горького… Первый раз прочла!
Этого она могла бы и не добавлять — это было видно по её лицу, по глазам.
Чудесные итальянские сказки Горького, как и многие любимые книги, открыла мне Анна Ивановна. И теперь, как иногда бывает, память ухватилась за кинутую ей соломинку и оживила передо мной школу, друзей, детство.
Я шла по морозным тихим улицам и думала о том, как давно ни с кем не виделась из старых друзей. Всё моё время, все мысли заняты классом, работой. Я так поглощена этим, что, встречаясь с кем-нибудь из знакомых, ни о чём другом не говорю, да и оставаясь наедине с собой, ни о чём другом не думаю. Но тут, возвращаясь домой из читальни, я вдруг поняла, что всё время безотчётно помнила обо всех, кто был мне дорог и близок. И школу помнила так, словно только вчера в последний раз переступила её порог, и Анну Ивановну, и ребят, и Шуру Черемшанского, особенно Шуру — самого близкого, самого беспокойного друга тех лет… Вот уже около года, как я почти ничего не знаю о нём.
Открыла мне Галя:
— Марина Николаевна, а вас ждёт какой-то дяденька. Я ему говорила: «Она, наверное, в школе, давайте я вас провожу». А он говорит: «Нет, я лучше тут подожду, а то ещё разойдёмся».
На лице Гали — несказанное любопытство. Ей интересно всё новое. Знакомых моих она знает наперечёт, и теперь, конечно, её мучит вопрос: кто же этот новый человек?
— Он говорит: «Я тебя знаю, только ты тогда была совсем маленькая и не помнишь меня». Бабушка позвала его к нам. Что ему на кухне сидеть, правда?
Дверь Галиной комнаты отворяется — и на пороге…
— Черемшанский? Шура? — говорю я неуверенно.
— Черемшанский. Шура, — отвечает он.
Я хватаю его за руку и тащу к своей комнате; ключ у меня никак не попадает, куда надо, и не поворачивается. Шура отводит мою руку и отпирает дверь.
— Рассказывай, ну рассказывай скорее! Где ты был? Почему не писал? Я только что о тебе думала — и вот ты тут!
Сперва мы говорим бессвязно, то и дело перебивая друг друга и почему-то стоя. Потом, спохватившись, я усаживаю его в единственное своё кресло и снова прошу:
— Расскажи, всё подряд расскажи, с самого начала.
…Мы учились вместе с третьего до десятого класса. Мы дрались в третьем и четвёртом, а с пятого крепко подружились. Шура был очень способный: литература и математика, химия и история, музыка и рисование — всё давалось ему удивительно легко. «Особые склонности проявляет к точным и гуманитарным наукам», из года в год писали в его характеристике. Анна Ивановна всегда говорила, что побаивается этих разносторонних способностей: плохо, если человек не умеет сосредоточить свои желания и стремления на чём-нибудь одном. «Как бы дилетантом не стал — всего понемножку». Но в восьмом классе Шура заявил, что будет учителем, и стоял на этом твёрдо. «Такой способный — и учителем! — говорили многие. — Да ведь для тебя все двери открыты — с такими способностями иди куда хочешь, хоть в профессора, хоть в артисты». — «Вот и хорошо, если есть способности, — спокойно отвечал Шура. — Кому их и иметь, если не учителю».
Я думаю, это решение у него сложилось так же, как и у меня: мы очень любили Анну Ивановну. С самого детства она была для нас тем человеком, на которого хотелось походить во всём.
«Знаешь, — часто говорил Шура, — ведь всякое бывает настроение. Иной раз кажется: всё у меня плохо и никогда ничего хорошего не будет… Приду к ней, посижу немного — и ухожу так, словно всё хорошо и ничего плохого не было. Тепло около неё! Тепло и ясно. Умеет она создавать вокруг себя такой особый климат. Завидное качество — нам бы так!».
У самого Шуры характер был совсем иной. Его далеко не все любили в классе. Многим досаждал его насмешливый, острый язык; это был уже не юмор, как у Анны Ивановны, а ирония — и презлая. Но Анна Ивановна говорила: «Он у нас как черепаха — панцырь жёсткий, а внутри мягко». И это было верно. С теми, к кому Шура привязывался, с кем он дружил, он умел быть очень сердечным и братски ласковым.
Мы кончили десятый класс накануне войны. Я поехала с братом в Ленинград. Шура собирался с туристами на Кавказ. Вернувшись в Москву, мы уже не застали его. Только путь его привёл не на Кавказ, а в Горьковское артиллерийское училище и оттуда через полгода — на фронт. Он писал Анне Ивановне, и мне, и ещё некоторым нашим школьным друзьям, но письма эти становились всё реже, всё скупее, а последнее время и вовсе перестали приходить. Мы знали только, что Шура жив и находится где-то на Украине. И вот он здесь, у меня, сидит и привычно постукивает пальцами по краю моего кресла. Внешне он всё такой же: светлые волосы над высоким выпуклым лбом; серые, глубоко посаженные глаза под густыми, темнее волос, бровями смотрят пристально и насмешливо; твёрдый маленький рот трогает та же колючая усмешка. Тот же человек — и всё-таки другой, не похожий на прежнего моего школьного товарища.
Что же с ним было? Фронт. Окружение под Киевом. Полтора года в партизанском отряде на Украине. Ранение, госпиталь, снова фронт. Он не умеет или не хочет рассказывать подробности.
Я очень рада ему. С ним можно говорить о брате — он знал и любил его. С ним было связано в моей жизни столько дорогого и важного!
— Как странно, — повторяю я: — всю дорогу о тебе думала, и вот, пожалуйста, ты тут!
— А я очень часто представлял себе, как это будет. Так часто, что ничего странного уже не вижу.
— Но почему ты не писал?
— Очень хотел видеть.
— Ну, извини, это нелепое объяснение!
— Я знаю, что нелепое. Но ты поверь: так хотел видеть, что не мог писать — слова получались не те.
— Да уж я бы как-нибудь поняла, ведь не один день знакомы. Кого ни встретишь, первый вопрос: «Где Шура?» И Анна Ивановна тоже: «Напиши о Шуре, как он, что с ним?» А я сама ничего не знаю.
— Понимаешь, я очень надеялся выбраться в Москву, мне нужно было видеть и разговаривать, а писать не мог. Ты уж поверь! — повторил он. — Мне Татьяна Ивановна, пока я у неё сидел, рассказала отвоем житье-бытье. Говорит, никого не видишь, нигде не бываешь, только в школе. Сердится, говорит: «Совсем свету белого не видит с этими мальчишками!» Правда?
— Пожалуй, правда. Но посуди сам: четвёртый класс, да ещё мальчишки — это не просто.
— Завидую! — Шура встал, прошёлся из угла в угол, потом сел на ручку кресла. — Очень завидую тебе! — повторил он. — Очень хочу в школу. После фронта ещё больше, чем прежде!
По тому, как звучал глуховатый Шурин голос, как оживилось его лицо, утратив обычное насмешливое выражение, я поняла: это и есть сейчас самое главное для него. Но ведь и для меня это тоже главное.
— Знаешь, я очень огорчилась сначала, когда мне дали четвёртый класс. Показалось даже обидно: кончила институт — и вдруг в начальную школу. А теперь даже рада. Очень интересно начать с четвёртого класса.
— Ещё бы! Но знаешь, и этого, по-моему, мало. Я возьму первый класс — понимаешь, первый! — и доведу до десятого. Вот тогда с полным правом можно будет сказать: мои ученики!
— Авторское самолюбие! — засмеялась я. — Нет, нет, я понимаю, не сердись.
— Я и не думаю обижаться. Быть бы нам такими авторами, как Анна Ивановна… тогда и наши произведения, может быть, получатся не хуже. У неё ведь — говорю в данном случае о себе — не всегда был в руках благодарный материал… Я завтра же пойду к тебе, посижу у тебя на уроках. Это можно?
— Ох, лучше не надо! Я привыкла к тому, что взрослые бывают на уроках — и директор, и завуч, и методисты. Но чтоб ты или Анна Ивановна… нет, об этом я и думать не могу! При своих ещё больше неловко…
— Ну, послушай, ведь это нелепо! Приехать в Москву и не побывать у тебя на уроке — извини, это просто невозможно. Я бы тебя пустил к себе — и пущу, увидишь!
— Значит, ты не передумал?
— Я ни о чём больше не могу думать — это вернее. Меня уже приняли на заочный математический.
— Какого института?
— Киевского педагогического.
— Так ты не насовсем приехал?
— Нет, вернусь на Украину. Сейчас мне предлагают быть корреспондентом «Комсомольской правды» по Сталинской области. Это очень интересно, только не знаю, справлюсь ли. Ведь, кроме школьных сочинений да писем, я, ты знаешь, литературным творчеством не занимался. Но, как бы там ни было, буду работать и учиться. Понимаешь, в последние месяцы работал инструктором по школам в обкоме, много бывал среди ребят, среди учителей — и так не терпится притти в класс не гостем, не знакомиться, а учить! Никакими словами не скажешь, до чего интересно!
Он снова встал и начал ходить по комнате.
— Видела бы ты, что там у нас делается! Школы были почти все разрушены. Да и там, где уцелели, ничего нет, одни стены. Только название, что школа. Ни книг, ни наглядных пособий. Во многих местах ребята сами восстанавливали школы: штукатурили, красили, печи клали — всё своими руками. Какие чудесные ребята, если б ты только видела! А в одном селе была любопытная история. Там тоже сами ребята своими руками подняли школу, отстроились. Начались занятия, а они горюют: не та школа, что была прежде. До войны, понимаешь ли, они были богачи, гордость района — и кабинеты, и пособия, и библиотека солидная. А теперь пусто. Больше всего тосковали о книгах — в это время каждая печатная страничка была на вес золота. И вот в один поистине прекрасный день приходит посылка. Ни на чьё имя — просто в такую-то школу. Открывают посылку — книги! Да какие! Однотомники: Гоголь, Чехов, Белинский, Добролюбов, «Тихий Дон», «Молодая гвардия» — словом, названий двадцать, и всё самое нужное. Откуда? От кого? Ничего не известно. Месяца через два опять книжная посылка — и опять новинки, всё, что вышло в Москве за последнее время. И так весь год. Что творилось с ребятами, описать невозможно. Надышаться не могли на эти книги, гадали на все лады: кто им шлёт такие подарки? И только совсем недавно выяснилось: эту школу кончила одна девочка, которая потом поехала в Москву к родным и рассказала, как ребята восстанавливали школу и как у них плохо с книгами. А её дядя — инженер, большой любитель книг, У него прекрасная библиотека. Вот он и стал посылать им посылки. У меня к нему от ребят письмо: просили лично передать и сказать ему всякие горячие слова. Пойду к нему, повидаю.
Мы никак не могли наговориться. Шура всё ходил по комнате, пока я готовила еду; потом мы поужинали, я убрала со стола, перемыла посуду, а он снова зашагал из угла в угол и рассказывал; потом начинал расспрашивать меня и пытливо вслушивался, а потом мы наперебой вспоминали школу и всех, с кем учились, — ведь Шура почти ни о ком ничего не знал.
— Я тебя совсем заговорил! — спохватился он. — Это потому, что мы так давно не видались. Ты никуда не уезжала, всё время была в Москве?
— Всё время. Я хотела, чтобы Шура застал меня тут, если он вернётся.
— Трудно было?
— Как всем, не больше и не меньше. Дежурила на крыше, гасила зажигалки — этим тебя не удивишь.
— Удивляться я не разучился… Знаешь, одно из самых ярких моих воспоминаний за эти годы связано с Артеком.
— С Артеком? Почему?
— Видела бы ты, что сделали с лагерем фашисты!
— Я знаю, я читала. И потом, этим летом в Артеке был один мой ученик, он рассказывал.
— Он приехал уже в восстановленный лагерь, он не видел того, что мы. Ты хорошо помнишь Артек?
— Ещё бы!
— Попробуй представить его совсем пустым, мёртвым. Это дико! Двери комнат не открыты, а вышиблены, сорваны с петель. В краеведческом музее — конюшни. Помнишь парк Верхнего лагеря? Так вот, в этом парке пасли стадо. Из лечебницы выломали ванны и поили из них скотину. А пальмовую аллею в Нижнем лагере помнишь? Листья веерных пальм обломали на веники. Дворец Суук-Су подожгли. Ты говоришь — читала. А я видел.
Мне вспомнилось: после окончания седьмого класса нас — четверых из всей школы — отправили в Артек. Никогда до тех пор я не видела моря, гор, пальм, даже не подозревала, что может быть столько солнца, столько огромных, ярких цветов и такой чудесный дворец, звенящий от песен и смеха!
— В сорок четвёртом, как только освободили Ялту, в Артек съехались многие старые сотрудники, — рассказывал Шура. — Стали восстанавливать. Да что там можно было сделать голыми руками! А мы стояли неподалёку. Пришли они к нашему генералу, попросили скромно: «Выделите грузовую машину, никак сами не справляемся, войдите в положение». Большего они не ждали и не просили, хоть бы грузовик получить: они всё таскали на себе.
Генерал послушал-послушал и сказал, что сам поедет и посмотрит, как и что. Повели его по парку, показывают: в этом сожжённом дворце дети обедали, тут была пристань, здесь зажигали костёр… Потом принесли довоенный артековский альбом — сберёг кто-то. С каждой страницы смотрят весёлые ребята, улыбки во весь рот, щёки круглые… Он походил, посмотрел. «Что же вы, — говорит, — одну машину просите? Делать, так уж делать по-настоящему». Ну вот, прибыли мы восстанавливать Артек. Ремонтировали дачи, кухни, столовые. Отдельная приморская армия прислала электротехников, они восстановили электростанцию. Видела бы ты, как люди работали! С жаром, с радостью, как на празднике. А потом мы уходили на запад, а лагерь в это время готовился принимать ребят — первых ребят, понимаешь? Вот на что я бы хотел посмотреть: как ребята из Белоруссии, с Украины, из Ленинграда, из Сталинграда приехали тогда в Артек. Наверно, было хорошо…
— Я читала, как…
— Читала!.. Я хотел увидеть это своими глазами!
Кажется, я начала понимать перемену в Шуре. Прежде он очень редко, даже с ближайшими друзьями, мог говорить так горячо, так открыто. А теперь черепашьего панцыря, о котором когда-то так метко сказала Анна Ивановна, больше не было.
«А ведь он очень добрый», подумала я. Он не стал добрее, нет, он всегда был таким, но теперь он не стеснялся этого.
Знакомство
Хоть мои ребята и много старше Гали, но встретили они Шуру такими же любопытными, нетерпеливыми взглядами.
— Вы, наверно, откуда-нибудь представитель? — спросил храбрый Саша Воробейко.
— Нет, я просто пришёл с вами познакомиться, посмотреть, какие вы.
Шурин ответ дал право на новые вопросы.
— Нет, правда, вы к нам зачем? Почему с нами знакомиться? Откуда вы?
Когда они услышали, что Шура приехал из Сталино, вопросов стало ещё больше. Был ли он в селе Покровском? Видел ли ребят-подпольщиков, которые боролись с фашистами? И тайную пещеру, где был их подпольный штаб? Неужели такая большая пещера, что там можно было прятать девушек от фашистской каторги?
Шура говорил с мальчиками, как с равными, как накануне со мной. Он рассказал о покровских пионерах, об украинских школьниках, об Артеке.
— Как твоя фамилия? — вдруг спросил он Киру. — Глазков? Ну, как же, знаю, марки собираешь… А с тобой мы тёзки, тебя зовут Александр Воробейко. Верно?.. Ты, конечно, не кто иной, как Борис Левин. Правильно? — обращался он по очереди к остолбеневшим мальчуганам.
Сказать по правде, это удивило и меня. Я никак не думала, что Шура запомнит всё, о чём я ему рассказывала. Но сказалась счастливая память и с детских лет знакомая мне Шурина любовь к неожиданным выдумкам.
— Это вам Марина Николаевна про всех рассказала! — воскликнул Борис.
— Ты думаешь? А хочешь, я скажу, сколько каждому из вас лет?
— Это просто: нам почти всем по одиннадцати или двенадцати, раз мы в четвёртом классе, — возразил Толя.
— Да, ты прав. А хочешь, я отгадаю, сколько лет твоей маме?
— Хочу!
— Ну вот, держи бумагу, держи карандаш. Нет, не показывай мне, садись в сторонку. Вот так. Теперь напиши номер обуви, которую носит твоя мама. Написал? Помножь на два. Прибавь пять. Прибавил? Теперь умножь полученную сумму на пятьдесят. Помножил? А теперь прибавь к произведению 1696. А теперь вычти год маминого рождения. Сделал? Сколько у тебя получилось?
— 3634.
Шура сделал вид, будто сосредоточенно размышляет, и через минуту сказал:
— Твоей маме тридцать четыре года — верно?
— Да, — только и мог сказать ошеломлённый Толя.
Все кинулись к Толиному листку. Номер обуви Толиной мамы был 36. Толя удвоил его — вышло 72, прибавил 5 — получилось 77, умножил на 50 — получил 850, прибавил 1696 — вышло 5546. Год рождения Толиной мамы 1912, после вычитания получилось 3634; первые две цифры означали номер обуви, вторые две — возраст.
Что тут началось! Лёше захотелось, чтобы Шура отгадал возраст двух его братишек. Саша Гай пришёл в отчаяние оттого, что не знал номера дедушкиной обуви…
— И всегда будет правильно получаться? — спросил Борис.
— В этом году непременно, — подтвердил Шура. — А вот, скажем, в 1950 году придётся после умножения прибавлять не 1696, а 1700, а в 1951-м уже 1701.
Шурины слова немедля проверили — и все до одного убедились, что он может отгадать всё на свете. В самом деле, тут же оказалось, что он умеет решить любой кроссворд, ответить на загадки-шутки, которые предлагала ребятам «Пионерская правда», и найти выход из любых нарисованных там лабиринтов. Ребята быстро почувствовали себя с ним, как со старым знакомым.
Шура ещё не раз побывал у меня в классе, сидел на уроках, перемены проводил с ребятами и подробно обо всём расспрашивал.
…Он уехал на десятый день. У него всё сложилось так, как мы и думали: Шура возвращался домой корреспондентом «Комсомольской правды».
— Буду ездить, смотреть, писать, — сказал он, вернувшись в последний раз из редакции. — Интересно, правда?
Он увозил с собой внушительную посылку: ученики нашей школы собрали книги для пионеров и школьников села Покровского, и Шура обещал переправить их по назначению.
Новые друзья
Недели через две после Шуриного отъезда, развернув «Комсомольскую правду», я увидела в конце большого очерка его фамилию.
«Вот молодец, уже написал! Когда же он успел?» подумала я. Стала читать — и вдруг поняла, что речь идёт о моём классе, о моих ребятах. Я испугалась, даже огорчилась. Зачем он это сделал? Но, читая, я увидела, что он писал не обо мне, а о работе учителя, о том, как трудно и как интересно находить ключ к характерам ребят. Всё, о чём мы говорили, что так занимало меня, нашла я в этом очерке и почувствовала, что он заставит задуматься не одного молодого учителя.
Но почему же он мне ничего не сказал? Вот характер!
Фамилии учеников и некоторые подробности были изменены, номер школы не назван. Мои ребята не обратили внимания на очерк, только Гай сказал мимоходом:
— В «Комсомольской правде» статья напечатана, так там тоже про учительницу Марину Николаевну.
Недели через две, встретив меня в коридоре, Анатолий Дмитриевич попросил зайти к нему на минутку и, достав из ящика своего стола большую пачку писем, подал мне со словами:
— Вот, получите. Это вам.
— Мне? Откуда?
— Переслали из «Комсомольской правды». Там в редакцию стали приходить письма на ваше имя после того очерка, помните? Откуда только не пишут! Взгляните: из Архангельска, Киева, Свердловска, Риги. А вот из Москвы несколько. Обширная почта, а?
И правда, я стала получать письма от совершенно незнакомых людей, из городов, где мне никогда в жизни не приходилось бывать, подчас из таких далёких, глухих уголков, что я не могла отыскать их на карте. Писали люди самых разных возрастов и профессий, и я неожиданно увидела, что для всех них работа школы и воспитание ребят — близкое, родное дело.
Меня подробно, с живым и сердечным участием расспрашивали о дальнейшей судьбе ребят, которые упоминались в очерке, давали советы, просили написать. И хотя отвечать на эти письма было делом нелёгким, от них стало как-то очень тепло на душе, и чувство большой благодарности не оставляло меня: так важно, так радостно узнавать, что работа твоя близка и интересна многим и многим людям!
Среди писем, полученных мною в то время, было одно с дальнего Севера. Это письмо повлекло за собой много других писем и событий, и потому я перепишу его целиком:
«Здравствуйте, Марина Николаевна!
Вам покажется странным получить письмо от незнакомого человека. Прошу вас: не огорчайтесь и простите меня за беспокойство.
Вам пишет моряк с Северною флота. Сегодня на корабль принесли газету «Комсомольская правда», и в ней я прочёл статью про ваш класс. В этой статье подробно рассказывается, как вы воспитываете своих учеников и как интересна работа учителя.
И вот мне невольно захотелось написать вам и поделиться мнением.
Вы знаете, Марина Николаевна, я тоже был таким же, как один ваш ученик. Я всё так же делал наоборот, я старался огорчить, обидеть, оскорбить учителя. Я даже не понимаю сейчас, зачем я это делал! Во мне просто жил какой-то упрямый дух.
Мне вспоминается случай из моей школьной жизни. Я учился в пятом классе. Украинский язык преподавала нам молодая учительница, очевидно только что окончившая педагогический институт, — Тамара Ивановна. И я, вместо того чтобы слушать её уроки, ходил по классу, задирал девочек и мальчиков, кричал, смеялся и считал себя героем. Я всё это очень хорошо помню, хотя мне уже двадцать три года и детство позади.
И вот, надо вам сказать, что в моей жизни сыграл большую роль классный руководитель Иван Петрович Усик. Я ему очень многим обязан. Он научил меня уважать людей, показал мне, что я не герой, а грубиян и хулиган, он сделал так, что мне стало стыдно. И мне кажется, что вы воспитываете своих ребят так же, как меня воспитывал Иван Петрович. Желаю вам успеха, Марина Николаевна! Если вам не трудно будет, напишите мне, как сейчас учатся ваши ученики. Пожалуйста, не откажите в этом: мне очень это интересно. Передайте им привет и скажите, чтоб они были отличниками в ученье. Мне очень хочется знать, как они живут и учатся. Мне кажется, что они мои младшие братья.
Желаю вам успеха.
Нехода Анатолий Александрович».За минуту до конца урока я сказала ребятам, что получила письмо с Долгой Губы, и передала им привет от незнакомого североморца. Мальчики столпились вокруг моего стола; несмотря на сердитые уговоры дежурного, никто не выходил из класса — всем хотелось поскорее узнать, что за моряк, воевал ли он, давно ли на Севере. Так и застала нас Елена Сергеевна, преподавательница рисования, в непроветренном и неубранном классе. Я извинилась перед нею, ребята расселись по местам, и я отправилась в учительскую проверять тетради.
Когда уроки кончились, у дверей учительской собралась добрая половина моего класса.
— Марина Николаевна, — услышала я, не успев переступить порог, — мы решили написать тому моряку на Север — можно?
— Конечно, можно. Адрес у меня есть.
— Только, знаете, мы просили Лёву, чтобы он написал, а мы все подпишемся. А он говорит: «И не подумаю, пишите сами…» Вы ему скажите!
— Что же я ему скажу? Он совершенно прав. Разве вы первоклассники, сами не можете написать? Садитесь и пишите.
— Мари-и-на Николаевна! — жалобно протянул Боря Левин.
— Да что вы, ребята? Почему Лёва должен писать за вас?
— Так вот Лабутин написал на прошлой перемене, а все говорят — плохо…
— Дайте-ка, я прочту.
На листке, который нерешительно протянул мне Лабутин, стояло вот что:
«Дорогой тов. Нехода! Мы, ученики IV класса «В», шлём вам привет из красной столицы. Мы благодарим вас за привет и просим написать побольше о вашей жизни, а мы обязуемся учиться отлично».
— А тебе самому это нравится? — спросила я.
— Нет, — честно признался Лабутин.
— А почему не нравится?
Наступило молчание.
— Из него ничего не поймёшь, — подумав, сказал Горюнов. — Как будто это и не от нас.
— Совершенно верно. Анатолий Александрович прочтёт и ничего о вас не узнает и не поймёт, что вы хотите знать о нём. Напишите простое и понятное письмо о том, как вы живёте, что делаете.
Ребята снова отправились в класс и принялись всей гурьбой сочинять письмо.
Оно было написано — большое, подробное — обо всех школьных делах; о том, как класс завоевал первенство по волейболу, как наши мастера готовятся к шахматному турниру…
«Видели вы метро? — спрашивали ребята. — Если не видели, то сообщите. Мы вам всё опишем и нарисуем, у нас некоторые хорошо умеют рисовать. Мы вас просим: расскажите, какая природа на Севере. Видели ли вы северное сияние? Воевали или нет? Опишите самое интересное, что с вами было на войне. И напишите, как быть тем ребятам, которые тоже хотят стать моряками. Один наш ученик, Воробейко Александр, хочет стать моряком, только не на Севере, а на Чёрном море».
В заключение ребята слали Анатолию Александровичу Неходе «привет и наилучшие пожелания в вашей морской службе».
Писал Гай, раскрасневшийся и вспотевший от желания выполнить свою миссию как можно лучше, остальные подсказывали ему, причём Саша молча, решительным движением руки отметал то, что казалось ему неподходящим.
Я в это время сидела на задней парте, проверяя тетради. Изредка ребята обращались ко мне за консультацией: «Марина Николаевна, как писать «сообщите»: два «о» или одно?»; «Марина Николаевна, а ему интересно будет про нашу выставку?» Потом Саша дал мне прочитать густо исписанные три странички, я исправила ошибки (без них не обошлось), и письмо вручили Чеснокову, обладателю самого каллиграфического почерка во всём классе. Ребята хотели, чтобы он тут же принялся переписывать, но я запротестовала: пора было расходиться по домам.
Наутро Чесноков принёс безукоризненно переписанное письмо, и после уроков мы опять чуть не всем классом дошли до угла переулка, где письмо и было торжественно опущено в почтовый ящик.
Ребята стали ждать ответа, хотя ясно было, что письма из тех краёв доходят не скоро.
Утром, встречая меня, обязательно спрашивали, не пришёл ли ответ.
— Да что вы, ребята! Посудите сами, разве это возможно?
Но ребята не хотели принимать в расчёт ни расстояние, отделявшее нас от Долгой Губы, ни то простое обстоятельство, что у моряка Неходы могут быть и другие дела, кроме переписки с незнакомыми московскими мальчиками. А если в какое-нибудь утро меня никто не спрашивал вслух, то вопрос так ясно читался во взглядах, когда я входила в класс, что я сразу же сама говорила:
— Письма пока нет.
Письмо
Но оно пришло наконец — пухлое, увесистое письмо с тремя большими разноцветными марками на конверте, и я в тот же день прочитала его вслух. Должна сказать, что я не могла пожаловаться на невнимательность слушателей: в классе стояла образцовая тишина, только посапывал от великой сосредоточенности Володя Румянцев, и каждый раз, переворачивая страницу, я видела перед собой его совершенно круглые глаза.
Незнакомый человек, моряк с далёкого Северного флота, писал так:
«Дорогие, милые мои ребята!
От всего сердца благодарю вас за то, что вы написали мне, я был очень рад вашему письму. Поэтому, не теряя ни минуты, спешу дать ответ, чтобы не остаться перед вами в долгу.
Когда читал ваше письмо, то невольно вспомнил детство, и захотелось опять стать мальчиком, учиться в школе и играть в футбол.
Время сейчас 23 часа 20 минут, на улице тепло — всего пять градусов мороза. Ночь светлая. На небе полярное сияние. Если бы вы только видели, какая это красота! Воздух чистый и сладкий, как после дождя. Дышишь и не надышишься, смотришь и не насмотришься — так хорошо!
Мне кажется, нет прекраснее Севера. И, по-моему, Александр Воробейко (не знаю, Шура он или Саша) неправ, что не хочет служить на Северном флоте. Если он хочет быть истинным моряком, то он обязательно должен пойти служить на Север. Потому что Север воспитывает волевые качества настоящего моряка, который не боится ни шторма, ни туманов, ни снежных метелей. А моряк, вы сами знаете, должен быть вынослив, смел и отважен. Ведь недаром говорят о моряках: «Сказать, что моряк храбр, смел, вынослив, — это всё равно что сказать: у человека две ноги и две руки». Поэтому Саша должен итти на Северный флот.
Я, например, так привык к Северу, что и помыслить не могу, как это я стану служить в другом месте. Помню, в начале 1945 года я приехал в Германию для выполнения одного задания. Пробыв там немного, я думал, что не дождусь дня, когда снова вернусь к скалистым берегам родного Баренцева моря. И когда я покинул порт Свинемюнде и шёл вокруг Скандинавского полуострова к себе на Север, я словно скинул с себя груз в сто кило.
Вот что значит любовь к Северу! Нет, если Саша решил стать моряком, то я снова говорю ему: только на Север! Но прежде чем стать моряком, нужно хорошо учиться. Море не любит безграмотных, нерадивых, несмелых людей — это вы и сами, наверно, знаете.
Я сегодня заступил на вахту — дежурным рулевым, так что ночью уж наверняка не удастся поспать. И я всё время думаю про вас, ребята. Вы просите описать боевые эпизоды. Вот, слушайте.
Дело было в летнюю кампанию 1944 года. Гитлеровцы особенно огрызались здесь, на Севере. Мой корабль вместе с другими должен был итти к проливу Бориса Вилькицкого, около мыса Челюскина, и ждать там транспорты, которые шли из Владивостока в Архангельск (найдите на карте пролив Б. Вилькицкого, мыс Челюскин, города Архангельск и Владивосток, и вы увидите, где я был тогда и какое у нас было задание). Прождав их трое суток, мы тронулись в путь. Шли четыре транспорта. Всё шло хорошо. Уже прошли добрую половину пути, и вдруг акустик (человек, который прослушивает подводные лодки, ловит их на слух по приборам) кричит: «Контакт!» Сыграли боевую тревогу. Я стоял у штурвала. Оказывается, вражеская подводная лодка хотела потопить один наш транспорт, который шёл с ценным грузом. Когда все были на местах, по боевой тревоге начали топить лодку. Но не так-то легко утопить под водой врага. Акустик только докладывает: «Лодка идёт на норд-ост». Мне командир передаёт: «Держать норд-ост». Это значит: я должен был кораблём управлять и поставить его нос на норд-ост, то есть на северо-восток. Я держал точно. Через несколько минут послышалась команда: «Бомбы товсь!», «Бомбы за борт!» — и здесь мы начали утюжить врага глубинными бомбами. Через 15–20 минут из-под воды всплыли ящик, спасательный пояс, и на поверхности появилось масляное пятно. Стало ясно, что лодка потоплена.
Весь остальной караван ушёл вперёд, остался только наш корабль. Не успели мы ещё вытереть пот, как из-за горизонта показался самолёт. Он быстро приближался к нам, а мы ещё скорее приготовили ему гостинец. Он сделал заход, и хотел пикировать, но очередь пулемёта прошила его. В этом бою я был ранен в ногу, но с поста не ушёл и до конца управлял кораблём.
Вы спросите, откуда взялся самолёт. Отвечу: фашистская подводная лодка успела вызвать по радио самолёт. Но получилось так, что и самолёт ушёл туда же, куда и лодка, — на дно моря. Впоследствии оказалось, что эта лодка океанская, больше ста метров длиной. От наших бомб она зарылась носом в песок. Вот и всё.
В Архангельск мы прибыли благополучно, и сразу же был устроен товарищеский ужин, и за то, что потопили врага, нам, по морскому закону, дали жареного поросёнка. Такая у моряков традиция.
В следующем письме расскажу, как наш корабль два раза был торпедирован, но только с тем уговором, что ваше письмо будет втрое длиннее, чем первое, хорошо?
Привет вам от моих друзей и товарищей — моряков. Все они желают вам наилучших успехов в вашей жизни.
Пока до свиданья. Жду с нетерпением ответа.
Ваш друг Анатолий Нехода».Надо ли говорить, что он был написан немедленно, этот ответ, и действительно оказался раза в три больше предыдущего письма. Надо ли говорить, что Саша Воробейко тут же решил стать самым настоящим северным моряком, да и остальные ребята чуть ли не поголовно собрались изучать Север, ехать на Север, плавать на Севере. Саша был ужасно польщён тем, что чуть ли не половина письма посвящена ему, и, кроме общего ответного письма, на Долгую Губу пошло ещё одно — лично от Александра Васильевича Воробейко. Он так и подписался полностью: именем, отчеством и фамилией.
Анатолий Александрович стал часто писать. Он не только отвечал на письма ребят, но иногда писал не в очередь. Как-то ребята упомянули, что они послали книги в село Покровское. В следующем письме Неходы мы прочли такие строки:
«Покровское я знаю. Я сам с Украины. У меня в тех местах жили отец с матерью, два брата и сестра. Гитлеровцы наше село сожгли, и все мои родные погибли. Я остался один из всей семьи».
— Тут не знаешь, что и отвечать, — тихо сказал Гай, когда Лёва закончил чтение.
Помнится, они ни словом не коснулись этого в ответном письме, но, мне казалось, они почувствовали: эта переписка нужна не только им, а и Анатолию Александровичу.
Писали ребята по очереди, потом прочитывали письмо в классе и с общего одобрения посылали. Но как-то, когда Борис сказал: «Я ответил Анатолию Александровичу, прочитать?» — Рябинин суховато отозвался:
— Что ж сегодня посылать? Сегодня за диктант пять двоек. А на рисовании тебя выгнали из класса — об этом как, тоже написал?
Да, писать об этом было неловко, и Борис сконфуженно спрятал листок.
Нехода обычно спрашивал о делах и успехах то одного, то другого. Выбрав наугад одну из фамилий (под первым письмом подписались все), он просил сообщить: как учится этот мальчик? Какой предмет больше всего любит? С кем дружит? Каким спортом увлекается? Довольна ли им я, учительница? Так он познакомился со многими. В день, когда кто-нибудь получал плохую отметку, ребята не писали на Север: им хотелось посылать туда только хорошие вести. И тот, кто получил двойку, чувствовал, что подвёл класс, лишил всех удовольствия во-время ответить другу. Мы стали богаче радостью, новая дружба стала неотъемлемой частью нашей жизни.
Восьмое марта
Так незаметно подошёл март. По утрам бывало ещё морозно и воздух пощипывал ноздри, но небо уже голубело по-весеннему, и облака по нему плыли лёгкие и прозрачные. А восьмого марта на углу нашего переулка появилась цветочница с лотком; на нём весело желтели первые мимозы, и яркие шарики её были такие пушистые, будто на ветке сидели не цветы, а крошечные, только что вылупившиеся цыплята.
Я вошла в класс и опешила: на моём столе стоял огромный букет мимозы, а перед, ним большая металлическая чернильница, толстая общая тетрадь в красивом темносинем переплёте и коробка шоколада.
Ребята стояли торжественные, праздничные и во все глаза смотрели на меня. Возле чернильницы лежала длинная полоска плотной белой бумаги, и на ней три строчки, выведенные кем-то так старательно, что я даже не могла узнать почерк.
Дорогой Марине Николаевне
в Международный женский праздник
от её учеников
— прочла я.
Что было делать? Я не знала, да и сейчас не знаю, хорошо это или нехорошо — принимать от учеников подарки. Помню, когда мы были школьниками, мы дарили от всей души и, конечно, обиделись бы, если бы наш подарок отвергли. Но тут я стояла в замешательстве, не зная, как быть.
— Большое спасибо, — сказала я наконец. — Но, честное слово, ребята, для меня было бы самым лучшим подарком, если бы сегодняшний диктант вы написали без ошибок.
— Ну, так я и знал, так и знал, что вы так скажете! — воскликнул Боря, к в голосе его звучали разом торжество и возмущение.
— А сейчас мы вот что сделаем, — продолжала я, раскрывая коробку: — давайте праздновать Женский день. Ну-ка, Толя, угощайся!
Горюнов даже руки спрятал за спину, плотно сжал губы и замотал головой.
— Нет, нет, нельзя отказываться, когда угощают. Скорей бери, мне ведь надо всех угостить, — настаивала я. (Толя беспомощно оглянулся и нерешительно взял конфету.) — Теперь ты, Саша. Бери, бери!.. Теперь ты, Лёша, Боря, Володя, — говорила я, проходя по рядам.
Неудовольствие и растерянность на лицах ребят постепенно сменялись улыбкой, и когда я снова вернулась к своему столу (к счастью, хватило всем, и мне в том числе), коробка была пуста.
— А с тетрадкой знаете что сделаем? — сказала я. — Давайте будем писать в ней о новых интересных книжках, которые мы прочли.
— Как писать — всем вместе? — с недоумением переспросил Ильинский.
— Нет, по очереди. Прочитал интересную книгу — возьми у Лёши из шкафа тетрадь и запиши. А другие посмотрят и тоже захотят почитать эту книжку.
— А что писать-то?
— Вот сейчас обсудим. Я уже давно об этом думала. Писать будем так (я взяла мел и стала записывать на доске, ребята взялись за тетрадки): во-первых, конечно, автор; во-вторых, название…
— И краткое содержание? — подхватил Саша Гай.
— Нет уж, — возразил Борис, — тогда неинтересно будет читать. Если я знаю, чем кончается, зачем же я эту книгу возьму?
— Давайте так: имя автора, название книжки и то место, которое больше всего понравилось, — предложила я.
— Вот верно: самое интересное место, чтобы сразу было видно, что за книжка, — поддержал Боря.
— Что же это выходит: всё общее, а вам ничего не подарили? — сердито сказал Саша Воробейко.
— А цветы? — сказала я.
— И чернильница, — добавил Рябинин. — Знаете, её отец Ильинского сделал на заводе. Это вам!
— Мне? — сказала я. — Вот и чудесно! Чернильница и будет украшать мой стол в нашем классе.
Что правда, то правда: диктант в тот день не состоялся. И это плохо, конечно.
Общая тетрадь
Читать ребята очень любили, и мы много читали вместе, оставаясь после уроков. Заведующая нашей школьной библиотекой Вера Александровна не раз шутливо пеняла мне при встрече: «У меня из-за вас всегда много хлопот. Кто-кто, а я лучше всех знаю, о чём вы говорите со своими ребятами. В первую же перемену они сразу ко мне: подавай им сейчас же ту самую книжку, про которую Марина Николаевна сказала!»
Иногда я коротко рассказывала интересный случай из книги, которую они ещё не читали: «А дальше что было? А до этого что?» сыпались вопросы. «Отыщите книгу — и узнаете», неумолимо отвечала я. Или бывало я начинала рассказывать содержание книги и затем, остановившись на самом интересном месте, говорила: «А дальше вы сами прочтёте!»
В таких случаях Боря Левин просто выходил из себя. Стремительный и нетерпеливый, он близко принимал к сердцу судьбу героев и потому не выносил неизвестности.
— Вы только скажите, хороший конец или плохой? — допытывался он.
Ребята присоединялись к нему и начинали умолять хором:
— Ну, Марина Николаевна, ну, пожалуйста! Вы только скажите, плохой конец или хороший?
Но я оставалась непреклонна. Книжку, знакомство с которой начиналось с такой вот загадки, ребята доставали непременно, хоть со дна моря, а добывали — так хотелось им прочитать самим, узнать до конца то, о чём я рассказывала.
И общая тетрадь в темносинем переплёте стала играть в нашей жизни большую роль.
Сначала было немало забавного. Так, если верить записи Вити Ильинского, автором «Путешествия Гулливера» был некто Свист. А Саша Воробейко, прочитав ненецкую сказку «Кукушка» — о матери, которая обратилась в кукушку и улетела от бессердечных детей, — добросовестно переписал её в тетрадь всю, от первого до последнего слова. Мы с удовольствием прочли эту умную и печальную сказку, но всё-таки растолковали Саше, что так не годится: надо не всё подряд переписывать, а только то место, которое больше всего понравилось.
— А если мне всё понравилось? — резонно возразил Саша.
— Так ты, может, и «Детей капитана Гранта» целиком перепишешь? — сказал Горюнов.
— Надо посидеть, сообразить и выбрать, — поддержала я Толю, а про себя подумала, что и впрямь трудно выбрать из этой сказки какое-то одно место — такая она тонкая, хрупкая и вместе с тем цельная, словно изумительная работа северных художников — резчиков по кости.
Понемногу ребята научились выбирать из прочитанной книги по небольшому выразительному отрывку, и я всегда с острым интересом читала эти выписки.
Горюнов выписал из «Голубой чашки» Гайдара такое место:
«— Ну что?! — забирая с собой сонного котёнка, спросила меня хитрая Светланка. — А разве теперь у нас жизнь плохая?
Поднялись и мы.
Золотая луна сияла над нашим садом.
Прогремел на север далёкий поезд.
Прогудел и скрылся в тучах полуночный лётчик.
А жизнь, товарищи… была совсем хорошая!»
А Гай из «Тимура и его команды» выписал вот что:
«— Будь спокоен! — отряхиваясь от раздумья, сказала Тимуру Ольга. — Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же.
Тимур поднял голову.
Ах, и тут, и тут не мог он ответить иначе, этот простой и милый мальчишка!
Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал:
— Я стою… я смотрю. Всем хорошо! Все спокойны. Значит, и я спокоен тоже».
Сквозь эти строки и слова я вдруг начинала видеть что-то внутреннее, сокровенное и в самих ребятах. По тому, что они выбирали в книге, нередко можно было судить об их мыслях, о том, что же их занимает. К тому же бесстрастная форма выписок и цитат постепенно перестала удовлетворять мальчиков. Как-то сам собой в записях появился ещё один, четвёртый пункт, который можно было бы, пожалуй, назвать: «Как я отношусь к этой книге».
Сначала писали лаконично: «Очень хорошая книга. Читал бы и перечитывал без конца». Или, «Книга замечательная! Читал её пять раз!»
Понемногу эти отзывы становились более подробными и обоснованными.
«Мне очень жалко, — писал Горюнов о повести «Девочка ищет отца», — что все мучения Коли и Лены оказались напрасными. По-моему, писатель неправильно заставил их зря мучиться».
И я подумала, что замечание Толи очень верно: книга оставляет именно такое чувство горестного недоумения. Оказывается, Лена и Коля, сами того не зная, бежали от друга, и все усилия Коли спасти девочку, оберечь её от опасности были просто-напросто не нужны. Зачем же это? Можно принять и оправдать любое страдание, любую жертву, если они необходимы и осмысленны, если они во имя большой и справедливой цели. Но если препятствия выдуманы и преодоление их неистинно, если события в книге нанизываются одно на другое просто ради занимательности, это очень плохо и ничему хорошему не может научить.
Одни читали больше и записывали чаще, другие — реже, но никто не остался в стороне от синей тетрадки.
Можно ли было, к примеру, не прочитать книжку, увидев, что написал о ней Боря Левин! Он обычно выражался коротко и крайне энергично: «Прочитал «Четвёртую высоту». Мне очень понравилось, какая мужественная и бесстрашная была Гуля Королёва. Она ничего не боялась!» Или: «Прочитал про жизнь и приключения Амундсена. Начал по утрам обливаться холодной водой».
Этот мальчуган всё стремился сейчас же претворить в жизнь. Каждое слово из книги принимал как руководство к действию. Да и не он один. Когда Горюнов после продолжительной болезни пришёл в класс, стало ясно, что он сильно отстал по английскому.
— Хочешь, я поговорю с кем-нибудь из старшеклассников, чтобы тебе помогли догнать? — спросила я.
— Нет, спасибо, — ответил Толя. — Я сам.
— Но тебе будет трудно, класс уже далеко ушёл… Мы попросим Лёву, и он…
— Нет, не надо. Я сам, — вежливо, но твёрдо повторил Толя и, заметив, что я удивилась, объяснил: — Когда Гуля Королёва отстала по географии, она же сама догоняла и отказалась от помощи, помните?
Экзамены
Ещё в январе поселилось в нашем классе новое слово: экзамены. Шутка сказать — первые экзамены! С представителями из отдела народного образования! С ассистентами! Кажется, я волновалась гораздо больше, чем ребята. Иногда мне снилось: Анатолий Дмитриевич распечатывает конверт, вынимает текст диктанта или изложения, я прочитываю его — и вижу, что моим ребятам ни за что, ни за какие блага мира с этой работой не справиться: правила, которым я их не учила, слова, которые и мне-то самой незнакомы… Это было очень неприятное ощущение, и я начала побаиваться, как бы не пришлось испытать его наяву.
Ближе к весне пришли в школу тексты экзаменационных билетов. Мы накинулись на них с жадностью, читали, перечитывали, прикидывали на все лады. По силам ли это ребятам? Справятся ли они?
Понемногу успокоились. Мать Киры отпечатала тексты билетов по арифметике и по русскому языку на машинке, так что каждый получил по экземпляру.
Многие занимались вместе. Я знала, что Горюнов, Гай и Левин собираются дома у Саши и повторяют билет за билетом, а иногда Горюнов вместе с Сашей Воробейко приходит заниматься к Румянцеву. Ильинский занимался с Селивановым, Выручка — с Глазковым.
Всё-таки я по-настоящему волновалась. А они, по-моему, волновались больше для порядка: так уж полагается, так принято — бояться экзаменов; они слышали об этом уже четыре года подряд и даже раньше от старших. «Что вы там понимаете! — пренебрежительно говорила Боре Левину его сестра, курносая и голубоглазая пятиклассница из соседней женской школы. И заканчивала многозначительно: — Вот погоди, будут у тебя экзамены, тогда узнаешь…»
Наслушавшись таких речей, Боря пришёл ко мне:
— Марина Николаевна, а это правда страшно? Вы нам расскажите, какие экзамены были в старой школе.
Вот, оказывается, существом какого почтенного возраста была я в представлении моих ребят: Боря, кажется, всерьёз предположил, что я живой свидетель и участник экзаменов в царской гимназии!
Мы писали изложения, разбирали ошибки, и я, радуясь и боясь верить себе, от раза к разу убеждалась, что язык у ребят стал лучше, свободнее, и ошибок они делают гораздо меньше, чем прежде. Но ведь известно: одно дело — изложение, написанное в обычной обстановке, и совсем другое — контрольная работа на экзамене. Нет, я никак не могла чувствовать себя спокойно.
Накануне первого экзамена мы украсили класс, купили цветов — на моём столе и на всех окнах лиловели кисти сирени, и самый воздух в классе стал душистый.
— Не завянет до завтра? — волновались ребята. — А в чём приходить? В белых рубашках и в галстуках? Ох, а вдруг мне мама белую рубашку не выгладила!
— А я уже всё себе выгладил, — сообщил Гай.
Всё это походило на подготовку к празднику. Только недавно, перед майскими днями, у нас тоже было много торжественных и шумных приготовлений. Но теперь то на одном, то на другом лице проступало порою новое, пытливое и серьёзное выражение, словно мальчуган прислушивался к себе, спрашивая, как спросил меня Левин: «А это правда страшно? Как-то я завтра? Справлюсь ли?»
И на этот раз, как в первый день занятий, я поднялась ни свет ни заря, торопливо оделась, умылась и вышла на улицу.
Двадцатое мая. Это день моего рождения. Двадцать три года — не так уж мало: вдвое больше, чем почти любому из моих мальчишек, — и первые в моей жизни экзамены.
Да, именно это и есть мои первые экзамены. Всё, что было прежде — выпускные экзамены в школе, когда я кончала десятый класс, и даже государственные экзамены по окончании института, — всё это сравнить нельзя с тем, что я испытываю сейчас. Именно сегодня я буду держать настоящий экзамен и за все прошлые годы — за школу, за институт…
Моя улица совсем ещё прохладная, тихая. Справа, из-за решётчатой ограды соседнего двора, протягиваются ветви, густо унизанные яркой, свежей зеленью: ночью шёл дождь, и знакомая старая липа, что-то запоздавшая в этом году, торопилась присоединиться ко всему зелёному, что уже несколько дней наполняло окрестные сады и бульвары.
Передо мною шла женщина с девочкой лет двенадцати. У девочки над воротником, между двумя туго заплетёнными косичками, неожиданно и забавно торчал кверху красный уголок галстука: должно быть, ужасно спешила, надевая пальто.
— Помни, Лена, приставки «из, воз, низ, раз, без, чрез» пишутся так, как слышатся. Не забудешь?
«Тоже в четвёртом классе», подумалось мне.
А на школьном дворе было шумно и людно, как в большую перемену. В такие дни, видно, никому не спится. Я быстро отыскала своих; они были такие оживлённые, нарядные, словно и в самом деле пришли на праздник. И Лёва был среди них, а не со своими девятиклассниками, хотя, право же, у него в этот день могли быть свои заботы и волнения. А впрочем, что ему волноваться! В девятом классе первый экзамен — по географии, и, судя по тому, каким хозяйским шагом иной раз отправлялся Лёва с нашими ребятами на сборах в любую точку географической карты (ещё с зимы он завёл такую игру в путешествия), можно было не слишком о нём беспокоиться.
— Здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! — несётся мне навстречу.
— Здравствуйте, и поздравьте меня, — говорю я: — сегодня день моего рождения.
— А сколько вам лет? — сразу деловито осведомляется Воробейко среди весёлого хора поздравлений.
— На год меньше, чем прежде, — шучу я.
— Как так?! Почему?
— Ну как же: было у тебя пять рублей, рубль ты истратил — сколько у тебя остаётся? На рубль меньше. Я прожила ещё год — значит, осталось у меня на год меньше, — серьёзно объясняю я, пробираясь сквозь толпу к дверям.
Мне хочется скорее попасть в школу. Может быть, скоро уже распечатают конверты с текстами изложений. Ребята провожают меня, смеясь и поздравляя.
И вот я в коридоре и сразу же сталкиваюсь с Анатолием Дмитриевичем.
— Скорее, — зовёт он, — надо итти в кабинет к Людмиле Филипповне, сейчас будем распечатывать конверты.
Людмила Филипповна открывает свой шкаф и вынимает пакет. Тут не одна я, тут все учителя, и, кажется, все мы, молодые и старые, опытные и начинающие, с одинаковым чувством, затаив дыхание, смотрим, как она ломает печать на конверте. Со стороны в эту минуту мы, должно быть, мало отличаемся от наших охваченных предэкзаменационным волнением учеников.
…Наконец-то текст изложения у меня! Я пытаюсь прочесть его и сначала попросту ничего не вижу.
— Полно, полно, — слышу я ласковый голос Натальи Андреевны. — Очень хороший рассказ, ребята с ним прекрасно справятся. Вот увидите — именинницей будете. Я ведь знаю, как ваши ребята пишут.
Звенит звонок, ребята гуськом поднимаются к нам на четвёртый этаж. Потом в необычайной тишине, не спуская с меня глаз, они рассаживаются по местам и застывают в ожидании.
И я читаю им рассказ «Лесенка» — о лётчике Трусове, который спас жизнь своим товарищам.
Борис начинает писать сейчас же, едва я успеваю дочитать последнее слово. Горюнов сосредоточенно смотрит на лежащий перед ним листок бумаги с печатью и, видно, обдумывает первую фразу. Савенков смотрит на меня и, только поймав мой ответный взгляд и улыбку, склоняется над листком.
Проходит минута, другая, и вот пишут все. В классе очень тихо, только скрипят перья да изредка кто-нибудь глубоко вздохнёт. Головы низко склонились над партами, перья скользят по бумаге. А за широко распахнутыми окнами шумно ссорятся воробьи и где-то отчаянно звенит трамвай. Но для ребят внешний мир со всеми своими красками и звуками словно отступил куда-то, выключился на время из сознания — они погружены в работу. Я смотрю на них. Год назад я даже не знала об их существовании. А сейчас каждый из них дорог мне и каждому я от всего сердца желаю удачи.
Минут за десять до срока ребята начинают сдавать первые работы, и когда раздаётся звонок, все сорок листков уже лежат у меня на столе. Ребята толпятся вокруг, я гоню их. Знали бы они, как мне не терпится поскорее прочитать то, что они написали!
— До завтра, до завтра, — говорю я. — Завтра в шесть часов консультация, а послезавтра…
— Устный русский! — подхватывают они хором.
…Они хорошо написали, мои ребята: так просто и непосредственно, словно герой рассказа — их добрый знакомый. Вот передо мною листок Володи Румянцева: «Раз капитан решил: «Самолёт у меня высокий, влезть в него трудно. А вдруг надо будет товарища спасти, как же тогда? Сделаю я верёвочную лестницу». Задумано — сделано. Сплёл себе лётчик Трусов верёвочную лестницу, и она ему потом очень пригодилась».
Дальше Володя описал, как именно это случилось, и закончил словами: «Так капитан Трусов выполнил закон наших воинов: никогда не оставлять попавших в беду товарищей».
А Серёжа Селиванов сделал под своей работой приписку: «Так поступил и мой старший брат». Понимая, что это уже не имеет прямого отношения к экзаменационной работе, он приписал это внизу листка, отступив на несколько строк. Но совсем не сказать о брате он просто не мог: слишком близка к его собственной жизни оказалась живая правда прочитанного.
Часа через три я выхожу на улицу.
День какой чудесный! Какое солнце! Небо какое синее! Даже и не помню, когда в день моего рождения было столько солнца.
Навстречу идут двое молодых людей.
— Какую тему писала? — говорит один из них.
Я смотрю на него с недоумением.
— Вы из десятого класса? — догадывается спросить другой.
— Мне сегодня исполнилось двадцать три года, я учительница, — говорю я, окинув их уничтожающим взглядом.
И только потом, когда уже перестаю слышать за спиной сконфуженные и весёлые извинения, соображаю, что обижаться, пожалуй, не стоило.
…Через день был устный экзамен по русскому языку. Ассистировал сам Анатолий Дмитриевич. Он никого не пропустил, всем задал дополнительные вопросы. Внимательно выслушав, как Савенков ответил на вопросы билета, он сказал:
— Теперь напиши-ка на доске: «Чижа захлопнула злодейка-западня»… так… и разбери по частям речи.
Я ждала, чувствуя внутри неприятный холодок: я-то знала, какой тут кроется подводный камень.
— «Чижа» — существительное, одушевлённое, нарицательное, мужского рода, единственного числа, а падежа… (наступило молчание, и тут я с облегчением даже не услышала, а догадалась по движению губ, что Николай шепчет про себя: «Чижиху…») …винительного падежа! — закончил он с торжеством.
— А не родительного? — спросил Анатолий Дмитриевич.
— Ну, что вы! — воскликнул Коля. — А вы подставьте существительное женского рода, и сразу будет видно!
Анатолий Дмитриевич улыбнулся и отпустил Колю на место.
…На экзаменах по арифметике произошло одно недоразумение.
— В каком году мы живём? — спросила у Саши Гая мой ассистент Лидия Игнатьевна, после того как он быстро и точно решил задачу.
— В тысяча девятьсот сорок шестом.
— Сколько полных столетий?
— Девятнадцать.
— А в каком веке мы живём?
И тут Саша поразил всех:
— Мы живём в двадцать первом веке, — сказал он.
И, как это иногда бывает, от смущения, охватившего его, он никак не мог понять ошибки и стоял на своём:
— У нас теперь двадцать первый век…
— «И жить торопится, и чувствовать спешит», — продекламировала Лидия Игнатьевна.
Три человека в классе получили похвальные грамоты. Их так хвалили и приветствовали, что я стала побаиваться, не закружится ли у них голова. За Толю Горюнова беспокоиться было нечего, за Бориса тоже — этот, пожалуй, слишком легкомыслен для того, чтобы быть по-настоящему честолюбивым. Но Морозов просто раздулся от гордости, от удовольствия, от счастья. Он подолгу простаивал у стенной газеты, где упоминалось его имя, и у витрины, где среди отличников школы красовался его портрет.
Но у всех без исключения настроение было самое радостное, летнее, бездумное. Лето впереди — долгий солнечный праздник! Позади — хороший, хотя и нелёгкий год. А может быть, потому и хороший, что трудный!
II. Пятый «В»
На Волге
Ещё до того как начались летние каникулы, я знала, что буду скучать без ребят. Но по-настоящему поняла это, лишь когда рассталась с ними.
Я уехала на Волгу, в дом отдыха. С детства я люблю лес и, кажется, целый месяц без передышки могла бы бродить по зелёным дебрям. А здесь и лесу конца-краю не было, и Волга покорила меня с первой минуты, и окружали меня новые люди…
Растянувшись на белом мягком, горячем от солнца песке, я смотрела, как бесконечно, неутомимо, сверкая и всплескивая, течёт мимо прохладное живое серебро реки, и… вспоминала своих ребят. Почему так часто стали ссориться Володя Румянцев и Андрей Морозов? Прежде они были неразлучными друзьями. Да, вот Морозов… Всё-таки плохо я его знаю. Способный, но такой честолюбивый! С виду как будто всё хорошо, но он не придёт, не поделится, как другие, тем, что его занимает, волнует. Почему так? Не знаю… Он, бесспорно, способен и настойчив, учится одинаково хорошо по естествознанию и русскому языку, по арифметике и географии, но я давно замечаю, что ни одним предметом он не увлекается. Неинтересно ему учиться, что ли? В самом деле, я вспоминаю: Морозов всегда гладко, ровным тоном отвечает всё, что требуется, решает задачи, читает стихи, и всё это как-то безразлично, с холодком. А вот когда я говорю: «Садись. Ставлю тебе пять» — на его узком лице с тонкими губами мелькает отблеск искреннего удовлетворения. Похоже, что для него важна отметка сама по себе. Как будто он не просто учится, а копит пятёрки, копит страстно, упорно; как настоящий скупец, любуется ими, ведёт им строгий счёт.
И ещё вспоминаю: Морозов — один из немногих в классе, с кем все мои отношения ограничиваются только учебными делами. Он хорошо отвечает у доски, и я ставлю ему пятёрку. Он без ошибок пишет очередной диктант, и я опять вывожу пятёрку. Казалось бы, мы должны быть довольны друг другом. Но мы недовольны. Это не так просто объяснить, но что-то у нас не ладится. Я давно чувствую: Андрей Морозов хочет быть первым, непременно первым, всегда и во всём, это его цель и источник всех его удовольствий.
У нас есть ещё один честолюбец — Витя Ильинский; его отец когда-то приходил ко мне поделиться своей тревогой: как бы сын не зазнался! Но у Ильинского тщеславие какое-то другое, более непосредственное, что ли. Он откровенно любит, когда его хвалят. И хотя я понимаю, что злоупотреблять этим нельзя, похвалить Витю приятно: он весь расцветает и потом старается ещё больше. После разговора с его отцом я стала осторожнее и убедилась, что хотя Витя и гордится своей «математической шишкой», голова у него от успехов не кружится и выше товарищей он стать не старается.
Ну, а Вася Воробейко? Что я знаю о Васе? Немного, почти ничего. В его табеле почти сплошь тройки. Двоек не бывает, но и четвёрка — редкая гостья; получив четвёрку, Вася слегка розовеет от удовольствия, но молчит. А Саша Воробейко, который и сам имеет куда больше троек, чем четвёрок, хорошим отметкам брата радуется вслух и, что меня слегка забавляет, говорит покровительственно: «Вот это здорово! Ты бы почаще так!» Или: «Старайся, Васька, старайся, может и выйдет из тебя толк!»
Саша командует братом, и тот беспрекословно подчиняется. В обращении с Васей Саша достигает предельного лаконизма: «Поди, сделай, дай, убери!» И если Вася идёт, делает, даёт или убирает недостаточно быстро, ему случается получить и тумака. Но никто другой не смеет тронуть Васю. «Сам обижу, а другому в обиду не дам» — вот смысл Сашиного отношения к брату. И тот, кто пробовал нарушить это правило, должен был иметь дело с самим Александром Воробейко, а все знали, что это не шутка.
— Что ты за него заступаешься? Он не маленький и сам себя в обиду не даст, — сказала я однажды Саше.
— Именно что даст. Он и драться толком не умеет.
— А зачем ты сам его обижаешь?
— Я?! — Саша неподдельно изумлён: его подзатыльники так братски-добродушны, неужели они могут обидеть!
— Конечно, обижаешь, — настаиваю я. — Стоит только послушать, как ты с ним разговариваешь: «Сбегай туда, поди сюда, подай то, принеси это…» Он-то ведь с тобой так не говорит, не правда ли?
Саша на секунду задумывается.
— Я — старший.
— Какой же ты старший, если вы близнецы?
— Нет, я раньше родился.
— Вот Лёва старше вас всех, — возражаю я, — и он ваш вожатый, а ты слышал когда-нибудь, чтобы он разговаривал с вами так, как ты с Васей?
Саша с интересом выслушивает мои доводы, но не принимает их всерьёз. В теории он, пожалуй, даже согласен со мной. Но отношения с братом складывались годами, вошли в привычку, и притом Вася так легко слушается, так охотно подчиняется…
Сейчас Воробейки в деревне у бабушки. А Коля Савенков поехал в лагерь. Он будет там с Лёвой, и Лёва обещал мне писать.
О Коле я думаю часто. Как-то, уже весной, его привела ко мне рассерженная Вера Кондратьевна, учительница пения. Он упирался, не хотел итти.
— Он срывает урок, не желает петь вместе со всеми, — пожаловалась Вера Кондратьевна. — Я несколько раз делала ему замечание, а он молчит. Если каждый будет молчать, это будет не урок пения, а игра в молчанку.
— Почему ты не поёшь? — спросила я.
Коля не отвечал и смотрел, как прежде, угрюмо, исподлобья.
Когда я шла домой, он, по обыкновению, встретил меня в переулке и, как всегда, без предисловий сказал:
— Все пели: «Отцы вернулись к нам домой». Зачем же я буду это петь?
В последнее время с ним подружился Гай. Коля был у Саши дома — это хорошо. А Саша на лето отправился в Тулу, к Ивану Ильичу. Я так ясно представляю себе обоих — и деда и внука: наверно, хозяйничают в том саду, где «растёт всё на свете», хоть и весь он величиной с ладонь.
А Горюнов в Артеке. Как много нового он увидит, сколько узнает интересного!
В таких раздумьях проходили долгие часы, солнце поднималось всё выше. «Обгорю, пожалуй», спохватывалась я, когда под сомкнутыми веками всплывали алые круги.
— О чём задумалась? — слышится весёлый голос Нины Станицыной, соседки по столу и по комнате. — Купаться! Купаться!
И мы до самого обеда плаваем, снова греемся на солнце и снова бросаемся в воду.
Нина учится в Институте инженеров транспорта, Люба Тимошенко — в строительном. Мы живём в одной комнате и в столовой сидим за одним столом.
Ночной разговор
Как-то поздно вечером, когда мы улеглись, начался разговор, который так естественно возникает теперь между людьми, едва они узнают друг друга: мы вспоминали, кто как встретил 22 июня, а потом — день Победы.
Сначала я слушала Нину и Любу, потом перестала даже слышать их голоса — так явственно, так отчётливо вспомнились мне мои 22 июня и 9 мая…
…Война застала меня в Ленинграде. Шура, мой брат, а то лето кончил аспирантуру, у него был отпуск, и он взял меня с собой. Оба мы были впервые в этом чудесном городе. Ездили на острова, побывали в Эрмитаже, а вечером 21 июня, возвращаясь с концерта, долго бродили по окутанному белой ночью городу, бродили безустали, глядели на него — и не могли наглядеться. Хорошо нам было! Сколько чудесных, радостных планов строили мы на будущее!
Встали, конечно, поздно, позавтракали как ни в чём не бывало, а потом вышли на улицу, и тут нас ударило слово: война!
Мы вернулись в Москву.
Вскоре Шура ушёл в армию. В марте сорок второго года он погиб под Гжатском.
…А день Победы!
Я проснулась среди ночи с внезапно сжавшимся сердцем: кто-то бежал по лестнице с верхнего этажа и барабанил кулаком во все двери подряд. Я ещё не успела сообразить, что происходит, только внутри что-то дрогнуло. Вспомнилось: так в сорок первом и сорок втором годах раздавался по ночам стук в дверь и в пролётах лестницы метался возглас: «Тревога! Граждане, тревога!» Но сейчас?.. В эту минуту забарабанили в мою дверь и, я услышала мальчишеский голос: «Войне конец! Войне конец!»
Бывает радость, с которой ни минуты нельзя остаться наедине. И хотя стояла глубокая ночь, все мы вышли из своих комнат и спустились во двор. Тут было полно народу. Словно тень прошла перед глазами… Снова вспомнились мне те далёкие ночи, когда в густой тьме, теснясь, сдерживая дыхание, не смея зажечь спичку, толпились в этом дворе люди, ожидая своей очереди у входа в бомбоубежище. Вспомнилось, как после отбоя матери с землисто-бледными от усталости и тревоги лицами на руках выносили спящих детей. Как, выходя после одной такой ночи из подвала, люди жмурились и мигали от неожиданности: весь двор искрился под ещё не поблекшей луной колючим, неестественным блеском. Двор сплошь был засыпан хрустящим под ногами стеклом. В ту ночь бомба разорвалась совсем близко, и из окон вылетели стёкла.
Да, всё это вспомнилось, не могло не вспомниться, но и не могло погасить счастья, которое светилось на каждом лице. В ту ночь можно было зайти в любой незнакомый дом, постучаться в каждую дверь, заговорить с каждым встречным — все были полны одним чувством: кончилась война!
И потом — по-особенному сияющие, насквозь пронизанные солнцем утро и день… Все мы, не сговариваясь, пошли на Красную площадь. На белых, нагретых солнцем трибунах сидели целые семьи, старики, опирающиеся обеими руками на палки, старухи в платочках, с узелками. Всюду бегали дети, крепко взявшись за руки, проходили улыбающиеся девушки, слышались громкие, праздничные голоса. Шли часы. Яркоголубое майское небо померкло, стало бледносиреневым, потом густосиним. А народу всё прибывало и прибывало.
И когда раздался голос диктора, вся площадь разом погрузилась в безмолвие, которое тут же взорвалось восторженными криками: будет выступать Сталин!
Но первое же простое и прекрасное слово «Товарищи!» вновь принесло с собой глубокую тишину.
Рядом со мной стояла высокая немолодая женщина. Она крепко сжала губы, неподвижно глядя прямо перед собой, и по щекам её непрерывно текли слёзы. А в двух шагах мальчуган, сидя на плече у отца, смотрел на неё с безмерным, горестным изумлением, почти с упрёком: о чём можно плакать в такой день?
Я-то знала, о чём, и многие, многие на этой площади тоже знали. Но вот отзвучали слова: «С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!» Лучи прожекторов сплелись в небе живой светящейся сеткой, и от этого оно необычайно поднялось над нами, стало безмерно высоким. Ещё мгновение — и в эту лиловую тьму плеснули фонтаны огня и света — салют! И Спасская башня стояла такая прямая, вся устремленная ввысь, прекрасная, как символ величия и покоя. А над Кремлёвским дворцом огромной алой птицей парил флаг.
Чудесный, счастливый день — радостный и трудный…
И тут, словно пробудившись, я услышала голос Нины.
— Самое счастливое событие в моей жизни? — протяжно говорила она. — А если у меня не было в жизни никаких событий!..
«Конечно! — подумала я. — Вспомнили 9 мая и заговорили о счастье!»
— Ну, не событие, — возразила Люба, — а день, когда ты чувствовала себя очень-очень счастливой.
— А я всегда чувствую себя счастливой, — ответила Нина.
— Я же говорю: очень-очень счастливой, понимаешь? — нетерпеливо повторила Люба. — Не так, как всегда, а особенно счастливой!
Наступило молчание. Я ждала, мне хотелось услышать, что скажет Нина. И вот она заговорила:
— Ладно, только учтите: событий у меня не было. У меня очень обыкновенная жизнь. Но я всё-таки расскажу. Только вам будет неинтересно. Ладно, сами напросились…
Во время войны я работала проводником в поезде. У нас была комсомольская бригада проводников. Мы обучились малярному делу, столярному, слесарному, так что обходились в пути без ремонтной бригады. Ездили мы по маршруту Москва — Новосибирск. В Москву везли военных или командировочных, а в Новосибирск — женщин и детей с Украины, из Белоруссии, ленинградцев. Ребята многие ехали одни, родители у них погибли, и они были такие одинокие, притихшие, печальные, просто сил не было смотреть.
Тогда и решили мы устроить в своём поезде детский вагон и оборудовать его как следует. Когда бригада стояла ещё в Новосибирске на отдыхе, мы сложились, собрали денег и купили игрушек, принесли кто посуду, кто книжки, кто цветы. Нас было двадцать семь девушек, так что вещей набралось много. Потом одна девушка предложила устроить в вагоне подвесные люльки для грудных ребят. В общем, устроили очень хороший вагон: получилось уютно и красиво. На больших остановках бегали за горячей пищей. В вагоне всё время кипел самовар. И потом еще попросили девушек из другой бригады, из ташкентского поезда, привезти нам шерсти и стали вязать ребятам варежки и носки. Мы старались в дороге развлечь ребят — рассказывали им сказки, читали им, пели. И верно, они немножко повеселели, даже улыбаться начинали. А уж это… — Нина замолчала на секунду и потом порывисто договорила: — Знаете, хуже всего, когда малыш до того намучился, что и улыбнуться не может… Да, так о чём я говорила? Ну вот, а потом, по нашему примеру, детские вагоны стали устраивать и в других поездах. И мы были очень рады… Счастливы, — добавила Нина, чуть помедлив.
И так как мы молчали, она сказала извиняющимся тоном:
— Я же говорила, что будет неинтересно…
— Неправда, очень интересно! — горячо сказала Люба. — Очень интересно, Ниночка! — ласково повторила она.
За окном было совсем черно. По правилам дома отдыха, нам давно уже полагалось не разговаривать, а спать. Я смотрела в это чёрное, точно бархатом затянутое окно и думала: вот и об этом надо рассказать ребятам. Ведь это им, двенадцатилетним, всего труднее объяснить, а надо, чтобы они поняли: счастье — не просто в личной удаче, счастье — жить для людей и работать для них, думать и заботиться не только о себе.
Так вот всё, что задевало и радовало меня, я мысленно пересказывала ребятам. Иной раз приходило в голову: не узость ли это, не ограниченность ли? Почему всё в жизни, все свои мысли, встречи и впечатления я свожу к одному? Но нет: ведь это одно и стало в моей жизни самым главным и самым радостным! Я учительница — это самое важное и самое хорошее, что я о себе знаю!
Сентябрь
И снова наступил день, который я всегда обвожу в своём календаре красным карандашом: Первое Сентября! И снова я шагаю по знакомому переулку. Липы ещё не успели растерять своё тусклое золото, и лишь изредка под ногой шуршит сухой лист.
Всё казалось особенно чистым и чётким в это утро: и ровный асфальт, и знакомые дома, и решётка забора, и безоблачное бледное небо. Так бывает, когда смотришь на улицу сквозь только что вымытое к празднику окно.
— Марина Николаевна! Здравствуйте! — услышала я и, обернувшись, увидела Лёшу Рябинина. Он держал за руку брата, семилетнего Петю.
— Здравствуй, Лёша. Да как ты вырос, ты ростом чуть не с меня! А Петя почему с тобой?
— В первый класс идёт, — с гордостью ответил Лёша. — К Наталье Андреевне!
Мы стояли, загораживая неширокий тротуар, и всё улыбались, как в первую минуту встречи. Лёша в самом деле вырос. И у него всё такой же добродушный и деловитый вид уверенного в себе, хозяйственного человека. Петя стоит рядом, чисто вымытый, с аккуратно подшитым белым воротничком. Башмаки его начищены до блеска, голова наголо острижена, глаза широко раскрыты.
Едва мы двинулись дальше, как с противоположного тротуара с громким воплем «Марина Николаевна! Лёшка!» к нам кинулся Боря Левин, дочерна загорелый, с выгоревшими, совсем соломенными волосами.
— Ох, здравствуйте! — говорит он захлебываясь. — До чего я соскучился по школе — прямо еле дотерпел? Вы ещё Селиванова не видели? Он вот такую черепаху притащил! — Борис развёл руками, едва не выронив портфель: черепаха, как видно, была величиной с колесо. — А Горюнов из Артека ракушек навёз, камней всяких!
Мы идём вчетвером, мешая прохожим, но на нас никто не сердится — нас обходят и оглядываются доброжелательно и с любопытством. А Борис всё рассказывает, рассказывает. Я не прерываю его и не пытаюсь расспрашивать: он так полон своим, что пока не выложит всех впечатлений, всё равно слушать не станет.
Едва мы ступили на школьный двор, к нам со всех сторон кинулись ребята. Я не успевала здороваться, не успевала всмотреться в одного, как передо мною, точно из-под земли, появлялся другой. Вытянулся, вырос чуть ли не на голову Ильинский, очень загорел Горюнов. Как только во двор входил кто-нибудь из нашего класса, мы встречали его хором:
— А вот и Юра Лабутин! Здравствуйте, Воробейки!
Серёжа Селиванов, ко всеобщему восторгу, появился в воротах с большой чёрной черепахой в руках. Толя Горюнов привёз из Артека коллекцию камней и альбом рисунков. Лабутин, который провёл лето на Кавказе, притащил большой кусок самшитового дерева. И каждому хотелось тут же, немедленно, на школьном дворе, где мы собрались задолго до звонка, рассказать обо всех своих приключениях за три летних месяца.
— Это вы — пятый «В»? — спрашивает кто-то.
Оборачиваемся. Перед нами — незнакомый мальчик. Как и все ребята, он сильно загорел за лето, а коротко остриженные светлые волосы, густые, почти сросшиеся брови и ресницы совсем выцвели. Странно видеть за светлыми ресницами небольшие глаза, тёмные, точно спелые лесные орехи. Мальчугану, должно быть, неловко, что все молча разглядывают его, но он старается держаться независимо.
— Я новенький, — говорит он. — Меня к вам послали. Вы пятый «В»?
— Четвёртый «В», — поправляет Румянцев и тут же под общий хохот сконфуженно машет рукой.
— Какой четвёртый? Пятый уже! — весело поправляют его со всех сторон.
Новенький ждёт, пока ребята немного утихнут, и поясняет:
— Моя фамилия Соловьёв.
— Есть такой в списке, — говорю я. — Здравствуй. Игорь Соловьёв.
Кто-то спрашивает, где он раньше учился, почему перешёл в нашу школу. Но я слушаю не очень внимательно. Я только что перехватила немного озабоченный и в то же время довольный взгляд Лёши и теперь смотрю в ту же сторону: неподалёку от нас стоит его братишка Петя, прижимая к груди большой букет. За ним выстроились ещё двадцать пар ребятишек, таких же принаряженных и взволнованных, с такими же круглыми глазами.
Наталья Андреевна внимательно оглядывает этот свой отряд.
— Когда подойдёте к дверям школы, снимите шапки, не забудьте, — говорит она.
Петя растерянно оглядывается: а ему как быть? У него ведь шапки нет. Лёша успокоительно кивает ему.
Малыши направляются к крыльцу. Они послушно снимают шапки и медленно, осторожными шагами поднимаются по ступеням. На секунду я забываю о своих ребятах и молча смотрю вслед Наталье Андреевне. Сегодня она рассталась с мальчиками, которых учила четыре года; вот они стоят возле своей новой классной руководительницы. А Наталья Андреевна теперь снова, с самого начала поведёт этих малышей…
— Марина Николаевна, звонок, мы уже построились, — слышу я голос Гая.
Мы поднимаемся на третий этаж, ребята входят в класс, останавливаются в нерешительности.
— Сядем, как в прошлом году, — говорит Рябинин, — а после разберёмся.
— Садись со мной, — гостеприимно предлагает Выручка новичку, и они с удобством устраиваются у окна.
— Сейчас, — говорю я, — у вас будет ботаника. Я иду в пятый «А». По расписанию, мой первый урок там. На третьем уроке мы с вами снова встретимся.
Только теперь, мне кажется, ребята по-настоящему поняли, что они пятиклассники. В этом году всё по-новому: я уходила, а в дверях уже стояла преподавательница ботаники Елена Михайловна.
Мальчики встали.
Познакомив класс с преподавательницей, я выхожу в коридор. Почти все учителя уже разошлись по классам, пора и мне в пятый «А». Но на секунду я невольно замедляю шаги: из-за закрытой двери доносится голос Натальи Андреевны:
— А теперь давайте послушаем, как тихо в школе!
Малыши умолкают, прислушиваются, как к чуду. В школе восемьсот мальчиков, но какая глубокая, какая полная тишина…
День за днем
Итак, я классная руководительница и, кроме того, преподаю русский язык и литературное чтение в своём и одном параллельном пятом классе. У моих ребят теперь по всем предметам разные учителя, но они ещё не привыкли к этому и попрежнему обращаются ко мне с вопросами то по географии, то по арифметике.
Как только звонок возвещает конец занятий, я иду к своим ребятам, а мальчики из пятого «А», прежние ученики Натальи Андреевны, тотчас отправляются к ней. Разница между нами только та, что я иду чинно, не спеша, как и полагается преподавательнице, а они мчатся наперегонки, перепрыгивая через три ступеньки.
Ещё прошлой зимой, когда не существовало списка нынешнего первого класса и никто не знал, какие именно ребята будут в нём учиться, Наталья Андреевна сказала своим ученикам:
— Осенью вы станете пятиклассниками, а я буду учить малышей. Нужно хорошо встретить их, приготовить к их приходу разрезные азбуки, наборное полотно и ещё много всяких вещей. Кто мне поможет?
Кто же мог отказаться!
Из отрывного календаря ребята вырезывали крупные чёрные цифры и наклеивали на картон. Теперь у каждого первоклассника есть все цифры от единицы до двадцати. Потом принесли в школу детские календари за прошлые годы, отобрали красочные картинки, стихи, сказки. Всё это вырезали и окантовали. Разрисовали целую сотню закладок для учебников, чтобы первоклассники не портили книжек, не загибали углы страниц. Вырезали звёздочки. Приготовили цветные мелки и с удовольствием предвкушали, как удивятся малыши, когда увидят, что слово можно написать на чёрной доске красным, жёлтым, синим — и вся доска расцветёт.
Теперь всё, что они сделали, пригодилось. И если Наталье Андреевне что-нибудь нужно, каждый мальчик из пятого «А» готов помочь. Они водят «первачков» в буфет, в раздевалку, встречают их по утрам у школы.
Когда у меня в расписании «окно» — свободный час между занятиями, — я иду в свой класс на урок ботаники или истории.
Интересно посмотреть на своих ребят со стороны. А они, когда кто-нибудь хорошо отвечает у доски, словно по команде, поворачивают головы в мою сторону, понимая, что для меня это так же важно, как и для них.
С другим пятым классом я познакомилась без большого труда. Многих учеников я знала ещё с прошлого года. А главное, у меня появилось новое чувство: я вхожу в класс, твёрдо зная, что меня станут слушать — всё равно, будет ли интересно или придётся заниматься скучной черновой работой. И ребята понимают это.
Но если я надеялась, что отныне всё пойдёт без сучка и задоринки, то вскоре убедилась: это не так…
Футбол
— Марина Николаевна, ваши ребята сбежали!
— Как сбежали? Куда?
Я с удивлением смотрю на преподавательницу английского языка Софью Алексеевну. Она первый год в школе, и неожиданное происшествие выбило её из колеи. У неё растерянное, огорчённое лицо.
Начинался последний урок, меня ждали в пятом «А», но вместе с Софьей Алексеевной я направилась к своему пятому «В», открыла дверь и остановилась на пороге: класс был почти пуст, не больше десяти ребят сидело за партами.
— Где же остальные?
Молчание.
— Лёша, где ребята?
Рябинин виновато потупился.
— Сегодня футбол, — услышала я тихий ответ. — «Спартак» — «ЦДКА».
— Так что же?
— Ну, матч будет в пять. Так на «Динамо» разве доберёшься… народу сколько… Вот и ушли с английского. А то бы опоздали…
На другой день я пришла в класс мрачнее тучи. Я сказала ребятам, что мне стыдно за них. Что их поступок — неуважение к школе, к Софье Алексеевне, ко мне, их классной руководительнице. Что они должны извиниться перед Софьей Алексеевной. И что больше такие вещи повторяться не должны. Никогда!
Они сидели притихшие, виноватые. Гай от имени всего класса извинился, пообещал, что «больше такого не будет».
И в самом деле, в дни матчей ребята больше не удирали из школы. Но легче не стало. Теперь они безустали гоняли мяч на школьном дворе: до и после уроков и даже в короткие перемены; не только в солнечные дни, но и в слякоть и в дождь. Они вбегали в класс в последнюю секунду, мокрые, красные, разгорячённые, кто с разбитой коленкой, а кто и с синяком под глазом. Ясно было: мысли их далеко, им прямо невмоготу решать длинные примеры на простые дроби или повторять правописание глаголов.
То и дело слышался жаркий шёпот:
— Какой ты судья! Такого судью самого судить надо!
— А такого вратаря только об столб стукнуть!
На перемене споры продолжались, и иной раз дело доходило чуть не до драки.
— Ты тоже хорош! — кричал Саша Воробейко. — Поставили вратарём, так стой, нечего к чужим воротам бегать голы забивать!
— Раз вы сами не можете, что ж делать? — ещё громче кричал в ответ Румянцев. — Вам забивают, а вы чего-то по сторонам зеваете!
— Потому и зеваем, что на свои пустые ворота оглядываемся, а вратаря нигде не видно!
Жаловались родители. Жаловались учителя.
— Ваши ребята, Марина Николаевна, обо всём на свете позабыли с этим футболом, — то и дело слышала я. — Дисциплина в пятом «В» хромает на обе ноги. Пора навести порядок.
Я выслушивала эти упрёки, чувствуя, что у меня горят уши. Возражать было нечего: футболом увлекалась поголовно вся школа, от первоклассников до выпускников (да и кое-кто из педагогов, кажется, был грешен). Но мой пятый «В» почему-то оказался самым неугомонным.
— Лёва, — говорила я в отчаянии, — что же это такое?
Мой надёжный друг и помощник учился, теперь в десятом классе и мог уже не быть нашим пионервожатым, но он остался с нами, и я, как и в прошлом году, во всём с ним советовалась.
А Лёва, несмотря на свои очки и давнишнее пристрастие к шахматам, отлично знал, что такое футбол для мальчишеской души. И он произнёс магические слова:
— Футбольная команда!
Мы сказали ребятам: «Давайте создадим свою футбольную команду!»
В самом деле, какое удовольствие целыми днями гонять мяч каждый раз с другими игроками, не соблюдая по-настоящему правил, играть урывками, без системы, без плана! Нет, так ничему не научишься. Футбол — игра серьёзная, для неё нужны не только крепкие ноги, но и голова на плечах.
Это было бурное собрание. Да, команду, команду немедленно! Капитан — Гай. Полузащита? Кто лучше — Ильинский или Румянцев? А вратарь? Самое главное — вратарь!
После того как всё было установлено, мы решили:
1. Играть раз в неделю, по средам. 2. Предложить организовать футбольные команды в других классах, вызвать их на соревнование. 3. В другие дни — про футбол не думать.
Было у нас одно жёсткое условие: если сегодня из-за футбола ты не успел приготовить уроки, завтра же выбываешь из команды. Это правило свято соблюдалось. За нарушение его были исключены из команды Ильинский и Выручка.
Ребята больше не приходили в класс разгорячённые и потные, не вели бесконечных разговоров о футболе на уроках.
А играть они стали лучше. И, может, это покажется забавным, но мне было очень приятно, что первое место по футболу среди пятых — седьмых классов завоевал наш пятый «В».
Едва мы ввели в какое-то русло футбольную горячку, как вспыхнула другая «эпидемия». Во время перемены около моего класса стали раздаваться оглушительные выстрелы, происхождение которых никто не мог объяснить. Я несколько раз спрашивала ребят — они отмалчивались. Учителя жаловались, что иногда стрельба вспыхивала даже на уроках. Внезапно раздавался оглушительный треск — и снова мёртвая тишина да невозмутимые лица ребят.
И однажды я сказала:
— С завтрашнего дня вы не будете ходить в тир. Раз вы устроили стрельбище в школе, то и хватит с вас этого.
Надо сказать, что в тир ребята ходили с восторгом (их водил туда военный руководитель). Они упражнялись в стрельбе, готовились к соревнованиям — словом, увлекались этим делом. И вдруг: не пойдёте больше на стрельбище!
На другой день я вошла в класс. Ребята встали.
— Здравствуйте. Садитесь!
Все продолжали стоять.
— Вы собираетесь заниматься стоя? — удивилась я.
— Марина Николаевна! — услышала я голос Гая. — Мы не будем больше стрелять в школе, разрешите нам ходить в тир.
— Хорошо. Но кто же стрелял? Я не хочу, чтоб один из вас говорил про другого, пусть скажет тот, кто виноват.
Было несколько секунд нерешительного молчания, и к доске вышел Володя Румянцев.
— Это я стрелял, — сказал он.
— Как же ты это делал?
И тут все стали хором объяснять:
— Марина Николаевна, это очень просто, посмотрите: вот катушка — видите отверстие? — сюда надо насыпать серы, а потом…
Я внимательно выслушала, из вежливости повертела в руках катушку, доставившую нам столько хлопот, и положила к себе в портфель. Ребята проводили её грустным, сожалеющим взглядом.
Живой учебник
— Марина Николаевна, а как стреляет катушка, которую вы у Румянцева взяли? Покажите, пожалуйста, — просит Галя.
— Зачем тебе?
— Я нашим девочкам покажу.
— Только этого не хватало! Ты лучше скажи, почему v тебя щёки и нос в чернилах?
— Это я думала над задачкой…
Галя для меня — живой учебник педагогики. В этом году у неё другая учительница — Евгения Павловна. Я с нею не знакома, как не была знакома и с прошлогодней учительницей Зинаидой Павловной, но ясно представляю обеих, и даже не столько по Галиным рассказам, сколько по её новому отношению к школе.
— Воскресенье кончилось! Воскресенье кончилось! — кричит она по утрам каждый понедельник. — Я иду в школу! Я иду в школу!
Ничего похожего не было прошлой зимой, когда Галя нетерпеливо ждала воскресенья, а в понедельник утром ни за что не хотела просыпаться.
— Марина Николаевна, вот поглядите, — рассуждает она. — В прошлом году у меня всё были тройки, четвёрок совсем немножко. А сейчас четвёрки и пятёрки.
— Почему же это?
— Евгения Павловна очень хорошая. Знаете, она обо всех так заботится, всегда огорчается, если кто болен. И у неё очень много улыбок. Когда девочки с ней прощаются, она каждой улыбается — на всех хватает и ещё остаётся, правда!
В другой раз Галя рассказывает:
— Моя соседка Сёмина Таня потеряла свою ручку и говорит: «Это ты взяла!» Я ей отвечаю: «Чем на меня говорить, поищи получше». Она поискала и нашла под партой и всё равно мне говорит: «Это ты взяла, а потом бросила!» А Евгения Павловна услыхала и даже закричала на неё. Она знаете как сказала? «Как ты смеешь оскорблять человека!»
И я невольно подумала: как это неверно, как неправильно — проучиться четыре года в Москве и не знать таких московских учителей, как та же Наталья Андреевна или нынешняя Галина учительница Евгения Павловна!
Можно ли представить себе студента-медика, который не знал бы имён Бурденко или Вишневского! Студента архитектурного вуза, не знакомого с лучшими образцами старого и современного московского зодчества! Ученика художественного училища, который ни разу не побывал в Третьяковской галлерее! Студента театральной студии, который не перевидал бы лучших актёров столицы!
А мы, студенты педагогического вуза, видели только тех учителей, которые работали в школе, где мы проводили свою педагогическую практику, да и то подчас вскользь, случайно. В вузе мы упустили возможность узнать людей, которые всего убедительнее могли показать нам, что такое педагог и его работа.
«Ты больше не мой ученик»
Среди новичков у меня был один, по фамилии Лукарев. Он быстро сошёлся с ребятами, стал своим в классе. В перемены он почти всегда оказывался в центре шумного, смеющегося кружка: что-то громко рассказывал, мяукал, кричал петухом (это у него получалось артистически). На уроках он гримасничал, передразнивая кого-нибудь из ребят, а то и учителя. Выходило похоже, ребята фыркали, и Лукарев в такие минуты, видимо, чувствовал себя героем. Сам он при этом никогда не смеялся, лишь изредка улыбался какой-то быстрой, короткой улыбкой. Большой, подвижной рот казался чужим на его худом лице.
Однажды, когда преподаватель географии, отпустив его от доски, наклонился над журналом, Лукарев пошёл к своей парте на руках. Ребята рассмеялись. Алексей Иванович поднял голову, но Лукарев был уже на ногах и с торжествующим видом садился на место. В другой раз — это был первый урок, после звонка прошло минут десять — в коридоре раздалось что-то вроде громкой пощёчины, дверь с грохотом распахнулась, в класс влетел портфель, а за ним, спотыкаясь, словно его сильно толкнули, вбежал Лукарев и растянулся на полу. Мы опешили, не понимая, что случилось. Лукарев шумно, с нарочитой неуклюжестью поднялся и, глядя не в лицо мне, а куда-то вбок, принялся многословно объяснять:
— Марина Николаевна, я не виноват. Я опоздал. Стою у двери, думаю: что делать? А тут идёт какой-то большой парень, верно из десятого класса. Я его не трогал, а он вдруг ка-ак даст мне, а потом ка-ак толкнёт меня — вот я и полетел…
Он ещё долго говорил что-то, а я смотрела на его кривую мимолётную усмешку, на глаза, упорно не желавшие встречаться с моими, и думала: «Всё неправда. Никто тебя не трогал и не толкал. Ты сам хлопнул в ладоши, чтоб вышло похоже на пощёчину, сам распахнул дверь…» Но доказать это я не могла.
— Садись, — сказала я сухо и по довольной усмешке, на мгновение тронувшей его выразительный рот, поняла, что не ошиблась: он нарочно разыграл всю эту комедию.
А вскоре произошло вот что.
Шёл мой урок. У доски стоял Серёжа Селиванов и писал предложение: «Как только наступит зима и землю запушит белым снегом, ждёшь не дождёшься снегирей». Ребята писали улыбаясь, зная пристрастие Серёжи к этим красногрудым птицам.
Мне показалось, что отрицание «не» написано вместе с глаголом, и я подошла поближе, загородив доску Феде Лукареву, сидевшему на первой парте слева. И вдруг он отчётливо произнёс:
— Ну вот, стала, как дерево, ничего не видно!
Я обернулась, чувствуя, что бледнею. У меня задрожали руки, я уронила карандаш; в тишине было слышно, как он со стуком покатился по полу.
Класс молчал. Эта глубокая тишина больше всего ужаснула меня.
«Почему они молчат? — пронеслось у меня в голове. — Как они смеют молчать, когда этот мальчишка так обидел, так оскорбил меня?» И еще: «Лукарев учится с нами уже полтора месяца, как же он не понял, что такими словами, таким тоном со мной нельзя, невозможно разговаривать!»
Всё это я успела передумать в короткие секунды напряжённой тишины. И так же быстро созрело решение.
— Вот что, — сказала я. — До сих пор я была твоей учительницей, а ты — моим учеником. Но теперь я вижу, что ты не уважаешь меня. И поэтому ты больше не мой ученик.
На моё счастье, в это время прозвенел звонок, и я вышла из класса.
Когда я вошла в кабинет к Анатолию Дмитриевичу, он поднял голову, внимательно взглянул на меня и сказал мягко, но настойчиво:
— Рассказывайте, что случилось!
Я рассказала о Лукареве и о том, что сейчас произошло на уроке.
— А знаете, — помолчав, сказал Анатолий Дмитриевич, — у Натальи Андреевны был когда-то похожий на него ученик. Локтев, кажется… да, Локтев. Малыш-второклассник, любитель кривляться. Раз он учинил на уроке такое: сел под парту и объявил, что там и будет заниматься. Наталья Андреевна только засмеялась и говорит: «Что ж, если тебе удобно, оставайся на полу, а мы будем сидеть за партами». И стала заниматься с ребятами, не обращая внимания на озорника. Он быстро понял, что поступок его глуп. Понимаете, он был уничтожен насмешкой. Так вот я к чему: не лучше ли как-нибудь по-другому показать Лукареву, что он поступил недостойно? Спокойнее, без гнева?
— Нет, — сказала я, стараясь, чтоб не дрожал голос. — Локтеву было девять лет, а Лукареву двенадцать — разница большая… И потом, я учительница, но вместе с тем человек же я! И, как всякий живой человек, имею право на гнев и обиду, могу оскорбиться, возмутиться, возвысить голос. Ведь правда же? Не ради Лукарева только, а ради себя я не могла иначе…
— Это рискованный шаг.
— Я понимаю.
Анатолий Дмитриевич покачал головой и произнёс задумчиво:
— Сейчас поздно рассуждать — дело сделано. Попробуем… посмотрим…
Я повидалась с матерью Лукарева, попросила её особенно внимательно следить, как теперь Федя будет готовить уроки. Она озабоченно выслушала мои объяснения.
— Вот ведь озорник неумный, какую привычку взял, — сказала она под конец. — Будьте покойны, я-то за ним послежу. А он пускай почувствует: дескать, как я к людям, так и они меня ценить будут. Так будьте покойны, — повторила она, — я послежу.
Своими словами
Сначала Лукарев пробовал сделать вид, будто ничего не произошло. На переменах веселился, бегал больше всех, шумел, кричал, смеялся. Иногда вместе с другими подходил ко мне, но я не обращалась к нему.
На ребят я рассердилась напрасно. Они приняли мою обиду близко к сердцу. Подумав, я поняла; в тот первый миг они замерли и замолчали, потому что были ошеломлены не меньше моего. Это я чувствовала во всём. Они разговаривали с Лукаревым, но только по необходимости.
Федя Лукарев прекрасно рисовал, но никто не обращался к нему, как прежде, с просьбой оформить стенгазету. Он лучше многих играл в шахматы, но старостой шахматного кружка избрали не его, а Игоря Соловьёва.
Но что больше всего уязвило Лукарева — это отношение ребят к его шуткам. Никого больше не смешили его гримасы, он мог сколько угодно мяукать, лаять, кукарекать — никто не поворачивался в его сторону. А когда он изобразил (и, по правде говоря, очень похоже), как Лёва на занятиях кружка близоруко разглядывает чью-то самоделку, Рябинин проворчал с безмерным презрением:
— Люди дело делают, а этот только и умеет ломаться… Обезьяна бесполезная!
Лукарев не огрызнулся, не спросил, как сделал бы прежде: «А какая обезьяна полезная — ты, что ли?» Он притворился, будто не слышал Лёшиных слов, и медленно отошёл в сторону.
На уроках мы читали Горького. По программе надо было прочесть всего несколько отрывков из «Детства» и «В людях», но я поняла, что этого недостаточно. Ребята были так захвачены, так хотели узнать всё об этой удивительной жизни, что мы стали оставаться после уроков и читали «Детство» вслух.
Я читала однажды у Макаренко о совместных переживаниях, о том, как важны, как необходимы они для того, чтобы родился настоящий коллектив. Теперь я убедилась на опыте: нельзя вместе читать о бабушке Алёши Пешкова, о её чудесных сказках, о плясках Цыганка, о том, как нашёл Алёша путь к книге, — нельзя всем вместе прочесть об этом и остаться в прежних отношениях друг с другом.
Затаив дыхание, слушали ребята повесть о трудном, невесёлом детстве. Минутами у них начинали влажно блестеть глаза, время от времени кто-нибудь тяжело вздыхал, кто-нибудь, сам не замечая, крепко стискивал плечо соседа. Каждый невольно искал сочувствия и ощущал, что другие переживают то же. И это роднило нас. Мы лучше понимали друг друга, охотнее поверяли друг другу свои мысли и планы, чаще советовались. Всё более дружным становился наш коллектив, наш класс.
А Лукарев оставался вне этого. Он тоже сидел среди нас, тоже слушал — и всё же он был один.
Однажды кто-то из ребят предложил собраться после уроков и рассказать своими словами о детстве Алексея Максимовича: пусть каждый приготовится и расскажет какой-нибудь случай.
— Я расскажу, как Алёша и бабушка ходили в лес и волк их не тронул, — вызвался Селиванов.
— А я о том, как Алёша ночевал на кладбище! — заторопился Рябинин.
— А я про пожар!
— А я про деда!
Лукарева никто не спросил, не хочет ли и он принять участие в этой затее.
Через неделю мы собрались и стали рассказывать. Рассказывали близко к тексту, бережно стараясь передать драгоценное горьковское слово.
— Кричат щеглята, щёлкают любопытные синицы, они хотят всё знать, всё потрогать и одна за другой попадают в западню, — рассказывает Серёжа Селиванов, назвавший свой отрывок «Ловля птиц». — На куст боярышника опустилась стая чижей, — продолжает он мечтательно. — Чижи рады солнцу и щебечут еще веселей. Ухватки у них, как у мальчишек-школьников. Жадный домовитый сорокопут запоздал улететь в тёплые края. Он сидит на ветке шиповника и своими чёрными глазами высматривает добычу. А снегирь, отбившийся от стаи, сидит на ольхе, красный, важный, и сердито поскрипывает, качая чёрным носом.
— …Аптекарь учил Алёшу: «Слова, дружище, как листья на дереве, и чтобы понять, почему лист таков, а не иной, нужно знать, как растёт дерево, — нужно учиться! Книга, дружище, как хороший сад, где всё есть: и приятное и полезное», — с воодушевлением продолжает Ваня Выручка.
Саша Воробейко не в состоянии придерживаться точного текста.
— И вот Алёша задолжал лавочнику за книгу сорок семь копеек, — горячо, торопливо рассказывает он. — Алёша просит: подождите, уплачу я вам ваши деньги, а лавочник ему даёт свою руку, масленую, пухлую, как оладья, и говорит: «Поцелуй, подожду!» А Алёша был горячий. Он схватил гирю и как замахнётся на лавочника!..
Один рассказывал лучше, другой хуже, но никто не был равнодушным. Каждый по-своему, они горячились, горевали и радовались вместе с Алёшей. В жестах, в самом выражении лица сказывался характер рассказчика.
Минут через сорок я спросила:
— Может, довольно? Может, оставим до следующего раза?
Никто и слушать не хотел об этом. Прошло ещё полчаса, и я чуть не силой отправила ребят домой.
Мы вышли из школы все вместе. Поздняя осень неожиданно порадовала несколькими на удивленье ясными, тёплыми днями, и вечер этот был прозрачный и светлый. Ровный сухой асфальт звонко откликался на наши шаги, — словно приглашая пуститься наперегонки по переулку. Но мои ребята ничего не замечали — так полны были тем, что сегодня унесли из школы.
— Больше всего люблю про то, как Цыганок пляшет! — говорил Гай.
— А я даже не могу сказать, что я больше люблю. Мне всё нравится, — негромко возразил Горюнов.
— Как Воробейко хорошо рассказал про Алёшу и лавочника! Ведь хорошо, да, Марина Николаевна? — перебивает его Румянцев.
На углу мы остановились, не в силах расстаться, и ещё долго говорили, обсуждали, перебирали в памяти страницу за страницей, жалели, что никто не рассказал о Королеве Марго, о том, как Алеша впервые прочитал «Руслана и Людмилу»…
Лукарев шёл вместе с нами, но за всю дорогу не сказал ни слова. Когда мы остановились, он тоже постоял секунду, потом снял шапку, подкинул, опять надел и, не попрощавшись, зашагал дальше один.
Я поглядела ему вслед и вдруг ощутила острую тревогу. Она уже давно жила во мне, но тут я почувствовала: она меня больше не оставит. «Неужели ему всё равно? — подумала я. — Неужели ему легко вот так, молча, оставаться в стороне от нашей жизни?»
Я знала: Федя способный, неглупый мальчик. Требуемое по программе он знает. Об этом можно было не беспокоиться. Но ведь всего остального, что не значится ни в какой программе, он лишён. Мы смотрели фильм «Детство», были в Музее Горького, без конца делились впечатлениями. А Лукарев был всё время где-то рядом, около, и всё же не с нами. Но понимал ли он это?
Спокойствие, уверенность в своей правоте оставили меня. Что бы я ни делала, я не могла не думать о Лукареве. После того горьковского вечера он поскучнел, перестал быть таким весёлым и шумным. Я только не знала, отчего это: жалеет ли он о том, что произошло, или озлобился?
И самый воздух в классе стал другим, хотя внешне как будто ничто не изменилось. Так бывает, когда в семье кто-нибудь болен и все условились об этом не говорить, но не думать не могут. Так было и у нас: мы не упоминали о случившемся, но и забыть не могли.
Памятный урок
Дня три спустя меня позвал к себе Анатолий Дмитриевич.
— Как у вас с Лукаревым? — спросил он.
— Попрежнему, — ответила я.
— Вы всё ещё уверены, что поступили правильно?
Я ответила не сразу:
— Нет, теперь я этого не знаю.
Анатолий Дмитриевич шагал по кабинету; потом остановился у окна и стал смотреть на улицу.
— Боюсь, придётся перевести его в пятый «Б», к Елене Михайловне, — сказал он наконец. — Это ложное положение. Вы сказали: «Ты не мой ученик». Он не извинился. Так не может долго продолжаться.
Перевести в другой класс! Это ошеломило меня. Переложить свою беду на чужие плечи, предоставить кому-то другому исправлять и доделывать то, чего не сумела, с чем не справилась я?
— Нет, нет! — вырвалось у меня.
— Ну, а как же? — мягко возразил Анатолий Дмитриевич. И, чуть помолчав, прибавил: — Подумайте еще, голубчик. И поймите: тянуть с этим нельзя.
…Вечером я постучалась у хорошо знакомой двери.
— Подождите, она сейчас вернётся, — сказала мне соседка, открывая комнату Натальи Андреевны. — Она не надолго, за хлебом вышла. Велела, если кто зайдёт, чтоб посидели.
Всё мне было уже привычно в этой комнате: уютный диван, фотографии детей на стенах, полка с книгами, большая шкатулка с письмами учеников. Здесь лежат фронтовые треугольники; потёртая на сгибе записочка, которую написал один десятиклассник, забежав к своей старой учительнице за несколько минут до отъезда на фронт и не застав её: поблекшие листки, полученные двадцать и тридцать лет назад…
Я подсела к столу и начала перелистывать детские тетради. «Сколько их проверено за сорок лет!» мелькнуло у меня. Раскрыв очередную тетрадку, я увидела почерк самой Натальи Андреевны. Замелькали имена детей: Митя, Саша, Володя… «Дневник?» не успела я сообразить и вдруг увидела слова: «…я люблю их больше жизни». Поспешно закрыв тетрадь, я отошла от стола. Было так, словно нечаянно, нескромно я заглянула в самое сокровенное, что никому не поверяют, о чём думают только наедине с собой.
Я ушла, наскоро объяснив соседке, что не могу дожидаться Натальи Андреевны, но это и не важно: завтра в школе мы увидимся и поговорим.
Я шла и думала: дело не в том, что я поступила не так, как Наталья Андреевна в том случае с Локтевым, о котором рассказал мне Анатолий Дмитриевич. Это ещё ничего не значит. Все мы разные, и каждый должен поступать по-своему. Ведь когда речь идёт о живописце, о музыканте, каждый понимает, что тут у всех характеры разные и Шишкин, скажем, не похож на Куинджи. Но разве учителя все должны быть на одно лицо? Конечно, нет.
Но сказать: «Ты не мой ученик…» Как же так? Я должна говорить и делать то, во что верю, и, начав, доводить до конца. Я сказала Лукареву, что он не мой ученик. Но ведь он мой! Я отвечаю за него и не могу лишиться этой ответственности — она тяжела, но она дорога мне. Как же поступить?
Перевести в другой класс? Это тоже воспитательная мера, это испытание и наказание: Лукарев привык к классу, любит его, и ему будет трудно лишиться товарищей. Но я не хочу этого!
На другой день я шла после уроков по коридору и увидела: Лукарев стоит и плачет.
— Марина Николаевна! — окликнул меня шедший навстречу Анатолий Дмитриевич. — Это ваш ученик?
Я не успела ответить.
— Ваш, ваш, я ваш ученик! — закричал Федя.
Он подбежал ко мне, схватил за руку и, захлебываясь от слёз, проговорил:
— Марина Николаевна, простите меня! Накажите, как хотите, но только пускай я опять буду ваш ученик!
Конечно, он мучился и много передумал за эти дни. Мне кажется, он понял простую истину человеческого общежития: если хочешь, чтобы тебя уважали, сам уважай других, — только тогда ты будешь равноправным членом коллектива и все будут относиться к тебе как к товарищу.
Но и для меня этот случай тоже стал уроком на всю жизнь. Я поняла: Лукарев, как каждый из моих мальчиков — пусть он строптив, упрям, пусть с ним трудно, — мой ученик. Что бы ни было, — мой, со всем плохим и хорошим, что в нем есть.
Случай в лесу
В одно из сентябрьских воскресений мы с ребятами — собралось человек пятнадцать — поехали на станцию Здравница, неподалёку от Звенигорода. День был чудесный, лес светился насквозь, и где-то в глубине его вспыхивали, дрожали и переливались все оттенки золота и багрянца. Тёплый грибной запах стоял вокруг: впереди то тут, то там разгоралась густым бархатным румянцем круглая шапка подосиновика, а белые грибы обнаруживались вдруг целыми семействами в сторонке, в тени: один большой, а вокруг него — толстобокие малыши с ещё светлыми шляпками.
Захлебываясь от восторга, ребята приносили грибы в запачканных землёю ладонях. Они совсем опьянели от душистого воздуха, носились друг за другом, карабкались на деревья, с воинственными криками охотились то на ужа, то на лягушку…
Наконец мы собрались отдохнуть и позавтракать. Уселись под высокой дуплистой берёзой. Мальчишки долго и безуспешно пытались вскарабкаться наверх и выяснить, «кто там живёт», но каждый раз соскальзывали, и на их загорелых ногах появились белые полосы царапин.
Ребята разложили на бумаге свои припасы и шумно принялись за еду, предлагая друг другу хлеб, огурцы, помидоры. «Чего не ешь, Трофимов?» спросил кто-то. «Не хочется». — «Вот чудак, не проголодался! А я прямо как зверь голодный. Бери баранки!» В это время я объясняла Румянцеву, какие бывают трюфели, и, услышав, что Трофимов отказался от баранок, лишь мельком подумала, не заболел ли он, не слишком ли устал от беготни.
Потом ребята снова разбрелись в разные стороны, и тогда ко мне неожиданно подошёл Трофимов, вынул из сумки солидный кусок пирога, плитку шоколада и сказал вполголоса:
— Кушайте, пожалуйста, Марина Николаевна!
Я посмотрела на него в упор и отказалась. Он чуть-чуть смутился и, отойдя в сторону, стал есть сам.
Возвращались мы поздно; сидели в полутёмном вагоне и заново перебирали дневные впечатления. И вдруг Серёжа горестно протянул:
— Ну что ты будешь делать — опять есть хочется!
Я достала из портфеля булку, нарезала тонкими ломтиками и раздала всем. Ребята стали отказываться.
— Ешьте сами, Марина Николаевна, мы не хотим, — уверял меня из дальнего угла тот самый Селиванов, который только что своим плачевным воплем пробудил наш аппетит.
— Нет, — возразила я, — у товарищей в походе всё должно быть общее. Что же, вы хотите, чтобы я ушла в другой конец вагона и наелась одна?
Это убедило их, каждый просто взял свою долю.
— Верно, — сказал Румянцев: — это уж самое противное — прятаться от товарищей и есть втихомолку.
Я взглянула на Трофимова; даже в этом скудном, мигающем свете видно было, что он покраснел до слёз. Я быстро отвела глаза, поняв, что урок, который, сами того не ведая, дали ему ребята, достиг цели.
Вскоре Трофимов ушёл от нас: отец его вместе с семьёй переехал на работу в Горький. Я долго мучилась, раздумывая над отзывом, который нужно было дать ему для поступления в новую школу. «Вася Трофимов способный мальчик, успевал по всем предметам хорошо, особый интерес проявлял к арифметике. Очень дисциплинирован». Написав это, я поняла, что ещё ничего не сказала о мальчике. А если вдуматься, что же я ещё могла сказать? Что он однажды на прогулке не поделился с товарищами пирогом и в одиночку съел плитку шоколада? В отзыве это выглядело бы нелепо. А написать, что он плохой товарищ, я не имела права, потому что, хотя Вася учился у меня больше года, я, в сущности, ничего о нём не знала и, если бы не случайное обстоятельство, так никогда бы и не поняла, насколько ошибочно и поверхностно моё представление о нём.
Трофимов уехал, увозя мой положительный отзыв который так всю жизнь и будет лежать у меня на совести. Мне только хочется думать, что другой учитель, более проницательный, разглядит в нём то, что осталось скрытым от меня, поддержит и взрастит то хорошее, что в нём есть.
Дима Кирсанов
Среди новичков в нашем классе был один приехавший из Ростова; звали его Дима Кирсанов.
Родителей Дима потерял в раннем детстве и с тех пор жил у дяди. Своих детей у дяди не было, и он и его жена относились к мальчику, как нередко относятся родители к единственному, да притом болезненному ребёнку: с тревожным вниманием и неотступной заботливостью. Стоило Диме на четверть часа задержаться после уроков, в школу прибегала Димина тётя Евгения Викторовна и с беспокойством справлялась, не случилось ли чего с мальчиком. Если у Димы утром болела голова, его не пускали в школу не только в этот день, но и на второй и на третий, хотя бы он успел уже забыть о головной боли. Дима заметно стеснялся этого, тем более что кое-кто из ребят — в частности неугомонный Левин — непрочь были кинуть в пространство ехидное словцо о телячьих нежностях и о том, что бывают, дескать, такие чудаки, про которых не поймёшь, то ли это мальчишки, то ли девчонки, то ли грудные младенцы: в школу их провожают, после уроков за ними приходят, и ещё неизвестно, не кормят ли их дома с ложечки.
Дима держался так, словно эти остроты к нему не относятся. Меня это удивило, я не совсем поняла, что это, большое самообладание или не совсем обычное в его возрасте равнодушие к «дразнилкам»? Но долго шутить по одному и тому же поводу надоедает, и спустя некоторое время ребята перестали поддразнивать Кирсанова.
Остальные новички с первых же дней со всеми познакомились, завели в классе друзей, ссорились с ними и снова мирились. Но Дима оставался один. Он превосходно учился по всем предметам, и хотя всё давалось ему легко, я не замечала в нём довольно частой в таких случаях небрежности: он был очень добросовестным учеником, уроки готовил тщательно, тетради у него всегда были опрятные, и я знала, что он из-за единственной кляксы способен переписать всё заново. Но, думая об этом спокойном, аккуратном новичке, я испытывала смутное ощущение неловкости. Ему было двенадцать лет, но когда я с ним разговаривала, я невольно забывала об этом: мне казалось, что собеседник мой по меньшей мере мой сверстник. Он был очень взрослым, этот мальчик. Взрослый человек смотрел на меня со страниц его сочинений. И говорил он как взрослый: очень литературно, свободно пользуясь сложными предложениями, причастными и деепричастными оборотами. Не по-ребячьи сдержанно, взвешивая каждое слово, отзывался он о прочитанных книгах, о товарищах по классу. И Дима был единственный, кто ни разу не принял участия в письмах на Север.
— Не думаю, что Анатолию Александровичу так уж интересно переписываться с нашим классом, — сказал он однажды.
— Да зачем же он тогда нам пишет, если ему неинтересно? — с искренним изумлением спросил Гай.
— Ему неудобно было не ответить, раз ему написали. Это было бы просто невежливо.
— Ты неправ, — вмешалась я. — Письма, написанные из вежливости, по обязанности, бывают совсем другими. Разве ты не чувствуешь, что Анатолий Александрович пишет нам тепло и сердечно?
— Я сказал то, что думаю, — спокойно ответил Дима.
— А почему ты так думаешь? — возмутился Левин. — Какие у тебя основания?
— Я думаю так, во-первых, потому, что Анатолий Александрович вас не знает. Какой интерес переписываться с незнакомыми? И, во-вторых, потому, что он взрослый, а вы — дети.
Он так и сказал: «вы — дети».
— А ты сам кто? — Борис готов был полезть в драку и, я думаю, полез бы, если бы не моё присутствие.
— Я не собираюсь спорить с тобой, — холодно ответил Кирсанов.
— И не спорь! Подумаешь, воображала! — с яростью крикнул Борис.
Эта кличка пристала к Диме накрепко. «Кирсанов много о себе думает», «Кирсанов уж очень о себе воображает» — это я слышала десятки раз. Ни Горюнова, ни Гая, ни Левина — никого из лучших учеников остальные ребята не обвиняли в гордости, в зазнайстве, а вот Кирсанова считали гордецом. И правда, был как будто оттенок высокомерия в его отношении к товарищам. Но что-то мешало мне думать, что он попросту «задаётся». У него были такие вдумчивые, невесёлые глаза, и он как-то неумело произносил холодные, даже резкие слова. В такие минуты мне казалось, что он вот-вот заплачет и что его резкость — только самозащита. Но почему он сторонится товарищей? Чего боится?
Однажды, уходя из школы, я за воротами нагнала Диму:
— Ты что сегодня так замешкался?
— Хотел дочитать книгу, чтобы обменять в библиотеке.
— Что же ты взял?
— Сказки Андерсена.
— Разве ты не читал их раньше? — удивилась я.
— Читал, конечно. Но мне захотелось перечитать «Снежную королеву». Я очень люблю эту сказку. И вообще сказки люблю. Из сказки иногда можно больше понять, чем из какой-нибудь серьёзной книжки.
На улице, когда разговор начинается без всяких приготовлений, когда невольно стараешься шагать в ногу и притом надо обходить застоявшиеся ещё со вчерашнего дня лужи и можно не смотреть друг другу в лицо, — вот так, на ходу, разговаривается проще, легче, откровеннее обычного. Мы с Димой шли не спеша, и я чувствовала, что могу теперь спросить его о том, о чём не удавалось спросить в сутолоке коротких перемен, среди шумной и торопливой классной жизни.
— Скажи, Дима: мне так показалось, или ты в самом деле ни с кем в классе не дружишь?
— Это правда, — сдержанно ответил он.
— Почему так?
— А с кем же мне дружить?
Я искренне удивилась:
— Разве мало у нас хороших ребят? Горюнов, например?
— Как же я могу дружить с Горюновым, если он уже дружит с Гаем?
— А разве дружить можно только с одним человеком?
— Конечно!
Он сказал это тоном глубокого убеждения, и ещё одна нотка прозвучала в его голосе: он считал самый мой вопрос довольно нелепым.
— Я несогласна с тобой, — сказала я помолчав. — У меня в детстве было много друзей.
— А сейчас? — спросил он быстро.
— И сейчас много. И Гай дружит не с одним Толей, а и с Савенковым и с Румянцевым.
— А вот в книгах всегда один друг. Помните, у Герды — Кай, у Пети — Гаврик.
— А у Тимура много друзей.
— Но больше всех он дружил с Женей, — со сдержанным упрямством настаивал Дима.
— Так что же?
— Но не стану же я дружить с Горюновым, если Гай ему ближе!
Мне странно было слышать это. «Чего больше в этом мальчугане — рассудочности или самолюбия?» спрашивала я себя. Вслух я сказала:
— Неужели и в Ростове, в школе, где ты учился прежде, у тебя тоже не было друзей?
— У меня был один друг, но я в нём разочаровался, — не сразу ответил мальчик.
Он сказал это так, что я не стала спрашивать, почему именно он разочаровался.
— У нас хороший, дружный класс, — сказала я. — Поверь, есть много ребят, достойных твоей дружбы. И никогда не надо долго раздумывать о том, кто кому будет ближе. Если любишь человека, веришь ему — значит, он тебе друг. А если он дружит с кем-нибудь ещё, ну, значит, много хороших людей на свете. Разве не так?
— Так, наверно… Но я хотел бы иметь настоящего, единственного друга и на всю жизнь.
Мы уже давно шли совсем не в ту сторону.
— Евгения Викторовна станет беспокоиться, — сказала я. — Давай я выведу тебя обратно на Спиридоновку… Это очень хорошо: друг на всю жизнь. Но только одного я не понимаю: почему же единственный?
— Настоящий друг — обязательно единственный, — сказал Дима с упрямой, почти отчаянной решимостью отстоять свою мысль.
Домашнее сочинение
Вскоре после разговора с Кирсановым я дала ребятам тему для домашнего сочинения: «Мои товарищи».
Как много интересного узнала я из этих сочинений о ребятах, об их дружбе, о том, что ценят они в товарище, какого они мнения друг о друге!
«Борис мне друг, — писал Румянцев, — но дружить с ним трудно, потому что он слишком горячий. Другой раз и обругает ни за что. Но всё равно он мне друг и товарищ, потому что он честный и верный и никогда не подведёт. Прежде я дружил с Морозовым, но он слишком заносится. Задачку хочет решить непременно первый и не рад, если кто другой первый решит. Мне это не нравится».
Гай писал:
«В нашем классе некоторые считают, что у Горюнова характер не мужественный. Это неправда. Вот я приведу пример. Когда Толя заболел дифтеритом, ему сделали укол. И он даже не охнул, потому что в другой комнате был его дедушка. Дедушке его восемьдесят лет, он очень больной, ему вредно волноваться. Толя умеет держать себя в руках, он очень сдержанный. Толя очень много читает и много знает и всегда хочет ещё больше узнать. Он очень хороший товарищ и всегда рад всем помочь».
Меня не удивило, что добрая половина класса писала о самом Гае, называя его верным другом и хорошим товарищем. Но меня отчасти удивило и порадовало, что многие писали так о Саше Воробейко. Ребята полюбили его, это я замечала давно, но сочинения сказали мне много нового.
«Один раз, — писал Селиванов, — ребята с нашего двора решили меня поколотить. Они думали, что я утащил в школу их футбольный мяч, а это неправда. Они вчетвером меня подстерегли на углу и кинулись. Тут, откуда ни возьмись, Александр Воробейко; он, как лев, кинулся в самую гущу и всех раскидал. Если б не он, меня бы здорово избили. Из этого случая видно, что мой друг Александр Воробейко храбрый и всегда готов постоять за товарища».
Каждый рассказывал о двух-трёх своих товарищах. И только один Дима Кирсанов подал мне листок, на котором было написано: «У меня нет друзей».
А ниже стояло четверостишие:
Как хорошо, когда есть друг! Как тяжело и одиноко Среди чужих тебе людей, Когда любимый друг далёко!— Это ты сам сочинил? — спросила я.
— Да.
— О каком же далёком друге ты говоришь? О том, с которым ты дружил в Ростове?
— Нет, не о нём. Это так, вообще. Просто стихи — и всё…
При первой же встрече с Евгенией Викторовной я спросила её, с каким мальчиком дружил Дима в Ростове и почему поссорился с ним.
— Знаете, это такая грустная история! — воскликнула Димина тётя. — Видите ли, Димочка подружился в четвёртом классе с Юрой Лебедевым. Прекрасный мальчик. До этого Димочка ни с кем не сближался и рос одиноко. Юра — полная ему противоположность: весёлый, подвижной. Мы с мужем были рады, что он стал бывать у нас. Всё было хорошо. Но представьте, как-то учительница поручила Диме прочитать в классе вслух какой-то рассказ. Вот он читал, а Юра заговорился с кем-то из мальчиков и чему-то засмеялся. А в рассказе, понимаете ли, речь шла об очень грустных вещах, и Дима возмутился и сказал, что больше не намерен с ним дружить. Мы очень огорчились, но он такой упрямый…
Я была поражена. Конечно, далеко не всегда следует мириться с недостатками своих друзей и далеко не всё следует им прощать. Компромисс — непрочная основа для дружбы, но разойтись с другом из-за того, что он способен засмеяться не там, где этого требует текст книги, — этого я понять не могла. Откуда такая обострённая, такая чрезмерная суровость в двенадцатилетнем мальчугане?
И вот однажды — это было в ноябре, сразу после праздников, — выходя из класса, я столкнулась в дверях с Евгенией Викторовной. Глаза её были заплаканы, руки дрожали, когда она протянула мне какой-то свёрток:
— Вот, Дима просил передать… Это библиотечные книги. Может быть, кто-нибудь из детей будет так добр и сдаст их в библиотеку.
— А что с Димой, почему он сегодня не пришёл? — с тревогой спросила я (нас уже плотным кольцом окружили ребята).
— Ах, Марина Николаевна… — она всхлипнула.
— Да вы войдите, сядьте, — негромко сказал из-за моего плеча Саша Воробейко.
Я провела Кирсанову в класс, усадила на первую попавшуюся парту, и она стала рассказывать.
Оказывается, Диму ежегодно проверяют в диспансере — в порядке ли лёгкие. Последний рентген показал в левом лёгком какое-то круглое пятно, и профессор полагает, что это эхинококк. Диму уже положили в больницу. Недели три, вероятно, продлится исследование, а потом, если эхинококк будет найден, понадобится операция.
— Вы понимаете, мы ужасно боимся за него, — сквозь слёзы говорила женщина. — Он такой слабенький. А сам Дима просто в отчаянии. Говорит: «Как же я буду?.. Я отстану от класса!» Ему очень не хочется оставаться на второй год.
— Зачем же оставаться? Мы будем носить ему уроки, — сказал Горюнов, прежде чем я успела вымолвить хоть слово.
— А позволят ему в больнице заниматься? — спросила я.
— Врач сказал, что до операции можно. Но я думаю, это нереально. Я ведь занята на работе, я не смогу часто ходить в школу за уроками.
— Мы сами будем!.. Мы станем носить!.. Не беспокойтесь! — послышалось со всех сторон.
Евгения Викторовна с некоторым недоверием оглядела ребят. До этой минуты, поглощённая своим горем, она, вероятно, даже не замечала их. Поблагодарила, ещё раз попросила не забыть про библиотечные книги — Дима так волнуется из-за них — и ушла.
Тетради № 1 и № 2
— Первый пойду я, — тоном, не допускающим возражений, объявил на другое утро Саша Воробейко. — А по том будут ходить все по очереди, по партам, как сидим. Каждые два дня. Потому что если ходить раз в неделю, так это по скольку уроков будет? По пятнадцать задач сразу? А наизусть сколько учить? — И он укоризненно посмотрел на меня.
Потом Саша потребовал у Рябинина две тетрадки: «Специально для уроков Кирсанову: одна у него в больнице, другая у нас, и каждый раз будем менять. Понял?» Экономный Лёша посмотрел на него с некоторым сомнением, но тетради выдал.
После уроков братья Воробейко отправились в больницу и на следующий день принесли ворох новостей. Во первых, Саша побывал у Димы в палате; иными словами, ему удалось то, о чём только мечтала и чего не могла пока добиться Димина тётя. Сначала он попытался раздеться в гардеробе, но это, понятно, ему не удалось. Тогда, недолго думая, он сунул брату пальто и шапку, а сам, прячась за спины ходячих больных и спешащих, озабоченных санитарок, скользнул по лестнице на третий этаж. Там, выждав минуту, когда коридор опустел, он шмыгнул в 12-ю палату и быстро нашёл Диму.
— Он, конечно, очень удивился, даже глаза вытаращил, — рассказывал Саша. — А я ему говорю: «Удивляться некогда, вот тебе уроки, а вот записка от Марины Николаевны. Рассказывай, как ты тут устроился». Он говорит: «Устроился ничего, только очень скучно. Книги сюда можно носить только новые, а ребята кругом маленькие, даже поговорить не с кем. Большое, говорит, спасибо, что ты пришёл, я тебе очень благодарен, и за уроки спасибо». Я говорю: «Уроки мы тебе будем носить каждые два дня, ты не беспокойся. Можешь писать карандашом, только аккуратно». Он говорит: «Нет, моя кровать у окошка, есть куда чернильницу поставить, и пока я ещё ходячий, могу за стол садиться». Ну, мы так поговорили, а один парнишка дверь закрыл, чтобы меня из коридора не увидели. Вдруг слышим: «Что это в двенадцатой палате какая тишина подозрительная?» — и входит сестра. Тут она меня увидела и как раскричится! «Я, говорит, тебя считала взрослым, умным мальчиком!» Это Кирсанову. А я ей тогда говорю: «Чем же он виноват, раз я к нему сам пришёл?» А она говорит: «Я даже разговаривать с тобой не хочу, и, пожалуйста, сию минуту уходи отсюда!» И даже покраснела вся. Ну, я взял и ушёл. Мне там больше всё равно делать было нечего. Что надо, я и до неё успел!
Саша рассказывал всё это с таким победоносным видом, что можно было подумать, будто его проводили из больницы не бранью, а с музыкой и цветами.
— Как он — наверно, боится операции? — спросил Горюнов.
— Я не успел спросить, в другой раз спрошу, — спокойно ответил Воробейко, и я поняла: он не сомневается, что сумеет навестить Диму ещё не раз и не два.
— Завтра пойдёт Румянцев, а четырнадцатого — Левин. Одним словом, по партам, как дежурство, — распоряжался он. — Румянцев, держи! Это тетрадь № 2. Пойдёшь, передашь санитарке и подождёшь, пока Кирсанов вернёт первую тетрадку. Понял? Внизу подождёшь, там скамейка.
— А потом, — сказала я осторожно, — можно написать Диме письмо и расспросить его обо всём.
Но моё предложение не вызвало ни малейшего энтузиазма.
— Какой ему интерес с нами переписываться? — негромко сказал Борис. — Мы же «дети»…
— И не совестно тебе? — одёрнул его Рябинин.
Однако в тот раз Диме так никто и не написал.
С Румянцевым Дима прислал крошечную записку без обращения. «Большое, большое спасибо за уроки» — стояло в ней. Кроме того, он ответил на мою записку письмом, которое я после занятий прочитала ребятам.
«Дорогая Марина Николаевна! — писал он. — Как это всё неудачно получилось: заболел в середине года и, кажется, надолго. Меня здесь мучают разными исследованиями, каждый день выстукивают, выслушивают, пичкают какими-то горькими лекарствами, по два раза в день меряют температуру, и мне всё это очень надоело. Но другого выхода нет, и надо терпеть. Большое спасибо Вам за письмо и Саше Воробейко за то, что он ко мне пришёл. Я был очень благодарен ему. Он сказал, что ребята решили носить мне сюда уроки, но я сомневаюсь. Ведь на это нужно слишком много времени. Это письмо, вероятно, передаст Вам тётя Женя. Всего хорошего. Привет всем.
Д. Кирсанов».Хотя письмо было безукоризненно грамотное и все запятые стояли на местах, оно не порадовало меня. И снова — уже в который раз! — я подумала о Диме: трудно ему. Трудно сейчас, и станет ещё несравнимо труднее, если ничто не изменится. Почему случилось так, что Гай, Горюнов, Рябинин и другие ребята легко верят доброму слову и ждут от окружающих дружбы, привета, готовности помочь, а этот мальчуган пишет: «…я сомневаюсь. Ведь на это нужно слишком много времени»?
Я уверена, что тот же Левин, будь он на месте Димы, написал бы совсем по-другому: «Ребята, очень вас прошу, носите мне уроки. И, если можно, почаще», и никто бы не удивился этой просьбе.
* * *
«Здравствуй, Дима!
Твоё письмо Марине Николаевне передала не твоя тётя, а Румянцев, потому что мы будем носить тебе уроки каждые два дня. На это не нужно очень много времени, потому что в классе нас 40 и на каждого придётся по разу. Мы надеемся, что к тому времени, как в больницу надо будет пойти Игорю Соловьёву, ты уже давно будешь дома. Кроме уроков, шлём тебе «Два капитана» — это книга хоть и не новая, но выглядит хорошо, переплёт совсем как новый. Читай. Напиши, что тебе ещё прислать. Привет тебе от всех ребят».
Это письмо написал Диме Горюнов, а понёс его в больницу Левин.
Так и пошло изо дня в день — легко, просто, без шума. Тетрадки № 1 и № 2 стали аккуратно путешествовать из школы в больницу и обратно. Если кто-нибудь из ребят не мог пойти в тот день, когда наступала его очередь, обращались к Саше Воробейко. Он распоряжался всем, что касалось Димы и больницы, и его охотно слушались.
— Не забудь температуру посмотреть, — говорил он тому, кто назавтра должен был отправиться в больницу. — Как войдёшь, с правой стороны висит большой лист. Отыщи первое хирургическое отделение и смотри: Кирсанов — второй с конца.
Сам Саша ходил в больницу раз, а то и два раза в неделю вместе с братом — своим верным помощником и оруженосцем. Это непостижимо, но единственный, кому удавалось иной раз проникнуть в святая святых — 1-е хирургическое отделение больницы, был именно Саша.
Я только молча удивилась, когда одна санитарка, немолодая, с энергичным лицом и серьёзным, внимательным взглядом чуть выцветших голубых глаз, сказала мне про Сашу:
— Люблю таких. Дисциплину понимает. Скажешь ему: «Пускаю тебя на десять минут, а больше нельзя», так он минуты лишней не просидит в палате. Велишь говорить тихо — ни разу голоса не повысит. И вежливый. Нет того, чтобы грубить. Я таких детей очень уважаю.
А врач как-то мимоходом заметил:
— Он хорошо действует на больного: успокоительно и ободряюще. Положительная натура.
Да, год назад я никак не поверила бы, что у ученика Александра Воробейко окажется такой лёгкий характер! Всё он делал просто и непринуждённо, всё удавалось ему. Может быть, самой замечательной чертой этого лобастого веснушчатого мальчугана с грубоватыми ухватками была его чуткость, безошибочный такт. Ещё в давней, памятной истории с ушанкой именно он воспротивился предложению Ильинского торжественно вручить Савенкову подарок на сборе. И сколько раз с тех пор при самых разных обстоятельствах он без долгих раздумий поступал как раз так, как было лучше и правильнее! Узкие зеленоватые глаза его попрежнему смотрели насмешливо, в разговоре он был резковат, но вот, оказалось, он умеет быть и заботливым и ласковым.
— Да вы не расстраивайтесь, — уговаривал он Евгению Викторовну. — Видел я Диму — выглядит хорошо, температура нормальная. Только о вас очень скучает, — прибавил он подумав, — а так всё хорошо.
Почему он принимал такое горячее участие во всём, что относилось к Диме? Если был в классе мальчик, который с самого прихода к нам Кирсанова не обменялся с ним и двумя словами, так это именно Саша. Но его действительно всегда касалось всё, что делалось в классе: всё — большое и малое. Он вкладывал всю душу в переписку с Неходой, был самым жарким поклонником Левиных талантов. О драмкружке и говорить нечего: стоило приняться за подготовку новой пьесы, и Саша готов был просиживать на репетициях до глубокой ночи. Я думаю, что с таким же жарким увлечением он в своё время опустошал грузовики с яблоками; всё, что он делал, он делал ревностно, горячо, с душой. Популярность, которой он стал пользоваться среди ребят, несомненно радовала его, согревала и веселила, и он чувствовал себя в школе и в классе, как рыба в воде.
Операция
От Димы записки стали приходить чаще, и уже не на моё имя, а на имя класса. Ребята время от времени добывали для него новые книги, журналы, пересылали ему в больницу «Пионерскую правду» и журнал «Пионер». В конце ноября исследования окончательно подтвердили: да, в области левого лёгкого у мальчика эхинококк. На первый вторник декабря была назначена операция.
Мы волновались в этот день. Ребята плохо слушали на уроках, и у учителей не хватало духу сердиться на них. Евгения Викторовна с самого раннего утра сидела в больнице, и туда же сразу после уроков пошла, наверное, половина класса.
Мы застали Евгению Викторовну на скамье в вестибюле.
— Сейчас идёт операция, — едва шевеля губами, сказала она, когда мы подошли, и сразу умолкла, видимо не в силах говорить; потом молча протянула мне записку:
«Дорогая тётя Женя, через полчаса операция. Чувствую себя хорошо, не волнуйся, всё будет в порядке. Твой Дима».
— Это, наверно, все из школы Кирсанова? — с улыбкой сказала, проходя мимо, молоденькая сестра в ослепительно белом халате и столь же ослепительной косынке на кудрявых волосах. — Вот счастливец, к нему чуть не каждый день из школы приходят!
— У Кирсанова сейчас операция, — строго заметил Саша.
— Ах, вот что, операция!..
И, сочувственно оглядев нас, сестра исчезает, а мы остаёмся и ждём… ждём долго… На измученном лице Евгении Викторовны всё глубже обозначаются какие-то старческие морщинки; ребята переводят с неё на меня беспокойные, недоумевающие глаза, а я чувствую, что во мне растёт неотвязная, пугающая тревога. В самом деле, мальчик такой хрупкий, а операция, должно быть, серьёзна. И почему так долго?..
В пятом часу в вестибюль спустился дежурный врач и, отыскав взглядом Кирсанову, поспешно подошёл к нам.
— Только что закончили операцию. Всё хорошо, всё благополучно, — быстро сказал он, понимая, с каким нетерпением и тревогой все ждут этих слов.
Евгения Викторовна побледнела ещё больше, а ребята обрадованно зашумели.
— Где вы находитесь? Прекратите сейчас же, а лучше всего идите на улицу! — резко сказал врач.
И ребята, не дожидаясь повторного приглашения, высыпали во двор.
Евгения Викторовна ни за что не хотела уходить из больницы; мы почти насильно отвели её домой, доказывая, что по телефону она в любую минуту сумеет связаться с больницей и узнать не меньше, чем сидя здесь, в вестибюле.
— Да где уж, — рассказывал на другое утро Саша. — Разве она усидит дома! Она сразу вернулась в больницу и до поздней ночи там сидела.
— А ты откуда знаешь?
— Я сам с ней сидел, — мимоходом пояснил Саша и гордо продолжал: — А молодец Кирсанов! Врач говорит: шёл на операцию и хоть бы глазом моргнул! Ни капельки не боялся! Температура нормальная, — продолжал он. — Уроков пока носить не надо, он будет лежать и не сможет заниматься.
Но ребята продолжали ходить в больницу и без уроков: носили записки, справлялись о температуре, о самочувствии. Воробейко ухитрялся забегать в больницу рано утром, ещё до уроков, и перед звонком сообщал последние новости.
Через десять дней Диму выписали. На следующий день к нам пришла Евгения Викторовна — постаревшая, осунувшаяся, но счастливая и сияющая.
— Мы так счастливы, что всё прошло благополучно и Дима наконец дома! — сказала она. — Марина Николаевна, дорогая, может быть заглянете к нам? И, может, кто-нибудь из детей зайдёт? Дима так хочет всех видеть!
Вечером мы отправились к Диме: братья Воробейко, Горюнов и я.
Он лежал высоко на подушках, очень бледный, почти прозрачный. Глаза стали ещё больше и смотрели на нас внимательно и вопросительно. Мы сели у его кровати.
— Я очень рад, что вы пришли, — сказал Дима.
— И мы рады, — спокойно ответил Саша. — Вот тебе письма, держи: это от Гая, это от Рябинина, а вот книжка — это от Бориса: «Дорогие мои мальчишки». Интересная. К тебе все хотели пойти, но я сказал: «Мы квартиру разнесём, если сразу все явимся».
— Я, наверно, отстал. — В тихом голосе Димы звучала тревога. — Что вы теперь проходите? Я ведь уже десять дней совсем не занимаюсь!
— Ну, сейчас повторение, а потом зимние каникулы, — сказала я. — Как раз десять дней, которые ты не — занимался, так что сможешь наверстать.
Саша ни минуты не молчал — и не потому, думается мне, что боялся, как бы в молчании не родилось чувство неловкости, нет, по другой причине. Он, видимо, рассудил так: пришёл в гости — надо, чтобы всем было весело.
Он рассказывал подряд все школьные новости:
— Видел бы ты, какую полку смастерил Ильинский! Смеху было! Лёва говорит: «Боюсь, на ней книги стоять не будут». А Ильинский ему: «А мы её косо повесим, может тогда устоят?» А Левин такую марку раздобыл — Морозов прямо позеленел от зависти. Всё говорит: «Поменяемся, поменяемся», а Борис ни в какую. «Мне, говорит, она самому нужна, зачем я стану меняться?» И верно, чего ему меняться, если марка редкая? Ох, до чего Морозов прижимистый! Я бы на месте Бориса дал ему марку — век бы помнил. А Селиванов хотел тебе в подарок голубя послать, насилу отговорили. Ну что бы ты делал с голубем? Тебе лежать надо, а не голубей гонять…
Дима отвечал тихо, с видимым усилием. Я старалась сократить визит, но он несколько раз удерживал:
— Нет, не уходите… посидите ещё немножко!
Наконец я решительно поднялась и выразительно посмотрела на ребят. Они тоже встали.
— Приходите ещё, — попросил Дима. — Привет всем передайте… Марина Николаевна, может быть вы возьмёте мои тетради, в которых я в больнице делал уроки? Они ведь не проверены…
Я взяла тетрадки, и мы распрощались.
Мы повторяли глаголы
Дома я посмотрела эти тетради, по русскому языку и арифметике, и ещё раз удивилась: всё было выполнено с большой старательностью — и упражнения по грамматике, и задачи, и примеры.
В тетради по своему предмету я с истинным удовольствием поставила «пять», а другую передала Лидии Игнатьевне, которая преподавала в моём классе арифметику.
— Молодец какой! — сказала она, раскрыв тетрадку. Затем стала просматривать её сначала бегло, потом всё медленнее и внимательнее и, покачав головой, убеждённо повторила: — Просто молодчина! Простите, когда же это у него была операция? Шестого? Взгляните, эти задачи он решал накануне… Нет, знаете, что-то есть в этом мальчугане, помимо того, что он очень способный…
И я согласилась с ней.
Выздоровление Димы совпало с горячими днями: кончалась вторая четверть, то и дело проводились контрольные работы, и, кроме того, мы готовились к каникулам, к Новому году, к ёлке. У всех чудесное, радостное настроение. Бывают такие удачные дни, когда все неприятности и огорчения позади, а новых, кажется, вовсе никогда и не будет…
Попрежнему каждые три-четыре дня кто-нибудь навещал Диму, и однажды Борис сказал мне:
— А он ничего, Кирсанов, совсем даже не задаётся. Просто у него характер такой, да? Странный характер — верно, Марина Николаевна?
Меня порадовало, что даже Борис, больше всех не любивший Диму, в конце концов понял: характер у всякого свой, у иного понятный и лёгкий, а у другого — потруднее, и нельзя по первым, внешним проявлениям судить о человеке.
Накануне Нового года я опять навестила Диму. Он уже мог ходить по комнате и снова сидел за уроками («Даже слишком много сидит, по-моему, — пожаловалась мне ещё в передней Евгения Викторовна. — Никак не оторвёшь. А я, знаете, беспокоюсь, не повредит ли ему — ведь столько часов за тетрадками!») Он поднялся мне навстречу, и я подумала, что в его взгляде, в выражении лица уже нет прежней замкнутости и вежливой отчуждённости. Весь его облик стал мягче, добрее, словно что-то растаяло в нём, хрустнул какой-то ледок.
— Как ты себя чувствуешь, Дима?
— Хорошо, спасибо. Только очень надоело сидеть дома. Я соскучился.
— По школе?
— По школе, по ребятам…
— Ну вот, после каникул со всеми увидишься. Тебя в классе ждут.
— Ждут? — переспросил он и вдруг улыбнулся не знакомой мне, смущённой и довольной улыбкой.
А одиннадцатого января Дима впервые после болезни пришёл в школу. В это утро я вошла в класс до звонка и невольно остановилась в дверях. Никогда я не видела Диму в центре такой толпы, среди стольких весёлых доброжелательных лиц.
— Не тормошите его, — сказала я. — Он после операции, с ним надо обращаться осторожно… А теперь садитесь, у меня есть для вас новогодний подарок.
— Что? Что? Какой подарок? — закричали со всех сторон.
— Угадайте!
— Диктант из министерства? — с плутоватой улыбкой спросил Горюнов.
— Письмо! — воскликнул Борис.
— Правильно, письмо. Вот, слушайте: «Дорогие мои друзья! Большое, большое вам спасибо за ваши письма и за приглашение приехать в Москву. Я надеюсь, что приеду к вам и вы мне покажете свою школу, свой класс — и Москву. Мне хочется исходить её вдоль и поперёк и на всё посмотреть своими глазами. Но больше всего мне хочется посмотреть на вас — на всех вместе и на каждого в отдельности. Напишите мне поскорее, как чувствует себя Дима Кирсанов, я очень беспокоюсь за него…»
При этих словах все обернулись к Диме и посмотрели на него, а он удивлённо раскрыл глаза и вдруг, сообразив что-то, густо покраснел.
Я дочитала письмо Анатолия Александровича и начала урок. Мы повторяли глаголы. За пятнадцать минут до звонка я дала ребятам самостоятельную работу: придумать по три предложения с глаголами первого и второго спряжения, а сама стала ходить по рядам. Я тихо переходила от парты к парте, наклоняясь и заглядывая в тетрадки поверх прилежно наклонённых голов.
«Я сегодня напишу (первое спряжение) письмо на Долгую Губу», прочитала я из-за плеча Димы Кирсанова. «Мы получили (второе спряжение) письмо от нашего далёкого друга», писал Гай. «Каникулы мы провели (первое спряжение) очень весело», старательно выводил Селиванов. «В нашем зале до сих пор стоит (второе спряжение) большая ёлка», совсем было благополучно дописывал младший Воробейко, но не удержался и посадил над последним «а» большую кляксу. А я переходила от парты к парте и над ученическими тетрадками в одну линейку, исписанными знакомыми почерками, будто видела другие строки, чудесные, мудрые слова:
«Каждый человек, точно осколок стекла, отражает своим изломом души какую-нибудь маленькую частицу, не обнимая всего, но в каждом скрыт свой бубенчик, а если встряхнуть человека умело, он отвечает, хотя неуверенно, но приветно».
Это сказал Горький, самый любимый мой писатель. И, как всякое его слово, это было сердечно, мудро и справедливо.
Поездка в Болшево
— Кто приехал! — услыхала я радостный возглас Лёши Рябинина.
Только что отзвенел последний звонок. Лёша, сидевший ближе всех к двери, распахнул её и, должно быть, увидел желанного гостя. Но я доканчивала запись в журнале и ещё не видела, кто был там, в дверях.
— Здравствуйте! Здравствуйте! — кричали ребята.
Я подняла голову. На пороге стоял Шура.
— Как всегда, без письма, без телеграммы, не предупредив, — сказала я, протягивая руку.
— Когда неожиданно, ещё лучше! — убеждённо заявил Борис.
— Совершенно верно, — подтвердил и Шура.
— Вы надолго? Вы к нам ещё придёте? Мы вам что покажем! — неслось со всех сторон.
— Завтра же приду. Ты мне обещал марки показать, — напомнил он Кире. — И вы мне покажете письма Анатолия Александровича, ладно? Они, наверно, у тебя в шкафу хранятся, Лёша?
— Может, сейчас? — с готовностью отозвался Лёша, делая шаг в сторону шкафа.
— Нет, погоди, я ведь прямо с вокзала. Но завтра ровно в половине третьего я буду здесь.
Мы простились с ребятами и вышли. Переулок был засыпан пушистым, только что выпавшим снегом.
— Что ж, — спросила я как могла ехидно, — опять приехал за материалом для статьи?
Шура даже приостановился на секунду;
— Неужели ты сердишься? Вот уж зря! Ты подумай, зато сколько у тебя новых друзей! Ты ведь сама мне об этом писала.
— Да, правда. Я просто пошутила. Знаешь, я так и думала: раз ты опять умолк, значит собираешься приехать… Надолго?
— Дней на десять. Привёз для газеты целую полосу… ну, то есть страницу. И, кажется, интересную, А подсказали мне её тоже твои ребята.
— Как так?
— Посмотрел я в прошлом году вашу выставку, и с тех пор не оставляла меня вот какая мысль. У вас там только участники войны. А что, если взять школьный выпуск — понимаешь, целый выпуск… скажем, канун войны, сорок первый год! С тех пор прошло почти шесть лет. Как прожили эти годы юноши и девушки, которые как раз накануне войны вступили в самостоятельную жизнь? Как сложилась их судьба? Интересно?
— Интересно, по-моему. Но как же всех разыскать?
— Вот придём, я тебе всё покажу… — Шура умолк, и по лицу его я поняла, что он подумал о другом. — У меня тут есть одно поручение, — снова заговорил он. — Недавно моего товарища известили, что его сынишка, потерявшийся во время войны, находится в подмосковном детдоме. Товарищу сейчас оставить завод невозможно, а у меня как раз командировка в Москву, вот он и попросил привезти ему сына. Подумай, он все годы разыскивал мальчишку, потерял всякую надежду — и вот, пожалуйста: находится в Болшевском детском доме, можете получить! Здорово? А вот мы и дома!
* * *
Шура, как и обещал, пришёл назавтра к моим ребятам. Он рассказал им, как ездил в Покровское, как передал наши книги в сельскую школьную библиотеку. Рассказал о своих поездках по Украине и даже о том, что должен отвезти своему товарищу сына, которого отец не видел целых шесть лет. Тут, конечно, пришлось рассказать всё подробно: отец мальчика был на фронте, мать погибла во время бомбёжки, остался двухлетний малыш, который умел сказать о себе только то, что его зовут Вова Синицын, а маму — Марусей. Кроме того, в кармане пальто у него нашли карточку, на которой он был снят, очевидно, с родителями, — это и было его единственным документом.
Заведующая детским домом, где отыскался теперь Вова Синицын, писала Шуриному товарищу, Григорию Алексеевичу:
«Уважаемый тов. Синицын! Все признаки сходятся, мальчика действительно нашли под Псковом в 1942 году. Он сказал, что его зовут Вовой, а мать — Марией. Карточку, на которой сфотографирован Вова с родителями (мальчик на коленях у отца, мать — слева, в белой блузке с галстуком, отец в тёмном костюме), я прислать Вам не могу, так как это единственный Вовин документ. Если она затеряется, у него не останется ничего, что могло бы удостоверить его личность. На днях я её пересниму и вышлю. Но лучше приезжайте сами. У мальчика голубые глаза и светлые волосы, над губой с левой стороны тёмное пятнышко. Посылаю Вам его теперешнюю фотографию, но вряд ли Вы сможете узнать в восьмилетнем мальчике своего двухлетнего сына. Ждём Вашего приезда.
Л. Залесская».Письмо переходило из рук в руки. Потом Шура вынул из бумажника карточку, на которой были изображены улыбающийся мужчина в тёмном костюме, держащий на коленях толстощёкого глазастого малыша, и молодая женщина в белой блузке с галстуком.
— Значит, заведующая всё-таки послала карточку? — спросил Борис.
— Нет, у Григория Алексеевича сохранилась такая же. Он дал мне её с собой. Вообще-то особой надобности в этом нет: я и так пойму, Григорий ли Алексеевич снят на той фотографии, что хранится в детском доме.
— Знаете что… — нерешительно начал Горюнов. — Вы когда туда поедете?
— Послезавтра.
— Возьмите нас с собой! — воскликнули сразу несколько человек.
— У нас в воскресенье поход на лыжах, — напомнил Ильинский.
— Ну и что же? Возьмём лыжи. Доедем поездом до Болшева, а там на лыжах… Возьмите нас! Пожалуйста! — настойчиво упрашивали ребята.
Шура вопросительно посмотрел на меня.
— Марина Николаевна согласна! — хором закричали, наверно, десятка полтора голосов, прежде чем я успела вымолвить хоть слово.
…Когда мы в Болшеве сошли с поезда, Дима Кирсанов, Кира Глазков, Федя Лукарев и я остались дожидаться «кукушки»: Диме после операции ещё нельзя было ходить на лыжах, у Киры лыж не было, а Федя умудрился сломать свои по дороге и теперь был мрачнее тучи. Остальные вместе с Шурой, расспросив о дороге, двинулись к лесу.
— Я всё думаю: а что, если этот мальчик не настоящий Вова Синицын? — озабоченно сказал Дима.
— Всё равно он настоящий, — резонно возразил Кира.
Но Диму, видимо, занимала какая-то своя мысль. Всю дорогу он молчал и с нетерпением поглядывал в окно — скоро ли доедем?
«Кукушка» быстро доставила нас на станцию. Мы вышли из вагона и, никого не расспрашивая, прямой широкой дорогой пересекли, поле, потом белый и тихий лесок, по пояс утонувший в пухлых сугробах после вчерашнего снегопада. Но вот между стволами стали видны колонны беседки и большая белая дача, обнесённая высокой узорной решёткой. Откуда-то слышались звонкие голоса, смех. Конечно, это и был детский дом.
Мы не пошли к воротам — надо было подождать наших. Побродили немного по лесу, поболтали. Дима по-прежнему был молчалив, а Федя повеселел, забыв про сломанную лыжу; он и Кира не давали скучать ни мне, ни друг другу. Я не очень понимала, какой дорогой двинулись наши и скоро ли будут здесь, и побаивалась, как бы моя тройка не замёрзла. Поэтому мы принялись лепить лыжника. Федя увлёкся и вставил в руку нашего снежного богатыря вторую, уцелевшую лыжу, которую он до сих пор таскал с собою, опираясь на неё, как на посох. Палки нёс Кира. У лыжника были глаза, нос и рот из шишек и даже подобие шлема из еловых веток.
Наконец часа через полтора за деревьями замелькали знакомые фигуры, раскрасневшиеся физиономии и послышались голоса, которые могли принадлежать только Левину и Саше Воробейко. Эти двое не знали полутонов; даже когда они разговаривали со мною с глазу на глаз, я не могла отделаться от ощущения, что они рассчитывают на аудиторию по меньшей мере в полсотни человек.
Наши пятнадцать лыжников шли гуськом, соблюдая дистанцию в два-три метра. Это был внушительный отряд. Впереди шёл Шура; замыкающим, как всегда — Лёша Рябинин. Мы помахали им, и они подкатили к нам — румяные, разгорячённые, весёлые, с блестящими глазами. Лабутин тотчас раскрыл свою аптечку и стал придирчиво осматривать всех по очереди. Вот он уже пытается доказать Гаю, что у него обморожена щека. Мы хохочем: Саша румян, как яблоко.
— У Бориса белые уши! — уверяет Лабутин.
— А тебе что надо: чтоб они у меня были зелёные? — спрашивает Боря.
— Если белые, значит обморожены! Давай я потру варежкой, а потом смажу.
— Мажься сам, пожалуйста!
Лабутину непременно надо пустить в ход своё уменье массажиста и запас вазелина, да вот беда: никто не обморозился!
— Ну, вот что, — говорит Шура. — Всех нас в детдом, наверно, не пустят — разная там инфекция и прочее такое. Поэтому подождите немного за оградой. Я войду, всё выясню и сразу вернусь к вам.
Мы остановились поодаль, а Шура пошёл к калитке. Сквозь решётку мы видели, как он подошёл к крыльцу, позвонил; ему открыли, и дверь снова захлопнулась. Ребят охватила настоящая лихорадка. Я не могу отвлечь их ни расспросами о том, как они дошли сюда, ни рассказами о том, как доехали мы на «кукушке» и как потом лепили лыжника. Им не до того: они ждут.
Наконец дверь снова отворилась, и появился Шура с высокой немолодой женщиной в пальто, накинутом на плечи. Мы внимательно смотрим на обоих, стараясь прочесть ответ на их лицах, но они идут не спеша, разговаривают о чём-то и даже не смотрят в нашу сторону. Румянцев и Воробейко кидаются к воротам, за ними — остальные.
— Александр Иосифович! Ну что? Как? Он или не он?
Шура остановился и поднял обе руки: в каждой было по карточке — два одинаковых снимка, только один сильнее выцвел и пожелтел. И на обоих снимках мы увидели одно и то же: молодую женщину в белой блузке и отца с мальчуганом на коленях.
— Ур-ра! — закричал Гай, и все дружно подхватили.
Взлетели вверх шапки Лабутина, Савенкова, ещё чья-то, и, конечно, поднялся невообразимый шум; впрочем, он быстро сменился сконфуженным молчанием, потому что женщина сказала с лёгким укором: «Здравствуйте, дети». Тут мы сообразили, что на радостях забыли поздороваться, забыли об всём на свете, кроме одного: Вова Синицын оказался действительно тот самый, настоящий и, значит, теперь поедет с Шурой к отцу.
Я извинилась за себя и за мальчиков. Шура представил нам заведующую детским домом Людмилу Ивановну Залесскую.
А к окнам белой дачи изнутри уже прилипли чьи-то лица и ладони, расплющились чьи-то любопытные носы.
— Пойдёмте, — сказала Людмила Ивановна, — я напою вас горячим чаем.
— А как же инфекция? — спросил Лабутин.
Людмила Ивановна внимательно посмотрела на него и на его сумку с красным крестом:
— Ничего не поделаешь, не морозить же вас тут.
— Вот это правильно, — вполголоса, но так, что слышали все, сказал Воробейко. — Пока мы шли, на нас все микробы перемёрзли.
— Я покажу вам Вову, — сказала Людмила Ивановна, введя нас в дом. — Но вы ему пока ничего не говорите, не будоражьте его. Мы с ним позже потолкуем.
Мальчики вытерли лыжи, оставили их в сенях, разделись, сложили на широкой скамье в передней верхнюю одежду и, осторожно ступая, словно боясь что-нибудь помять или сдвинуть, вошли в просторную, светлую комнату, на дверь которой показала нам Людмила Ивановна.
Посреди комнаты стоял на стуле лобастый белобровый мальчуган лет пяти и самозабвенно кричал:
— Скорей! Стихи придумал! Скорей слушайте! Скорей, а то забуду!
Вокруг него толпились детишки — некоторые были ещё меньше его; самым старшим было лет по девять-десять, не больше. Лобастый открыл рот, как видно собираясь обнародовать своё произведение, но увидел нас, соскочил со стула и кинулся навстречу. Нас тотчас окружили, и в одну минуту мои ребята перемешались с хозяевами.
— Что же ты придумал? — спросила я лобастого малыша.
Он не заставил себя просить и, поднимая белые брови, тараща глаза и забавно округляя рот, продекламировал свои стихи; они, как и их автор (судя по его внешности и интонациям), были в высшей степени жизнерадостны:
Мы зимой с горки катались! Нам было весело, и мы смеялись!А вот ещё:
Машина по дороге едет И огнями светит! Нам светло И весело!И ещё:
Медведь по лесу идёт! Шишки несёт! Песни поёт!Ребята — все без исключения: и мои и здешние — громко захлопали поэту, но он, не успев перевести дух, сразу закричал:
— А теперь отгадайте, что такое: не мальчик, а зовут Мишкой, ходит по лесу и ветки ломает?
— Подумаешь, загадка! — прозаически говорит Соловьёв. — Ясно: медведь.
Лобастый мальчишка разочарован.
— Дурак! — шипит Игорю Рябинин и просит: — Ну-ка, загадай ещё.
В ответ раздаётся целый хор голосов: как видно, у каждого есть в запасе ворох загадок. Но лобастый и тут на первом месте — он кричит громче всех:
— Хитрая, рыжая, кур ворует — это что?
В самом деле, что бы это могло быть!
— Белка? — к изумлению товарищей, говорит деликатный Лёша.
Хозяева в восторге:
— Не отгадал! Не отгадал! Разве белка кур ворует? Она сама меньше курицы!
— Коза? — догадывается Лёша.
Снова радостный смех. Соловьёв, не вытерпев, вносит ясность:
— Лиса!
— А что такое — с четырьмя ножками, с двумя спинками, на чём спят? — спрашивает маленькая смуглая девочка.
Теперь мы уже понимаем, как надо себя вести.
— Диван? — высказывает Шура робкую догадку.
— Скамья? — спрашивает Савенков.
— Кровать! — победоносно объявляет девочка.
Когда в комнату снова входит Людмила Ивановна, все мы чувствуем себя старыми знакомыми. Нам только хочется разгадать ещё одну загадку: который Вова Синицын?
— Знакомьтесь, — говорит Людмила Ивановна. — Вот это Егор Вареничев (лобастый стихотворец кивает нам), это Валя Смирнова (она указывает на смуглую девочку, которая загадывала про кровать), это Вова Синицын, это Павлик Волков, это…
Она называет всех детей подряд, но мы уже смотрим только на широкоплечего голубоглазого мальчугана, который, в свою очередь, внимательно разглядывает нас.
— Правильно! — жарким шёпотом сообщает мне Воробейко. — Над губой пятнышко, видите? Я бы его сразу узнал, он совсем такой, как на карточке.
До чего же любопытно видеть моих ребят в этой новой обстановке! Толя Горюнов смущённо поглядывает на крохотную девочку, которая ходит за ним по пятам и время от времени окликает его: «Мальчик, а мальчик!»
— Чего тебе! — решается он наконец.
— А я умею писать букву «у»!
Толя растерян, он не знает, что полагается отвечать в подобных случаях. Зато Кира Глазков, который растёт среди множества братьев и сестёр, Селиванов и Савенков, у которых дома младшие сестрёнки, Лёша, который сам растит своих братьев, и ещё многие чувствуют себя с малышами превосходно. Дима, Саша Гай, оба Воробейко и Боря Левин не спускают глаз с Вовы. Они придвигаются к нему, и я слышу, как завязывается разговор:
Дима: Тебе тут хорошо?
Вова: Хорошо.
Боря: А если придётся уехать?
Вова (недоумевающе): А зачем мне уезжать?
К ним подходит Шура, садится на скамью, притягивает к себе Вову. Мальчик немного удивлён, но держится попрежнему просто и непринуждённо.
— Вы их учитель? — спрашивает он Шуру.
— Нет, я просто приехал к ним в гости. Сначала к ним, а потом вместе с ними — сюда, к вам.
— А вам у нас нравится?
…Потом мы пьём чай. Гостей гораздо меньше, чем хозяев, но каждый детдомовский малыш непременно хочет сидеть рядом с кем-нибудь из нас. Наконец мы рассаживаемся.
Перед каждым дымится на тарелке горячая картошка, и это очень кстати: все мы — и лыжники и не лыжники — нагуляли отличный аппетит.
Дав ребятам отдохнуть после еды, мы с Шурой начинаем торопить их домой. За окнами уже сгущается синева сумерек. Пора прощаться.
Ребята нехотя одеваются, разбирают лыжи.
— Прощайте, до свиданья, приходите ещё! — несётся нам вслед.
И снова — лес, поле, полутёмный вагончик «кукушки», пересадка в Болшеве… За окном смутно мелькают высокие силуэты сосен, усыпляюще стучат колёса… Ребята притихли.
Они, как и я, взволнованы. Только что у нас на глазах повернулась человеческая судьба, судьба мальчика Вовы Синицына и незнакомого инженера из города Сталино. Теперь они будут жить вместе.
— Прямо как в книге, — вздыхая, говорит Борис.
— Александр Иосифович, — вдруг спрашивает Дима, — а если бы этот Вова Синицын оказался не тем, не сыном вашего товарища, — что тогда?
— Мне Григорий Алексеевич сказал: «Всё равно привези, будет сыном», — отвечает Шура.
Охотники за марками
На другой день только и разговоров было, что о поездке в детский дом. Вопросы так и сыпались: «Какой из себя Вова?», «Знает ли он, что нашёлся его отец?», «Много ли ребят в детском доме?», «А когда Александр Иосифович опять туда поедет?», «А мне можно будет с ним поехать?», «А мне?», «А мне?», «Эх, зачем я пошел вчера в кино!», «А я-то! И чего меня как раз на каток потянуло!..»
Те, кому не удалось накануне поехать в Болшево, горько жалели. Даже Морозов огорчился. Но зато он принёс альбом с марками. Он слышал, как Шура напомнил о марках Кире, и, видно, решил показать свою коллекцию.
У Киры на парте тоже лежали тщательно завёрнутые альбомы.
— Да разверни, покажи! — каждую перемену приставал к нему Борис.
Мягкосердечный Кира только качал головой: его коллекцию ребята видели десятки раз, но сегодня дело слишком серьёзное, и он неумолим. А Андрея никто и не просит: все знают, что до назначенного часа он ни за что не покажет свои сокровища.
Кира и Андрей ревниво поглядывали друг на друга. Нетерпение остальных возрастало с каждым часом. К концу последнего урока я стала побаиваться: вдруг что-нибудь помешает Шуре зайти к нам как раз сегодня, когда его так ждут? Но он пришёл, как обещал, минута в минуту, к последнему звонку.
— Глазков марки принёс! И Морозов тоже! — вместо приветствия крикнул Борис.
Андрей первым развернул свою коллекцию.
Сначала шли марки Тувинской республики. Тут были квадраты, треугольники и ромбы — голубые, зелёные, алые, коричневые. Были удивительно красивые виды: тонко вычерченные ели на фоне далёких снежных гор, озёра, уснувшие среди крутых берегов. Много было всяких зверей: белка с пушистым хвостом; изогнувшаяся всем гибким, пружинистым телом, готовая к прыжку куница; презрительно выпятивший нижнюю губу верблюд; огромный бык с широко расставленными рогами; хмурый медведь, который, кажется, неуклюже и решительно шагает прямо на нас. А вот целые сценки. Воины и охотники бешено мчатся на конях. Охотник с арканом остановил на бегу и поднял на дыбы огромного лося с ветвистыми рогами. Рыбак, упершись коленом в борт лодки, поражает острогой большую рыбину, взметнувшуюся над водой. Ещё охотник — он пронзает копьём медведя. Стрелок до отказа натянул тетиву своего лука. Караван верблюдов в пустыне. Мастерица трудится над большим узорчатым ковром. А вот и острокрылый самолёт несётся высоко в небе. Жизнь, труд, поэзия целого народа отразились в этих разноцветных кусочках бумаги с аккуратными зубчатыми краями.
— Красиво! — то и дело вздыхает кто-нибудь. — А интересно-то как! Ух, смотри, вот это конь! Не скачет — летит!
Потом замелькали марки других стран — портреты герцогов и королей в коронах, причудливые растения, животные, орнаменты… На марках Либерии — кокосовая пальма; множество пальм на марках Того. Вот Мозамбик — апельсиновое дерево. Борнео — орангутанг, крокодил, павлин. Вот жираф на марках Ниассы. И ещё и ещё — слоны, змеи, антилопы… Пёстрый дождь красок. Андрей бережно переворачивает листы. Изредка он даёт короткие пояснения:
— В 1854 году в Западной Австралии появилась марка с изображением дикого лебедя… А это китайская пагода… Это египетская пирамида. В 1868 году Оранжевая республика выпустила марку, которая…
— Оранжевая республика? — повторяет Шура. — А где она находится?
Андрей не успевает ответить: тихий Горюнов, смахнув по дороге на пол чей-то портфель, кидается к карте.
— В Африке! — кричит он. — На юге! — И, спохватившись, доканчивает смущённо, чуть ли не шёпотом: — На границе с Трансваалем.
— А где острова Тонга? — спрашивает Шура. — Постой-ка, тут изображено хлебное дерево — ты о нём знаешь что-нибудь?
— Я знаю! — восклицает Борис. — У него плоды такие: внутри мякоть, её завёртывают в листья и пекут, и получается вроде хлеба. А у коры липкий сок, им приманивают птиц. У кокосовой пальмы листья тоже идут в пищу, они как овощи. Волокна плода идут на цыновки и канаты, они очень прочные.
— Вот ты, оказывается, сколько интересных вещей знаешь! — с удовольствием замечает Шура и поворачивается к Андрею: лицо Морозова слегка омрачилось из-за этой не ему адресованной похвалы.
— У тебя интересная коллекция. Толковая, разнообразная. А кроме тувинских, наших марок ты не собираешь?
— Только недавно начал.
— А вот у Глазкова — советские марки! — с гордостью сообщает Рябинин.
Кирин альбом
Ещё в прошлом году, узнав, что в классе у меня три марочника — Кира, Борис и Андрей, — я отыскала несколько руководств по филателии и внимательно их прочла. Авторы этих пособий в один голос утверждали, что коллекционирование приучает к аккуратности, вниманию, системе, порядку и воспитывает различные прекрасные качества. Но, как я с грустью убедилась, к Кире это не имело ни малейшего отношения. Он был удивительно рассеян, тетради его пестрели кляксами и ошибками. Правда, альбомы его оказались чудом аккуратности. Он никому не позволял пальцами дотрагиваться до марок, сам брал их пинцетом, а плотные, крепко сшитые листы альбома переворачивал так осторожно, будто они могли разлететься от легчайшего дуновения.
Теперь Кира занял место Андрея за моим столом и, сосредоточенно хмурясь, стал разворачивать свою коллекцию.
— Я собираю русские и советские марки, — объяснил он, открывая первую страницу.
Мы увидели четыре ряда небольших прямоугольных марок коричневых с белым орлом посредине.
— У, все одинаковые! — разочарованно протянул Выручка.
— И ничего неодинаковые! — обиженно возразил Кира. — Не видишь, что ли: эти с зубцами, а эти без зубцов. Тут зубчики побольше, а тут поменьше, у всех разные. На этой штемпель круглый, а на этой квадратный. У нас теперь разве такие штемпеля? А на этой, смотри, какой штемпель — из точек! А вот эти совсем нештемпелёванные. Много ты понимаешь — «одинаковые»!
В голосе Киры обида сменилась презрением. Ваня подавлен. В глазах у Шуры весёлые искорки.
Кира листает страницу за страницей. Вот марки, посвящённые трёхсотлетию царской династии Романовых, марки в память русско-японской войны.
— Наши! Вот наши марки! — на весь класс кричит Румянцев.
Да, наши, советские марки. Впервые в истории мировой филателии на марках изображены простые люди: рабочий, крестьянин, красноармеец. Мускулистая рука, вооружённая мечом, разрубает цепи. Смольный в героические дни Октября. Рабочий поражает дракона. Год от году марки становятся красивее, ярче, разнообразнее. Они словно маленькие разноцветные кадры большой исторической ленты: в них отразилась летопись нашей страны, трудный и славный путь народа.
Мои ребята встречают их то уважительным шёпотом, то радостными криками.
— Я такой портрет Ленина больше всех люблю — где он щурится и улыбается немножко.
— А тут он маленький. Трёх лет.
— А это десять лет Красной Армии, видите? И пехотинец, и матрос, и конник, и лётчик.
— Первый всесоюзный пионерский слёт! — в восторге кричит Гай. — Видите, вот ещё! Прямо отдельно пионерские марки!
— Там, подальше, у меня ещё целая пионерская серия, — объясняет Кира. — Вот мы дойдём — увидите. А вот броненосец «Потёмкин»! И баррикады девятьсот пятого года. С красным флагом — это Красная Пресня, смотрите.
— Ох, а дирижабль какой! Видите, их когда у нас стали строить!
— А вот Максим Горький!
— Это в тридцать втором году. Тогда праздновали, что он уже сорок лет писатель.
— Ух, какие красивые! Кир, это что?
— Этнографическая серия, — раздельно, с важностью произносит Кира. — Все народы СССР. По республикам. Вот Узбекистан — дома, как в Москве на улице Горького. А эта, красная, — туркменская. Хлопок собирают, везут на верблюдах, тут же грузовые машины — и прямо на фабрику.
— Здорово!
Новые страницы — новые возгласы. Вот славные деятели революции — Фрунзе, Киров, Дзержинский. Двадцать шесть бакинских комиссаров. Герои-стратонавты. Первопечатник Иван Фёдоров и Лев Толстой, Пушкин, Чехов и Маяковский. Шумный восторг вызывают марки, посвящённые челюскинцам, папанинцам, лётчикам — героям славных полярных перелётов. А московское метро! А спортивная серия! А марки авиапочты с крылатыми многомоторными красавцами! А марки в честь двадцатилетия Красной Армии, где Сталин приветствует бойцов Первой Конной!
Огромное впечатление производят антивоенные марки, выпущенные в 1934 году: фашистские бомбы, дождём падающие с чёрного, прорезанного молниями неба, горящие дома, мать с перепуганными детьми, бегущая куда-то прочь от охваченного пожаром дома…
Потом снова пошли изображения лыжников и бегунов, чудесные виды Кавказа и Крыма, подземные дворцы метро и великолепные новые здания столицы, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка… С цветных квадратиков смотрят улыбающиеся лица людей, гордых и счастливых своим трудом.
И вот, наконец, совсем уже близкое, то, что происходило на памяти моих ребят: Отечественная война, победа, начало мирного строительства.
Кира показывает дальше и всё с большим увлечением рассказывает о каждой марке, о том, что на ней изображено.
— Откуда ты всё это знаешь? — спрашивает под конец Лабутин.
— Я как раздобуду марку — если на ней портрет, нахожу про этого человека книгу или смотрю, что про него в журнале пишут, — объяснил Кира.
— Кира, Кира, хорошая у тебя коллекция, прямо цены ей нет! — сказал Шура, вставая и расхаживая по классу. — Ты смотри: что ни марка, то целая повесть. Интересно собирать марки, очень интересно! Конечно, если не просто покупать и наклеивать, а вот как ты — знать, что каждая из них значит.
— А вы собираете марки?
— Как же, собирал — вот когда мы с Мариной Николаевной в школе учились. Только моя коллекция пропала во время войны… Ба! Послушай, Кира, у меня, кажется, есть для тебя подарок. У меня сохранилось несколько марок, и одна из них тебе пригодится — такой в твоей коллекции нет. Она путешествовала в моей записной книжке все годы войны.
— Какая? Какая марка? — закричали ребята.
— Пришлю — увидите. Хорошая марка! Мне она сейчас ни к чему, раз нет коллекции. И тебе будет марка, Андрюша. Вышлю, как только вернусь домой…
— Боюсь, что с нынешнего дня филателистов у меня в классе прибавится, — сказала я Шуре, когда мы с ним шли из школы.
— Наверно, — смеясь, согласился он.
— Слушай, а какие марки ты решил подарить ребятам?
— Секрет так секрет. Ты, я вижу, тоже любопытная. Пришлю — увидишь.
Малыши
Через неделю Шура уехал и увёз с собой Вову Синицына. Но знакомство наше с воспитанниками детского дома не прекратилось. В одно из ближайших воскресений в Болшево поехали с Лёвой те, кто не был с нами в первый раз.
— Заведующая нас приглашала: «Приезжайте почаще, мы вам очень рады!» — рассказывал Выручка. — А малыши просто повисли на нас и не хотели отпускать.
Ещё через две недели группа ребят поехала в детдом с подарками: повезли книжки и цветные карандаши.
Связь с болшевцами становилась всё прочнее. Появились новые знакомцы.
— Знаете, в прошлый раз Егор спросил меня: «А хвост у Гитлера был?» — под общий смех рассказывает Лабутин.
— А Валя сидит рисует. Я спрашиваю: «Почему у тебя три солнца?» А она говорит: «Чтоб теплее было!» — сообщает Савенков.
— Людмила Ивановна ругает Митю: «Ты зачем не слушаешься?» А он ей: «Я нечаянно не слушался!»
В детдоме было пятьдесят ребят; младшему — три года, старшему — одиннадцать. Одних доставили на самолётах с Украины, из Белоруссии, других подобрали на смоленских дорогах; одну девочку нашли полузамёрзшей в лесу, другую передали сюда из московского эвакопункта. Не все они могли рассказать, что с ними произошло. Пятилетний Лёва Зотов сказал только несколько слов, простых и страшных: «Мы с мамой бежали, потом мама споткнулась и упала. И заснула. Я её будил, будил, никак не мог разбудить. Так она и не встала». Таю, Витю и Вову Любимовых за час до отъезда на фронт привёз отец — и не вернулся больше…
Людмила Ивановна рассказывала: вначале все они — и большие и маленькие — были молчаливы и угрюмы, слонялись из угла в угол или застывали, словно неживые, на одном месте, не разговаривали, не играли. Те, что постарше, даже не плакали: они только молчали. Что было делать? Больных выходили сравнительно быстро. Труднее было с теми, кто тосковал по недавно погибшей матери, по пропавшему без вести отцу, по дому, по семье.
Ни дети, ни воспитатели не любят вспоминать о том, что было: слишком это тяжело и горько. Но не одна я — все мы, и не спрашивая, понимали, сколько отдано этим малышам любви и заботы.
— Мне часто сочувствуют: дескать, с малышами много мороки, — сказала как-то Людмила Ивановна. — Но какая же семья без маленьких? Они создают тепло, уют, о них надо всем вместе заботиться. Нет, без малышей было бы куда труднее.
Теперь это и в самом деле настоящая семья, большая, шумная. Тут есть и тихони, и спорщики, и девочки с аккуратно заплетёнными косичками и наставительным, чуточку ехидным голоском («И всегда ты, Павлик, краски по столу раскидываешь, не можешь сам за собой прибрать!»), и неугомонные мальчишки, вечно разбивающие себе носы и коленки и продирающие локти рукавов о каждый гвоздик или сучок — только успевай штопать!
Мы знали, что Толя болтун, Лёня дерётся, Вера не любит гулять, а Женя не хочет спать в «мёртвый час» Мы были в курсе всех дел. Когда Соню, сестру Жени Смирнова, хотели взять из детдома на воспитание в одну московскую семью, у нас в классе долго и оживлённо обсуждали: отдавать Соню или не отдавать, и все были удовлетворены, узнав, что Людмила Ивановна решила не разъединять брата и сестру.
У детского дома коллективный кормилец: колхозы сколько их есть в районе, считают дом своим и снабжают его всем, что нужно детям. Прирождённый хозяин, Лёша Рябинин особенно интересовался практической стороной дела. Вернувшись из Болшева, он докладывал:
— Марина Николаевна, на той неделе председатель колхоза «Заря социализма» перевёл в банк для детдома тридцать пять тысяч рублей — специально на жиры.
— Это хорошо, — подтверждает Лабутин: — без жиров дети не растут.
— Колхоз «Вперёд» подарил им корову, — продолжает Лёша. — А пианино, оказывается, — подарок райкома партии.
— Им ещё прислали игрушки и краски, — опять вмешивается Лабутин. — И альбомы красивые. Это каждый раз райисполком присылает.
Мы были шефами, старшими друзьями. Нас знали, любили, с нетерпением ждали в гости. Мои ребята стали для детдомовцев тем, чем для них самих был Анатолий Александрович. Они хорошо знали малышей: характеры, склонности, кто с кем дружит, кто с кем не ладит: они постоянно соображали, что приятное придумать для ребятишек, вспоминали, кто что сказал и сделал смешное или интересное, что с кем случилось. И Толе Горюнову теперь было по-настоящему интересно, что Павлик смастерил хорошую коробочку, а Лида научилась писать буквы «ш» и «щ» и больше не путает, которая с закорючкой.
Наш ботаник
Но как же могло случиться, что Борис не участвовал в смотре марочных коллекций?
Дело было так.
Борис собирал марки увлечённо, страстно, как делал он всё, за что брался. Собирал он все марки, без разбору. Он раздобывал их, потом дарил, менял и снова богател.
И вот ему пришла в голову новая мысль, поистине замечательный план.
Он прослышал, что в Ботанический сад приходят письма со всего света: сюда присылают семена в конвертах, а на конвертах, понятно, марки всех стран. Он задумал купить билет, пройти в Ботанический сад, познакомиться там с каким-нибудь садовником или научным работником или лучше всего с их детьми (есть же у них дети!) и сказать примерно так: «Я филателист. К вам приходят письма из всех стран. На них марки. Вам они не нужны. Отдавайте мне, пожалуйста, пустые конверты».
Но вышло по-другому.
В один прекрасный августовский день Борис вошёл в Ботанический сад, огляделся, и… десяти минут не прошло, как он позабыл о марках. Он ходил по дорожкам, разглядывал цветы и растения, потом пристал к экскурсии; и когда обратился к экскурсоводу, то задал вопрос не о марках, а о том, нет ли при саде кружка школьников-натуралистов.
Настал сентябрь, и с первых дней занятий мы поняли, что всему классу не будет покоя, пока мы не побываем в Ботаническом саду. Борис заговаривал об этом чуть ли не каждый день. Он ухитрялся бывать там раза два в неделю и водил ребят — то одного, то другого, то троих сразу. Позже, зимою, пошла с ним и я.
Сад был пустынен, неприветлив. Стояла оттепель, снег почернел, загрязнился, голые ветки скучно тянулись в низкое серое небо. Но Борис шагал с самым довольным видом, словно не замечая унылой картины. Он подвёл меня к оранжерее и сказал тоном гостеприимного хозяина:
— Входите, пожалуйста!
В домике со стеклянной крышей было тепло и пахло, как на берегу заросшего пруда. Странно было вдруг увидеть столько яркой зелени. В мохнатых стволах пальм было что-то медвежье, неуклюжее, но зелёные веера их листьев разметались широко, свободно, точно струи сильно бьющего фонтана. На листьях золотого дерева — жёлтые крапинки, точно застывшие брызги солнца. Забавный и важный вид у кактусов: один — тощий, совсем прямой; другой — кривой, причудливый, словно протягивает к нам узловатые колючие руки; а вот совсем круглый — этот лучше всех, совсем рассерженный ёж!
Борис водил меня по оранжерее и тоном привычного экскурсовода объяснял:
— Это тисс. В Европе почти вымер. Живёт до полутора тысяч лет. Древесина у него прочная, крепкая, с красным ядром. Смолы, в отличие от всех хвойных, не имеет. — Потом, опасливо оглянувшись, слегка погладил ближнюю ветку и добавил: — Совсем мягкая хвоя. Ни капельки не колется, потрогайте. Вообще-то трогать нельзя, но если очень осторожно, ему не повредит.
Я задавала вопросы. Борис отвечал, не скрывая удовольствия. Впервые мы поменялись ролями: я спрашивала, он давал объяснения.
— Это схинус. Его смолой пропитывают канаты. Листья помогают при нарывах и опухолях… Это дримус… Это крестовина…
В школьной библиотеке от Бориса не было отбою — он читал подряд всё, что у нас было о цветах и деревьях. Преподавательница ботаники с первых же уроков обратила на него внимание.
— У него удивительно серьёзные и глубокие познания о зелёном царстве, — говорила она. — Не может быть, чтоб это был только преходящий интерес. Мне кажется, тут найдено призвание.
— Не хочу вас разочаровывать, но… в прошлом году я была убеждена, что он станет географом, — призналась я.
— Уж вы мне поверьте, — настойчиво повторила Елена Михайловна. — У мальчика есть и увлечение и упорство, а это много значит.
С точки зрения Бориной мамы, ботаника была самым безобидным из его увлечений. Она никак не могла забыть прошлогодней истории: сын научился заливать калоши и жаждал испробовать на деле своё искусство, а под рукой как раз не оказалось рваной пары… Новоявленного мастера поймали на том, что он пытался продырявить калоши старшей сестры. «Ну, чего вы уж так возмущаетесь! — оправдывался он. — Ничего я не испортил. Склеил бы, так ещё лучше стали бы. Крепче новых…»
Теперь Боря захватил дома все подоконники. На окнах появились цветы. Правда, нашему ботанику пришлось без конца воевать с сестрой: он не только поливал землю, в которую посажен цветок, но ещё сверху обрызгивал листья, а заодно, случалось, и стол, за которым сестра делала уроки.
— Да ты пойми, — убедительно отвечал он на все её протесты: — надо же обмыть листья. У них есть поры, растение через них дышит, ясно? А если поры закупориваются пылью, как тогда дышать? Ты только представь, что будет, если тебе зажать рот и нос!
Задания по самостоятельной работе в живом уголке и дома Борис выполнял самым тщательным образом. Однажды он пришёл в школу расстроенный.
— У тебя что-нибудь случилось дома?
— Случилось… — мрачно ответил он.
Оказалось, Боре надо было определить, как влияет тепло на прорастание семян овса. Он выпросил у матери три тарелки, наполнил их влажными опилками и положил в каждую по двадцати зёрен овса. Потом одну тарелку поставил в угол в кухне («она у нас холодная, не отапливается»), другую — в комнате, под своим столом, третью — неподалёку от батареи. Недели через полторы можно было сделать вывод, при какой температуре семена прорастают быстрее и дружнее. Но в первый же день соседка опрокинула табуретку на ту тарелку, что стояла в кухне, а отец наступил на ту, что была около батареи. Уцелела только одна — под Бориным столом. Мать наотрез отказалась возместить потери, и новых тарелок взамен разбитых Боря не получил. Я выслушала эту грустную повесть, стараясь не улыбнуться, но ребята откровенно расхохотались. Сначала Борис посмотрел хмуро, потом рассмеялся вместе со всеми.
Назавтра Савенков принёс ему две отличные плошки. «На них как ни наступай, всё целы будут», пояснил он.
Вот как случилось, что Боря до поры до времени перестал собирать марки…
Яблоко раздора
Шура и в самом деле сохранил секрет до конца.
«Марина, дружище, — писал он, — посылаю обещанные Андрею и Кире марки. Думаю, обе как раз подходящие и порадуют ребят. Ты не вскрывай пакетики, вручи в таком солидном, запечатанном виде, ладно?»
Утром, войдя в класс, я отдала Кире и Андрюше конверты:
— Это вам Александр Иосифович прислал. Даже не знаю, какие там сокровища!
Ребята окружили коллекционеров:
— Скорее открывайте! Чего вы!
Оба распечатывали свои пакетики так медленно и осторожно, словно внутри был не кусочек бумаги, а шарик ртути, готовый выскользнуть и разбиться на сотни мельчайших, неуловимых брызг.
Наконец Андрей первым справился со своей задачей. И вот в руках у него большая, совершенно чёрная марка. На угольно-чёрном бархатистом фоне выгравирована цифра «60»; линии строги, чётки.
На щеках Морозова проступает румянец удовольствия. Он любуется маркой, не спеша ответить на вопросы ребят.
— Бразильская! — возвещает вместо него Борис.
Каждый придвинулся поближе, взглянул, похвалил. И сейчас же взгляды обратились к Кире. На ладони у него лежала маленькая коричневая марка без зубцов. Посредине марки — голубой овал, в центре — белый орёл.
В первое мгновенье и ребятам и мне показалось, что Кира обижен: у Андрея такая большая, красивая марка, а эта маленькая, невзрачная… Но вдруг Кира сказал, заикаясь от волнения:
— Марина Николаевна… ребята… вы только посмотрите! Первая русская марка! Да мне бы её никогда в жизни… Она, знаете, какая дорогая? Нет, вы только подумайте… Вы понимаете…
— Ну, ну, — сказала я успокоительно, — всё очень хорошо. И мы очень рады, что у тебя есть теперь такая замечательная марка. А сейчас садись, уже звонок.
Кира пошёл к своей парте.
— Ущипнуть тебя, что ли? — спросил Лукарев, когда Кира уселся на место. — Ты как во сне.
Кира очнулся, посмотрел вокруг, на меня — и бережно спрятал марку между листками тетради.
…В тот день был педагогический совет, и я вышла из школы около девяти вечера. Я шла задумавшись, как вдруг до моего слуха донеслись слова:
— …любую марку из моей коллекции!
Я подняла голову. Впереди шли два мальчика. Один ступал немного неуклюже, сунув руки в карманы, оглядываясь по сторонам; другой шагал размеренно и, помахивая варежкой где-то возле уха собеседника, полуобернувшись к нему, что-то доказывал. Знакомые фигуры! Я прислушалась.
— Зачем мне твои марки, я иностранных не собираю.
— Ну скажи, какую тебе нужно? Я попрошу папу, и он купит…
— Да никакую мне не нужно. И не понимаю даже, для чего ты…
— Кира, Андрюша! — окликнула я. Мальчики приостановились. — Что вы тут делаете так поздно?
— Морозов зашёл за мной, говорит: «Давай пройдёмся». Вот мы и гуляем, — скучным голосом ответил Кира.
— Это хорошо, что гуляете. Погода чудесная. А о чём У вас разговор?
Оба молчали. Я не стала настаивать. Мы поговорили о школьных делах; я спросила Киру, скоро ли выпишут из больницы его сестрёнку, болевшую дифтеритом. Кира, всегда рассказывавший о своих домашних, на этот раз отвечал нехотя.
— Ну, гуляйте, а я пойду. У меня ещё целый ворох диктантов. До завтра! — И я ускорила шаг.
Дня через два, провожая меня, по обыкновению, из школы, Савенков сказал:
— Марина Николаевна, Морозов Глазкову прямо проходу не даёт: поменяемся да поменяемся марками! Он хочет ту, которую Александр Иосифович прислал.
— Зачем она ему? Он ведь русских марок не собирает.
— Кира ему то же самое сказал. А он: «Начну собирать». Мы ему говорим: «Глазкову не сразу такая марка досталась, потерпи и ты. Будешь собирать, может и тебе посчастливится. Глазков ведь не просит у тебя бразильскую». А он своё: поменяемся, поменяемся! Глаза такие у него… завидущие, что ли…
Ещё через день-другой Татьяна Ивановна вечером постучала ко мне, и я услышала в её голосе улыбку, когда она торжественно объявила:
— К тебе пришли, принимай гостя!
Я открыла: в коридоре стоял Кира, до крайности смущённый, вертя в руках шапку.
— Гость, да ещё какой редкий! — сказала я. — Входи, входи, Кира. Дома всё в порядке? Соня уже вернулась?
— Соню завтра выписывают, мы с папой за ней поедем… Марина Николаевна, я вот почему… Я к вам не жаловаться, я посоветоваться.
— Слушаю тебя.
Сбиваясь, торопливо, Кира стал рассказывать то, о чём я, в сущности, уже знала: как настойчиво, изо дня в день Андрей предлагает Кире обменять полюбившуюся ему редкую марку.
— Марина Николаевна, зачем я стану её менять? Я о такой, знаете, сколько времени мечтал? Стоял в магазине, смотрел, любовался… Она такая дорогая, мне её никак не купить. Морозов говорит: «Назови любую, мой отец купит». Ну и пускай отец ему покупает. А зачем ему моя?
— Скажи ему решительно, что меняться не станешь, вот и всё.
— Марина Николаевна, — почти с отчаянием сказал Кира, — а он мне говорит: «Жадина! Скупой ты, говорит, — для товарища марку жалеешь. Я, говорит, с тобой водиться не стану, раз ты такой жадный». Я папу спросил, как мне быть, а папа говорит: «Я за тебя думать не могу, приучайся сам принимать решения. Подумай, говорит, обсуди сам с собой и поступай, как по-твоему правильно». Я не жадный, а только я решил не меняться!
Кира выпалил всё это одним духом. Он забыл о своём смущении и смотрел мне прямо в глаза.
— По-моему, ты прав, — сказала я.
— Я не жадный! — настойчиво повторил мальчик.
— Знаю. Мне Боря в прошлом году показывал, сколько марок ты ему подарил.
— Мне Лукарёв всё время говорит, чтоб я не менялся. Он мне сказал: «Вот спроси Марину Николаевну, она тебе тоже так скажет». Это он меня к вам привёл. Он меня внизу ждёт.
— Как ждёт? Почему же он не зашёл?
— Он стесняется. Я сам стеснялся. Он говорит: «Ты иди, у тебя дело, а чего я пойду?»
— Сейчас же сбегай за ним и скажи, что я велела ему подняться. Впрочем, нет… Галя! — позвала я, открывая дверь в коридор. — Оденься и сбегай вниз, там во дворе ждёт мальчик в чёрной ушанке. Это Лукарёв. Вели ему подняться ко мне.
— Лукарёв? Это Федя, да?
— Да, да, беги скорей.
— Бегу!
Галя мигом оделась, сбежала вниз и через минуту ввела в комнату Федю. Я позвала Галю посидеть с нами. Она притащила свою любимую вертолину. Оказалось, что ни Кира, ни Федя этой игры не знают. Галя разъяснила, в чём тут суть:
— Вот волчок, в нём такой квадратик вырезан, а внизу буквы. Вот я кручу, потом волчок остановится… видите, в квадратике видно «У»? Теперь надо взять карточку. На них вопросы разные, видите? «Что добывают в нашей стране?» Уголь. Ведь можно сказать, что у нас уголь добывают?
— Можно, — подтверждает Федя.
— Ну вот. А на этой карточке — «Что нужно охотнику или рыболову?» Значит, надо что-нибудь придумать на эту букву.
— Удочку надо рыболову, понимаю, — говорит Кира.
— Вот-вот. Тут разные есть вопросы — про явления природы, про полезные ископаемые, про характер. И надо на эту букву назвать. Только долго думать нельзя, надо сразу отвечать. Кто скорее всех скажет, тому очко. Давайте сыграем?
— Давай, — нерешительно ответили мальчики: они с нескрываемым уважением выслушали Галины объяснения и, кажется, боялись ударить лицом в грязь.
Галя с силой закрутила волчок и тут же протянула руку к карточкам:
— Буква «Ч»! Композитор!
— Чайковский, — с облегчением вымолвил Кира.
— Молодец, быстро ответил… Буква «Н»! Что необходимо туристу?
— Ноги… — нерешительно сказал Федя.
Мы с Кирой засмеялись.
— Что же вы смеётесь? — упрекнула Галя. — Он правильно ответил. Разве туристы без ног бывают? Буква «Щ»! Предмет, необходимый в домашнем обиходе!
— Щи! — объявил Федя, входя во вкус игры.
— Неправильно! — возмутилась Галя. — Щи — это не предмет, а еда!
— Щётка! — пришёл на выручку Кира.
— Буква «А»! Что тебе нравится в соседе слева?..
— Марина Николаевна, вы почему же ничего не говорите? Вам что нравится в соседе слева?
Я поглядела на Киру. Он даже рот приоткрыл от неожиданности и вопросительно смотрел на меня.
— Аккуратность, — пошутила я.
Мальчики засмеялись.
Потом я села за работу, а ребята ещё долго играли, и минутами я невольно прислушивалась к их возгласам. Иногда Галя поражала мальчиков своей находчивостью, иногда они ставили её втупик, потому что она, второклассница, не могла назвать часть корабля на «Ю» («Ют!» сказал Лукарев), не знала персонажей древних мифов на «Г» («Геракл! Геркулес!» наперебой кричали Кира и Федя) и не поняла, что такое Аустерлиц, когда понадобилось назвать известную битву. На вопрос: «Сознайся, каков твой недостаток на букву «Н», Кира ответил сразу:
— Нерешительность.
— А ты что же молчишь? — обернулась Галя к Лукареву.
Федя на мгновенье замялся.
— У меня, знаешь, не на букву «Н», — сказал он.
— А на какую?
— Признавайся, чего уж тут! — сказал Кира.
— Да что… известно, какой у меня недостаток.
— Кому известно?
— Марине Николаевне известно, — покосившись в мою сторону, негромко сказал Федя.
Кира и Федя ушли от меня в этот вечер очень довольные. Но история Шуриной марки на этом не кончилась.
«Хорошо придумал»
Иногда в большую перемену мальчики развлекались игрой, которая называется «Зверь — птица — рыба». Все становились полукругом, и водящий ровным голосом выкликал: «Зверь — птица — рыба! Зверь — птица — рыба! Зверь…» — и вдруг, указав на кого-нибудь пальцем, кричал; «Птица!» и быстро считал до трёх. За это время надо было назвать какую-нибудь птицу (или зверя, рыбу). Если, скажем, воробья, щуку или тигра раз назвали, повторять было уже нельзя.
Многие ребята быстро исчерпывали свой запас названий.
— Пума! — говорил Румянцев.
— Уже говорили пуму.
— Росомаха! — пытался спастись Володя.
— Я называл росомаху! — возражал Толя.
И только Серёжа Селиванов был неистощим.
— Турач! — кричал он.
— Это что? Разве есть такая птица?
— Есть. Она вроде фазана.
Или:
— Чо!
— Как так «чо»? Такого зверя нет!
— А вот и есть! Это красный волк. Он поменьше обыкновенного волка и, как лиса, рыжий. И хвост у него лисий — длинный и пушистый.
Серёжины зоологические «новинки» так часто вызывали удивление и недоверие, что он стал объяснять их сразу, не дожидаясь вопросов.
— Птица! — кричал ему водящий.
— Кеклики! — отвечал Серёжа и поспешно прибавлял: — Горные курочки.
— Зверь!
— Сивуч! Морской лев, огромный! Бывает, весит целых девятьсот килограммов. Ростом четыре метра, в обхват — три.
Раз, когда надо было назвать птицу, он сказал совсем уж неожиданно:
— Синяя птица!
— Это только в сказке, — возразил Горюнов.
Но Серёжа сказал, что синяя птица и на самом деле существует. Это лиловый дрозд. У него лиловое или тёмно-синее оперение, и он так и называется: «синяя птица». Живёт он на Кавказе, селится у снегов: «Куда снег, туда и он. Зимой спускается пониже, а летом забирается высоко в горы».
Застать Серёжу врасплох было невозможно; зверей и птиц он знал хорошо — не только по-книжному, по именам: знал их повадки и характеры. Я и раньше знала, что отец его охотник, что Серёжа всё детство провёл в деревне и теперь с нетерпением ждал лета.
Когда мы попадали в лес (осенью — за грибами, зимой — на лыжах), Серёжа чувствовал себя, как дома: он отлично знал грибы и находил их, как никто из нас; как-то он заметил на снегу заячьи следы и с увлечением объяснил, почему знает, что тут пробежал именно заяц, а не кто другой.
Первое время Серёже казалось, что над его пристрастием ко всякому зверью смеются, как над пустой, нестоящей забавой. Но однажды, ещё в прошлом году, я принесла ему книгу «Мои четвероногие друзья». Прочитав её, он стал с восторгом рассказывать про свою собаку Трезора. Потом я дала ему «Остров в степи», записки Дурова, книгу Пришвина. Он зачитывался этими книгами и в нескольких строчках пересказывал их содержание в нашей синей тетради (это была уже новая тетрадь, но тоже в синем переплёте).
Однажды на уроке, когда речь шла о пословицах, он вдруг сказал:
— А не все пословицы правильные. Вот говорят «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит». Необязательно в лес. Волки и в болотах живут, и в степи, и в пустыне, лишь бы там разводили скот. И ещё есть пословица: «Дерутся, как кошка с собакой», а у нас Трезор очень дружил с Васькой.
Никто в классе не читал с таким выражением стихи Некрасова:
Плакала Саша, как лес вырубали, Ей и теперь его жалко до слёз. Сколько тут было кудрявых берёз! Там из-за старой, нахмуренной ели Красные гроздья калины глядели, Там поднимался дубок молодой…Читая напамять, Серёжа обычно смотрел в окно, и я уверена, что он живо представлял себе всё, о чём рассказывал поэт.
— Марина Николаевна, вы любите кошек? — спросил он как-то. — Неужели не любите? Да почему же? Они хорошие и всё понимают. У нас Васька больше всех любит мою маму. Он её в передней всегда встречает, ходит за ней, как собака, ласкается. А умный какой! Он даже служить умеет. Мы его, когда учили, не наказывали, не пугали, а всё лаской, и он в четыре дня научился. И не ворует. Вот ставьте перед ним хоть молоко, хоть мясо — он ни за что не тронет, только жмурится и отворачивается, чтоб не завидно было.
Как всякому, кто горячо, искренне чем-нибудь увлечён, Серёже хотелось делиться своими знаниями и наблюдениями. Ребята охотно слушали его «звериные рассказы». Сочинения на вольную тему Серёжа всегда писал о животных или о птицах.
Посмотрев коллекции Киры и Андрея и наслушавшись разговоров о марках, Серёжа предложил:
— Давайте всем классом собирать!
— Всем классом нельзя. Марки всегда собирают в одиночку, — возразил Морозов.
— Почему это? Давайте так: я буду собирать марки, на которых есть животные…
— Зоопарк в альбоме, — подсказала я.
— Вот-вот! — Серёжа благодарно взглянул на меня.
Больше сказать ему ничего не пришлось.
— У меня будут марки с растениями! — уже кричал Боря Левин. — У Кирсанова — про художников… Дим, хочешь художников?
— Таких марок мало, — неуверенно, но уже с искоркой интереса во взгляде сказал Дима.
— Про художников и музыкантов тогда, — вмешался Кира. — Вот и получится много. Есть марки Репина, Сурикова, Чайковского, Римского-Корсакова. Мишки есть художника Шишкина — в несколько красок, прямо как настоящая картина.
— Хорошо придумал! — скрепил Лёша и тут же сел записывать темы:
«Великая Отечественная война. Великие люди нашей Родины:
1) Писатели, художники и музыканты.
2) Учёные, изобретатели и путешественники.
Воздухоплавание.
Архитектура.
Спорт.
Марочный ботанический сад.
Марочный зоопарк».
— Только давайте условимся: не просто собирать и наклеивать, а с объяснениями, — сказала я. — Например, некрасовская марка. Надо под нею кратко, в несколько строчек, сообщить, что вы знаете о Некрасове: когда он родился и умер, какие произведения написал. Если на марке изображено дерево, напишите, в каких краях оно растёт и чем замечательно. Если здание — где построено, что вам о нём известно.
— А потом будем читать друг у друга! — подхватил Борис.
Разработали и план альбомов: надо сшить большие листы ватманской бумаги, разлиновать места для марок и подписей. Хранить альбомы решили в шкафу у Лёши.
На другой день я вошла в класс за несколько минут до начала урока (он был первый). При виде меня Морозов встал.
— Марина Николаевна, вот я принёс в общую коллекцию, — произнёс он.
Это была красивая тувинская марка — зелёная, с изображением забавной, словно удивлённой белки.
— Это на развод! — закричали ребята. — Молодец!
— Белка — это по моей части! — обрадовался Серёжа.
— Ты придумал, ты первый и начнёшь, — сказала я.
— Интересно, кого Глазков привёл? Медведя? — лукаво спросил Толя.
— А может, Кирилл ничего не принёс, — поддразнил его Лёша. — Не догадался — и всё.
— Догадался, — сказал Кира.
Встретив мой взгляд, он подошёл, осторожно вынул из конвертика марку и положил мне на стол.
— Какую принёс? Какую? — послышалось со всех сторон.
Я не успела ничего сказать. Гай, сидевший на первой парте как раз напротив моего стола, удивлённо вскрикнул:
— Первая русская! Которую Александр Иосифович подарил!
Все застыли. Та самая марка, с которой Кира нипочём не хотел расставаться! Та самая, из-за которой было столько волнений и споров!
— Зря ты это, — сказал наконец Лёша.
— Почему зря? — спросил Кира с обидой в голосе.
— Она тебе самому нужна.
— А по-твоему — мне нести, что самому не нужно?
— Да ведь… дарёное не дарят! — нашёлся Лёша. — Эту марку тебе подарили, значит ты не имеешь права никому её отдавать. Понял?
Я смотрела на Киру. Радость, что можно взять марку обратно, сомнение, неуверенность — хорошо ли это будет, смущение, благодарность Лёше за его неотразимые доводы, — всё перемешалось на этом лице. Он покраснел так, что светлые негустые брови стали казаться белыми, а чуть торчащие уши — одного цвета с галстуком. Губы вздрагивали.
— Видишь, Кира, — поспешила вмешаться я: — твоя марка замечательная, ценная, но она не входит ни в одну нашу тему. А в твоём альбоме она нужна. Ты возьми её. Мы тебе очень благодарны.
— Тогда я принесу для Кирсанова… Я принесу Маяковского, Руставели, Чехова и Некрасова.
— Вот и прекрасно! А теперь к доске пойдёт Федя и расскажет нам биографию Короленко.
Пока Лукарев шёл к доске, я взглянула на Морозова: он сидел хмурый, закусив губу.
Новенький
— Сегодня Лёва не сможет притти к нам на сбор звена, — говорит Рябинин. — Он пишет сочинение по литературе.
Все понимают, что это значит.
Любовь Александровна, преподавательница литературы в старших классах, — человек строгий. Когда Лёве предстоит сдавать сочинение, он перечитывает всё, что можно найти по заданной теме, подолгу корпит над планом, иногда советуется со мною и всегда старается придумать интересное, не стандартное начало. Он, да и никто из старшеклассников, не осмелится написать, что литературный герой «является представителем»: все знают, как жестоко Любовь Александровна высмеет ученика, который не дал себе труда подумать, а попросту воспользовался готовой формулировкой. О списывании с учебника или с предисловий и говорить нечего. Никогда её презрение и насмешка не бывают так безжалостны, как в тех случаях, когда она обнаруживает в ком-нибудь желание блеснуть чужими мыслями.
Как-то, ещё в прошлом году, Лёва употребил в одном из своих сочинений такой оборот: «целиком и полностью». Он до сих пор помнит, как отчитала его Любовь Александровна. «И всю жизнь буду помнить», уверяет он.
Любовь Александровна строга со своими учениками, иногда беспощадна, но они никогда не чувствуют себя оскорблёнными.
Я понимаю: в жестоких, язвительных отповедях учительницы они чувствуют подлинное уважение к ним. Ведь так не станешь говорить с теми, кто неспособен понять, не станешь много требовать с того, кому всё равно не под силу выполнить требуемое.
Мы часто встречаемся с Любовью Александровной на бульваре по дороге в школу; ходу нам остаётся десять минут, за это время можно о многом поговорить. И сразу же начинается наш обычный разговор: «А вот у меня один мальчуган…» Или: «Видели бы вы, какое сочинение подал мне старший брат вашего Саши Гая!..» Так было и на этот раз: мы успели переговорить о многом к тому времени, как дошли до угла школьного переулка, и тут встретились с письмоносцем.
— Давайте-ка газеты, — в один голос сказали мы. — Есть ещё что-нибудь?
— Есть, — ответила девушка и протянула пачку газет и открытку.
Я взглянула и удивилась:
— Это вам, Любовь Александровна. Почему вам пишут на адрес школы?
— Мне? Странно. От кого бы это?
Она остановилась и пробежала глазами открытку. Я с недоумением заметила, что на щеках у неё проступают красные пятна, а между тёмными бровями всё глубже врезается сердитая косая морщинка.
— Взгляните, — сказала она отрывисто и протянула мне открытку.
Обращения не было. Я прочла:
«Я отец ученика 9-го класса Горчакова Владимира. По роду своей службы ходить в школу и справляться у вас о состоянии учёбы своего сына я не могу, а поэтому у меня единственная возможность следить и принимать соответствующие меры только через табель, который еженедельно отражает всё. Если посмотреть табель, то видно, что вы в течение ноября и начала декабря даже не соизволили взглянуть в табель, а в то же время предъявляете претензии родителям в том, что они не интересуются учёбой своего ребёнка. Я настаиваю ответить мне по этому вопросу, что даст мне возможность решить мои действия в дальнейшем».
Минуту я молча стояла перед Любовью Александровной, не зная, что сказать, не решаясь вернуть ей этот желтоватый прямоугольник, исписанный небрежным почерком, с замысловатой подписью в нижнем углу.
Вечером, вернувшись домой, я включила радио, выдвинула ящик письменного стола и принялась наводить порядок. Отложила в сторону письма брата — их я перечитывала редко. Выбросила какие-то залежавшиеся, ненужные бумаги. Наконец извлекла из дальнего угла пачку писем Анны Ивановны и стала читать одно за другим. Вот оно, наконец, то, которое я искала.
Это письмо написала мне Анна Ивановна почти два года назад, когда я кончала институт. «…Не буду напутствовать и наставлять тебя, — писала она, — не стану давать тебе советов. Ты сама всё знаешь, и жизнь и работа ещё многому научат тебя. Я только хочу сказать: ты — учитель, помни об этом с гордостью. Пусть никогда не изменит тебе чувство собственного достоинства. Не позволяй ни поступать, ни говорить с тобой грубо и бестактно, иначе ты унизишь не только себя, но и свой светлый, благородный труд. Не отступай, когда права, свято храни своё достоинство. Не забудь: ты — учительница, а тот, кто носит это имя, по праву может этим гордиться».
Это были справедливые слова. Но ведь одно дело — понимать, и совсем другое — суметь отстоять своё достоинство. Как поступит Любовь Александровна? Как поступила бы я на её месте? Этого я не знала…
* * *
После зимних каникул в мой класс пришёл новенький — Валя Лавров. Он был светловолосый и синеглазый с тёмной родинкой на щеке, оттенявшей нежный румянец. С первых дней он поразил меня тем, что охотно и весьма самоуверенно рассуждал на любую тему. О чём он только не судил с необозримой высоты своих двенадцати лет! Однажды, развернув принесённую из дому «Литературную газету», он сказал Лёве:
— А Маршак переводит совсем недурно.
— Я бы даже сказал, что он это делает хорошо, — не без юмора возразил Лёва.
И Валя снисходительно согласился:
— Да, пожалуй…
Ребята с любопытством прислушивались к этому взрослому, умному разговору. И хотя это было жестоко с моей стороны, я всё-таки спросила:
— А какие его переводы ты знаешь?
Пауза паузе рознь. Эта была такой длинной, что не могла не скомпрометировать Валю. Его щёки залились густой, жаркой краской. А Горюнов с улыбкой продекламировал:
Три мудреца в одном тазу Пустились по морю в грозу. Будь попрочнее Старый таз, Длиннее Был бы мой рассказ.Все засмеялись. И хотя мне очень хотелось сказать, что ничего не следует повторять с чужих слов, когда не знаешь сам, о чём речь, я удержалась: не стоило пригвождать бедного Валю к позорному столбу.
Валя сразу поразил ребят ещё и тем, что приезжал в школу и возвращался домой в блестящем светлосером автомобиле — марка эта была ещё новостью. Как-то мальчики окружили машину, наперебой обсуждая её достоинства. Особенно горячился Борис, доказывая, что по сравнению с этой машиной все остальные безнадежно устарели. Он обследовал серого, сверкающего, как зеркало, красавца вдоль и поперёк, полез даже под кузов и наконец встал, встрёпанный и довольный, отряхивая снег со своей ушанки.
— А ход у неё хороший? — осведомился он у Лаврова.
— Превосходный, — ответил Валя и как любезный хозяин распахнул дверцу: — Садись, поедем до моего дома.
Боря не заставил приглашать себя дважды. За ним тотчас влезли в машину ещё трое ребят. Они приготовились прокатиться если и не на другой конец города, то, во всяком случае, довольно далеко. Но их ждало жестокое разочарование: через три минуты машина остановилась у большого, всем знакомого дома, мимо которого многие проходили дважды в день; здесь-то, совсем близко от школы, и жил Валя Лавров.
Ребята вернулись в школу несказанно удивлённые: надо же — он живёт за углом, а за ним машину присылают!
С того дня Вале не давали проходу:
— Эй, Лавров, ты в буфет сам пойдёшь или станешь машину ждать? Лавров, тебе, пожалуй, до доски не дойти — проси, чтобы машину подали!
Надо отдать Вале справедливость: у него был большой запас добродушия — он не обижался, не пробовал ответить резкостью, но всё же чувствовал себя неловко.
Ещё один случай подорвал Валину репутацию. В день дежурства ему пришлось подмести класс. Плачевное это было зрелище! Ребята столпились в дверях и с любопытством смотрели: Валя взял щётку неумело, осторожно, пожалуй даже с опаской, словно это была не щётка, а бритва, и стал мести прямо себе на ноги.
— Что это ты как подметаешь? — не выдержал Лабутин.
Валя попытался ответить что-то вроде того, что он не девочка и домашнее хозяйство не его специальность, но подобные рассуждения в нашем классе давно уже вышли из моды.
— Одно слово — руки-крюки! — сказал Савенков. — Только и умеешь на машине разъезжать…
Постепенно обнаружилось, что этот самоуверенный мальчик, рассуждающий так гладко, по-взрослому, учится неважно: он с трудом удерживался на той грани, где тройка, того и гляди, может превратиться в двойку.
— Спроси у мамы, не может ли она зайти в школу, — сказала я однажды: — мне нужно с ней поговорить.
Так как Валя посмотрел на меня вопросительно, с беспокойством, я пояснила:
— Ты очень отстал по арифметике, правда ведь? Вот мы и решим, как тебе помочь. И вообще мне хотелось бы познакомиться с твоей мамой. Я знаю родителей всех учеников, а твоих не знаю. Так что если у мамы есть время, пусть зайдёт. Передашь?
— Передам.
На другой день он подошёл ко мне в коридоре и, глядя куда-то мимо, сказал с запинкой:
— Мама сказала… мама сказала: если вам надо с ней поговорить, можете ей позвонить по телефону.
Должно быть, я сильно покраснела, но, помедлив, сказала:
— Видишь ли, дома у меня телефона нет. А в школе, в канцелярии, всегда очень шумно и, когда разговариваешь, ничего не слышно. Вот я и просила маму зайти, чтобы поговорить спокойно, без помехи. А что, мама занята? Работает?
— Нет, не работает, она дома. Но она говорит: у неё нет времени ходить в школу.
Всё-таки через несколько дней она пришла: высокая, красивая, нарядная, с тёмной родинкой, совсем как у Вали, на нежнорозовой щеке. С плохо скрытым пренебрежением она оглядела меня с ног до головы:
— Вы просили меня зайти? Что случилось?
Я рассказала, что Валя отстал от класса, часто приходит в школу, не решив задач по арифметике или решив их неверно.
— Значит, в классе учительница не умеет как следует объяснить. Единственный вывод, который можно из этого сделать, — произнесла Лаврова.
— У нас арифметику преподает опытная учительница. Ученики любят её предмет и хорошо усваивают её объяснения. Дело в том, что Валя отстал. Ведь после того как вы приехали из Ленинграда, он не сразу поступил в школу.
— Тогда почему бы учительнице не остаться с ним после уроков и не объяснить то, чего ребёнок не понял?
— Лидия Игнатьевна оставалась с ним не раз, — сказала я, чувствуя, что этот высокомерный тон начинает выводить меня из равновесия. — Но необходимо, чтобы и дома кто-нибудь понаблюдал за тем, делает ли Валя уроки до конца или бросает на полдороге, как только у него что-нибудь не выходит.
— Вам не кажется, что вы с таким же успехом могли сообщить мне всё это по телефону?
— Нет, не кажется. Я думаю, что родители и учитель должны знать друг друга в лицо. Разве вы думаете иначе?
Вместо ответа она слегка пожала плечами. Потом заговорила:
— Скажите, а вам не кажется, что в ваши функции входит следить за взаимоотношениями детей? А вы забываете об этом. Дети дразнят Валю за то, что он приезжает в школу в автомобиле, и он мне сказал, что будет ходить пешком.
— Что же, он прав, — ответила я. — Иной раз после уроков он ждёт машину по полчаса, а дойти до дому — не больше десяти минут. Ведь вы живёте совсем рядом!
— Какой нелепый пуританизм! — воскликнула Лаврова.
Едва сдерживаясь, я сказала тихо:
— Вы говорите со мной неуважительно.
— Я вижу, нам вообще не о чем разговаривать, — сказала она, встала, повернулась и не спеша направилась к дверям.
Какое великолепное презрение! «Девчонка! — читалось в каждом её движении. — Не желаю обращать на тебя внимание!» Ох, если бы я могла и в самом деле вести себя в эту минуту, как девчонка, — с каким удовольствием я сказала бы ей вслед всё, что думала! Но дверь захлопнулась, а я всё ещё стояла молча, изо всей силы сжимая обеими руками спинку стула.
На другой день Валя в первую же перемену отвёл меня в сторону и сказал, густо краснея:
— Марина Николаевна, мама хочет перевести меня в другую школу, а я ни за что! Я привык и не пойду! Скажите ей!
— Нет, Валя, я не буду отговаривать твою маму.
— Вы хотите, чтоб меня взяли из вашего класса? — с обидой спросил он.
— Нет, совсем нет. Мы тоже привыкли к тебе и хотим, чтобы ты остался с нами. Но ты должен сам убедить в этом своих родителей.
— Папа сейчас в Ленинграде, а мама…
— Так вот, Валя, если хочешь остаться, постарайся объяснить маме, что ты уже свыкся с классом и с учителями. Может быть, она согласится с тобой.
Не знаю, как это удалось Вале, но он остался с нами.
Я уже говорила, что он о многом судил с чужих слов и с удивительным апломбом. Он так и сыпал где-то подхваченными и запомнившимися ему формулами вроде: «Теннис — благородный спорт» или «Искусство украшает жизнь».
Никакие мои отповеди и замечания («Не повторяй чужих слов», «Зачем ты говоришь о том, чего не понимаешь!») не подействовали бы так, как отношение к этой Валиной слабости самих ребят.
— В сущности, «Спартак» играет довольно серо, — сказал он однажды, на свою беду.
Ох, и досталось же ему! На него дружно напустились и болельщики «Спартака» и болельщики «Динамо». В два счёта ему доказали, что в футболе он ничего не смыслит: не умеет отличить защиту от полузащиты, не знает игроков «Спартака» и вообще не знает состава команд и даже не знает, кто такой Хомич. Словом, злополучный Валя был уличён.
После этого случая пышные его фразы перестали производить на ребят какое бы то ни было впечатление.
О «роде службы» и школе
В этот день я зашла к нашему директору Людмиле Филипповне: надо было ей показать план работы на третью четверть. Не успела она просмотреть и половину моего плана, как раздался настойчивый стук в дверь.
— Войдите, — сказала Людмила Филипповна.
Вошёл высокий, полный человек лет сорока: волосы его уже заметно поседели, движения были неторопливы и уверенны.
— Горчаков, — сказал он в ответ на вопросительный взгляд Людмилы Филипповны.
— Садитесь, пожалуйста.
Я поднялась, чтобы уйти, но Людмила Филипповна удержала меня:
— Посидите… Знакомьтесь; наша преподавательница Марина Николаевна Ильинская, а это — отец нашего ученика товарищ Горчаков.
Вот уже второй раз прозвучала эта фамилия. «Знакомая фамилия, где же я её слышала?» старалась я припомнить, снова садясь сбоку к столу. И тут я увидела, что Людмила Филипповна протягивает посетителю какую-то открытку:
— Вы написали Любови Александровне эту открытку?
Ах, вот оно что! Передо мною встала Любовь Александровна, какою я её видела тогда, — с лицом, потемневшим от гнева и обиды.
— Да, это я написал, — ответил Горчаков.
— Вы знакомы с Любовью Александровной?
— Нет, не пришлось. Она только один раз была у нас, но меня как раз не было дома. Вы меня вызывали. Вероятно, что-нибудь насчёт сына?
— Нет, не насчёт сына, а насчёт вас.
— Меня? — на этот раз в его лице и голосе было уже явное, нескрываемое удивление.
— Вы хорошо помните свою открытку?
— Помню как будто. Да там ничего особенного и не было.
— Перечитайте, пожалуйста.
Он стал пробегать глазами открытку.
— Можно ли сказать: «По роду своей службы я не могу дышать воздухом, не могу утолять голод и жажду»? — глухим и низким от сдерживаемого гнева голосом заговорила Людмила Филипповна. — Ясное дело, так никто не скажет. Дышать, есть, пить естественно и необходимо для человека, как бы он ни был занят. Вы согласны, не правда ли? Ну, а если у вас есть сын, что же, вы не должны воспитывать его? Разве это не так же естественно и необходимо? Разве вы не отвечаете вместе с учителем за его успеваемость? И не должны ли вы знать этого учителя лично?
Я посмотрела на Горчакова. Лицо у него было растерянное.
— Вы вот пишете, что заняты, что вам некогда бывать в школе. У Любови Александровны три класса — сто двадцать учеников. Дома — груда тетрадей, их вовремя надо проверить. А вы знаете, какие сочинения пишут наши девятиклассники? По семь-восемь страниц. Я уж не говорю о подготовке к урокам. И всё-таки Любовь Александровна выкроила час и пришла к вам домой. А вы? У вас сколько детей?
— Володя единственный…
— Единственный сын… Неужели вам труднее зайти в школу, чем Любови Александровне пойти к вам?
— Да что ж особенного в письме, товарищ директор? Письмо как письмо… — Горчаков, видимо, волновался.
— Вот Марина Николаевна в прошлом году учила своих четвероклассников писать письма. И толковала им, между прочим, что в начале письма должно стоять обращение. Азбучная истина, простое правило вежливости. И когда вы пишете своему знакомому или товарищу по работе, уж наверное вы напишете вначале: «Уважаемый Иван Иванович!» Или: «Здравствуйте, Пётр Петрович!» Почему же вы забыли об этом простом правиле, когда стали писать воспитательнице вашего сына?
— Ну, согласен, открытка… невежливая, что ли… Виноват. Но вы мне скажите: почему Любовь Александровна не вписывает в табель отметки?
— В ноябре и декабре она болела. Ваш Володя прекрасно это знает. Но дело не в этом. Учитель может и ошибиться — работа его трудная и сложная. Но ведь можно, независимо от рода службы, зайти в школу, поговорить с учителем, не правда ли? Или уж, по крайней мере, написать вежливо. А тут, повторяю, и ошибки не было.
При каждом новом упоминании о «роде службы» Горчаков морщился. Я понимала: ему неприятно, совестно.
— Кстати, — продолжала Людмила Филипповна, — почему вы так странно пишете: «У меня единственная возможность следить и принимать соответствующие меры только через табель»? Если в табеле ничего не проставлено, разве нельзя просто спросить у сына, какие отметки он получил? Ведь он взрослый юноша, девятиклассник. Или род службы у вас таков, что и спросить у сына о его занятиях некогда?
— Ох, товарищ директор, ладно уж насчёт рода службы! Не в том дело. Дело в том, что… такое дело… Привирать стал мой Владимир. То есть, понимаете ли… Словом, не всегда от него правду слышишь.
— Значит, вы не верите сыну? Но тогда тем более надо было притти в школу и поговорить с Любовью Александровной. Мой вам совет: потолкуйте с нею. Она хорошо знает своих ребят, понимает их характеры, склонности. Посоветуйтесь с нею, не оставляйте этого. Знаете, есть такие слова у Руставели: «Ложь — источник всех несчастий, ложь — начало всякой муки». Мы, учителя, это хорошо знаем. А скажите…
Но тут дверь приотворилась, и меня позвали к телефону.
— Марина Николаевна, у нас тут, видно, разговор долгий, так вы уж приходите ко мне насчёт плана завтра в это время, хорошо? — сказала Людмила Филипповна.
Я простилась и вышла.
…Час спустя, проходя по коридору, я видела, как Горчаков вышел из директорского кабинета.
Лицо у него было задумчивое, озабоченное. Он подошёл к расписанию занятий в старших классах и стал что-то записывать в книжку.
«Эх, — подумала я, — вот поговорить бы так Людмиле Филипповне с матерью Вали Лаврова!»
Шаг за шагом
А с Валей было трудно. Впервые в жизни я встретила такой путаный характер. В нём удивительно сочетались самые противоречивые свойства: развязная самоуверенность и глубокое недоверие к себе, к своим силам и способностям.
Отвечая урок по географии, Валя вдруг останавливался и беспомощно говорил:
— Дальше я не помню, забыл.
— Припомни, подумай, — спокойно предлагал Алексей Иванович.
— Нет, я всё равно не вспомню. У меня плохая память, — уверял Валя чуть не со слезами в голосе.
— Но ведь ты же запомнил первую половину урока?
— А дальше забыл. Нет, я не вспомню, я знаю, что не вспомню…
Ясно было, что в такие минуты зелёная, коричневая и синяя краски на карте сливаются для него в сплошное, ничего не значащее пятно и он, пожалуй, вправду не отличит Чёрное море от Белого. И тут мне одной никогда бы с ним не справиться, не приди на помощь все учителя.
Идёт урок арифметики. Лидия Игнатьевна проходит по рядам. Мальчики склонились над тетрадями и напряжённо работают. Сначала и Валя, как все, погружён в задачу. Но вот он отодвигает тетрадку и начинает чертить что-то на промокашке. Лидия Игнатьевна подходит к нему.
— Почему ты не работаешь? — тихо спрашивает она.
— У меня ничего не выходит, — хмуро отвечает Валя.
— Не может быть. Должно выйти. Подумай ещё.
— Всё равно не выходит, я уже пробовал.
Лидия Игнатьевна берёт в руки тетрадку.
— Начал ты верно, — говорит она. — Только проверь вычисления вот здесь и здесь…
Валя снова углубляется в работу. Иногда он поглядывает на Лидию Игнатьевну, и она кивает в ответ. После каждой сколько-нибудь сложной задачи Лидия Игнатьевна спрашивает: «Кто решил иначе? Как можно решить другим способом? А какой способ решения правильнее?» И тут нельзя просто сказать наугад — этот или тот, потому что сразу последует: «Докажи почему».
Каждый, кто сидит в классе у Лидии Игнатьевны, должен думать и иметь своё мнение, и каждый готов к тому, что его сию минуту спросят.
Я вижу, как Валино лицо снова затуманивается. Он тяжело вздыхает и откладывает ручку, но обратиться к Лидии Игнатьевне, как видно, не решается. Она сама подходит к нему и, наклонившись, говорит тихо:
— Не знаешь, что делать дальше? Но ведь ты почти кончил. Вот взгляни: нужно превратить тонны в килограммы, и тогда…
— Погодите, я попробую, — перебивает Валя.
Минуту спустя слышен его торжествующий голос:
— Вышло! Сошлось с ответом!
— Ну, конечно, вышло. Понятно, сошлось с ответом, как же иначе? — спокойно говорит Лидия Игнатьевна.
* * *
— Марина Николаевна, — сказал мне Валя однажды, — ко мне ребята пристают.
— Какие ребята? Наши?
— Нет, из пятого «А».
— Как же они пристают?
— Толкаются. По голове щёлкают… — Он замялся было, но потом чистосердечно признался: — Я один раз даже заплакал. Вот вы посмотрите на переменке — прямо проходу не дают.
«Милый друг, — подумала я, — посоветовался бы ты с Борисом, он бы тебе сказал, что нужно делать в таких случаях!» Вслух я сказала:
— Хорошо, я поговорю с ребятами.
В самом деле, стоило Вале пройти по коридору, как из соседнего класса с воплем «Лавров идёт!» выскочили двое ребят, загородили ему дорогу, и тот, что был повыше, привычно нацелился, чтобы щёлкнуть его по макушке. Валя втянул голову в плечи и беспомощно оглянулся. Я подошла и резко сказала ребятам, чтобы они больше не смели его трогать.
— Почему ребята из пятого «А» задирают Лаврова? — спросила я Борю.
— Знаете, Марина Николаевна, Лавров верещит, верещит — просто смешно. Они не колотят его, только щёлкают. И чего он на них смотрит, не понимаю…
«Не сомневаюсь, что ты не стал бы на них смотреть», — подумала я, выслушав это исчерпывающее объяснение.
Дня три прошли спокойно, а потом Валя вновь подошёл ко мне и сообщил, что Андреев и Петухов из пятого «А» стали привязываться к нему на улице: «Если видят, что я иду один, без наших, сразу начинают приставать. И бегут за мной до самой школы. А как увидят кого-нибудь из наших — Рябинина или Воробейко сразу отстанут».
Не могла же я сказать ему: «Дай сдачи!» А как раз это мне и хотелось посоветовать. Подумав, я сказала дипломатически:
— А ты не позволяй обижать себя.
— Хорошо. Я буду ходить из школы вместе с Воробейко.
— А если Воробейко заболеет и не придёт в школу? Попробуй сам защитить себя.
— Попробую, — сказал он со вздохом, и я почувствовала, что ему далеко не ясно, как это сделать.
Помолчав, он добавил:
— А вы бы видели, как они Воробейку боятся! Петухов только заметил его — и сразу бежать. А Саша ему закричал: «Эх, ты, молодец против овец!»
Валя сказал это с истинным удовольствием. Как видно, он не усматривал ничего обидного для себя в словах Саши и даже не задумался, кто же тут играл роль «овец».
Прошло ещё несколько дней.
— Ну как, Валя, — спросила я с некоторым беспокойством, — Андреев и Петухов всё еще пристают к тебе?
— Нет, больше не пристают. Знаете, Марина Николаевна, они ко мне полезли, а я им как дал! — они и отстали.
Он сказал это с гордостью, как человек, который никому больше не позволит щёлкать себя по макушке.
Трудное у меня было положение в ту минуту. Что сказать? Не хвалить же Валю за то, что он «дал» обидчикам!
* * *
— Знаете, мне очень хочется записаться к вам в кружок, — сказал однажды Валя, глядя на Лёву с неуверенностью и надеждой.
— За чем же дело стало? Запишись.
— Но ведь я ничего не умею.
— Вот и научишься. Видел бы ты, как Левин или Лабутин начинали работать в кружке! Тоже ничего не умели. Сколько Левин добра перепортил — беда! А Ильинский такую кособокую полку для книг сделал, что на неё приходили любоваться из всех классов: книги на ней нипочём не стояли, всё время валились на сторону.
— А Гай много умел?
— Много умел один Рябинин. А остальные ничего не умели. В точности как ты.
Валя пришёл на занятия кружка. Для начала Лёва поручил ему простую работу: сделать книжку-самоделку для нашей классной библиотеки. Надо было вырезать из «Пионерской правды» печатавшуюся тогда повесть и наклеивать вырезки подряд на сшитые вместе большие листы плотной бумаги.
Ребята столпились вокруг Вали, но через несколько минут Савенков твёрдо, тоном, не допускающим возражений, сказал:
— Разойдитесь, чего уставились? Это вам не цирк, — и сам сел рядом.
— Давай я тебе покажу, — продолжал он ворчливо. — Гляди, как надо делать. Не так, не так! Эх ты, чучело, руки-крюки! Вот видишь как? Теперь сам попробуй…
Всё от начала до конца Валя проделал сам: и вырезывал, и сшивал, и клеил. Вымазался при этом вплоть до ушей и кончика носа. Книжка получилась не то чтобы образцово аккуратная, но крепкая: величайшее усердие «переплётчика» чувствовалось в каждом стежке, в каждой из бумажных полосок, которыми вдоль края приклеивались к каркасу газетные вырезки (Левина выдумка: у нас самый текст самоделок клеем не мажут; выходит аккуратнее: не промокает бумага, не тускнеет шрифт).
— Вот, стоило только взяться — и дело пошло, — сказал Лёва.
— Моя первая книжка-самоделка была куда хуже! — весело вспомнил Гай.
Валя посмотрел на него недоверчиво.
— Верно, верно, — повторил Саша, — куда хуже: у меня от клея получались грязные полосы. Лёва даже не принял работу. Правда, Лёва?
Правда, — подтвердил Лёва. — Словом, молодец, Валя. В следующий раз получишь работу потруднее.
— Постановили: признать, что книжке красоты ещё не хватает, но она и без красоты сто лет проживёт, — оценил первое Валино творение старший Воробейко.
А через несколько дней Валя принёс в школу новость:
— В Доме пионеров открылась выставка. Там есть кружок вроде нашего, только наш без названия, а тот называется «Умелые руки»!
— Из какой школы? Мальчики там или девочки? Что там выставлено? — наперебой спрашивали ребята сем хотелось знать, что за умелые руки и что они умеют делать такое, чего не умеют они.
— Давайте сходим туда в воскресенье! — предложил Лавров, и эта дельная мысль была первым его вкладом в нашу общую работу, в жизнь нашего пятого «В».
В Доме пионеров
В воскресенье мы собрались на углу переулка Стопани, минут пять подождали опоздавших (собрались все, последним прибежал запыхавшийся Кира Глазков) и в порядке, попарно, вошли в Дом пионеров. Ребята торопливо разделись, и мы поднялись в зал выставки.
Чего тут только не было! Глаза разбегались. На стендах, на столах — прекрасные гербарии коллекции минералов, модели боевых кораблей, самолётов, всевозможные альбомы, образцы вышивок, вязки… Мы надолго застряли бы у первого же щита, если бы Валя с видом гостеприимного хозяина не пригласил нас проследовать (он так и сказал: «проследовать») к стенду, на котором было написано: «Школа № 7 Ленинского района».
— Вот этот самый кружок. Тоже пятый класс, так же как и мы, — сказал Валя многозначительно.
К большому щиту были прикреплены аккуратные книжки-самоделки в нарядных переплётах, модель лодки, крошечный радиоприёмник, собранный в папиросной коробке, маленький скворечник, корзинка для мусора. Я стала вслух читать надписи, крупно выведенные красивым шрифтом:
— «Пионеры нашего отряда за этот год научились: делать авиамодели — 13 человек, (мои ребята огорчённо переглядываются)
делать книжки-самоделки — 20 человек, (вздох облегчения: с самоделками у нас вполне благополучно)
делать скворечники — 26 человек, (Лабутин: «Это и мы умеем!»)
собирать детекторные приёмники — 8 человек, (Румянцев: «А у нас только двое!»)
проводить электричество — 6 человек, (Левин: «У нас — один Рябинин!»)
вышивать — 7 человек, (Воробейко: «Вот так раз!»)
штопать носки — 30 человек, (хор голосов: «Вот это да!»)
мыть полы — все».
Ребята загудели было, но я стала читать дальше:
— «Наш отряд отремонтировал для школы все наглядные пособия…
Наш отряд сделал 19 мусорниц для младших классов…
Наш отряд переплёл для школьной библиотеки 120 книг…»
Ребята молчат.
— Ну что ж, — говорю я, — вы тоже умеете и делать скворечники и переплетать книги.
— Мы ещё умеем делать книжные полки! — говорит Ильинский.
Это заявление встречается смехом: все помнят, какую полку смастерил Витя.
— Мы умеем чинить калоши, а тут про это ничего не сказано, — не сдаётся Воробейко.
— Но у нас в кружке постоянных двенадцать человек, а тут весь отряд, — задумчиво говорит Лёва.
Мы ещё долго рассматривали всё, что сделали своими руками пятиклассники 7-й школы. Потом перешли к другим стендам.
И тут мы убедились, что девочки в женской школе, по соседству с нами — должно быть, мы ежедневно встречаемся с ними в переулке, — умеют не только вышивать и штопать носки: они, как и мальчики из 7-й школы, строят авиамодели, собирают радиоприёмники, столярничают, чинят электрические приборы.
«Что я, девчонка, чтобы подметать?», «Что я, девчонка, чтобы шить?», «Он, как девчонка, ничего не умеет!» — такое время от времени ещё приходилось слышать. И вот, пожалуйста, девчонки! У них золотые руки и золотые головы! Ведь надо не только много уметь но и много знать, чтобы собрать такую толковую коллекцию минералов или сделать плавающую модель катера.
— Это седьмой класс, — пробует утешить себя Лабутин, но все понимают: девочки и мальчики, о которых так выразительно рассказывает выставка, работают лучше и интереснее нас.
Постепенно ребята разбредаются по залу; одни листают альбомы, другие разглядывают фотографии, третьи никак не оторвутся от приёмника, заключённого в папиросной коробке.
— А знаете, что у них лучше? — говорит мне Лёва на обратном пути. — Во-первых, то, что у нас умеют десять-двенадцать человек, у них знают и умеют почти все. Во-вторых, они учатся работать не просто ради того, чтобы научиться, — это, пожалуй, ещё важнее: они многое сделали для всей школы, а не только для своего класса.
«Пионерская фабрика»
На следующий день не успеваю я переступить порог школы, как ко мне бросаются ребята.
— Мы решили так: первое звено будет ремонтировать наглядные пособия, второе — переплетать книги для школьной библиотеки, — сообщает Румянцев.
— Наше звено сделает для первоклассников девятнадцать мусорниц, — подхватывает Воробейко.
— А может быть, им вовсе не нужны мусорницы, да ещё целых девятнадцать штук?
Минута растерянного молчания, потом общий смех. Ясно: в 7-й школе ребята мастерили эти самые мусорницы, а мы сейчас загипнотизированы тем, что видели на стенде, и готовы подражать во всём без разбору.
После уроков — отрядный сбор. Сообща обсуждаем придуманное.
— Давайте устроим, как будто мы — фабрика! — вскочив с места, предлагает Лабутин. — Настоящая фабрика. Каждое звено — цех. Переплётный, столярный… Потом будем меняться: кто был переплётным, станет столярным, и тогда все научатся. Так и назовём: «Пионерская фабрика».
— И будем принимать заказы от всей школы!
— А Лёва будет наш директор?
— Нет, уж я как был вожатым, так и останусь, с вашего разрешения. Ну, Чесноков, записывай.
И Митя записывает своим крупным, чётким почерком:
«Каждый пионер нашего отряда к концу года должен уметь переплетать книги, делать скворечники, книжные полки, проводить электричество, штопать носки».
Страстный спор возникает вокруг того, можно ли написать, что все научатся собирать детекторные приёмники и строить авиамодели. Сходятся на том, что нельзя. Решают приняться за ремонт географических карт для школы; их много свалено в комнате завхоза, они сейчас никуда не годны — протёрты на сгибах, а то и вовсе висят клочьями. Звено Рябинина берётся снабдить первоклассников мусорницами; они, оказывается, всё же нужны, но не девятнадцать штук, а всего четыре. (Я вспоминаю, что Савенков куда-то исчезал и потом, запыхавшись, снова вошёл в класс. Это он бегал к завхозу узнавать, требуются ли для первых классов мусорные ящики.) Звено Морозова решило сделать для двух других пятых классов светонепроницаемые шторы, а то окна затемняются только у нас, и остальным всегда приходится искать пристанища, когда нужно показывать диапозитивы.
После занятий в наш класс было принесено пять географических карт. На столе стояла банка с клеем, лежали кисти и кисточки. Самые ветхие карты для удобства разложили на полу; океаны, горные хребты, полярные льды и необозримые зелёные степи простирались от двери до самого окна и от классной доски вплоть до первых парт, хотя ряды их и оттеснили к задней стене, чтобы освободить побольше места. Пошумев и поспорив, звено Гая принимается за дело и усердно работает.
Я, как это часто бывало, осталась в классе, но не вмешивалась, занималась своим: проверяла тетради. Гул ребячьих голосов мне ничуть не мешает.
Время от времени я посматривала на мальчиков и тотчас снова углублялась в своё дело. И вдруг я невольно перестала работать — что-то изменилось: в классе стало совсем тихо. Я подняла голову. Лавров и Гай, став на стулья, держали с двух сторон огромную карту, остальные ребята, как и я, оторвались от работы и, привстав, смотрели на неё. Первый плод их сегодняшних трудов! Это была большая карта СССР. Голубизна морей и океанов сливалась с голубой окраской стен. Я встала и подошла ближе.
— Марина Николаевна — сказал Дима, — попробуйте, проведите по ней рукой.
Я ладонью провела по карте. Она была шершавая, будто израненная. Это были следы флажков, шрамы минувших боёв. Вслед за мною мальчики поочерёдно касались карты, осторожно поглаживая её.
Я нашла глазами Гжатск. Селиванов отыскал Киев. Валя, стоя на стуле и стараясь не опускать свой угол карты, сверху задумчиво смотрел на запад, на Ленинград. Тёмные глаза Бориса остановились внизу карты — на густой синеве Чёрного моря; рот его был плотно сжат, щёки побледнели. Я знала, о чём думает каждый из них. Брат Селиванова погиб, защищая Киев. Дед Вали, старый ленинградский профессор, не пережил блокады. Во время массовых казней в Одессе погибли родные Бориного отца.
Валя и Саша кончили первыми. Четверть часа спустя были готовы и остальные карты. Они были ещё сырые от клея, и мальчики не стали их свёртывать: поклявшись уборщице Наталье Павловне притти завтра пораньше и всё убрать, они оставили карты распластанными на полу и на сдвинутых партах.
— Алексей Иванович как обрадуется! — повторял Валя. — Пять карт мы ему починили. И ещё починим!
— Обязательно починим, — сказал Гай. — У него теперь в каждом классе будут висеть карты.
— Ну конечно, — подхватил Лавров. — Это же нерационально — каждый раз всё перетаскивать из класса в класс!
* * *
Кружок работал, как и прежде. Тут проделывались всё те же операции: новички учились резать и строгать дерево ножом, пилить ножовкой, учились самым простым соединениям дерева на гвоздях; более опытные «создавали» полки, скворечники, собирали приёмники, переплетали книги. И, однако, многое изменилось: мы чувствовали себя нужными людьми в школе. С лёгкой руки Лабутина, нас шутя называли в школе «Пионерской фабрикой».
— Надо бы в нижнем коридоре ещё мусорный ящик поставить, — вслух размышляет завхоз. — Пойти в пятый «В» спросить…
— Лёва, — говорит Кирсанов, — Вера Александровна просит подклеить книжки, у неё «Вечера на хуторе» совсем растрепались. Можно, я принесу на кружок?
— Марина Николаевна, не могут ли ваши ребята сделать для моего класса полку? — спрашивает руководительница первого класса Нина Петровна. — Нам некуда складывать тетради.
Мы стали популярны. Заказы так и сыпались. Поэтому мы завели строгий порядок: со всеми просьбами и предложениями «заказчикам» надлежало обращаться к Лёве, и он принимал, отвергал или устанавливал очередь, смотря по тому, насколько были загружены наши мастера. Но надо сказать, что умелых рук теперь было много: работали все.
Я показала мальчикам, как пришивать пуговицы, штопать, обмётывать петли. К этому ребята отнеслись с полной серьёзностью ещё и потому, что в недавнем своём письме Анатолий Александрович писал: «Моряк и вообще военный человек должен уметь во всём себя обслужить — и зашить, и зачинить, и постирать, и обед состряпать». Это было веское слово. Притом мальчики из 7-й школы и ещё из многих школ, работы которых мы видели на выставке, умели и шить, и вышивать, и вязать. А о всякой работе, которая делалась для детского дома, и говорить нечего: её выполняли особенно старательно, с душой.
Ко дню Советской Армии мы приготовили каждому малышу подарки. Это были самоделки: рисунки, вырезанные из дерева лодки, красиво переплетённые альбомы, разноцветные фигуры зверей из пластелина. Артистически лепил Дима: коней с крутыми шеями, ушастых котят, зайцев, слонов, верблюдов. На каждой вещице была надпись: «Егору Вареничеву от Вани Выручки», «Светлане Поляковой от Саши Гая», «Наде Величкиной от Димы Кирсанова».
«ЧТО ТАКОЕ ГЕРОИЗМ?»
В вестибюле школы уже две недели висело большое яркое объявление:
ГОТОВЬТЕСЬ К ДИСПУТУ НА ТЕМУ:
«ЧТО ТАКОЕ ГЕРОИЗМ?»
Диспут устраивают комсомольцы, готовятся к чему все. В библиотеке небывалый спрос на книги о великих людях, о гражданской и Отечественной войне, в коридорах то и дело слышишь обрывки разговоров на ту же тему.
— Марина Николаевна, а нас пустят на диспут? — спрашивает Саша Гай.
— Нет, конечно. Это для старших, начиная с седьмого класса.
— Почему так? — В голосе Саши обида.
— Тема сложная, вам она ещё не по плечу. Потерпи годика два, тогда и у вас будут такие диспуты.
— Через два года… — ворчит Саша Воробейко. — Диспут устраивает Лёва, он у них там всем заправляет. А нам и послушать нельзя?
…Наступает очередной клубный день. Школьный зал переполнен. Кроме наших старшеклассников, пришли гости: ученицы соседней женской школы и многие из тех, кто окончил нашу школу в минувшем году, — бывшие выпускники, а ныне студенты.
— Очень отвлечённая тема, — говорит высокий юноша в больших роговых очках.
— Не отвлечённая, а бесспорная, — возражает другой, небольшого роста, с живыми серыми глазами. — Не очень ясно, какой может получиться диспут, когда всё так очевидно.
Раздаётся звонок, в зал вносят последние стулья, торопливо пробираются запоздавшие. Постепенно водворяется тишина, и на кафедру поднимается десятиклассник Юра Лаптев…
Случайно я оглянулась и вдруг увидела у самой двери Толю, Сашу Гая, Сашу Воробейко, Диму и Бориса. Мальчики не смотрят на меня, но, уж конечно, знают, что я их заметила. По всему видно, что они готовы поплатиться многим лишь бы их не выставили из зала:
— Лёва, — шепчу я, — взгляните: явились представители пятого «В».
Первое движение Лёвы — встать и подойти к ребятам. Но он сразу спохватывается: как тут встанешь? В зале тишина, все внимательно слушают… И Лёва безнадёжно машет рукой.
Пока мы с ним перешёптываемся, Лаптев произносит заключительные слова.
— Я нарочно докладывал коротко и, конечно, не исчерпал темы. Мне кажется, ответить на вопрос диспута мы должны сообща. Но я настаиваю на одном бесспорном положении: героический поступок — это такой поступок, который совершается во имя справедливого дела, во имя передовой идеи.
Едва он договорил, из глубины зала раздался голос девушки:
— Можно вопрос?
Это одна из гостей, ученица женской школы. Она подходит к кафедре и порывисто оборачивается к залу.
— Вы представьте, — начинает она взволнованно: — горит дом. Пламя бушует, вот-вот обвалится крыша. Женщина из толпы кричит: «Там остался мой ребёнок!» Тогда я бросаюсь в огонь, с опасностью для жизни карабкаюсь по балкам и потом, обожжённая, возвращаюсь с ребёнком на руках. Как вы считаете: это героический поступок?
В зале короткая тишина раздумья, потом настороженный мальчишеский голос:
— Ну, предположим. Что же ты хочешь сказать?
— А я хочу сказать: а что, если я просто хотела прославиться? Значит, выходит, что важен поступок, важен результат действия, а не то, с каким чувством его совершаешь.
До сих пор зал был весь — внимание. Но эти слова мгновенно вызывают взрыв. В первую минуту все говорят разом, но быстро стихают, прислушиваясь к одному голосу: в конце зала встаёт высокий, широкоплечий юноша («Кузнецов, из десятого «А», поясняет мне Лёва).
— Нет! — негодующе говорит Кузнецов, и на лице его — возмущение. — Выходит, что ты способна на подвиг, только когда на тебя смотрят. А если бы никто не видел тебя в эту минуту, ты не стала бы рисковать жизнью?
Девушка всё ещё стоит на кафедре. А пламя спора перекидывается в другой конец зала.
— Вот, например, Стахович в «Молодой гвардии», — подхватывает мысль Кузнецова Митя Гай, старший брат нашего Саши. — Стаховичу казалось, что комсомольская работа — это просто всякие торжественные собрания и заседания. Тут он умел показать себя. А когда пришёл трудный час, настоящее испытание, он обанкротился, вот и всё. Ему надо было знать, что его слава прогремит на весь свет, а вот с глазу на глаз с палачом он не устоял. А почему? Потому что в его характере главные черты — тщеславие, честолюбие, первая его мысль всегда о себе.
— Послушайте, — произносит Людмила Филипповна. (Она председатель на этом диспуте.) — Призываю вас к порядку. Просите слова, выходите на кафедру и говорите всё, что хотите сказать, но не кричите с места.
И тотчас поднимается светловолосый, большелобый юноша в аккуратном синем костюме:
— Людмила Филипповна, дайте мне, пожалуйста, слово!
— Говори, Малеев!
И Малеев поднимается на кафедру. В прошлом году он окончил нашу школу. Теперь он студент.
— Я несогласен с мыслью докладчика, что подлинный героизм свойствен только людям с передовым мировоззрением. Вспомним Савонаролу — он был фанатик, он сжигал картины великих мастеров, обращал в прах прекрасные статуи. Но когда ему предложили доказать истинность своей идеи, он согласился даже на испытание огнём. Его не страшили ни костёр, ни виселица, он верил и ради своей веры был готов на всё. Что же, разве он не герой? Бесспорно, герой. Ведь и он, фанатик, дорожил жизнью, а всё-таки жертвовал ею во имя идеи!
Выступление Малеева вызывает целую бурю. Верно ли, что всякий, кто рискует собой, достоин называться героем?
Выступления становятся всё короче.
— Если я правильно понял тебя, ты считаешь, что даже личности, не имеющие никаких принципов, тоже могут совершить героический подвиг? Значит, и бандит, рискующий своей жизнью, по-твоему, тоже герой? — иронически спрашивает кто-то.
И тут на кафедру поднимается Лёва.
— Кого из нас способен вдохновить мрачный подвиг Савонаролы? — говорит он. — Никого. А люди, страстно защищавшие истину, навсегда останутся в нашем сознании олицетворением мужества, стойкости, героизма. Но ведь это всегда — передовые люди своей эпохи, они защищали передовые, прогрессивные идеи. Значит, мы снова возвращаемся к началу спора: героизм определяется правотой защищаемой идеи. Всё дело в том, за что борется человек. Героизма «вообще» нет. И только поступок, совершённый ради справедливого дела, мы можем назвать героическим.
— Позвольте мне реплику в споре! — сказала Людмила Филипповна, несмотря на то, что Лёва ещё не сошёл с кафедры. — Я хочу спросить: почему вы все говорите о героизме как о чём-то мгновенном, обязательно связанном с риском для жизни? Разве этим исчерпывается героизм? Например, Чернышевский. Разве его жизнь в глуши, в ссылке, в одиночестве, разве его непрерывный труд и гордая вера — не подвиг?
— Дайте мне слово, Людмила Филипповна, я как раз об этом и хочу сказать! — поднялся десятиклассник Орлов. — Мне кажется, плохо, что докладчик ничего не сказал о повседневном героизме. Я хотел бы привести такой пример: ленинградский завод «Электросила» не прерывал работы в самые трудные дни блокады. Люди работали, а руки у них примерзали к металлу, — и всё же они не просто работали, а перевыполняли норму. Разве это не героизм?
— Конечно, героизм! — взволнованно говорит голубоглазая, светловолосая девушка, моя соседка. — Но ведь ты опять приводишь в пример людей, которые работали в исключительных условиях. А если люди просто хорошо работают в обычной обстановке, это, по-моему, не героизм…
И опять вспыхивает жаркий спор. Слова девушки находят отклик, и многие снова и снова говорят о том, что подвиг, героизм связываются в их понимании с чем-то исключительным, необыкновенным, ярким.
— Я не буду разубеждать тех, кому кажется, что героическое непременно блистательно, — говорит тогда Анатолий Дмитриевич. — Я прочту вам письмо Наташи Ковшовой…
В руках у Анатолия Дмитриевича конверт-треугольник. Он развернул его и начал:
— «Здравствуй, моя милая Олюшка! Много времени прошло с момента нашей последней встречи. С тех пор очень многое изменилось, многое пришлось пережить. Я с 15 октября 1941 года в армии и с 11 февраля 1942 года на фронте. Пережила суровую зиму, участвовала во многих боях. 20 мая была ранена в обе руки и обе ноги. Но мне, как всегда, повезло: все ранения незначительные, только левая рука выше локтя была пробита насквозь. Здесь нерв, так что первое время пальцы на руке совсем не действовали. В госпиталь я не пошла, лечилась в роте выздоравливающих. Сейчас совсем здорова. Раны мои зажили, только шрамики болят, особенно в дождливую погоду. Ну, я на это не обращаю внимания. Хожу на «охоту». Мы с моей подружкой Машенькой за последнее время обучили немало молодых снайперов. С каждым днём наши ряды пополняются, счёт растёт… В общем, новостей много, всего не напишешь. Ну, а ты как живёшь, старый мой дружище?»
Анатолий Дмитриевич дочитал письмо до конца.
Было тихо.
Всем показалось, что Наташа сама приняла участие в споре, — и это было очень убедительное, веское слово.
И тогда все вдруг замечают, что Лёва ещё стоит на кафедре.
— Да, — говорит он, словно его ни на минуту не прерывали. — Я уверен, что всё начинается с мелочей, с повседневного, с будничного. Не нужно ждать какого-то особенного случая, — случаев, помогающих воспитывать в себе настоящего человека, у каждого из нас сколько угодно. Вас, наверно, удивит то, о чём я сейчас скажу, некоторым, может быть, покажется, что это к делу не относится. Но я всё-таки скажу. Вот на днях у нас в десятом классе произошёл такой случай. Вы помните, в школе испортилось отопление. Анатолий Дмитриевич со специальной комиссией пошёл выяснить причину. И оказалось: отопление не работает потому, что кто-то повернул кран и испортил батарею. Анатолий Дмитриевич спросил: «Кто? Это сделал один из нас. Но у него не хватило мужества сознаться, он испугался ответственности. Ну, а если жизнь поставит его перед настоящим, большим испытанием, что же, он тоже испугается?
Все очень удивлены таким оборотом диспута. Снова — в который раз! — вспыхивает спор, Людмиле Филипповне становится совсем трудно сдержать ребят. Девушка, сидящая рядом со мной, то и дело взрывается, как ракета: вскакивает, кричит, машет руками.
Я смотрю на своих мальчишек. Теперь они уже не притворяются, они действительно не замечают моего взгляда.
Они безраздельно захвачены тем, что происходит вокруг, и жадно слушают, широко раскрыв глаза, боясь пропустить хоть слово.
«Понимают ли они? — думаю я. — Несомненно, понимают». На лицах — страстный, неподдельный интерес; кажется, ещё немного — и они не выдержат и тоже вмешаются в спор.
В заключение слово взяла Любовь Александровна. Она хорошо говорила — сжато, ярко и умно, и мне очень запомнилось, как она кончила:
— Можно ли сказать, что на этом диспуте мы разрешили все вопросы, которые поставили перед собой? Конечно, нет. Но мы задумались над ними — вот что важно. И я хочу напомнить вам: юность — лучшая пора в жизни человека. Михаил Иванович Калинин не раз напоминал, что молодость — это прекрасное, неповторимое время, источник всего светлого и хорошего в будущем. Именно в юношеские годы определяется, чем будет силен человек, чем станет дорог и нужен обществу. Мне хотелось бы, чтобы после диспута каждый из вас заглянул внутрь себя и спросил: а я каков? Какие черты должен я воспитывать в себе, чтобы прожить жизнь достойно и честно, чтобы быть сильным в любом испытании, которое жизнь поставит на моём пути?
После диспута
На другой день все, кто был на диспуте, в перемену оживлённо делились своими впечатлениями. Самым неутомимым рассказчиком был Воробейко.
— А главное, кто герой? Малеев говорит: «Раз смерти не боишься — значит, герой». Тогда все как закричат! А Лёва как выступал! Лучше всех! — повествовал он.
Вскоре после диспута Александра Фёдоровна, преподавательница истории, прислала с дочерью пачку карт древней Греции — работы моих ребят.
— Мама больна, — объяснила девушка, — но она знает, что мальчики ждут отметок, поэтому она вчера проверила карты. Вот я их принесла. Мама просила передать, что она очень довольна. Она поставила десять пятёрок.
Я поблагодарила и, взяв карты, пошла на урок, а в перемену стала раздавать их ребятам.
— Держи, Толя, свою Грецию. На неё просто смотреть приятно. У тебя Пелопоннес такой жёлтый, как только что вылупившийся цыплёнок. Замечательно раскрасил! Смотри, какая отметка: пять с плюсом!
Толя до ушей залился краской — тем неудержимым румянцем смущения, придававшим ему сходство с застенчивой девочкой, за который его часто называли «Тоней».
— Выручка, Ваня, где же ты? — продолжала я. — Вот твоя карта. Как тебе удалось так хорошо раскрасить море? Я помню, у меня карандаш никогда так ровно не ложился, всё получались полосы.
— А это меня Горюнов научил, — отвечал сияющий Ваня. — Знаете, как? Надо поскоблить карандаш — получается такая синяя пыльца, а потом взять её на тряпочку и по морю растереть. Выходит ровное, голубое.
— Очень хорошо выходит. Дальше — Игорь. Где он? Тоже одна из лучших карт. Александра Фёдоровна особенно отметила. Дима, о тебе и говорить нечего: превосходная карта. Одним словом, молодцы! Александра Фёдоровна очень довольна. Я думаю, к её приходу можно устроить выставку лучших карт.
— Я свою перерисую! — со вздохом сказал Глазков, один из немногих получивший тройку.
— Толя, может быть ты отберёшь лучшие карты?
— Нет, не могу, — был неожиданный ответ.
— Почему?
Молчание. Ребята переглянулись. Я посмотрела на Толю. Вот и сейчас он покраснел чуть не до слёз, но глаза его упрямо и твёрдо выдержали мой взгляд.
— Почему? — повторила я. — Ты чем-нибудь занят?
— Нет. Один из нас получил пятёрку за карту, которую не сам рисовал, — негромко, но отчётливо произнёс Толя. — Мне придётся отобрать и эту карту, а я не хочу.
— Ты уверен, что не напрасно подозреваешь товарища?
— Уверен.
— В таком случае, — сказала я, — мы не станем устраивать выставку.
Ребята зашептались. Ваня стоял растерянный и весь красный. Игорь, тоже покраснев, хмурился и кусал губы. Дима, сдвинув брови, смотрел на Горюнова. Встретив мой вопросительный взгляд, он, кажется, хотел что-то сказать, но тут же опустил глаза. «Но ведь это не о них речь, — сказала я себе. — Они и сами прекрасно рисуют». Я ещё подождала. Мне казалось, что вот сейчас кто-нибудь из ребят встанет и скажет: «Это сделал я».
Но никто не встал и не сознался.
* * *
«Кто же мог это сделать?» — преследовала меня неотступная мысль.
Вызывая ребят к доске, проверяя их тетради, я всё снова спрашивала себя: «Не он ли? Не этот ли?»
Я пересмотрела все карты. Пятёрки были у Кирсанова, Горюнова, Гая, Левина, Соловьёва и у других, которые очень недурно рисовали. Заподозрить никого из них я не могла. Что касается Выручки, то на его рисунки я обратила внимание ещё в начале прошлого года: отчётливые, ясные, строгие. «Вот кто будет из первых по черчению», думалось мне.
Конечно, моим ребятам не раз случалось набедокурить. Но до сих пор всегда бывало так, что стоило спросить: «Кто это сделал?» — и виноватый вставал и говорил: «Это я», и прибавлял, смотря по собственному характеру и по характеру проступка:. Я нечаянно, Марина Николаевна. Простите», Я не хотел, не думал, что так получится», «Сам не знаю, как это вышло», «А я не знал, что этого нельзя», или ещё что-нибудь в этом роде. Так было со «стрелком из катушки» — Румянцевым, так было с Серёжей Селивановым, который ухитрился разбить в живом уголке аквариум и сам огорчался больше всех. Этот сам прибежал к преподавательнице естествознания и повинился.
Так было с Савенковым, когда он испортил единственный наш рубанок. Однажды, обнаружив в диктанте Лукарева и Глазкова совершенно одинаковые ошибки, я спросила напрямик:
— Кто к кому заглядывал?
— Я!.. — после короткого молчания с тяжким вздохом ответил Федя. — Я сперва написал «тростник», а потом вижу — у Киры «тросник», взял и переправил…
Да, они всегда честно признавались в своих грехах. А тут…
— Толя, — спросила я как-то, застав его в библиотеке, где он старательно выбирал себе книгу, — я всё думаю: кто же у нас выдаёт чужую работу за свою?
— Я не могу сказать, — ответил он, краснея и глядя мне прямо в глаза.
— Но ты должен поговорить с тем, кто это делает.
— Говорил я ему. И Саша говорил и Дима, а он отвечает: «Не ваше дело».
Мы стояли рядом, углубившись каждый в свою книжку. Мне показалось, что Толя уже забыл о нашем разговоре, но он вдруг сказал:
— Я про это давно знаю. Мне противно было, но я молчал. А после диспута, знаете, Марина Николаевна, я подумал: нельзя молчать. Даже и не знаю, почему так вышло. Там ничего про это не говорили. Но только я подумал: раз вижу, что человек делает нечестно, какое у меня право молчать?
— Ты прав, — сказала я. — Мириться с подлостью нельзя. А это маленькая, но уже подлость.
— А из маленькой подлости в конце концов всегда вырастает большая, — вмешалась вдруг Вера Александровна, которая, как видно, давно прислушивалась к нашему разговору.
«Неужели тебе не стыдно?..»
— Напишите: «Длинный обоз медленно двигался по пыльной дороге; возы скрипели и покачивались». Разберите по членам предложения.
Игорь Соловьёв беспомощно глядит на доску. Запутался, безнадёжно запутался.
— Давай нарисуем схему, — говорю я.
Соловьёв стал медленно водить мелом по доске — и вдруг меня осенило: какие неровные, неуверенные линии… прямоугольник совсем кривобокий. Может быть, потому, что он волнуется, не понимает, как делать разбор?
— Сотри, перерисуй. Небрежно получилось.
Опять потянулись кривые, неряшливые линии.
— Возьми линейку, — сказала я.
Но и линейка мало помогла: схема была начерчена посредственно.
— Садись. Валя Лавров, к доске!
* * *
…А перед самым звонком я сказала:
— Соловьёв, останься, пожалуйста, после уроков.
Сорок пар глаз внимательно смотрят на меня: зачем? Что случилось? Горюнов и Гай смотрят особенно напряжённо, Ваня — с тревогой, Соловьёв — недоумевающе.
Но меня не сбивает с толку это недоумение. И как только мы остаёмся одни, я, не боясь ошибиться, говорю:
— Неужели тебе приятно, когда тебя хвалят за работу, которую сделал другой?
— Это вам Горюнов сказал? — быстро спрашивает он вместо ответа.
— Нет, я сама поняла. Ты рисуешь неважно. Ваня рисует очень хорошо. Твоя карта нарисована прекрасно Зачем ты это делаешь?
Он мнётся, теребит галстук.
— Мне Выручка сам предложил. Говорит: «Давай я тебе нарисую». А мне некогда было. Вот он и нарисовал.
— Это было только один раз?
Опять долгое молчание. Игорь колеблется:
— Н… нет, не один.
— Часто?
— Всегда, когда надо рисовать. Опыты по ботанике. Контурные карты Алексею Ивановичу. И вот эту… древнюю Грецию…
Я внимательно смотрю на него. Он низко опускает голову.
— Не стану объяснять тебе, как это скверно. Ты и сам прекрасно понимаешь. Неужели тебе не стыдно было перед товарищами, когда тебя хвалили, а они знали, что ты тут ни при чём?
— Никто не знал. Только Горюнов и Гай. И Кирсанов, наверно, догадался.
— А Горюнов откуда знал?
— Он научил Выручку писать нормальным шрифтом. И ещё научил раскрашивать карты так, чтоб получался ровный цвет. Выручка и себе и мне так делал. Горюнов увидел и говорит: «Это ты не сам рисовал». А какое ему дело?
— Почему ты тогда не сознался? Разве ты не знаешь, что у нас ребята всегда сами говорят? Помнишь, когда Селиванов разбил аквариум, он сам пришёл и сказал. А ты что же, боялся наказания?
Снова долгое молчание.
— Совестно было, — говорит он наконец.
* * *
На следующий день первых двух уроков у меня по расписанию не было.
Со звонком на большую перемену я пошла в свой класс, откуда только что вышел Алексей Иванович, и… остановилась на пороге. У ребят чуть ли не драка: все кричат, машут руками. Первое, что мне бросается в глаза, — встрёпанный, злой и красный Борис, побледневшее, но тоже злое лицо Соловьёва и полное решимости лицо Толи.
— Что у вас тут происходит? — спрашиваю я. — Что случилось?
— Соловьёв назвал Горюнова ябедой, и Соловьёва за это стукнули как следует, — отвечает Борис.
— Кто стукнул?
— Я, — без малейшего смущения говорит Саша Гай.
— Поздравляю тебя. Это, конечно, лучший способ доказать свою правоту. А за что ты назвал Толю ябедой, Игорь?
— А зачем он нафискалил вам про карту?
Чувствуя, что бледнею, я спрашиваю Игоря:
— Ты мне веришь?
— Верю, — отвечает он не сразу и не глядя на меня.
— Так вот, я повторяю тебе, что Толи мне ничего не сказал. Больше того: я спрашивала его, и он сказал, что ответить не может. Я тебе вчера объяснила, что всё поняла сама, без Толиной помощи.
— Если бы я сказал Марине Николаевне, я был бы фискалом. Но я ничего никому не говорил. Только Гаю. Даже Кирсанову не говорил, он сам догадался, — негромко произнёс Толя.
— А если хочешь знать, я бы на твоём месте именно сказал, — вставляет Николай. — Не потихоньку, понятно, а именно в классе при всех. Громко. Обязательно бы сказал!
— Да почему это «ябеда»? — кричит Левин. — Ябеда — это если из-за угла наговаривает.
— Я так Толе и говорил, — поддерживает Саша. — По-моему, тоже сперва надо было с Соловьёвым поговорить, но уж раз он не понимает, тогда сказать при всём классе, вот и всё.
— Нехорошо вышло, — задумчиво говорит Лёша. — Его Елена Михайловна так хвалила… Говорит: «У тебя все опыты прекрасно зарисованы». Вот тебе и прекрасно!
И вдруг вмешивается Ваня Выручка: он до сих пор не проронил ни слова, я даже не сразу увидела его позади остальных.
— Игорь не виноват, — говорит он громко. — Это я сам ему рисовал. Он не просил.
— Брось ты! — резко обрывает Николай. — Тоже, хорош: ходишь за ним, как маленький.
— Он мой товарищ! — вспыхивает Ваня.
— Ну и что ж, что товарищ? Вот Горюнов с Гаем и Левиным товарищи. И я с Гаем дружу. Так разве он за меня задачки решает? Разве Кирсанов рисует за Воробейку карты? Да и какие вы товарищи, просто он тебя гоняет, как маленького: сделай да принеси, а ты и слушаешься.
Ваня опустил голову. Во внезапно наступившей тишине раздаётся спокойный голос Димы:
— Соловьёв все смеялся над Лавровым, дразнил его. А вот я один раз помог Вале оформить задание по ботанике, так он прямо и сказал Елене Михайловне: «Это я не сам, мне Кирсанов помогал». Хотя его никто не спрашивал и я там очень мало сделал.
Все взгляды снова обращаются на Игоря Соловьёва. Он медленно поднимает голову и говорит не громко, но твёрдо:
— Я все карты перерисую сам.
— Вот и у нас получился диспут, — вдруг с удовлетворением заявил Воробейко. — Поговорили, и всё понятно стало.
Сбор звена
У доски отвечал Володя Румянцев.
Урок был не выучен, и он маялся. Вздыхал, переминался с ноги на ногу, теребил пуговицу на рубашке и даже не находил утешения в обращённых на него сочувственных взглядах товарищей.
— Почему же ты не выучил? — спросила я наконец.
— Я… Вы меня в прошлый раз спрашивали… и я думал…
— Я понимаю, что ты думал. А вот скоро ли вы поймёте, что уроки надо учить для себя, а не для учителя?
— Да, Марина Николаевна, ведь я понимаю! — с отчаянием сказал Володя. — А только вы меня в прошлый раз спросили, вот я и подумал…
— Садись. Морозов, к доске.
Андрюша вышел и ответил, как всегда, чётко и толково.
— Отлично. Садись.
Стуча каблуками, он пошёл на место. На секунду подняв глаза от журнала, я уже не увидела его лица, а только слегка покрасневшие уши и затылок; он держался очень прямо.
— И рад, и рад! — раздался язвительный голос Левина.
— Конечно, рад, — вступилась я. — Почему же не радоваться хорошей отметке?
— Да он не потому рад, а потому, что у Румянцева двойка!
— Что за чушь!
Я посмотрела на Андрея. Он сидел нахмуренный, плотно сжав губы, и я уловила несколько направленных на него испытующих, насмешливых взглядов.
— Саша, к доске!
Гай вышел, толково рассказал биографию Некрасова, прочёл наизусть отрывок из поэмы «Орина — мать солдатская» и, получив пятёрку, прошёл на место, провожаемый дружелюбными, улыбающимися глазами ребят.
Это был последний урок. После звонка ребята, по обыкновению, столпились у моего стола, и мы стали толковать о разных разностях. Но тут я заметила, что Андрей сосредоточенно возится со своим портфелем, то так, то эдак перекладывая книги и тетради. Я поняла, что это неспроста. Обычно Морозов собирался раньше других и выходил из класса первым, а тут он так озабоченно копается в своём портфеле, точно думает найти какое-то пропавшее сокровище…
Я поторопила ребят. Они разошлись, и мы с Андреем остались вдвоём в пустом классе. Он всё продолжал возиться с портфелем.
— Почему ребята думают, будто ты обрадовался Володиной двойке? — спросила я.
— Неправда, я совсем не радовался. Просто мы с Румянцевым перестали дружить. И, конечно, он с тех пор хуже учится. Раньше я ему помогал, а теперь он готовит уроки один.
— Разве один? По-моему, Володя занимается с Толей, с Сашей. А почему вы больше не дружите?
— Это он виноват. Он всё время говорил, что я задаюсь, что я из кожи вон лезу, чтобы быть первым. А я вовсе не лезу. Я не виноват, что я первый. Это зависит от способностей.
— Послушай, — сказала я. — Помнишь, мы писали сочинение на тему «Мои товарищи»? Ты знаешь: никто, ни один человек не написал о тебе. Почему так? Ведь раньше ты дружил и с Володей и с Борисом, а теперь с обоими поссорился. Прежде ребята относились к тебе гораздо лучше.
— Они мне завидуют.
— Как тебе не стыдно! Что ты говоришь! Подумай сам: ведь Горюнов очень способный и учится прекрасно, Гай — тоже, и ещё многие у нас хорошо учатся. Почему же им никто не завидует? Плохо ты думаешь о своих товарищах.
— И потом, — не отвечая, сказал Андрей, — ребята хотят выбрать другого вожатого. Говорят, я плохой. А я работаю не хуже других.
«Ах, вот почему ты остался!» подумала я и сказала:
— Что ж, послушаем на сборе, что скажут ребята.
* * *
Странный это был сбор. Послушав немного, я спросила:
— О чём же у вас всё-таки сегодня разговор?
И Саша Воробейко ответил исчерпывающе:
— У кого что болит, тот о том и говорит.
В самом деле, сбор начался шумно и беспорядочно.
— Наше звено хуже всех, — заявил Чесноков. — Дневник у меня совсем пустой, даже записывать нечего.
— У кого больше всего двоек? У нас! — подхватил Ваня Выручка.
— В сборную волейбольную команду из нашего звена ни один человек не попал! — сердито крикнул Лукарев.
— Погодите, — вмешался Лёва. — Андрей, веди сбор, иначе ничего не получится.
— Прошу высказываться по порядку, — хмуро сказал Морозов. — Просите слово.
— Я прошу слова и сейчас всё скажу по порядку. — Ваня Выручка встал и, тоже хмурый и сердитый, с минуту молча собирался с мыслями. Непривычно было видеть нахмуренным веснушчатое, безбровое лицо, словно созданное для простодушной улыбки. — Лабутин прав: наше звено хуже всех. Мы ничего не делаем, ничем интересным не занимаемся. Намечали план, а что вышло? Ничего? Звено Гая какой альбом к восьмисотлетию Москвы сделало! Потом они ходили все вместе в Музей Ленина. Ходили в театр. На сборах у них всегда игры. А у звена Рябинина какой поход на лыжах был! Вон Лабутин, и Лукарев, и Воробейко с ними ходили, пусть скажут! («Ещё какой поход!» отозвался Саша.) А у нас? Мы и не собираемся вовсе. И ничего не делаем.
Ваня сел.
— А всё почему? — заговорил Саша. — Всё потому, что Морозову до звена никакого дела нет. Ему только до себя дело: ему на товарищей наплевать.
— Погодите, я скажу! — вскочил Лабутин. — Вот все говорят: Морозов в прошлом году хорошо работал. А знаете почему? Он тогда был председатель совета отряда, вот в чём дело! Это ему нравилось, тут он на виду, тут ему почёт! А вожатый звена — это ему мало. Он любит быть первым. Это ещё ладно: будь первый, пожалуйста! Не жалко! Но почему он не любит, когда другой тоже первый? Вот он никогда, никогда никому не подскажет… Марина Николаевна, ну что вы на меня так смотрите! Я сам знаю, что подсказывать нельзя, и у нас почти никто не подсказывает, я не к тому говорю. Но Морозов… он не так, как все. Он не просто сидит и не подсказывает. Ну ведь бывает: стоишь у доски и не знаешь… а он только путает. Тянется изо всех сил, чтобы его спросили, усмехается, плечами пожимает. Дескать, ты дурак, ничего не знаешь, а вот я знаю. Когда другой хорошо отвечает, ему не нравится.
— Врёшь! — со злостью выкрикнул Андрей.
— Верно, верно! Не врёт! Почему врёт? Правда! — раздалось сразу несколько голосов.
— Докажи!
В первый раз я видела, чтобы этот дисциплинированный и довольно равнодушный к окружающим мальчик до такой степени потерял самообладание. Голос его звучал хрипло, на скулах выступили неровные красные пятна.
— Не всё можно доказать, — возразил Лабутин, — но только это всему классу известно.
— А я докажу, — опять заговорил Саша Воробейко. — Вот в прошлый раз Лидия Игнатьевна говорит: «Эту задачу можно решить другим способом. Подумайте». Мы сидим, думаем. Румянцев у него спрашивает: «Смотри, правильно я начал?» А Морозов даже не смотрит и говорит: «Не знаю». А потом, минуты не прошло, поднимает руку «Лидия Игнатьевна, я решил!»
— Румянцев сам должен был думать! — запальчиво возражает Андрей.
— Так ведь он сам и придумал начало, и начало было верное, оказалось такое же, как у тебя. Что ж ты соврал, что не знаешь?
— Да что его спрашивать! — ворчит Лукарев. — Не первый раз про это речь.
Все говорили разом, и Лёве снова пришлось вмешаться:
— Что же вы предлагаете, ребята?
— Выбрать другого! Другого вожатого! — раздалось сразу несколько голосов.
Наступило молчание.
— Ты согласен с тем, что о тебе сказали? — заговорила я, обращаясь к Андрею.
— Звено, конечно, работает плохо, — ответил он хмуро.
— А почему? Пусть скажет, почему плохо! — снова закричали ребята.
— Работа звена зависит не от одного вожатого. Я предлагал ребятам пойти в кино на «Белеет парус одинокий», а они не захотели.
Снова поднялся шум. Оказалось, все, кроме Андрея, видели эту картину, и не по одному разу, потому и отказались итти. А когда ребята пошли смотреть «Клятву Тимура», Андрей не пошёл, потому что он как раз уже видел её.
— В общем, надо другого вожатого, — заключает Лабутин.
После краткой заминки слово взял молчавший до сих пор Румянцев.
— Я предлагаю оставить Морозова вожатым, — совершенно неожиданно заявляет он. — Ведь мы говорим ему всё это в первый раз.
— Как так — в первый раз?
— Ну, каждый в отдельности, может, и говорил. А как следует, все вместе не говорили. Вот теперь мы ему всё сказали, и пускай он теперь знает. Пускай остаётся вожатым и хорошо работает. А если не будет хорошо работать, тогда выберем другого, — закончил Володя, обводя товарищей доверчивым взглядом.
Конечно, опять поднялся спор. Лабутин и Лукарев — решительно против. Даже Ваня, Ваня, который всегда готов ждать от товарищей только хорошего, заявляет категорически:
— Ерунда это, все равно никакого толку не будет!
И тут неожиданно и негромко говорит Вася Воробейко:
— Что же, он совсем не человек, что ли?
И Коля Савенков поддерживает:
— Пускай покажет, на что годен. Посмотрим. Выбрать другого всегда успеем.
Голосуют. Голоса разделяются: четыре за то, чтобы выбрать другого, шесть за то, чтобы Морозова оставить. Надо сказать правду: не очень солидное и почётное большинство, но всё-таки большинство. И тут, ко всеобщему удивлению, Саша Воробейко, только что голосовавший против Андрея, трёт лоб, что-то соображая, и миролюбиво говорит:
— Что ж, ладно. Пускай работает. — И, обернувшись к Морозову, нравоучительно добавляет: — Ты не обижайся, тебе говорят не со зла, а для твоей же пользы.
У Андрея лицо совсем красное, губы сжаты плотнее обычного, но голос уже звучит почти ровно.
— Давайте составим план работы, — говорит он. — Предлагайте.
…Задержавшись немного, мы выходим из школы вдвоём с Лёвой.
— Лёва, — говорю я ему, — вы подумайте только: Саша Воробейко поучает Андрея Морозова! Согласитесь, год назад мы никак не могли бы подумать, что возможна такая вещь.
— А понял Андрей хоть что-нибудь? — задумчиво говорит Лёва.
— Не всё… но кое-что, несомненно, понял!
Сочинения на вольную тему
На уроке русского языка я говорю ребятам:
— Сегодня я принесла ваши сочинения на вольную тему. Есть сочинения: «На каникулах», «В лес за грибами». Одни вспоминали лето, другие — зимние каникулы. Есть сочинения о лыжном походе, о футбольном матче, о любимых книгах. Но сейчас я хочу прочитать вам два сочинения на одну и ту же тему — о нашем детском доме. Вот первое. Слушайте:
«Один раз мы поехали в Болшевский детский дом, и потом стали ездить туда часто. Мы подружились с ребятами, хотя они и маленькие. Они все круглые сироты, у них нет ни отца, ни матери. Нам Марина Николаевна не разрешила ни о чём их спрашивать, чтоб они не вспоминали про своё горе. Мы и не спрашиваем ни о чём, но иногда и так видно. У Толи Попова на руке написан номер, который ему дали в фашистском лагере. Номер голубой, и эта краска не смывается. Тут спрашивать нечего, всё сам понимаешь. Ещё я хочу рассказать про Соню Смирнову и Женю Смирнова. Они брат и сестра. Соне пять лет, а Жене — десять. Они живут в детском доме очень давно, у них тоже нет ни отца, ни матери. Они очень ко всем привыкли, а Соня говорит Людмиле Ивановне «мама». Я учил Соню узнавать буквы, но она ещё маленькая. Она про букву «о» говорит: «Это мячик», а про букву «е» — «сломанный мячик», Женя её любит и никогда не обижает. Он учится в третьем классе.
И вот приехала в детский дом одна женщина и говорит: «Я хочу взять на воспитание ребёнка». И стала просить, чтобы ей дали Соню, и говорит: «Дайте мне эту девочку, ей у меня будет хорошо». А Женя заплакал и закричал: «Не дам, не дам! Поперёк лягу, а не дам! Всё равно ей нигде лучше не будет!» Но эта женщина очень просила, и все боялись, что Людмила Ивановна отдаст Соню. Но она не отдала, и все были рады. По-моему, очень хорошо и правильно Людмила Ивановна сделала, что не отдала. Там твой дом, где тебя любят и жалеют. Незачем Соне уходить, если её в детском доме любят и жалеют и у неё там брат».
Дочитав до конца, я чуть помедлила, потом сказала:
— Теперь слушайте второе сочинение:
«Наш подшефный детдом помещается в прекрасной, просторной даче, она принадлежала когда-то богатому купцу. Пятьдесят детей — девочек и мальчиков — живут там, окружённые любовью и лаской. О них заботятся и воспитатели, и заведующая, и окрестные колхозы, снабжающие детей одеждой и пищей. Детский дом расположен в красивой местности, в густом лесу. Старшие дети ходят в школу, а малыши с утра бегут гулять, и целый день в лесу слышится их звонкий, весёлый смех. Ребята из нашего класса устроили детям прекрасную ледяную гору. Кроме того, мы приготовили им подарки, которые их очень порадовали.
В детском доме царят чистота и порядок. Кровати покрыты белоснежными одеялами, на окнах цветы, на стенах висят картины. В зале стоит пианино, а в шкафах много интересных детских книг. Дети любят рисовать, для этого у них есть цветные карандаши и краски. По вечерам и в свободные часы воспитатели читают детям вслух, и слушать чтение — их любимое занятие. Когда мы приезжаем, мы тоже читаем детям вслух. Особенно им нравится повесть о «Золотом ключике» Алексея Толстого».
Снова чуть помолчав, я спросила:
— Как, по-вашему, какое сочинение лучше?
— Первое! — раздался дружный хор голосов.
— Почему?
На это уже не так просто было ответить хором. После короткого молчания Гай сказал:
— Видно, что тот, кто писал первое сочинение, часто бывает в Болшеве и любит ребят. А второе… оно сухое…
— Оно гладкое, но скучноватое, — поддержал Борис.
Я оглядела класс. Саша Воробейко сиял, губы его неудержимо расплывались в счастливейшей улыбке. Вася был ошеломлён и не верил своим ушам.
— А кто написал? — спросил Дима.
— Первое сочинение написал Вася, — сказала я. — Второе — Андрей. За первое я поставила «четыре», потому что в нём две ошибки, но оно сердечное и тёплое. Андрею я поставила «пять», у него нет ошибок и написано очень чисто. Но его сочинение мне нравится гораздо меньше. Я согласна с Сашей и с Борисом: это сочинение равнодушное. Хорошо, когда человек умеет писать красивые, правильные слова, но этого мало. Те же гладкие, красивые, правильные слова можно написать о любом детском доме, и никто в нём не узнает нашего, болшевского, дома, наших малышей. А в сочинении Васи мы узнали болшевских детей, увидели, как они живут, почувствовали, что Вася их любит, и это очень хорошо.
На перемене Саша Воробейко шумно ликовал:
— Васька-то! Васька-то! А? — повторял он и в знак поощрения увесисто хлопал брата по спине.
Сам Вася был не столько обрадован, сколько удивлён.
— Очень хорошо написано, — сказал ему Дима. — Знаешь, мы попросим Марину Николаевну дать нам твоё сочинение для газеты.
— Вот это правильно! — воскликнул Валя. — Я уже давно считаю, что мы должны подробно освещать в печати жизнь детского дома.
— Уж ты скажешь: «освещать в печати»! — покачал головой Рябинин. — И когда ты научишься выражаться, как люди?
Но слова эти прозвучали вполне добродушно, и когда Валя поправился: «Нет, правда, у Васи получилась очень хорошая заметка», все дружно согласились с ним.
— Андрюша, — спросила я Морозова после уроков, — ты понимаешь, почему твоё сочинение понравилось ребятам меньше, чем Васино?
— Понимаю, — ответил он, глядя в сторону.
«Не всё, но кое-что ты, конечно, понял!» снова подумала я.
В поход!
Так мы и жили — день за днём, неделя за неделей, — время бежало, мы не успевали оглянуться…
В марте было получено письмо от Анатолия Александровича.
«Дорогие мои друзья! — писал он. — Сегодня я подал рапорт командиру корабля. Не знаю, какой будет ответ, но думаю, что он не откажет. Если будет «добро» (разрешение на отпуск), я напишу вам, а при выезде дам телеграмму — хорошо?»
Ещё бы не хорошо! Это письмо принесло в наш класс новую радость. Никто из ребят ни на минуту не усомнился: этот незнакомый человек из далёкого Северного края непременно найдёт время, чтобы приехать и повидаться с ними.
«Чужой», «незнакомый» — эти слова, в сущности, давно уже были неприменимы к Анатолию Александровичу: он стал своим — в самом глубоком, самом истинном значении этого слова.
Мы порешили сразу после экзаменов отправиться в двухдневный поход. Людмила Ивановна, которой теперь становились известны все наши дела и планы, сказала, что если наш маршрут пройдёт через Болшево, мы можем рассчитывать на ночлег в одном из флигелей детского дома. Это решило дело. Мы тщательно изучали карту Подмосковья и выучили назубок путь от Мытищ до Болшева.
Ребята разузнали пешеходные нормы: для мальчиков 12–13 лет — 10 километров в день, скорость передвижения — 3, 5 километра в час, количество груза — 4 килограмма. Узнали, как разумнее составить маршрут и график похода, как половчее, поудобнее и экономнее уложить снаряжение. Ещё неизвестно было, кому врач разрешит пойти, но идея похода захватила всех. Даже Дима, который наверняка знал, что пойти ему не позволят, принимал в подготовке самое деятельное участие.
Готовились в звеньях. Рисовали дорожные знаки, учились укладывать вещевые мешки. Когда Лёва предложил Лукареву уложить рюкзак, тот всё сделал так, словно хотел показать, как не надо делать: к спине положил котелок, а по другую сторону свитер; хлеб засунул в самый низ, где он должен был через полчаса рассыпаться в крошки; мелкие вещи рассовал как попало и уже через пять минут не мог вспомнить, что с какой стороны надо искать. Потом Лёва быстро и точно показал, как надо укладываться, и все по очереди повторили за ним этот наглядный урок. Каждый запасся куском старой киноплёнки (поможет разжечь костёр!) и котелком. Каждый мастерил себе метровый посох и размечал его зарубками на дециметры и сантиметры — вдруг понадобится что-нибудь измерить!
Беседуя с ребятами о походе, Лёва сообщил им много полезного:
— Вот что надо хорошо запомнить: если в походе взял у товарища какую-нибудь вещь, отдавай непременно только ему, иначе что-нибудь потеряется или забудется. Имейте в виду, участники всякого похода всегда стараются помочь местному населению. Например, собирается дождь — значит, надо убрать сено. Ну, это, понятно, не в июне. Но вообще, если какая-нибудь беда — наводнение, пожар, мало ли что случается, — пионеры считают себя мобилизованными.
Ребята слушают, и по их лицам нетрудно прочесть, что они совсем непрочь натолкнуться на пожар или наводнение: тут они себя покажут! Они выручат! Местное население может быть спокойно: они не дадут ему пострадать от стихийных бедствий!
— Ещё одно правило, — продолжает Лёва. — Это к тебе относится, Лукарев, если ты собираешься брать в поход свой аппарат.
— Факт, собираюсь!
— Так вот: если ты кого-нибудь из населения сфотографируешь, ребят или взрослых, и пообещаешь прислать карточки, обязательно пришли, понятно? А то иной походный фотограф снимает-снимает, обещает-обещает, а потом наклеит снимки себе в альбом и успокоится. А потом придёт в те же места другой фотограф, и ему уже не верят, говорят: «Знаем вас, таких…» Если дал слово — выполняй. Понятно?.
— Понятно, понятно!
— Стоянку надо оставлять в полном порядке, это уж само собой разумеется. Рогатки от костра, запас дров надо аккуратно сложить — тогда другие путешественники помянут вас добром. Я уж не говорю о том, что костёр надо затушить по всем правилам, чтобы ни искры не осталось. Это, надо полагать, всем ясно.
— Знаем, не маленькие, — басом сказал Кира Глазков и закашлялся.
— А самое главное в походе — не пищать! — несколько неожиданно для ребят заканчивает Лёва. — Я читал «Педагогическую поэму» — очень хорошая, замечательная книга! — так там ребята даже вывесили на стене такой плакат: «Не пищать!» Как бы трудно ни приходилось — дождь, холод, грязь, жара, — не хныкать, не жаловаться, не вешать носа!
Санитаром избрали Лабутина. В сущности, в этом звании он у нас пребывал ещё с прошлогодних загородных прогулок; все помнили случай, как он быстро и ловко извлёк острый сучок, пропоровший пятку Борису, щедро залил рану иодом и сделал, по выражению слегка побледневшего, но храбро улыбавшегося Бориса, «артистическую перевязку — хоть на выставку санитарной обороны!» Костровым хотели быть все, и никто не желал быть поваром, пока Лёша Рябинин не заявил, что поваром будет он, и «даже с большим удовольствием». Тут сразу на нескольких лицах мелькнуло выражение, какое можно заметить на лице человека, нечаянно упустившего соблазнительную возможность. У Саши Воробейко даже вырвалось: «Эх, может и верно…»
Времени у нас было в обрез: мы снова готовились к экзаменам, а ведь сейчас они были серьезнее, чем в прошлом году. Как-никак, нам предстояло переходить в шестой класс!
— Несчастные люди, кто будет жить через тысячу лет после нас: сколько всяких событий произойдёт за это время, и им всё придётся учить! — меланхолически говорил Саша Воробейко, повторяя историю.
А ведь, кроме истории, были ещё и арифметика, и география, и литература, и русский язык, и английский… Но как ни мало было времени, а на подготовку к походу мы умудрялись выкраивать какие-то часы.
Девятое мая
— Телеграмма! Нам телеграмма!
По коридору мчались братья Воробейко. Саша подбежал первым и, с трудом переводя дыхание, подал мне листок бумаги. Телеграмма была адресована «Пятому классу «В», и в ней стояло:
«Приеду девятого Ленинградского вокзала, встречайте».
Поднялась невообразимая суматоха. Хоть ребята и знали, что Анатолий Александрович приедет, и готовились к этой встрече и ждали, что это будет примерно в мае-июне, но телеграфный бланк свёл их с ума, как в начале года футбол.
— Приезжает! Как мы его встретим? Где он остановится?
Было решено: на вокзал ребята пойдут строем. «Мы его не узнаем, так он нас сразу узнает!» лицемерно заявляли они, но в глубине души каждый рассчитывал, что немедленно узнает Неходу. Остановиться можно было у Гая, у Ильинского, у Лукарева и у Кирсанова. Пришлось тянуть жребий. Счастье выпало Саше.
Так день 9 мая оказался для нас на этот раз вдвойне праздничным. С утра ребята строем отправились на вокзал. Лёва купил перронные билеты, и, прошагав через гулкие залы, с готовностью откликавшиеся на чёткий топот сорока пар ног, мальчики выстроились на платформе. Все они были в белых рубашках, в красных галстуках, подтянутые, как на смотре. Они стояли в два ряда, и когда Лёва дал команду «вольно», задние стали нетерпеливо вытягивать шею, стараясь пораньше увидеть, не идёт ли поезд. Какие у них напряжённые, взволнованные лица! Кажется, они готовы обеими руками вцепиться в огромную стрелку вокзальных часов, которая лениво перепрыгивает с чёрточки на чёрточку, и подтащить её, куда надо. И все, кто вместе с нами ждёт поезда, который должен скоро прибыть к этой платформе, с любопытством поглядывают на нас.
Наконец-то стрелки часов начинают вести себя прилично. Все глаза устремлены в ту сторону, откуда слышится требовательный басовитый гудок. Как хорошо, как весело встречать!
Пыхтя и грохоча, долгожданный поезд подкатывает к своей асфальтовой пристани, и мы с Лёвой едва успеваем удержать ребят, готовых сорваться с места. Номер вагона нам неизвестен, остаётся ждать. Сколько выходит военных — и танкистов, и артиллеристов, и лётчиков! Но мы ждем моряка. А моряка нет. Где же он? Ребята переминаются с ноги на ногу и жадными глазами впиваются в лица проходящих. Вот идёт группа моряков, они весело смотрят на нас, но проходят мимо не задерживаясь.
Только когда платформа почти опустела, в конце её показался высокий, широкоплечий человек в морской форме… В обеих руках он нёс по большому чемодану. Увидев нас издали, он поставил один чемодан и помахал рукой.
Не дожидаясь ни команды, ни разрешения Лёвы, ребята кинулись к нему.
Анатолий Александрович пожимал тянущиеся со всех сторон руки, обнимал и встряхивал за плечи тех, кто стоял поближе, смеясь заглядывал в раскрасневшиеся, сияющие лица. Боюсь, что от шумных приветствий у него скоро зазвенело в ушах, но он так же широко, добродушно улыбался всем подряд, как старший брат, вернувшийся в семью, где его заждались и где так уж повелось: чем дольше была отлучка, тем шумнее и радостнее встреча. Наконец он сказал:
— Подождите-ка, сейчас мы разгрузим один чемодан, а то он тяжеловат…
Щёлкнул замок, откинулась крышка, и тут же на перроне каждому вручён был подарок. Чего только не было в этом чемодане! Рисунки — картины северной природы, гильзы от патронов, планшетки, вставочки из моржовой кости… Никто не был забыт. Мы с Лёвой получили по разрезальному ножу с тюленем на рукоятке. Каждый подарок встречался дружным восторженным воплем. Вскоре у всех в руках оказалось по свёртку, зато чемодан опустел, и несказанно гордый Саша Воробейко потащил его, старательно шагая в ногу с Анатолием Александровичем, которому он был, как-никак, почти до подбородка. («Ого, ты какой вырос — настоящий моряк будешь!» И, кажется, от этого одобрительного замечания Саша у нас на глазах вырос ещё сантиметров на десять…)
Мы проводили Анатолия Александровича до гостиницы («Уж лучше я там остановлюсь, зачем мне твоих стеснять?» мягко, но решительно сказал он огорчённому Гаю) и простились с ним… не надолго: потом мы снова встретились с ним у школы и повели к себе. Он вошёл в класс; не ожидая наших объяснений, стал рассматривать газету, выставку, марочную коллекцию, заглянул в шкаф с самоделками. Этот «инспекторский смотр» он сопровождал короткими весёлыми замечаниями:
— Полочка хороша, а вот ящик малость кособокий. Это чья же работа?.. Вот оно что! Вы и выпиливать умеете… Ну, молодцы! А моделей почему мало?
Для всех как-то сразу стали привычными, наизусть знакомыми его неторопливая, уверенная походка, смеющиеся светлые глаза, быстрая, широкая, очень добрая улыбка и даже то, что твердое, молодое лицо Неходы было чуть тронуто оспой, а на лбу, у глаз и рта, на красноватой, обветренной коже, чётко прорезались светлые морщинки.
Потом ребята сдвинули парты, уселись поближе к Анатолию Александровичу и слушали, слушали, потому что Нехода оказался замечательным рассказчиком и ему было о чём порассказать.
А вечером мы водили его по городу и потом, стоя тесной гурьбой на набережной, у самого Москворецкого моста, смотрели, как взлетают над Красной площадью, над Кремлём, над спокойными, медленными водами реки повторённые в ней золотые, зелёные, алые огни салюта — третьего салюта в честь Победы.
* * *
И вот я дошла до сегодняшнего дня. Вечер. Я сижу за своим письменным столом, на котором стопкой лежат работы моих ребят, а лампа под зелёным абажуром отбрасывает яркий свет на страницы этой толстой тетради. Снова я вспоминаю минувшие два года, вспоминаю вчерашний праздник, приезд нашего друга и его рассказы, которые мы могли бы слушать весь день и весь вечер, и прогулку по Москве, и салют…
Впереди много трудного. Впереди экзамены. Мы волнуемся за Лёву. Мы так хотим, чтобы он получил золотую медаль! А потом Анатолий Александрович обещал ребятам побывать с ними в нашем детском доме. А потом будет поход. Летом обещал приехать в отпуск Шура, может быть и он пойдёт с нами. Много всего впереди — нового, хорошего, интересного. Но сейчас я опять оглядываюсь назад.
Мне очень хочется, чтоб Вася стал человеком ярким и самостоятельным. Мне очень хочется, чтобы честолюбие Андрея не застилало ему глаза и не мешало видеть жизнь, школу, товарищей. Мне очень хочется, чтоб Боря Левин пореже приходил в класс в синяках и с разбитым носом. Мне очень хочется, чтоб Саша Воробейко поменьше думал о футболе и побольше — о грамматике и географии. Мне очень хочется, чтобы Дима нашёл друга, чтобы у Вали характер стал потвёрже, а у Лукарева — помягче. Мне хочется, чтобы все они стали настоящими советскими людьми, людьми прямыми и верными, стойкими в час испытания, неутомимыми в труде и горячо любящими свою работу. Чтоб думали прежде всего о своём деле, о долге перед родной страной и народом, а потом уже о себе… Да, мне многого хочется.
И как хорошо, как радостно хотеть этого, думать об этом, добиваться этого! Каждое их хорошее сочинение, каждая умно решённая задача — моя радость. Каждая их новая мысль — и моя мысль. И каждая их неудача — моя неудача.
Но что же, что дали мне эти два года? Что я поняла? Чем стала богаче? Что знаю твёрдо?
Обо всём сразу не скажешь, но об одном я не могу не сказать.
У Горького среди сказок об Италии есть одна — об отце и сыне, попавших в беду: на море их застала буря. Волны безжалостно кидали маленькую лодку во все стороны, а берег убегал всё дальше и дальше. Перед лицом неминуемой смерти отец стал рассказывать юноше-сыну обо всём, чему научила его жизнь, — о работе, о людях… Рыбак, он прежде всего рассказал самое важное о своём ремесле, стараясь передать сыну всё, что знал, о привычках и повадках рыбы. Потом стал говорить о том, как надо жить с людьми.
Выл ветер, волны хлестали в лицо, и старику приходилось кричать, чтобы сын услышал его:
— Никогда не подходи к человеку, думая, что в нём больше дурного, чем хорошего, — думай, что хорошего больше в нём, так это и будет! Люди дают то, что спрашивают у них!
С тех пор сын прожил долгую жизнь, и вот, уже глубоким стариком, он с благодарностью вспомнил справедливые и мудрые слова отца.
Я тоже вспоминаю их.
Любить. Знать. И постоянно искать в каждом хорошее. Учить ребят и самой учиться у них. И если любишь их, а они любят тебя и верят тебе — всё будет хорошо. Ты преодолеешь самое трудное, найдешь путь к самому упорному сердцу и будешь счастлив, очень счастлив.
Счастье — в том, чтобы быть нужным людям. Кто же тогда счастливее учителя!
И ещё я думаю: садовод продолжает жить в садах, которые он взрастил, писатель оставляет в наследство людям свои книги, художник — полотна. А учитель? Учитель живёт в своих учениках, в их поступках и мыслях. В этом — его творчество и его доля бессмертия.

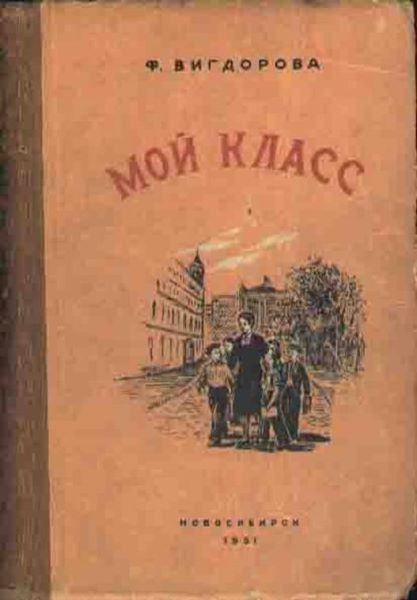



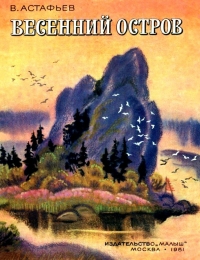
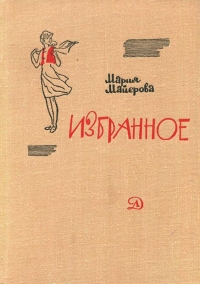

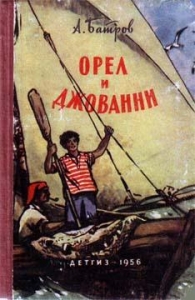

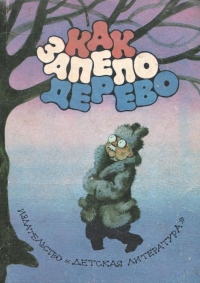


Комментарии к книге «Мой класс», Фрида Абрамовна Вигдорова
Всего 0 комментариев