Я стою в большом актовом зале незнакомого мне еще лицея, а вокруг новые лица: учителя, которым полагается теперь говорить «профессор», вместо обычного «вы», и огромная, заполнившая зал до отказа толпа девочек и ребят. Со стены глядит на нас, скосив глаза, Николай Коперник. Кто-то произносит речь.
Но я не слушаю. Никто, впрочем, не слушает, зал гудит сотней голосов, каждый говорит вроде бы шепотом, но гул — как в переполненном вокзале. Мы уезжаем. Еще несколько выступлений… Загорелые девочки в белых блузах, парни поправляют галстуки, непривычные красные значки на рукаве. Иначе говоря, конец каникул.
Невесело мне. Мне ли одному? Я вижу другой зал — в нашей старой школе, где мы были выпускным классом и где с нами прощались, чтоб здесь сегодня могли приветствовать нас.
Это было всего два месяца назад. Каникулы только еще начинались, они могли принести что угодно: солнце и дождь…
Глава 1
Жарища страшная, а до рыночной площади больше километра. Что прикажете делать? Я криво так улыбаюсь и говорю:
— Ладно! Схожу я, куплю эти семена. Посажу завтра у нас на участке…
— В четыре ряда? — настойчиво спрашивает мать.
— В четыре, в четыре… — говорю я и тяжело вздыхаю, чтоб поняла, как трудно дать обещание.
Уже открыв дверь, я слышу голос отца:
— Спроси у Дерды про Рыжего. Он может быть еще и у ксендза в плебании…
Город точно вымер, изнемог от зноя. На шахте тарахтит не переставая сортировочная машина, огромные колеса подъемников сонно вращаются. Я иду не спеша и думаю о разном. Каникулы испорчены, черт побери! Надо было остаться в деревне у дяди. А я взял да вернулся в середине июля, все ребята, конечно, поуезжали, придется теперь скучать одному.
— Добрый день, пан Холева! Что?.. На рынок, за семенами. Нет, отец в отпуск не уезжает. Это мама уезжает в санаторий…
…Только бы не притащился к нам вечером, а то будет нудить до самой ночи. Мама его терпеть не может, а сегодня надо еще укладывать вещи… Ералаш в квартире такой, будто уезжаем мы все. Зачем это маме два чемодана?
А может, залезть после ужина к кому-нибудь в сад, нарвать яблок, папировки?.. Одному? Нет смысла, в одиночку никакого удовольствия. А Рыжего давно пора ощипать да в суп. Сколько у меня из-за него, подлеца, хлопот. Бегай, ищи его по городу…
И это называется город! Дыра прокопченная — не город. Хоть два раза в день мойся, рубаха все равно черная от сажи. И откуда только она берется? А кинотеатр всего один. Да и тот полгода на ремонте… Боже ты мой, ну не может старик Кусмерек гнать коров по мостовой, а не по тротуару.
— Эй ты, бычок, уйдешь с прохода или нет?
Я свернул к реке, так ближе. Мутная вода точно стоит на месте. Здесь еще тише, чем на улице. Смотришь отсюда на город, и кажется, будто весь он разложен на миске и разделен пополам рекой, а на меловых холмах торчат с одной стороны шахты, а с другой, там, где рыночная площадь, костел, окруженный домами. И все это залито солнцем, которое так и пригибает тебя к земле.
…Или взять семена. Зачем матери на садовом участке цветочки, если целый месяц ее все равно не будет дома?
— Левкои, левкои, левкои… — твержу я, чтобы не забыть, за какими семенами иду.
— Передай тому парню привет! — раздается вдруг рядом.
Гляжу: Толстый разлегся на травке и загорает, вытянулся, как крокодил.
— Какому еще парню?
— Ну тому, с которым разговариваешь про левкои. Ведь не со столбом нее ты говоришь? — И Толстый корчится от смеха, думает, сказал что-то остроумное.
Я обрадовался. Хоть он в городе. Все же веселее.
— Ты что, в лагерь не поехал?
— Денег, понимаешь, не наскребли…
— Порядок, Толстый. Вот нас и двое…
— Трое! Еще Проблема. Но у него гости, он в счет не идет. Влюбился…
— Да ты что, спятил?
— Приходи вечером. Кое-что расскажу. А сейчас спать охота… — И Толстый перевернулся на другой бок.
Я кивнул в ответ. В самом деле, жара такая, что язык не ворочается. И отправился дальше.
На улицах ни души, только на рыночной площади у ларька с пивом собралось человек пять шахтеров. Продавщица подремывала, а они молча накачивались пивом. Одного я знал — Вуйтик, он недавно купил автомобиль, «сиренку». Я бы и сам чего напился, да не было лимонада… А Зонтик сказал как-то на географии: пивом и лимонадом не напьешься, жажду можно утолить только подсоленным чаем. Выдумал, наверно… Впрочем, не поручусь… Кто его знает… Почему это мы прозвали его «Зонтик»? Не помню…
Я купил пакетик с семенами, поглазел на трамвай, который что-то забарахлил — из-под дуги сыпались искры; потом зашел в плебанию. «Только б не встретиться с ксендзом», — думал я, пока шел через сад. Как-то я залез сюда с ребятами за яблоками, а кто-то сообщил ксендзу…
Комната викария Майхшака была, к счастью, со стороны двора, да еще на первом этаже, так что заходить в дом не требовалось. Окно было открыто, и викарий сразу меня узнал. Я даже удивился, чего это он подскочил вдруг к окну и машет руками, но не долго думая говорю:
— Нету у вас случайно нашего Рыжего? Отец меня послал… Только тут я заметил в комнате ксендза. Отскочил, но было уже поздно.
— Что это вы, викарий, глухого из меня делаете? — кипятится ксендз. — Я ведь отлично слышу, что речь о голубе, не об органисте. Органист у нас не рыжий, а лысый!
Уже у калитки я слышал, как викарий пытался его урезонить, а тот разорялся:
— Сколько раз просил вас покончить со своими голубями! На что это похоже? К вам больше голубятников ходит, чем верующих на исповедь!
Жаль, что викарий из-за меня засыпался. Таких почтовых голубей, как у него, я нигде еще не видел. Ну какой убыток ксендзу, если у него сорвут одно-другое яблочко или держат в плебании голубей? Сухарь, и больше ничего… Но по-настоящему во всем виноват был Рыжий. Черт, не голубь. И я еще больше рассердился на этого подлеца.
Старику Дерде не понадобилось объяснять, в чем дело. Он стоял посреди двора и пальцем пересчитывал голубей на соседней крыше. А те сидели, разомлев от жары, — в такой зной даже голубю не летается. Иначе б он их недосчитался. Он отдал мне Рыжего и сказал:
— Посадите его на цепь. Или продайте, он у меня больше живет, чем у вас!
Возвращался я мимо кино. Голубя посадил за пазуху и придерживал одной рукой. В другой у меня был пакет с семенами.
Подул ветерок, и стало веселее.
Не знаю, как это получилось. Сзади вдруг взвизгнул тормоз, что-то ударило в спину. Наверно, я растопырил руки, потому что Рыжий забил крыльями возле самого моего носа и пошел вверх. Потом внезапная боль, и сразу стало сладко во рту, точно от сахара.
Оказалось, что я сижу на краю тротуара, а с мостовой поднимается какая-то девочка. Рядом со мной лежал ее велосипед, переднее колесо еще вращалось. Лицо у девочки скривилось от боли, а платье все в пыли. Она держалась за колено. Я хотел потолковать с ней насчет езды, но заметил, что локоть у меня в крови, и охота ссориться пропала. Впрочем, и она брякнулась, наверно, неплохо. Аварии бывают. Я поднял ее велосипед и говорю:
— Знаменитый гонщик Форнальчик! Пойдем, я покажу, где вода… Мы умылись во дворе за кинотеатром, не сказав друг другу ни слова. Наконец она, видно, пришла в себя и стала причесываться. «Красивая какая!» — подумал я и страшно удивился. Ни разу еще я не замечал, чтоб девочка была красивая, а ведь я с первого класса учусь вместе с девчонками и знаю их немало. Эта была чужая. Светлые волосы закинуты за спину. Она долго их расчесывала, желала, может, показать, какие они пышные. Она не обращала на меня внимания, кажется, ее не интересовало, что одной рукой мне не повязать вокруг локтя носовой платок. Сам не знаю почему, я рассердился.
— Дай, в конце концов, гребень! Сколько можно причесываться? Попробуй еще наедь, так вдарю, что учуешь. Или спущу в пруд!
Девочка улыбнулась и протянула гребень.
— Ходишь купаться на пруд?
— Спрашиваешь!.. А что?
— Ничего. Вообще-то ты извини. Колесо у меня пошло вбок…
— Колесо у нее пошло вбок… — проворчал я, — колесо вбок, а Рыжий дал тягу! И семена к черту…
— Какие семена? Скажи, я тебе отдам.
— Редиска, — сказал я ни с того ни с сего. Сам не знаю, почему вырвалось у меня «редиска», но сказать «левкои» мне показалось как-то неудобно.
Мы шли по улице очень медленно, она все еще прихрамывала. Возле нашего дома я остановился и сказал:
— Я здесь живу…
Не понимаю, почему я это сказал. Может, так только, — чтоб что-то сказать.
Она подала мне руку и опять улыбнулась.
— Если тебе интересно знать, меня зовут Эльжбета…
— Очень мне это интересно. Ты, наверно, воображаешь, я умираю от любопытства?
И вдруг несмышленыш Ясь Зимек, который сидел на заборе и глядел на нас, ковыряя в носу, завопил благим матом:
— Юлек с девицей! Юлек с девицей!
В окне второго этажа показалась старуха Лепишевская. Я почувствовал, что краснею. И рассердился.
— Заткнись, сопляк, — крикнул я, — не то запру в сарай! И Ясь отвязался. Слез с забора и удрал.
— Тебя зовут Юлек? — спросила Эльжбета.
— Не Юлек, а Юрек. Этот карапуз не выговаривает «р». Привет! — Я повернулся и пошел к дому.
Мама уже запаковала вещи и бесцельно слонялась из угла в угол. Два больших, набитых до отказа чемодана стояли у стены в кухне. Отец сидел за столом и чинил свои часы. Он всегда что-нибудь чинит, чаще всего то, что не ломалось. Не радио, так часы, не часы, так утюг или что-нибудь еще…
Я стал в дверях и выпалил одним духом, чтоб ни о чем не спрашивали:
— Семена купил. Холева сказал, может быть, сегодня зайдет. Рыжего у Дерды нет, я упал и поцарапал руку!
По-моему, все это их нисколько не взволновало. Оба промолчали. И мне в голову пришла странная мысль: им не до меня, я помешал разговору… Весь вечер потом был тревожный и молчаливый. Мне надоело это, и я раньше обычного сказал, что иду спать. Так получилось, наверное, из-за этой проклятой жары…
Глава 2
Я проснулся с мыслью, что сегодня воскресенье.
Правда, это не имело значения: каникулы есть каникулы, но все-таки чувствуешь себя по-дурацки, если рано проснешься в воскресенье. Отец еще спал. Он провожал маму ночью на очень поздний поезд и вернулся, наверно, только к утру.
Во дворе хозяйничала Лепишевская. Засыпая цыплятам корм, она скликала их, как бывалая наседка. Это ее «цып-цып-цып» слышно было, по-моему, на рыночной площади.
У сараев сидел на чурбаке, на котором рубили дрова, наш нижний сосед и начищал свою огромную трубу. Он был в парадном мундире горняцкого оркестра с большим плюмажем из красных перьев на шапке. Из-за этих перьев все мальчишки у нас мечтали играть в оркестре. Я раньше тоже хотел, да раздумал.
— Добрый день, пан Лях! — сказал я нарочно погромче и поглядел на Лепишевскую, чтоб та почувствовала, что здороваются не с ней. Терпеть ее не могу, никто, впрочем, у нас эту бабу не любит.
— Юрек, нет у тебя мела? — спросил Лях.
Я подумал: может, кто нарисовал что-нибудь у него на двери, — и стал изо всех сил удивляться:
— У меня мел? Откуда?..
И тут же пожалел: Лях объяснил, что чистить трубу лучше всего мелом и что у них в парке сегодня концерт.
— Схожу к приятелю, — сказал я. — если у него есть, я принесу! И направился к дому, где жил Толстый. Свистнул. Уже не первый год у нас условный сигнал — обрывок мелодии из какого-нибудь фильма. Засвистел еще раз, но окна квартиры были закрыты, никто не отозвался.
Из дома выкатился вдруг Збышек Малецкий и стал на крыльце:
— Будет, не трудись…
— Ты что, оттуда? Проблема показал на окна:
— Не видишь, закрыты? Везет, я тебе скажу, Толстому! Собачья жизнь…
— Опять его папаша буянит? — вырвалось у меня. — С самого утра?
— Какое буянит! Пьяный в стельку, лыка не вяжет… Но Толстый все равно не выйдет. Сказал, не может: мать пошла в костел. Придется ему посидеть, покараулить папашу…
— Жаль, — говорю, — думал, сбегаем вместе на пруд…
Збышек глянул на меня с презрением и скривился, точно я сморозил глупость.
— На пруд? Я придумал кое-что поинтересней. Толстый тебе не говорил? Он хотел приготовить сегодня веревку…
— Зачем это вам веревка?
— Устроим экспедицию в грот, знаешь, в парке, где водопад. Проблема, а? Пойдешь с нами?
Збышек никогда не говорил «мысль» — всегда «проблема». Было у него несколько любимых словечек. Но с гротом это и в самом деле была мысль.
— Может, кое-что там найдем? Сокровища, а? — И Збышек разгорячился, принялся размахивать у меня под носом руками: — Представляешь? Я не говорю, обязательно сундук с золотом, но, может, сокровище в историческом смысле, а?.. Например, доспехи! Или… Или ружье повстанцев 1863 года. Ну?
Я поморщился:
— Фантазируешь, Проблема. В наших местах в 1863 году восстания не было…
— А ты откуда знаешь, что не было? У тебя по истории четыре с натяжкой! Да и не о восстании речь — о сокровищах. Я вычитал: наш грот соединяется с божеховским замком. И вся проблема в том…
— Как это соединяется? — спросил я. — Подземным ходом?
— Ну! Без веревки не обойтись…
Мы посмотрели в растерянности на окна Толстого. Помолчали. Збышек сказал:
— Да, пожалуй, не получится… Знаешь что? Будь у меня такой отец, как у Толстого, я бы…
— Ты бы?.. Что бы ты сделал? Что тут можно сделать вообще? Ничего…
— Так ведь…
— Заткнись! — вырвалось у меня. — «Я бы, я бы…» Не умничай. Что ты вообще знаешь? Теперь уж не страшно, Толстый теперь сильный, папаша его не тронет… А раньше ему доставалось! Ну и что? Даже когда был маленький, он и то не плакал. Мой отец говорит, у Толстого характер, он справится…
Злил меня этот Збышек. Точно с луны свалился. Семь классов проучились мы вместе, но я всегда считал: Толстый лучше. Почему так: один нравится тебе больше, другой меньше? С Толстым мы могли сидеть часами и словом не обмолвиться, а на следующий день так и рвались друг к другу. А Збышек то веселый и трещит без умолку, как радио, а то вдруг надуется. Вот и теперь — физиономия у него такая, будто возвращается с похорон. «Наверно, обиделся!» — подумал я и решил его раззадорить. Мы шли вразвалку от дома, где жил Толстый, один — краем тротуара, другой — срединой, будто мы и не вместе.
— Ты, Проблема, пил когда-нибудь водку?
Збышек даже остановился. Посмотрел на меня, как на занятную зверюшку, и пошел себе дальше. А меня разбирал смех.
— Теперь, я думаю, начнешь скоро пить, — говорю я всерьез. — И женишься, наверно. Толстый сказал, ты влюбился. Кажется, ты даже фотографию ему показывал…
Я попал в цель. Толстый о фотографии, само собой, не обмолвился, но у меня чутье. Збышек поколебался немного, потом махнул рукой.
— Чего там… Я пошутил. Показывал фотографию сестры…
— Это хорошо, что у тебя фотография! А я-то думал, Проблема, ты пойдешь по духовной части и у нас будет знакомый епископ!
Збышек улыбнулся. Похоронное настроение у него пропало. Он пустился в объяснения:
— Она двоюродная сестра! Ведь это настоящая сестра! Честное слово!
Я понимаю, что настоящая, а не игрушечная. Покажи, не стесняйся!
Долго упрашивать не пришлось. Он сунул руку в карман, вынул записную книжку и достал оттуда фотографию.
— Красивая, да?
Обыкновенный снимок для удостоверения. Сам не знаю почему, но я не очень удивился, узнав Эльжбету. Была она здесь какая-то серьезная и, пожалуй, еще красивее, чем тогда с велосипедом. Я тут же сунул Збышеку фотографию, мне показалось, что я слишком долго ее рассматриваю.
— Ничего особенного… — сказал я.
Но охота потешаться над Збышеком у меня пропала. А тот все не мог остановиться.
— Понимаешь, она приехала к нам на все каникулы. Девчонка своя в доску. Проблем с ней никаких: или в пруду купается, или на велосипеде гоняет. Велосипед ей почтой прислали. Говорю, классно на велосипеде ездит…
«Классно, — подумал я про себя. — У меня еще сегодня локоть болит от этой классной езды!» Но ничего не сказал, да и зачем?
Збышеку стало, наверно, обидно, что я не расспрашиваю. Он поглядел на меня искоса и говорит:
— А Толстому я про нее малость приврал, а то все спрашивает да спрашивает, кто такая…
— Здорово, значит, приврал, раз Толстый поверил! — буркнул я в ответ.
Некоторое время мы шли молча. Возле моста нам попался мороженщик, его тележку облепила детвора.
— Угостишь, Збышек? Но тот покрутил головой:
— У меня ни гроша. Все потратил на фонарик. На эту экспедицию в грот…
— Ну, мне пора домой, — решил я наконец. Вспомнил, что Лях сидит с трубой во дворе и дожидается. — Проблема, нет у тебя случайно с собой мела?
Збышек вывернул карманы и нашел целых два куска. Понять не могу, зачем он вечно носит в карманах всякую дребедень: гвозди, веревочки, отвертку…
— Тебя только за смертью посылать! — сердито ворчал Лях, пока я растирал ему мел. — Там уж, наверно, концерт начинают.
— Не стоит волноваться, — стал я успокаивать старикана. — Без вас не начнут. Кто им басовую партию исполнит?
Неудачное было воскресенье. Все не ладилось с утра. Отец на меня накричал, что я полдня шатаюсь без завтрака неведомо где, локоть так разболелся, что пришлось сделать компресс, у бабушки за обедом я разбил тарелку. За что не примешься, все не клеится. Целый день я проскучал. Идти к Збышеку не хотелось, идти к Толстому — незачем. Раз Толстый не появляется, значит, не может. Вечером я отправился в парк.
В беседке играл оркестр, уже не тот, не старика Ляха, а другой, поменьше, для танцев. Рядом с беседкой на дощатом помосте танцевали пары. Кто не танцевал, тот глазел. Стемнело, по аллейкам бродили гуляющие. Пыльно, толчея. Каждое погожее воскресенье весь Божехов собирается в парке, впрочем, и парк не маленький тянется вдоль реки, наверно, с километр. Зачем это я притащился сюда? Сам не знаю.
Может, кто из знакомых подвернется? Ну, кое-кто подвернулся. Ну, и дальше что? Несколько девчонок из нашего класса танцевало с ребятами постарше. Выглядели они совсем не так, как в школе. Взять, к примеру, Веську Михалик, на четвертой парте в среднем ряду, — сущий ангел, в особенности на уроке физики. А здесь? Я протиснулся поближе к площадке и облокотился на барьер. Смеяться хотелось над всем этим, но я не смеялся.
Вдруг кто-то дергает за рукав. Гляжу: Ирка, соседка, сестра Черного. Рожи какие-то строит…
— Ты чего? — спрашиваю. — Гонится за тобой кто?
— Юрек, потанцуй со мной, а? Хоть разок, меня все равно мать сейчас домой отошлет… Юрек, ну пожалуйста…
В самом деле, сквозь толпу к нам протискивалась ее мамаша, Козловская.
— Оставь в покое, отцепись! — отмахнулся я. Но потом, когда мать ее уже зацапала, пожалел девчонку. Что ни говори, сестра товарища.
— Пани Козловская, — встреваю я, — чего вы так кричите? Я тоже собираюсь домой, я провожу…
— Ладно, идите домой вместе, проводишь ее до самой двери. Отец ей еще покажет! А я пока постою, посмотрю, как танцуют…
Но минуту спустя она кричала уже во весь голос, так, что люди кругом стали смеяться:
— Юрек! Только чтоб потом я вас обоих не искала по парку!
— Ну, сильна твоя мамаша! — сказал я, сам не свой от злости, когда мы, пробившись сквозь толчею, выходили в аллейку. — Жалею, что вмешался…
— А я нет…
— Чего нет?
— А я не жалею, что ты вмешался! Ты заметил, как люди на нас смотрели?
Может, наподдавал бы я ей. В конце концов, право на это у меня было, как-никак сестра близкого товарища, и Черный на моем месте поступил бы так же. Может быть, говорю, и наподдавал, да не успел. Я вдруг заметил Эльжбету. Она стояла вместе с Малецкими и Збышеком у самого оркестра, было там еще несколько человек, в общем, целая компания. Не знаю, заметила ли она нас. Какое мне, впрочем, до этого дело?
Мы вышли из парка.
А ну домой! — говорю я Ирке. — Хотя, честно говоря, можешь идти куда угодно… — И побрел по улице.
Домой я вернулся не сразу. Заглянул на чердак к голубям. Интересно, появился ли Рыжий, но этого подлеца не было. Зато все чистокровные оказались на месте, и я сменил им воду.
Я очень любил ходить на чердак. Поднимешься, бывало, наверх, когда плохое настроение, посидишь с голубями… Кто не держал голубей, тот не поймет. А сейчас, зачем я пришел на чердак сейчас? Я чувствовал: надо посидеть одному, совсем одному. Чтоб никто ничего не говорил, чтоб не отвечать на вопросы. А ведь никаких огорчений у меня, по правде говоря, не было… Поздно, уже вечер, а я все торчу на чердаке. Лестница освещена, под дверь пробивается полоска света. Я гляжу на голубей, а те, забавно склонив головку, на меня. Может, думают о чем-то, может, чему-то дивятся? Хорошо здесь, на нашем чердаке, и впервые, кажется, я понял, отчего это так часто сюда приходит отец и сидит здесь часами.
Глава 3
Всего несколько дней, как уехала мама, а дома без нее все как-то не так. То ли слишком тихо, то ли пусто… А может, иначе, всего-навсего иначе?
Отец мыл на кухне посуду, и весь пол был забрызган от этого мытья. Когда я смотрел на него со стороны окна, через комнату и кухню, он казался мне как бы меньше ростом. Не из-за того ли, что наклонился? Или это я капельку вырос? Раньше, в последний день школьного года, а потом еще после каникул, я мерял сам себя у стеллажа и делал зарубки. Вот уже год, как пришлось бросить: стеллаж слишком низкий. Впрочем, это меня не расстроило. Но вот теперь я смотрел на отца и думал, что в один прекрасный день его перерасту, и радости не чувствовал. Нет, все это сущая чепуха!.. И я сам на себя рассердился, почему такая чепуха лезет мне в голову.
На столе был разложен наш радиоприемник, разобранный до последней проволочки. У отца начался отпуск, и он ремонтировал все, что попадалось под руку, с утра до вечера. Соседям только того и надо было. Они вечно несли всякую рухлядь, и отец бился над ней задарма. Мама никак не могла этого понять, я тоже. Однажды я сказал отцу: будь у меня такое же умение, я б давно уже скопил на мотороллер. На одной только починке телевизоров у нас можно сколотить состояние. Отец поглядел тогда на меня с этой своей иронической улыбочкой, которая так выводит из себя мать, и сказал: «Ну так научись и сколоти себе состояние. А мне голову не морочь. Мне мотороллер не нужен! Всю эту дребедень я ремонтирую для собственного удовольствия…» Не всегда отца поймешь. Иногда это злило меня, но не очень. В глубине души я даже радовался, что он такой.
И вдруг теперь эта мысль: а может, отец уже старый? Может, это плохо, что я так быстро расту? Ведь он-то становится все старше…
— Опять ты расковырял приемник. Ведь он хорошо работает. Скажешь, нет?..
— Потенциометр барахлит…
— Интересная история! — засмеялся я. — На прошлой неделе ты его чинил. Скажешь, померещилось?
Отец только чуть улыбнулся, но ничего не ответил. Разбрызгивал воду во все стороны, уже и стена над раковиной была мокрая, не только пол.
— Погоди, я тебе помогу… — решился я наконец. Он обернулся, посмотрел на меня.
— Поможешь? Спасибо. Помогать не надо. Вымой хотя бы свое! — И отец показал на окно.
Подоконник был загроможден стопками грязных тарелок и стаканами. Я налил в таз воды и принялся за дело.
Уж не знаю, что мне в голову втемяшилось, только я ни с того ни с сего спросил:
— Слушай, а можно жениться на своей двоюродной сестре?
— На ком, на ком? На двоюродной? — Отца это ужасно развеселило. — Не знаю, не пробовал. Все зависит от того, какая сестра. А ты что, собираешься жениться? Впрочем, насколько помню, двоюродной сестры у тебя никогда не было…
— Не обо мне речь… — буркнул я, злясь на самого себя, что говорю глупости. — И ничего смешного тут нет… я только так спросил. Знаешь, мы устраиваем экспедицию в грот, в конце парка, где водопад, — поспешил я переменить разговор. — Збышек воображает, будто оттуда есть подземный ход в замок. Может, обнаружим там какие сокровища?..
— Наверняка обнаружите! — засмеялся отец. — Прихвати с собой чемодан. Между прочим, Юрек, когда надумаешь жениться, предупреди за три дня вперед…
Во дворе раскричалась Лепишевская. Отец отложил тряпку и выглянул в окно. Я вздохнул с облегчением. Дернуло меня вылезти с этим вопросом! С вопросами, впрочем, мне всегда не везет. В четвертом классе учитель выгнал меня с урока природоведения и велел без матери в школу не приходить. Я спросил у него, улетают ли мухи на зиму в теплые страны…
— Что там такое? — Я тоже выглянул во двор, потому что отец стоял у окна и в голос смеялся.
— Что это выделывает там твой приятель со своей дворнягой?
— Никакая она не дворняга, — стал я защищать собаку Толстого. — Немецкая овчарка чистых кровей. Наполовину…
— Наполовину? А вторая половина?
— Про вторую точно неизвестно, но тоже, конечно, породистая. Собака очень умная. Только вот насчет кур…
Не стоило и смотреть — и так было ясно, что происходит. Едва Толстый появлялся у нас со своей собакой, как всегда случалось одно и то же. Собака начинала бесноваться, Лепишевская тоже, а ее куры взлетали даже на крыши сараев. Вот бы не подумал, что обыкновенная курица может так здорово летать…
В конце концов что-то ударило в двери, и в квартиру ворвалась собака, а следом за ней Толстый с криком:
— Лежать! Ландыш, лежать! Ты, блохастый! Ты…
К счастью, Толстый заметил, что отец дома, и замолк. А собака обежала квартиру и стала понемногу успокаиваться.
Мне было как-то не по себе, что Толстый застал меня за мытьем посуды. Чтобы отвлечь внимание, я сказал:
— Тоже мне придумал, овчарку назвать «Ландыш»! Пес как теленок, а ты ему — Ландыш. К тому же сучка!
— Откуда мне было знать, что сучка? — стал защищаться Толстый. — Когда я получил его от тетки, щенок был еще слепой. Сразу сделал лужу. Входит мать, понюхала воздух и говорит: «Ландышами тут не пахнет!» Так и повелось: Ландыш… Лежи спокойно, дурачок! — рассердился в конце концов Толстый; собака от счастья изо всех сил молотила по полу хвостом.
— Ну как? Идешь? Я раздобыл наконец веревку…
— За сокровищами, да? — спросил с серьезным видом отец. — А мешок?
Разыграть Толстого было нетрудно. Он и теперь клюнул.
— Мешок берет Збышек и фонарик тоже… — сообщил он. Отец чуть заметно улыбнулся.
— Придется тебе немного подождать, пока Юрек не вытрет все эти стаканы и тарелки. Если желаешь, можем сыграть пока в шахматы.
Такое разделение труда меня не устраивало. Но что делать? Я принялся вытирать посуду, и даже очень старательно. А Ландыш высунул язык и уставился на меня, словно и в самом деле было на что смотреть. Все смолкли, но ненадолго.
— Не делай пока рокировки, тебе это ничего не даст, — сказал Толстому отец. — Подстрахуй ферзя. Что ты вцепился в коней, будто у тебя нет других фигур…
«Расправляется с ним!» — подумал я про себя, подошел к двери и глянул краем глаза на доску.
— Толстый, не слушай! Ходи конем и делай шах слоном. Да не тем конем, разиня, другим…
— Сбил ты меня! — простонал Толстый.
Я двинул вперед слона, и через два хода отец потерял ладью. Но еще через три… Толстый получил мат.
— Все из-за тебя! — кипятился он. — В другой раз не суйся… И вообще поторопись!
— Ты, Юрек, никогда не научишься играть в шахматы, — заметил отец. — Выдержки у тебя нет. Ну зачем вам было брать ладью? Ты что, не понимаешь: иногда стоит пожертвовать две-три фигуры, чтобы выиграть партию? — И отец принялся читать брошюру.
А я вернулся к своим тарелкам. Толстый начал уже терять терпение. Посмотрел в окно, прошелся по кухне, заглянул к отцу.
— «Схемы транзисторных радиоприемников»… Неужели такое можно читать? — удивился Толстый. — Для собственного удовольствия?
— Как видишь, можно…
— А я, знаете, сдал экзамены в механический техникум, — снова заговорил Толстый. — С сентября иду учиться. Как вы думаете, стоит? Мать хотела, чтоб я непременно в этот техникум, а мне все равно…
— Как это все равно? — Отец как-то странно на него посмотрел. — Ты что, индюк, что ли?
— Почему обязательно индюк? — рассмеялся я.
— Потому что только индюку все равно, ему в любом случае свернут шею…
Я покончил с посудой и мигнул Толстому, чтобы не вступал в спор. Было уже поздно, и Збышек нас дожидался. А с отцом только начни так, всерьез, и он не успокоится, пока не скажет всего, что думает. Наслушался я этих его разговоров. Чаще с Холевой, потому что Холева все время у нас бывает. Мать говорила: «Не ходи в комнату, там отец опять Холеву перепиливает. И охота людям толковать с отцом после всего, что он им наговорит!» Я, честно, тоже удивлялся, а все-таки охотников спорить не убавлялось. Холева сказал как-то: «Ну и голова у твоего отца. Правда, и язык будь здоров. Не простят ему этого люди». Что было мне отвечать? «Не пропадем, пан Холева! — сказал я тогда. — Не пропадем!»
А отец все смотрел на Толстого и спрашивал:
— Ну так как с этим твоим «все равно», а? Кому за тебя знать, чего ты хочешь?
Но охота к разговорам у Толстого пропала.
— Я пошутил, — пробурчал он. — Техникум, может, и хороший. Посмотрим, как там с зубрежкой…
И тут мы услышали с улицы наш сигнал.
— Это Збышек. Двигай! — оживился Толстый. — До свидания! Мы скатились по лестнице. Но на крыльце Толстый остановился как вкопанный, и я налетел на него с разгону, а собака на меня. Толстый зашипел от боли и стал потирать плечо.
— Гляди ты! — процедил он сквозь зубы. — С кем этот болван пришел!
Только сейчас я заметил, что Збышек сидит на велосипеде, ухватившись одной рукой за забор, а рядом стоит Эльжбета. Это был ее велосипед, тот самый, на котором она наехала на меня.
— Ну что такое с вами? — спросил Збышек. — Язык отнялся, что ли? Я прихватил ее, потому что она два дня ко мне пристает, говорит, у нее к Юреку дело. Понятия не имею, откуда она его знает…
Мы поздоровались — что было делать? Только собака немного поворчала, она чужих не любит.
— Дело?.. Ко мне? — удивился я. — Какое?
Но Эльжбета состроила такую физиономию, будто все само собой разумеется, будто я прикинулся, что не понимаю.
— Что значит «какое»? Мы договорились: я привезу тебе семена редиски. Не помнишь? Хочешь посадим вместе?
Я и рот разинул.
— Кооператив по выращиванию редиски! — прыснул со смеху Толстый. — Знаете, по-моему, один из нас свихнулся! — И он посмотрел на меня. Здорово Толстый разозлился. — Куда мы собирались, Проблема, а? Лопайте редиску, а я — купаться. Привет, труженики полей! — Толстый свистнул собаку и ушел.
Я глянул на Эльжбету с такой злостью, что ей полагалось бы обидеться и поскорее исчезнуть. Но она не исчезла. «Погоди, я тебе покажу…» — решил я про себя. Но прежде чем придумал, что бы такое сказать, Збышек соскочил с велосипеда, поглядел на меня, поглядел, поморщился и заявил:
— Знаете что? Скоро двенадцать. Он прав, я тоже, пожалуй, купаться. Жарко… Кончите с редиской, приходите к нам на пруд, ладно? — И, не дождавшись ответа, помчался за Толстым.
Глава 4
Мы остались вдвоем. Теперь я и подавно не знал, что делать. Бежать за ними? Стоять возле дома с этой девчонкой? А тут еще, как на беду, в окне первого этажа появилась Лепишевская и уставилась на нас, как на вывеску. Я покосился на наши окна. Нет, все в порядке, отец, наверно, опять возится с приемником.
— Ну не будь ты чудаком, — заговорила Эльжбета. — Все равно придется сажать редиску. Это из-за меня ты ее тогда рассыпал. Я купила две пачки семян, Раз-два и готово. А голубь нашелся? Садись на велосипед, возьмешь меня на багажник…
— Этого еще не хватало — возить тебя на багажнике! Может, хочешь на раме, да? — проворчал я в досаде.
— Почему бы нет? — удивилась она. — Збышек вез меня на раме через весь город.
— Збышек может возить тебя хоть на голове, он твой брат! — вырвалось у меня некстати. — Какое, впрочем, мне дело… Меня не касается, что делает Збышек!
— Знаешь, не валяй дурака, — сказала Эльжбета. — Я считала, ты умнее. Ссориться не собираюсь. Едешь?
Я поплелся в сарай за велосипедом, вывел его и принялся накачивать переднее колесо. Делал я это нарочно как можно медленнее. «Пусть подождет! — думал я про себя. — Ну и влип я из-за нее с этой редиской!» Но Эльжбета как ни в чем не бывало ждала. В конце концов с колесом пришлось покончить.
Мы поехали на садовый участок. За мостом я поднажал, но она не отставала. И только когда мы были уже возле самой калитки, я спохватился, что забыл ключи.
— Пустяки, махнем через забор! — сказала Эльжбета. Поставила ногу на выщербину в доске, легко перескочила. Я же, как назло, зацепился носком за колючую проволоку и не мог отцепиться. Посмотрел на Эльжбету. Она улыбнулась и спросила:
— Еще сердишься?
А я, все еще на заборе, тяжело вздохнул:
— Целый месяц они будут теперь меня донимать!
— Збышек и тот, другой? Подумаешь, «донимать»! А ты не обращай внимания!
Я спрыгнул в сад. Эльжбета чуть-чуть отстранилась, мы стояли теперь совсем рядом. Она сказала вполголоса:
— Есть над чем смеяться…
Повернула голову и окинула взглядом участок.
— Ого-го! А смородины-то! Можно? — И побежала к ближнему кусту.
Наш сад был когда-то садом дедушки, и тот вдоль и поперек засадил его белой, красной и черной смородиной. За несколько лет кусты сильно разрослись, и теперь можно было ходить между ними, как в рощице, — верхние ветки доставали мне до подбородка.
Отец рассказывал, что дедушка очень гордился своей смородиной. Старикан вбил себе в голову, что умеет делать из смородины вкусное вино. Но этого никому так и не удалось проверить, потому что дедушка два-три раза в день его пробовал, выяснял, доходит ли вино до кондиции, и подливал воды. А когда в бутылях оставалась одна только вода, бабка выливала ее со страшным скандалом, дедушка же грозился: в этом году не вышло, но в будущем он еще докажет!.. И так из года в год.
Эльжбета пропала из виду, наверно, наклонилась к ветке. Я походил по саду, убедился, что клубники, увы, больше нет, и принялся грызть большую головку кольраби. Кто не видел индивидуальных садов возле шахты, тот не представляет себе, сколько всякой всячины можно вырастить на крохотном клочке земли. А наш сад худшим не считался.
В беседке было куда прохладней. От листьев обвившего ее дикого винограда, нагретого на зное, шел особый запах. Он смешивался с запахом пропитанного дегтем толя, которым отец обил крышу.
Так пахнут только старые беседки на старых участках в очень знойный день.
— Хорошо тут… — протянула Эльжбета.
Мы сидели друг против друга, и я чувствовал себя как-то по-дурацки, не знал, о чем с ней разговаривать.
— Конечно, хорошо, — поддакнул я, чтоб хоть что-то сказать. И опять долгое время — молчание.
— Знаешь, смородины на кустах оказалось больше, чем я могу съесть. В Варшаве я вижу смородину только на лотке. Вот бы не поверила, что может не хотеться ягод. Но после твоей смородины, пожалуй, поверю…
Я расхохотался:
— После этой смородины даже Толстый сдался! А у него аппетит будь здоров. Полдня тут как-то просидел. Но с того времени наш сад стороной обходит.
— Этот Толстый, он твой друг, да? А Збышек? — спросила Эльжбета. — Мальчишкам хорошо: всегда есть верный друг. А у меня ни одной настоящей подруги. Подружиться с девчонками труднее.
Я кивнул. В самом деле, с девчонками ни о чем не договоришься, я тоже всегда так считал. Выходит, и она так думает?
— Вижу, ты перестал сердиться. Не понимаю, из-за чего ты так надулся… Впрочем, теперь это не имеет значения, правда?
— Уж конечно, не имеет? — согласился я. — Да я и не сердился, тебе показалось.
— Может, и показалось, — улыбнулась Эльжбета. — Мне часто что-нибудь кажется… В воскресенье вечером, например, мне показалось, что я видела тебя в парке с какой-то девочкой…
Я так и подпрыгнул. Ненавижу, когда говорят глупости.
— С кем? С девочкой? Да это сестра Зенека Черного… Соседка, не девочка!
И тут мне пришло в голову: какое ей, собственно, дело? И еще: с какой стати пускаться мне в объяснения? Я почувствовал, что краснею. От злости.
— Что это на тебя нашло? Я только так сказала, ничего страшного. Разве ты никогда не был с девочкой в парке или в кино?
Соврать? Зачем? Пусть отцепится со своими дурацкими вопросами.
— Не был… Ну и что? Она покрутила головой.
— Не верю. Мы часто ходим компанией в кино.
— «Мы» — это значит кто?
— Ну мы… Из нашей школы. Или из клуба.
— Ты ходишь в клуб? — обрадовался я — появилась наконец тема для разговора. — В спортивный?
— Я записалась зимой в секцию аквалангистов.
— Неправда! Врешь! В аквалангисты берут с шестнадцати!
— Послушай, Юрек, — сказала она серьезно. — Постарайся запомнить: я никогда не вру! Понимаешь? Меня приняли, потому что я хорошо плаваю. Кстати, мама тоже когда-то была в этом клубе, она играла за сборную Польши в волейбол. Можешь у Збышека спросить. Но если спросишь, значит, не поверил. Ясно?
Я не знал, что и отвечать. Удивительная девчонка, не похожа ни на одну из нашего класса. Впервые такую вижу…
— Хочешь кольраби? — спросил я и, не дождавшись ответа, вышел из беседки.
Я долго не возвращался. Вымыл обе головки кольраби под краном, а потом сам сунулся под струю. Почувствовал приятный холодок, вода текла за ворот рубашки… Я позавидовал малость ребятам, которые пошли купаться. Но не пожалел, что я не там, с ними, а здесь, в горячем от зноя саду…
— Возьми! — услышал я вдруг. Эльжбета стояла спиной, в вытянутой руке — гребень.
— Помнишь? Там у колодца за кинотеатром ты мне сказал:
«Дашь, наконец, гребень? Сколько можно причесываться?» — продолжала она, смеясь. — Ну я теперь… Ладно, ладно, больше ничего не скажу! — Повернув голову, она стала вдруг прислушиваться.
— Юрек! Что это так стучит?
— Там за садом — шахта. Это грохоты… — И, видя, что она не понимает, добавил: — Ну, грохот… машина, которая сортирует уголь…
Мы не спеша вернулись в беседку и принялись за кольраби. Потом я сказал:
— Что это тебе взбрело в голову приехать на каникулы сюда, в промышленный район? Все отсюда уезжают, а ты наоборот — хочешь жить у шахты?..
— А тебе надо, чтоб меня тут не было, да? С кем бы ты тогда препирался? — рассмеялась Эльжбета. — С этой своей соседкой? Или, может, с той другой, со старухой, которая все время торчит в окне?
И вдруг лицо у Эльжбеты стало серьезное.
— Это не обычная поездка на каникулы. Меня отослали к тетке, потому что у нас в июле должен родиться ребенок…
— Как это — ребенок?
— А очень просто. Моя мама собирается рожать, и меня отослали из дома…
Я немного помолчал, потом сказал, пожимая плечами:
— Стоило ли? Дома ты была бы нужнее. Разве не так?
— Ну конечно… Я очень хотела остаться, но мама заупрямилась. Мы с ней поссорились, и я на нее обиделась. Да что там, не стоит и говорить! Я все время ссорюсь из-за чего-нибудь с мамой.
Эльжбета вышла из беседки. Постояла минуту, осматривая сад. И вдруг проговорила шепотом:
— Погляди-ка, там за забором крадется Збышек и с ним тот, другой! Пошли, спрячемся в смородине!
Действительно, на самом виду вдоль забора полз Збышек. Ему, конечно, казалось, что его не замечают.
— Индеец, да? Соколиный Глаз, вождь хитроумных апачей… — так же шепотом ответил я.
Эльжбета прыснула со смеху, и я закрыл ей рот. Но тут же отнял руку.
— Тихо…
Толстому надоела, видимо, эта игра в прятки, он поднялся, стал возле наших велосипедов, перегнулся через забор и крикнул:
— Эй, труженики полей и огородов! Как там с редиской? Теперь поднялся и Збышек. Во весь голос он сказал:
— Брось, Толстый, не мешай. Они, наверно, слушают, как редиска растет!
— Глупая шутка! — буркнула Эльжбета и нахмурилась. — Не отвечай этому сопляку.
Я взглянул на нее. «Сопляку»? Да ведь Збышеку столько же лет, сколько нам с ней! Но ничего не сказал.
За забором стали совещаться, но до нас не долетело ни слова. Наконец Толстый крикнул:
— Решение принято: мы реквизируем ваши велосипеды. Привет!
— Они, наверно, и не заметят, что велосипеды пропали, — добавил не без ехидства Збышек. Оба сели на наши велосипеды, собака залаяла как бешеная, и минуту спустя они исчезли в аллейке.
Мы поднялись из-за кустов.
— Остряк… Дома я ему устрою! А то пожалуюсь тетке! — заявила Эльжбета.
«Ну, теперь они прицепятся ко мне, — подумал я. — Особенно Збышек». Но не огорчился. Было даже удивительно, что настроение не испортилось. Стоит ли сердиться? Да и на кого? Эльжбета права: подумаешь, будут смеяться! Нашли причину!
— Ничего страшного, пусть прокатятся, — сказал я.
На шахте протяжно завыл гудок, ему ответил другой, где-то вдалеке отозвался третий, четвертый… Обычный концерт в нашей округе.
— Сколько сейчас? двенадцать?
— Сигнал второй смене. Пора на обед. Два часа!
— Два часа? — удивилась Эльжбета. — Ну бежит время! Впрочем, обед у тети в три, можно еще не спешить. Давай быстренько за редиску!
Не больно-то мне хотелось, но я согласился. Достал из беседки палку и надорвал пакетики с семенами.
— Начинаем? Мама просила в четыре ряда!
— Как вам будет угодно. Раз в четыре, значит, в четыре. Извольте. Я невольно улыбнулся. Веселая девчонка эта Эльжбета. Куда до нее Збышеку, например, с его дурацкими шуточками. Тоже философ! Может, она права, и Збышек в самом деле сопляк? Только почему я этого раньше не замечал? А ведь мы семь лет сидим в классе друг за другом — почти то же самое, что на одной парте. Как же это выходит: столько лет знаешь человека, а потом открываешь вдруг в нем что-то новое?
Я провел палкой четыре длинные борозды, вдоль всей грядки, и мы принялись за работу. И тут мне пришло в голову, что мама и в самом деле велела в четыре ряда, но ей хотелось цветы, левкои, а мы сажаем редиску.
Глава 5
Это было возле самого дома, но я спешил к пруду. Почтальон передал мне заказное. Я расписался и, увидев, что письмо от мамы, сунул его в карман. Конверта вскрывать не стал, письмо было адресовано отцу.
Эльжбета ждала, на мосту, как мы договорились. Перегнувшись через перила, она всматривалась в нашу ленивую и грязную Брыницу. Со стороны шахты, скрытой деревьями, медленной вереницей ползли крестьянские подводы с углем. Почти без перерыва. Лошади шли уверенно, дорога была им хорошо знакома. Крестьяне собирались группками на тротуаре, то и дело кто-нибудь из них убегал, догоняя лошадь, а другой в эту минуту соскакивал с подводы и подходил к знакомым. Некоторые ели в пути: хлеб, кусок кровяной колбасы, вынутый из бумаги… Один направился к своей подводе, достал бутылку с пивом, отпил с соседом по глотку и спрятал бутылку.
Два раза в неделю на нашей шахте отпускали уголь для крестьян из ближних деревень и для своих рабочих. Мне нравились эти дни, иногда я подолгу смотрел на движущиеся мимо подводы. Мне казалось, именно так выглядят караваны в пустыне: ни конца, ни начала, никто зря не спешит, никто никого не обгоняет… Время от времени слышатся только крики, но люди не погоняют этими криками животных, просто напоминают, что они здесь, рядом.
— Наконец-то пришел! — сказала Эльжбета. — Сколько угля, а? Посмотришь — и то замараешься. Ты был хоть раз в шахте, под землей?
Я только улыбнулся: нашла о чем спросить! Но подумал: а вдруг она чувствует себя тут как в незнакомой стране, смотрит на те же вещи, а видит другое. Может, так оно и есть, я хотел выяснить, но не знал, как задать вопрос.
— Ты что, одеяло взяла? Зачем? Ведь там песок… — удивился я. Мне никогда и в голову не приходило брать с собой на пруд одеяло. На море — дело другое, но у нас… Все б меня высмеяли, приди я с одеялом.
— Я и поесть с собой взяла, бутерброды. Тетя приготовила. Купались мы со стороны парка. Там был лучший пляж, и на песчаном откосе в несколько метров высотой копошились малыши. Визг стоял такой, что разговаривать было невозможно. И я предложил: оставить одежду здесь, а самим переплыть на «английский» берег.
Мы плыли медленно, рядом. Вода была теплая и гладкая-гладкая, она отражала солнце, как нагретая жесть, даже больно было смотреть. И я подумал: там, в деревне у дяди, не было бы таких каникул. А ведь еще недавно я ругал себя за то, что вернулся. Не знаю, о чем думала Эльжбета. Я поотстал и плыл немного сбоку. Она ровно рассекала руками воду, плавно шла почти у самой поверхности, слегка поднимая голову, чтоб не замочить зачесанные кверху волосы. А те светились на солнце ярче обычного…
— Почему ты сказал — «английский» берег? — спросила Эльжбета, когда мы, выйдя из воды, возвращались вдоль откоса. — А Збышек вот ходит удить рыбу на «итальянский» берег. Что у вас тут, вся Европа на одном пруду?
Это такие названия еще с войны, но они, видишь, прижились, теперь все так говорят, — начал я объяснять Эльжбете. — Во время оккупации на нашей шахте работали пленные англичане, а потом еще итальянские солдаты, когда взбунтовались против немцев. И тех и других часовые водили из лагеря на пруд купаться. На высоком берегу купались англичане. Отец говорит, никому не разрешалось тогда к ним подходить. На берегу стоял часовой с винтовкой. У итальянцев место было куда хуже, вон там — видишь? Там заливной луг и всегда полно лягушек.
Мы шли теперь вдоль кромки воды, где расположились любители позагорать на солнышке. Ребята постарше провожали Эльжбету взглядом, иногда заговаривали с ней. Она улыбалась, и это меня сердило. Мы дошли наконец до нашей одежды, завернутой в одеяло. По одеялу бегали малыши, осыпая друг друга песком, брызгая водой.
— Одеваемся! — сказал я. — С этой мелюзгой сладу нет, скоро станут по головам ходить.
Цепляясь за торчащие из песка корни деревьев, мы забрались вверх по склону и очутились в старом парке. Было тут совсем тихо. Со своей высокой, давно не кошенной травой, с заросшими аллейками этот запущенный парк нравился мне гораздо больше нового, где по воскресеньям играл оркестр.
Мы сели на скамейке. Солнце палило все так же, и загорать здесь можно было не хуже, чем у воды. Я смотрел, как плавно раскачиваются вершины деревьев, то закрывая солнце, то, словно обжегшись, ускользая в сторону… Мы сидели невдалеке от теннисных кортов и слышали удары мяча.
— Знаешь, Юрек, мне хочется поехать когда-нибудь в Италию, — сказала Эльжбета, — а то и вовсе туда переселиться. А тебе?
Своим вопросом она застала меня врасплох.
— Откуда мне знать? — стал думать я вслух. — Навсегда в Италию я бы, пожалуй, не переселился. Что мне там делать?
— Вот именно! Тем более, что итальянского ты не знаешь… — услышали мы вдруг. — Здравствуйте, уважаемые граждане!
Меня пронял озноб, не знаю почему именно, но озноб. За спиной у нас стоял отец. Он, наверно, пришел со стороны садовых участков, и поэтому мы не слышали шагов.
— Здравствуйте! — повторил он. — Вас-то я и искал…
Я вскочил со скамейки. И почувствовал себя так, как тогда — кажется, это было в шестом классе, — когда на контрольной математик заметил, что я сдуваю у Толстого, и, не говоря ни слова, указал просто рукой на дверь, а я встал и вышел. Может, теперь мне было еще больше не по себе. Почему? Этого не объяснишь. Физиономия у меня была, наверно, не слишком веселая, потому что отец улыбнулся, обошел скамейку и стал рядом.
Я встретил почтальона, он сказал, что отдал тебе письмо от матери. А от Збышека я узнал, что вы отправились то ли к пруду, то ли в сад. Ну, я и стал искать.
Теперь со скамейки поднялась и Эльжбета. Она тоже была растерянна. А у меня в голове замаячила неожиданно мысль: «Только б не стал смеяться, только б не сказал чего такого…» Не говоря ни слова, я вынул письмо из кармана. Но отец поздоровался с Эльжбетой, потом закурил сигарету и лишь после этого взял конверт.
— Что-то, дорогие граждане, вы не разговорчивы. Как в анекдоте: «На какую тему, кавалер, молчите? На ту же самую, что и вы, мадам!»
Эльжбета улыбнулась, а я стал потихоньку приходить в себя.
— Вернешься в Варшаву, передай от меня привет родителям, — сказал отец Эльжбете, подал ей руку на прощание и, не взглянув на меня, зашагал не спеша в сторону кортов.
Но, пройдя немного, обернулся и крикнул:
— Юрек, сегодня на ужин пойдешь к бабушке. До свидания! Только после этого мы оба, точно по команде, опустились на скамейку. Я вздохнул с таким облегчением, что меня самого это рассмешило.
— Я и не знал, что отец может так запросто, по-дружески! — сказал я больше себе, чем ей, и почувствовал, что очень горд своим отцом, будто он совершил бог знает какой поступок.
— Но откуда твой отец знает моих родителей? — тоже вслух принялась рассуждать Эльжбета. — Откуда ему вообще известно, кто я такая?
Я пожал плечами.
— Не имею представления, откуда. Хотя мог узнать, конечно, от Збышека. Да, но что этот болван ему наплел?..
Ответа долго ждать не пришлось. У входа в парк мы наткнулись на них обоих: на Збышека и Толстого. Я не виделся с ними с позавчерашнего дня, с той самой минуты, когда они увели у нас из-под носа велосипеды, и не очень-то представлял себе, как мне теперь разговаривать с ними. Кто, собственно, должен быть в обиде — они или мы?
Толстый вроде бы обрадовался встрече, но не успел и рта раскрыть, как Збышек высокомерно глянул на нас и изрек:
— Советую сменить местопребывание, отец тебя разыскивает. Час назад спрашивал, не знаем ли мы, где вы находитесь…
Эльжбета чуть не подпрыгнула:
— Где находимся мы или где находится Юрек? Откуда ты знаешь, что мы вместе?
Но Збышек не обратил на нее ни малейшего внимания.
— И я сказал, что Юрек ушел на свидание с моей двоюродной сестрой.
Руки у меня сами собой сжались в кулаки, я понял: еще слово, и я ему врежу. Я рванулся, но Эльжбета схватила меня за рукав:
— Пошли, Юрек. Не стоит… Тогда Збышек крикнул ей:
— Заткнись! С тобой не разговаривают! Я подошел к нему вплотную.
— Ты, философ! А со мной поговоришь?..
Замахнулся, но прежде чем успел ударить, Збышек бросился на меня. Эльжбета крикнула что-то, но я не расслышал. Нас разнял Толстый — спокойно, без усилия. Он стал между нами и буркнул Збышеку:
— Отцепись от него, Проблема, не начинай! Ну-ну, не о чем говорить, пошли! Привет, Юрек!
Толстый улыбнулся Эльжбете, подтолкнул Збышека, и они зашагали прочь.
— Хоть один умный среди вас нашелся! — сказала Эльжбета. Прощаясь с Эльжбетой возле ее дома, я уже знал: сейчас я пойду на чердак, к своим голубям. Знал об этом еще и раньше. Тогда, когда мне в голову пришла странная мысль: мне показалось, что я знаком с Эльжбетой давным-давно, что я, собственно, знал ее всегда. И одновременно с этой другая: а ведь я мог никогда ее не встретить…
Я сел на старый сундук и привалился к стене.
Хорошо было здесь, с голубями. Разве где-нибудь на свете есть место спокойнее? А Рыжий, этот подлец Рыжий, который крутил головкой, словно в поисках спутника для нового побега, показался мне самым прекрасным голубем, какого я вообще когда-либо видел. Неожиданно для самого себя я подумал, что из тридцати семи голубей, которых держали мы с отцом, именно Рыжего люблю я больше всего. И страшно удивился, что не понял этого раньше.
Глава 6
У нас в Божехове храмовой праздник бывает в день святой Анны, точней, в ближайшее после него воскресенье. Как себя помню, вместе с мальчишками я с нетерпением ждал этого дня, а нынче и не заметил, как он пришел.
Эльжбета смеялась до упаду, глядя на лотки «с разной дребеденью», как она окрестила все эти странные и забавные, никому не нужные вещи, которые привозят торговцы на нашу ярмарку.
— Знаешь, я думала, храмовые праздники с ярмаркой бывают только где-нибудь в деревушках… Или в городах, куда приезжают туристы из-за границы. Например, в Ловиче или, скажем, на Подгалье… Первый раз вижу такую ярмарку!
— А в Варшаве не бывают? — спросил я и сразу пожалел об этом. Может, вопрос был и глупый. Но почему же все-таки она на меня так посмотрела?
В Варшаве? А ты был в Варшаве? Хотя бы с экскурсией?
Нет… На экскурсию мы ездили в Краков. И в Познань на международную ярмарку. Ага, и потом еще в Щирк, — припомнил я.
В Щирк? А что такое Щирк? Где он находится? Меня разозлил вопрос. Собственно, не сам вопрос, а эта ее улыбка. Но, поглядев на Эльжбету, минуту спустя я подумал: может, это мне только показалось, может, в конце концов, она всегда так улыбается…
Не каждый обязан знать, где находится Щирк. Но решил не отвечать: раз не знает, пусть не знает. Не моя потеря.
— Обиделся? — спросила Эльжбета, но уже без улыбки. — Юрек, не будь ты таким смешным…
Сама подсказала мне слово. Может, я бы не додумался, может, я и понимаю-то его не так. Смешная у нас ярмарка. Смешные эти лотки, смешно, что я не был в Варшаве. И Щирк смешной. А я? А может, и весь Божехов? Значит, смешно и то, что мы стоим тут вместе, а кругом надрываются пищалки, протискиваются, толкая нас, увешанные ярмарочными баранками, оживленные люди… Нет, наверно, она думала иначе. Откуда ж тогда у меня такие мысли?
И вдруг я почувствовал, Эльжбета хватает меня за руку. Посмотрел на нее с удивлением. А она рассмеялась:
— Ну чего так глядишь? Просто я не хочу, чтоб мы с тобой потерялись в этой толпе…
И потянула за собой. Мы стали пробираться к тому месту, где рядом с тиром собралось больше всего народу — к киоскам с ярмарочными лотереями.
— Попытаем счастья? — спросила Эльжбета.
— Нет, я никогда не пробую! Мне не везет, — сказал я и расхохотался.
Вспомнил, как несколько лет назад мама уговорила отца попытать счастья в лотерее. Они велели мне нажать рычажок, круг с номерами закрутился, перышко, служившее указателем, заметалось, задевая о гвозди, и наконец остановилось у самого большого гвоздя. «Главный выигрыш! — объявил хозяин лотереи. — Молодому человеку представляется право выбора». На выбор, однако, были предложены только три вещи: вино за шестнадцать злотых, глиняная вазочка и голова Костюшко.
Я затеял страшный спор с родителями. Мать желала вазочку, отец был за вино, но в конце концов они решили, что им все равно — лишь бы не Костюшко. Однако я уперся. Костюшко был трехцветный: лицо золотое, губы и шапка красные, брови и ворот кафтана черные. Мать заявила, что не пойдет со мной по улице, если я понесу Костюшко. Отец ее поддержал. Я возвращался домой один, но с Костюшко под мышкой.
Пока я рассказывал Эльжбете эту историю, мы ели сахарную вату на палочках, вата была еще теплая и липла к губам, к щекам…
— А что с этой головой? Раскокал?
— Посягнуть на великого человека? Ты что, смеешься? Это он меня мучил… Ровно год допекал!
В самом деле, с головой были связаны ужасные переживания. Мне не разрешили держать ее дома, и Костюшко отправился в сарай, где у нас жило тогда несколько кроликов. Один из них ни с того ни с сего сдох, и отец сказал, что это из-за Костюшко. Я перетащил голову в подвал, а зимой пожертвовал ее на школьную лотерею. Учительница не хотела брать голову, но наше школьное самоуправление объявило, что мой Костюшко для выигрыша годится. К несчастью, голову выиграл Зенек. Ему тоже не разрешили держать ее дома, и она вернулась к нам в подвал. В следующую ярмарку я встал пораньше и продал голову хозяину той самой лотереи, где выиграл ее год назад. За десять злотых. Но и это еще не все.
Случилось так, что в это самое время наша харцерская дружина выбирала своего героя. Когда кто-то предложил Костюшко, я вскочил с места и начал возражать. После очередного родительского собрания директор пригласил отца в канцелярию и заявил ему, что в серьезной дискуссии я вел себя неподобающим образом. Вышла из этого целая история…
Эльжбета так хохотала, что люди начали останавливаться, и мне стало неудобно. В конце концов она выдавила из себя:
— Как же все-таки называется ваша дружина?
— Как? Самым лучшим образом: четырнадцатая харцерская такой-то и такой-то шахты дружина имени Тадеуша Костюшко. Цвет платка — желтый. После этого, надо тебе сказать, я перестал ходить на сборы…
— Весело ж вам! — услыхал я вдруг.
Мимо прошла Ирка, остановилась, посмотрела на меня, потом на Эльжбету…
— Познакомьтесь! — сказал я, сам не зная почему.
— А зачем? — Ирка повернулась на пятке и отплыла к тиру. Только сейчас я заметил, что она не одна. С ней была подруга и двое молоденьких солдат.
— Не огорчайся! — буркнул я Эльжбете, но и сам, надо сказать, огорчился. — Соплячка! Дура! Вот увидит ее мать…
Но Эльжбета и не думала огорчаться. Она только смеялась.
— Видал? А ты говоришь «соседка». Этого я не мог понять.
— В самом деле соседка!
— Ой, Юрек! Ты или притворяешься, или не знаешь девушек… Сколько ей лет?
— Шестой класс кончила. Ну и что? Вот появится Зенек, он ей всыплет. И за дело. Вмиг успокоится… Жаль, ты не знакома с Зенеком!
Мы съели вату, выкинули палочки, пора было отправляться дальше. Возле тира Эльжбета остановилась.
— Посмотрим немного, ладно?
У меня не было ни малейшего желания, но она, как нарочно, задержалась возле Ирки и ее компании. Оба солдатика как раз заряжали, физиономии у обоих были такие, будто они собираются ставить мировой рекорд.
Они стреляли с условием: три попадания из десяти. Дела шли неважно. В мишень попасть нетрудно, но в яблочко угодишь не сразу.
— Юрек, а ты стрелять умеешь? — спросила Эльжбета.
— Так себе, немножко…
Я соврал. Стрельба в цель — целая глава в моей биографии, как говорится в газетах. Отец — отличный стрелок, и мне было пять или шесть лет, когда он начал меня учить. Решил, что я непременно должен стрелять лучше, чем он. Я еще даже в школу не ходил, когда на соревнованиях, устроенных Лигой защиты Польши, он заставил меня стрелять из армейского пистолета. Я трясся, плакал, но отец был неумолим. Когда я стрелял, он поддерживал мне руку. Мама потом рассказывала, что я стоял с закрытыми глазами, белый, как стена. Потом отец учил меня стрелять из винтовки, потом купил духовое ружье. Когда мне стукнуло двенадцать, он решил, что я стреляю не хуже его, и оставил меня в покое. И хотя, признаться, мне до него далеко, стреляю я все же неплохо. А теперь я соврал. Нарочно. Я даже знал, почему…
Я был хорошо знаком с хозяином тира. Приходил к нему вместе с отцом десятки раз. Я втиснулся между солдатами и громко сказал:
— Здравствуйте, пан Зендеровский! Можно попробовать счастья? Я заплачу завтра.
Я знал, что он согласится. Так повелось, если я был не при деньгах. Но тут неожиданно встряла Ирка:
— Могу дать в долг. Сколько тебе надо?
Тогда, в свою очередь, завелся один из солдатиков. Неизвестно почему, но он предложил:
— Стреляй, приятель, я заплачу! Но стреляй по цветочкам!
Я глянул на Эльжбету и понял, что ей это не нравится. Она ждала моего ответа. А меня разбирал смех. Ишь ловчило! Сам по мишеням, а мне по цветочкам. Хочет посадить меня в лужу. Зендеровский следит за разговором, улыбается в усы, а сам заряжает для меня ружье. Отец всегда говорил: «В каждом тире одно ружье лучше других, понимаешь? Все ружья хороши, а одно лучше. Чудес не бывает, Юрек!» Я знал, что старик Зендеровский даст мне именно такое.
— Ну как? Стреляешь, друг? — спросил снова солдатик. — Отстрели два цветочка для дам!
— Три! — с ехидством протянула Ирка. И повернулась к Эльжбете. — Мы просим три, правда?
Хвастаться я не мастер, но сейчас был доволен, что дело приняло такой оборот. В тире стало тихо, люди почувствовали, что за этим что-то кроется. А у меня даже мысли не было, что промажу. Когда стреляешь, думать об этом нельзя.
Я неуверенно взял в руки ружье, будто впервые в жизни. Конечно, я ломал комедию, и Зендеровский это знал. Я испытывал какое-то дикое удовольствие. Повернулся к Эльжбете.
— Ты тоже хочешь цветок?
— Нет, — ответила она сухо. Эльжбета, конечно, рассердилась, что я поддался на провокацию, что выставлю посмешищем и себя и ее.
Я выстрелил три раза, один за другим, не опуская ствола. Так учил отец. И еще потому, что это производит на зрителей сильное впечатление. На землю упали два цветка. Зендеровский их не поднял. Сказал равнодушно:
— Теперь на ходу, а? У тебя еще два выстрела в запасе.
И, не дожидаясь ответа, включил моторчик. Цветочки потихоньку закружились…
— Какой хочешь? — спросил я Эльжбету.
— Я уже сказала — никакого…
— Юрек, а я хочу вон ту красную гвоздичку! — заявила Ирка и улыбнулась.
В первый раз я промазал. Пришлось подождать, пока красная гвоздичка не выйдет снова на выстрел. Трах! Попал. Цветок падает. Я откладываю ружье.
— Браво! — сказал солдатик, но как-то без энтузиазма. И достал из кармана деньги.
Но старик Зендеровский не взял.
— Не надо, сержант! Это была реклама. Фирма организует, фирма платит!
И он подал мне три сбитых цветка. Два из них я отдал солдату. Красную гвоздику Зендеровскому. Тот взял.
— Спасибо, пан Зендеровский! До свидания!
— До свидания…
И мы с Эльжбетой ушли. Только минуту спустя, когда торговые ряды остались позади и мы были уже на площади, Эльжбета остановилась и тихо сказала:
— Ну знаешь ли… Вот не думала! Какого страху ты на меня нагнал! Зачем ты соврал, что не умеешь стрелять?
— Я не говорил, что не умею…
— Слушай, а эта твоя… соседка. Она знала, что умеешь?
— Почему спрашиваешь? Эльжбета покачала головой:
— Она никогда не простит тебе этого… Красная гвоздика… Зачем ты так?
Я не ответил.
Прошло несколько дней. Погода стояла великолепная, отец ни словом не упомянул о той встрече в парке, Збышек больше не попадался на глаза (говорили, что он целыми днями удит рыбу на «итальянском» берегу!), а Рыжий снова куда-то исчез. Жизнь, короче говоря, шла своим чередом. Каждый день мы ходили с Эльжбетой на пруд, а искупавшись, загорали на пляже или в парке.
Иногда к нам присоединялся Толстый, но со временем у него было туго. Ему надо было добывать разные справки, и он то и дело ездил с матерью в Катовицы — все из-за этого техникума. Он стал как-то серьезнее, и в ответ на мои вопросы, не отказались ли они со Збышеком от экспедиции в грот, пренебрежительно махал рукой: сейчас, дескать, не до глупостей. Да и меня разбирал смех, когда я вспоминал, как мы недавно снаряжались за сокровищами. За сокровищами в грот с водопадом — ничего себе дела!
Глава 7
Эльжбета сильно загорела и день ото дня становилась красивее, а может, так мне казалось. Мы целыми днями разговаривали, о чем именно — не объясню. Или, наоборот, не произносили ни слова, но молчать нам было легко. Не странно ли? Иногда мне приходило в голову, что не мы с Эльжбетой смеемся, купаемся, ездим на велосипедах, что все это происходит в кинофильме, который я вижу на экране. Может, и в самом деле я видел что-то похожее в кино?
Вот уж придумал! Но с мыслями бывает по-всякому, иногда самые невероятные лезут в голову, и обычно тогда, когда человек к ним не подготовлен. Все чаще убеждался я в этом.
Однажды я сказал Эльжбете:
— Ты, пожалуй, другая, не такая, как все эти девчонки из нашего класса, ну… и все здесь вообще…
— Почему другая? — удивилась она. — Какая же я?
— Так мне кажется… Знаешь что? Только ты не смейся! Я думаю, это хорошо, что мы не ходили вместе в школу, скажем, с первого класса, а?
Я чувствовал, она меня не понимает, но объяснить не мог. Девчонок из своего класса как-то не замечаешь. Вроде бы они и есть и в то же время… А может, дело не в этом? Не знаю. Получали они пары или пятерки, ссорились ли между собой, мирились ли, опаздывали на уроки или сдували на контрольных — все они делали так же, как мы. Меня раздражало, когда они строили физиономии или хихикали неизвестно над чем. Писали друг другу на уроках записочки… Впрочем, не только девчонки девчонкам. Зенек и другие ребята тоже получали от них послания. Некоторые девчонки были даже очень хорошие. В танцевальном ансамбле и клубе я два года танцевал в одной паре с Ханкой Карбовской. Она приходила иногда к нам домой за тетрадкой или еще за чем. Маме она даже нравилась, мама говорила, что она очень хорошенькая. Может, так оно и было, да что из этого? Потом я ушел из клуба, и она перестала приходить. Зенек сказал, что она втрескалась в нового учителя рисования. Год назад он появился у нас в школе, говорили, что художник… Тоже мне придумала — влюбиться в учителя! Он же с бородой. Совсем, что ли, дуры девчонки, не понимаю…
Так я думал о нашем классе. Хорошо, что Эльжбета не ходила с нами в школу… Но теперь, после седьмого, могла бы, пожалуй, и пойти. Интересно, как там будет в новой школе, в лицее?
Я задумался и позабыл, о чем мы с ней говорили. Мы ехали на велосипедах к Толстому, собирались позвать его на пруд. Вдруг Эльжбета притормозила и остановилась. Я тоже.
— Что случилось? — спрашиваю.
— Ничего не случилось. Я жду, когда ты скажешь, какая я такая? Все думаешь да думаешь… Наверно, что-то уже придумал. Ну?.. — И улыбнулась.
А я и не знал, что сказать. Ничего путного не приходило в голову. Я смотрел на нее, нет, глазел и думал, думал.
— Юрек, скажи… скажи, я тебе нравлюсь?
Вопрос был такой неожиданный, что, наверно, только через минуту дошел до меня, и то как бы с расстояния. Мне показалось, что она оторопела от собственного вопроса. Я чувствовал, необходимо сразу ответить, даже знал, что надо сказать. Но шли секунды, а я молчал. Так бывает во сне: кто-то преследует тебя, вот-вот нагонит, хочешь крикнуть, а из горла — ни звука! А здесь все так просто. Почему я не сказал ей этого?
Эльжбета посмотрела на меня выжидающе и наконец тихо сказала:
— Тогда знай, что… ну, что ты мне очень нравишься… Улыбнулась, как обычно, и повторила громко:
— Слышал? Очень нравишься!
И вдруг нажала изо всех сил на педали, рванула и помчалась вперед. Я постоял — и следом.
И потом все время, до самого вечера, Эльжбета как-то странно вела себя у пруда. Не так, как обычно. Разговаривала только с Толстым, они вместе возились, сталкивали друг друга с обрыва в воду, носились по берегу. Вроде меня и не существовало.
Этого было мне не понять. Я лег на песок, закрыл глаза и притворился, будто загораю или сплю.
Понемногу пляж опустел, приближался вечер. Только на другом берегу, на «итальянском», виднелись еще склоненные над водой фигурки рыболовов. Но это меня не интересовало. Над обрывом в парке качались на ветру и шумели деревья.
— Давай снова в воду, — сказала вдруг Эльжбета. — Юрек! Ты сегодня, кажется, совсем не купался. Что с тобой случилось?
— Со мной? А что могло со мной случиться?
— Может, животик болит? — сострил Толстый и сам засмеялся своей шутке. — Слушай, Элька, может, он влюбился, а? Интересно только, в кого?
Меня это разозлило. Я поднялся с песка.
— В тебя, слон! — крикнул я Толстому и прыгнул в воду. Они — следом.
Вода была не такой теплой, как казалось. Мы доплыли только до средины пруда и повернули обратно. Я старался плыть как можно медленнее. Прямо перед нами было солнце, оно заходило за темной громадой сортировочной машины, подсвечивая сзади вытяжные стволы шахт и бросая багровые полосы на воду.
Эльжбета первой вышла на берег. И стояла так — по рукам текла вода… Набросила на себя мой свитер, лежавший на куче с одеждой. Она смотрела на шахту.
Я не спеша подплывал к берегу. Позади, метрах в трех, фыркая, приближался Толстый.
Эльжбета не заметила, как я стал рядом. Я прикоснулся слегка к ее плечу, она вздрогнула.
— Тебе холодно?
Она не отвечала, засмотревшись на этот пейзаж из сказки. Шахта была теперь, казалось, совсем рядом, огромная, вся какая-то таинственная, черно-багровая… Без устали грохотала сортировка, вдали свистнул протяжно поезд, шумели над обрывом высокие клены.
— Я не жалею, что приехало сюда на каникулы. Знаешь, Юрек? Уже не жалею…
Мы помолчали. Из-за березовой рощицы, из-за старых терриконов вынырнул длинный состав с углем. Пролетая над маленьким железным мостиком, он стучал каждым вагоном по-особому, и от этого постукивания получалась мелодия, которую ветер то приближал, то отдалял от нас.
Эльжбета считала вполголоса вагоны:
— Восемнадцать… двадцать семь… тридцать четыре… Как много!
— Ты бывала там, дальше? — спросил я. — Там другой пруд. Стоит как-нибудь съездить. А тут, вот за этими терриконами, строят «Анну», новую угольную шахту…
— Сорок два… Сколько вагонов, видал? — перебила меня Эльжбета. И вдруг глянула как-то особенно внимательно, точно только сейчас заметила, что я рядом. — Юрек, а если б ты построил шахту, как бы ты ее назвал?
— Что, не догадываешься?
— Нет…
Толстый выкарабкался наконец на берег, подошел к нам. Ему было холодно, он стал отряхиваться.
— Я назвал бы ее «Эльжбета»…
— О чем это вы?.. Будь она неладна, эта сырость, — заговорил Толстый. Он торопливо растирался полотенцем, пыхтел и фыркал. — Говорите по-человечески! Ничего не понимаю…
Эльжбета громко рассмеялась: — Это очень хорошо!
— Что хорошо? — начал допытываться Толстый, недоумевая.
— То, что ты ничего не понимаешь…
— Ага, ясно… — И он бросил в нее полотенцем.
Не попал, но стал удирать по берегу. Она понеслась за ним следом с его сандалетой в руке… Я начал потихоньку одеваться, глядя на них с улыбкой. «Ты прав, Толстый, — пронеслось у меня в голове. — Я и в самом деле по-настоящему влюбился…»
Вот, значит, как оно бывает, если человек влюблен. Но вели мне кто-нибудь рассказать, как все-таки оно бывает, у меня б, наверное, ничего не вышло. Да и не стал бы рассказывать. Никому, даже ей. Зачем?
Раньше я иногда думал; как это случится? Может, не один я, товарищи тоже. Только никто не признавался. Сразу бы засмеяли!
Сколько раз я сам потешался над другими! Не знаю почему, но нам доставляло это огромное удовольствие, скажем, в пятом или шестом классе. Стоило кому-то постоять чуть дольше с девочкой в школьном коридоре или на улице, как тут же сыпались остроты:
«Сматывайся скорее, теща с метлой идет!» Или: «Ты, когда свадьба?»
Однажды, это было давно, мы так измывались над сестрой Толстого, Зоськой, что та расплакалась на улице. Она стояла с женихом у кино, Толстый подговорил меня, и мы вместе заорали: «Зоська, беги домой, мама колбасу купила!» Это не помешало ей, впрочем, выйти потом замуж, но Толстого мать порола так, что ремень гудел в воздухе. Мне это сошло с рук. «Умные» мы были, ничего не скажешь.
Теперь мы смотрим на девочек по-другому. Наверно, мы завидуем в глубине души тем парням, с которыми они дружат. Но на такие темы говорить не принято, хотя мне уже не раз казалось, что и Толстый и Зенек не прочь потолковать об этом. Неохота только начинать разговор.
Оставаясь один, я думал часто о девочке, не такой, как все те девочки, которых знал, во сто раз красивее. Я не представлял себе, какая она, высокая или нет, какие у нее волосы и какая у нее улыбка. Потому что эта девочка никогда не существовала. И меня мучило, что мне никак не удается ее себе представить.
Иногда она появлялась в книжке или в кино. Лучше, если в книжке. Потому что на экране кто-нибудь обязательно окажется с ней рядом. А в книжке можно всегда быть тем, кто с ней говорит, о ком она думает. Такую книжку перечитываешь снова и снова, останавливаешь время, одну страницу можно читать целый вечер. А теперь вдруг у девушки есть уже имя и лицо, она улыбается, у нее длинные светлые волосы, она красивее всякой другой, и не знаешь наперед, что она скажет, что сделает в следующую минуту. А когда рядом кто-то третий, то он чувствует, что он всего лишь рядом, но не с нами. Даже если он твой лучший товарищ, он все равно ничего не поймет.
Знает ли она об этом? Как у нее спросить? Может, и спрашивать-то не надо, не надо вообще говорить об этом… Хорошо, что это она, не другая. Смешно… Да ведь это вообще не могла быть никакая другая! Как же ей сказать, что это может быть только она, что существует только она одна и другой даже в мыслях не бывало?
Мы шли через темный парк. Толстый то и дело подпрыгивал на одной ножке, тряс головой, лез пальцем в ухо.
— Булькает что-то, шумит, — жаловался он. — Стоит капельке попасть внутрь, потом долго болит. Что за уши!
Я громко засмеялся:
— Это в голове у тебя хлюпает, не в ухе. Помнишь, на уроке истории Зонтик как-то сказал, что у тебя в голове ветер гуляет. Значит, и для воды место найдется!
Ты, я вижу, веселый, да? Хотел бы я, чтобы и у тебя так хлюпало… О боже! Еще и колет!
Не обращай внимания! — стала утешать его Эльжбета. — Хуже, когда влезет не в ухо, а в глаз.
Влезет… Ты хочешь сказать, бросится в глаза? — принялся за свои остроты Толстый. — Это значит, тебе кто-то приглянулся, да?
— Кто-то? Ты! Сам не видишь?
Мы шли рядом с Эльжбетой, она схватила меня за руку и крепко стиснула. Толстый, шедший на полшага впереди, как раз обернулся и заметил. Смерил ее долгим взглядом, но Эльжбета не отняла руки. Он покивал в ответ.
— Да уж чего там… Вижу… — пробурчал он. — Еще как вижу! — И непонятно почему вспылил. — Да отвяжитесь вы от меня, пожалуйста! Развлекайтесь одни, привет!
Когда я вернулся домой, свет на кухне был погашен. Сквозь приоткрытую дверь я увидел отца, сидевшего в комнате за столом. Я не поверил собственным глазам: он чинил… электрическую плитку! В самый разгар лета! Я расхохотался.
— Юрек? Я и не слышал, как ты вошел. Чего ты так веселишься? Я согрел себе чаю и со стаканом в руке сел в комнате за стол.
— Спрашиваю, чего веселишься? — повторил отец. — Приготовь и мне чаю, только, знаешь, покрепче. И садись, я хотел с тобой поговорить…
Когда я поставил перед ним стакан с очень крепким, почти черным чаем, какой он пил, и сел рядом, отец сказал:
— Что-то последнее время ты целыми днями пропадаешь. Лепишевская сказала…
— Что она может знать? — прервал я отца на полуслове. Терпеть не могу эту бабу. Вечно торчит в окошке и глазеет во двор, а потом наговаривает на соседей. — И ты веришь этой сплетнице? Она же про всех говорит одни только гадости!
— Какая муха тебя укусила? — удивился отец. — Конечно, сплетница. Но если она говорит, что ты за весь день ни разу не приходишь домой поесть, то у меня нет причины ей не верить…
Вот оно в чем дело! Я успокоился. А я-то думал, Лепишевская успела что-то уже наболтать… ну, скажем, про Эльжбету.
— Я не приходил домой, но мы брали… я брал с собой хлеба на пруд. Впрочем, в такую жарищу и есть-то неохота, — проворчал я в ответ.
— Есть неохота, и целыми днями занят, но настроение отличное, да? Давно уже я не видел тебя таким веселым, — продолжал не спеша отец. Но говорил это, казалось, скорей самому себе, потому что, но дождавшись ответа, отставил стакан и вновь принялся за плитку.
— А что тут особенного? — спросил я.
— Особенного? Ничего особенного! — ответил отец и глянул на меня, щуря глаза, будто вот-вот рассмеется. Впрочем, он был серьезен, и я не мог понять, что все это значит и к чему отец клонит. А может, это он просто так?..
Глава 8
Я решил не упускать возможности. Давно мне хотелось спросить его об этом, да все не подворачивался случай. С того самого дня, как отец застал нас с Эльжбетой в парке, этот вопрос не давал мне покоя. И я было уже открыл рот, но произошло неожиданное: отец улыбнулся, встал, подошел ко мне, похлопал по плечу.
— Ой, Юрек, Юрек… Ты уже не младенец. Я и не заметил, как ты вырос. Но не умеешь еще с собственным отцом разговаривать о себе самом, правильно? Ну, скажи: не умеешь?
Я поднял голову и взглянул на отца. Я так хорошо изучил его лицо, что мог бы, казалось, нарисовать по памяти каждую морщинку около глаз… Но теперь я увидел именно в этих глазах что-то совсем новое, чего раньше не замечал, а может, был не в состоянии заметить? Я не мог дать этому названия, да и не пытался. Но почувствовал, что на меня находит странное спокойствие и вместе с тем какая-то грусть… Не знаю…
Стыдно признаться, кажется, вот-вот расплачусь. И я понял: нет на свете такой вещи, о которой я не мог бы сказать сейчас отцу, нет мысли, которую хотелось бы от него скрыть. Я почувствовал себя так, как чувствовал себя еще совсем маленьким мальчиком… Давно это было!
Он по-прежнему улыбался. Может, догадывался, о чем я думаю? Может, ожидал, что я что-то скажу? А может, улыбался по другой причине, улыбался собственным мыслям? Отец снова уселся за стол.
— Я никогда тебя ни о чем не выспрашиваю. Договоримся, что ты сам ко мне придешь первым. С тем, что у тебя наболело…
Он отодвинул разобранную на части электрическую плитку, закурил и спокойно, как ни в чем не бывало, принялся читать газету.
А я задумался над тем, что он сказал. Было в этом что-то очень серьезное. Наверно, он сам придавал своим словам большое значение. А может, мне только показалось, что это так важно? Нет, нет. Да и откуда такая мысль? Точно мне самому не верится, что он видит во мне уже не ребенка, а взрослого человека.
И вдруг на ум пришла Эльжбета. «Пришла на ум» — сказано неверно, я ни на минуту не забывал о ней. Просто я вспомнил о вопросе, который собирался задать отцу. Как раз подходящий момент. Стоит сказать несколько слов, и все будет позади.
— Слушай, я хотел тебя кой о чем спросить… Тогда в парке, помнишь, ты встретил меня с этой девочкой… с Эльжбетой. Я сейчас каждый день с ней встречаюсь… Мы ходим с ней на пруд или ездим куда-нибудь. Она… то есть… я хочу тебя спросить, ты не сердишься на меня за это? Знаешь, так, вообще…
— Так, вообще, говоришь? Тогда я задам тебе «так, вообще» один вопрос, — сказал отец, не отрываясь от газеты. — Есть за что на тебя сердиться? Как ты считаешь? Ведь тебе лучше знать.
Я ответил с такой решительностью, что сам себе подивился:
— Нет! Тебе не за что на меня сердиться!
— Ну так что же? Вот тебе ответ на собственный вопрос. — И отец сложил газету. — Может, хватит на сегодня, Юрек, а? Пойдем-ка слать… Ага, еще одно: завтра я на весь день уезжаю в Катовицы, не забудь пообедать! И собери, пожалуйста, эту паршивую плитку.
— Ладно! Завтра после обеда соберу! — сказал я весело. — Могу еще дров на ползимы нарубить и вообще подмести всю квартиру!
На сердце у меня было так легко, что я с тем же пылом мог бы сейчас согласиться отремонтировать паровоз, не то что электроплитку. Я мгновенно разделся и бросился в постель. Я наблюдал, как отец ходит еще взад и вперед по комнате, и вдруг решил, что должен, во что бы то ни стало должен сказать ему, о чем я думаю в эту минуту… Знаешь, я тебе скажу, вообще-то ты замечательный! Честное слово!
Отец рассмеялся.
— Да? Ну тогда вставай сию минуту вообще с постели и умойся вообще на ночь! И перестань с этими своими «вообще»!
Проснулся я поздно. Легко было вчера сказать: соберу плитку. С этими железками пришлось биться чуть ли не полдня! С одного боку сунешь — с другого выскочит. А когда почти все уже собрал и можно было пробовать, работает ли, зацепился ногой за шнур и плитка грохнула на пол. Спираль с одной стороны снова выскочила, и пришлось начинать все сначала. Не знаю, где это отец выискал такую спираль! Пружинила так, что в матрасы вставлять — не в электрическую плитку.
Конечно, с самого начала я спешил и думал о других вещах. Об Эльжбете, конечно. Еще утром за завтраком я решил, что расскажу ей подробно о нашем разговоре с отцом. Пусть знает, Какой у меня отец. И еще скажу ей то, чего не сказал вчера. Не буду стоять как пень. Да и почему бы не сказать? Чего страшного?..
Когда плитка была в конце концов готова, часы пробили двенадцать. Я зажарил себе поскорей яичницу, чтоб можно было потом с чистой совестью сказать отцу, что пообедал. Подметать в квартире не стал. Я думаю, отец сам понял, что это шутка. И схватил велосипед.
«Она, конечно, уже не меньше двух раз искупалась! Вот, наверно, дивится, что опаздываю… — думал я по дороге. — А может, Толстый тоже там?» Я нажимал изо всех сил на педали и через какие-нибудь три минуты был у пруда, на «английском» берегу. Там купалось несколько человек. Какая-то девушка с парнем каталась на байдарке, но Эльжбеты не было.
Я объехал вокруг пруда. «Может, она около обрыва, со стороны парка?» — подумал я, осматривая все вокруг. Я вел велосипед по берегу, колеса врезались в песок, но я не обращал на это внимания. Эльжбеты по-прежнему нигде не было.
Вдруг кто-то схватил сзади за велосипед, Я повернулся, как на пружинах, — это был маленький Ясь Зимек в длинных мокрых трусах, облепленных песком, он вцепился в заднее крыло. И смеялся. В первый момент я хотел было прикрикнуть на малыша, но потом мне пришло в голову, что сейчас это единственный знакомый человек здесь, на пляже. Он видел меня как-то с Эльжбетой, значит, может ее узнать. Уж наверняка она была здесь, как обычно, в десять часов…
— Ясь, пусти… Послушай-ка! Не видал ты сегодня такой девушки… Мы и раньше вместе ходили, ты еще нас дразнил, помнишь?
— Не помню! — сказал Ясь. — Ты меня прокатишь?
— Прокачу, только скажи: была тут девушка?
— Твоя невеста?
— Ладно, пусть невеста. Была или нет?
— Была! — выпалил Ясь. — Была… Нет, постой… Не была. Знаешь, у меня есть кролик! Но он сдох.
Разговаривай с таким! Была — не была! И еще у него есть кролик, который сдох. Я рассердился и дернул велосипед. Поднял его на плечо и стал карабкаться вверх по склону.
В парке чуть ли не под первым же деревом наткнулся на Толстого, который спал в тенечке. Я тронул его, потряс… Толстый лениво перевернулся на другой бок, заспанный и злой.
— Чего орешь? — спросил он, сердясь, — Ведь я не сплю, я слышу все, что ты мне говоришь!
Я ничего еще не сказал, болван! Что ты мог слышать?! Тогда зачем трясешь, если ничего не сказал? Отцепись, дай. — И он хотел было еще раз перевернуться, но я схватил его за плечо.
— Толстый! Проснись! Говори: была тут Эльжбета?
— Что «Эльжбета»?..
Но постепенно Толстый пришел в себя и, уже проснувшись, сказал:
— Может быть, это я виноват, что ты потерял Эльжбету? Кто должен знать, где она: я или ты?
— Не валяй дурака… Она должна быть где-то здесь, а ее нету!
— Может, она дома. Ты проверил?
— С ума сошел? У Малецких ее искать?
— Почему бы нет? Ты что, никогда там не был? Какой застенчивый! — Толстый изобразил на лице иронию и покачал головой: — Болеслав Стыдливый, да и только!
Я не стал отвечать. Я глядел на Толстого в растерянности, взволнованный, не зная, что делать.
— Слушай, а может, она заболела? — сказал, помолчав, Толстый, теперь уже всерьез. — А? Ты не подумал об этом? У меня тоже ухо болит после вчерашнего купанья. Может, она простудилась?
Я и не подумал, что она могла заболеть. Верно. Совершенно верно.
Ну а если она не больна и все-таки не пришла? Может, поругалась с теткой? Вчера позже обычного я проводил ее домой. Может, Збышек наябедничал?
— Толстый! Пошли туда вместе, а? — попросил я. — Знаешь, как-то неудобно идти одному после этой драки со Збышеком. Пойдешь?
— Черт с тобой! — буркнул Толстый и стал подниматься. — Вот не знаю только, когда высплюсь…
Мы шли через парк напрямик — кто у нас ходит по дорожкам? Парк был старый, запущенный, трава выше колена, стебли наматывались на спицы колес. Толстый цедил сквозь зубы, как бы с трудом:
— Сегодня ночью старик снова пришел под мухой и шуровал до трех! Жить, говорю тебе, неохота!
— Да… невесело… А может, стоит позвать как-нибудь милиционера, если очень уж разойдется? — сказал я. — Может, припугнуть его или как?
Толстый остановился.
— Что ж ты, дурак, что ли? — сказал он с возмущением. — К родному отцу вызвать милицию?
— Если выхода нет…
Мы пересекли одну аллейку, другую.
— Понимаешь, — заговорил снова Толстый, — он, собственно, и скандалов-то не устраивает. Мы с матерью с ним справляемся. Он просто шумит… Ну, представляешь себе, когда отец шумит?
— Нет! Не представляю… Мой никогда не шумит.
— Конечно… — вздохнув, сказал Толстый. — У тебя отец как отец! Мы шли мимо грота с водопадом. Здесь-то мы и собирались начать поиски сокровищ.
Это была искусственная пещера, устроенная из камней на склоне небольшого холма. По камням текла вода. А возле того места, где было отверстие, ведущее в пещеру, образовалось что-то вроде маленького водопада. Раньше здесь был, по-видимому, фонтанчик, вода била тогда на каменной вершинке грота и стекала в бассейн. Но все переменилось, думаю, давным-давно, потому что бассейн превратился в поросшее ряской болотце, а фонтан — в водопад.
— Интересно, в самом ли деле грот соединяется подземным ходом с нашим замком? — сказал Толстый и остановился. — Помнишь, два года назад провалилась земля на рыночной площади, в скверике? Тогда говорили, там подземный ход из замка.
— Какой тебе подземный ход! Отец мне рассказывал: на рыночной площади стояла когда-то ратуша, ее взорвали немцы. А потом рухнул, кажется, свод в старом подвале, вот тебе и яма. Пошли! Не морочь голову! — потянул я Толстого. Но тот не двинулся. Пришлось и мне остановиться.
Откровенно говоря, к этому гроту с так называемым водопадом нас всегда тянуло. Да и не только нас — все мальчишки устраивали сюда экспедиции. О гроте ходили самые невероятные слухи, наверное, потому, что не было толком известно, кто его соорудил, когда и зачем. Приятно, если у тебя под боком что-то таинственное, особенно в маленьком городке. И потому о гроте возникали легенды. Во время оккупации рассказывали, что там сходятся партизаны. Сразу после войны поползли слухи, будто в гроте прячется гестаповец. А потом вампир, поскольку в ту пору в Шленске была мода на вампиров. А когда по всей Польше пошла мода на чудеса, старухи ставили перед гротом свечи и клялись, что им объявляется великомученик, только еще не ясно, какой, поскольку не видно пока головы. Лепишевская, например, до сих пор, проходя мимо грота, на всякий случай крестится.
— Ну что ты уставился? Маленький, что ли?.. — начал сердиться я. — Пошли, стоит ли терять время?
Но Толстый, чуть склонив голову, прислушивался…
— Погоди… Давай заглянем. Там что-то шевелится!
И он стал быстро снимать кеды. Я с пренебрежением засмеялся, но в гроте и в самом деле что-то заерзало.
— Толстый! Это сокровища переворачиваются с боку на бок, ждут, когда ты за ними спустишься. Поумнеешь ты когда-нибудь или нет? Это, наверно, крыса!
В гроте посыпались камни.
— Только не крыса, ладно?!.. — донеслось вдруг оттуда, и в отверстии показался Збышек Малецкий. Он выкарабкался в конце концов наружу — дыра была не очень большая, — прошел под водопадом и стал посреди болотца.
Збышек был весь в грязи и держал в одной руке фонарик, а в другой веревку. Физиономия немного растерянная, наверное, мы застали его врасплох. Он не ожидал встретить нас в этом месте, да и мы его, впрочем, тоже.
Толстый пробурчал;
— Гляди в оба, Юрек, не прозевай… Сейчас, наверно, вылезет и твое сокровище. Видишь, у меня нюх, не зря я тут остановился…
— Какое еще сокровище?
— Не прикидывайся, Болеслав Стыдливый! Сперва теряешь, а потом не желаешь признать. Кто ж там в гроте вместе со Збышеком? Король Локетек?
Странное дело, я тоже был уверен, что из грота покажется сейчас Эльжбета. Едва я увидел Збышека, как эта мысль пришла мне Б голову. Я только притворился, что не понимаю. Теперь ясно: мы с Толстым отказались искать сокровища и Збышек подговорил Эльжбету. Одному-то было, наверное, страшно. Вот почему она не появилась у пруда!
Из грота долетел стук упавшего камешка. Но никто не вылезал наружу. Збышек подошел и сказал:
— Сокровища… Ничего там нет, один мусор. Знаете… Знаешь, Толстый — поправился он, — есть там еще, правда, такой маленький то ли подвальчик, то ли дыра метра два на три… Неизвестно, зачем выкопали… Но подземного хода не видно. Я нетерпеливо его прервал:
— Ты! А где она?
— Дыра?..
— Какая тебе дыра! Я спрашиваю, где Эльжбета?
— Эльжбета? Нет ее… А что?
Он злорадно ухмыльнулся и добавил вроде бы просто так:
— Здесь ее уже нету. Сегодня утром уехала домой. В Варшаву… Я не слышал, что говорил еще Збышек; все равно обращался он не ко мне, а к Толстому. Не выпуская из рук велосипеда, я сделал три-четыре шага в сторону и сел на скамейку. Может, странно, но в тот момент я ни о чем не думал. Иногда это бывает: глаза открыты, пристально смотришь, но видишь только отдельные, не связанные друг с другом и ничего не значащие пустяки. «Воробей скачет по дорожке… ветка колышется… сейчас вон то облачко закроет солнце… из скамейки торчат гвозди…» Отмечаешь все это про себя, но тебе неинтересно, не думаешь об этом.
— Пошли, Толстый! — сказал я наконец, когда он распрощался со Збышеком и остановился у скамейки.
Но Толстый молча уселся рядом со мной и принялся смотреть все на того же воробья, который только что скакал по дорожке, а теперь с ожесточением склевывал что-то на другом конце скамейки.
— Можно и идти. Только куда? — спросил он.
Лишь в эту минуту, только сейчас, когда я понял смысл вопроса, до меня дошло, что Эльжбета уехала. Ну, да… В самом деле, нам никуда не надо идти. Нам некуда торопиться. Я больше не ищу Эльжбету, не волнуюсь из-за того, что она не пришла на пруд, не думаю, чем она занимается… Она уехала сегодня утром, и сейчас она где-то там, в другом городе, в другом месте, которое я даже не в силах себе представить, и делает там что-то такое, о чем я никогда не узнаю. Эльжбеты просто-напросто нету…
— Зацепило, а? Только не говори, Юрек, что не зацепило. Я ведь вижу, что зацепило! — подал голос Толстый.
Не хотелось говорить ни «да» ни «нет», не хотелось говорить вообще. Хотелось только сидеть на скамейке, ведь я уже никуда не спешил, меня никто не ждал.
Толстый не сказал больше ни слова. А когда мы вышли из парка, проводил до самого дома, хоть я не просил его об этом.
Глава 9
Отца не было дома. Это хорошо. Мне не хотелось, чтоб он по моему виду догадался, что у меня что-то случилось. Может, я расскажу ему когда-нибудь об этом, но только не сейчас. Впрочем что рассказывать? Никто мне не может помочь, ни отец, никто на свете.
Да я и вообще не знаю, можно ли такое рассказать. Что, собственно, произошло? Девочка, которая была здесь на каникулах, уехала вдруг домой. Так покажется каждому со стороны. И только для меня это не просто девочка. Теперь я знал это точно.
Вечер еще не наступил, но у меня не было желания выходить из дому. Даже на чердак, к голубям, не хотелось сегодня идти. Я бродил взад и вперед по квартире, брал то одну книгу, то другую. Но меня не волновала судьба их героев. До этих людей мне не было сейчас никакого дела, они двигались по страницам книги, как тени, рассуждали друг с другом о какой-то ничего не значащей ерунде. Было душно, я почувствовал усталость. Бросился на постель и постарался ни о чем не думать, но у меня это не получалось. Больше всего угнетала мысль, что я бессилен, что ничего мне не сделать, ничего от меня не зависит… Но я был уже, кажется, спокоен, не было в горле той проклятой судороги, с которой там в парке, около грота, я никак не мог справиться.
Долго, наверно, я лежал так, глядя в окно на дерево, на котором не шевелился ни один листик… Перед глазами стояла Эльжбета: то у пруда, то на нашем участке, то во дворе за кинотеатром, когда мы мылись у колодца, то на ярмарке, когда она хохотала у лотков, то на велосипеде, когда сказала, что я ей очень нравлюсь. Она казалась мне такой красивой, как никогда прежде. И не только красивой. Но еще и близкой…
Думал я и об отце. В голову лез вопрос: понял ли бы он меня? Было ли и у него когда-нибудь такое же огорчение, как сейчас у меня? И еще, какой он был много лет назад, когда ему было, как мне, четырнадцать? А я… Каким буду я, скажем, через десять лет, через двадцать? Что я буду думать тогда? С кем я буду и где?
И снова явилась передо мной Эльжбета, я слышал ее голос, видел улыбку, там, у пруда, когда она спросила, как я назвал бы шахту. Стало совсем душно, наверно, собиралась гроза. Сортировочная гудела неустанно, однообразно…
Видимо, я уснул, потому что меня внезапно разбудил громкий свист, долетевший с улицы. Было уже темно, я проспал, наверно, часа два или три. Створки открытого окна громко хлопали, поднялся ветер. Издалека слышались глухие раскаты грома. Деревья за окном шумели, небо прорезала молния. И опять тот же громкий свист с улицы…
Я вскочил и зажег лампу. Подбежал к окну, но в темноте было не разобрать, кто внизу.
Юрек? Ты один? — услышал я вдруг. Это спрашивал Толстый. Что понадобилось ему в такое время?
Один… Да ты не кричи, людей разбудишь! — ответил я вполголоса. — Что случилось?
Я подумал, может, что-то произошло у него дома, может, отец опять разбушевался и Толстому негде ночевать. Один раз так уже было, года три назад. Тогда он ночевал у нас.
Я высунулся из окна:
— Что случилось? Почему молчишь?
— Выходи, только поскорее! Спустись во двор! — услышал я в ответ.
Я схватил свитер и сбежал по ступенькам вниз, стараясь шуметь как можно меньше. Было, наверно, уже около десяти.
В первую минуту я вообще ничего не увидел. И только когда глаза привыкли немного к темноте, заметил: кто-то стоит около сараев. Спотыкаясь, пошел в ту сторону. Удивительно, что Толстый молчит. Шутить вздумал, что ли?
— Толстый, это ты? — спросил я. По ответа нет. И я в неуверенности остановился.
И вдруг голос Эльжбеты. Она тихо заговорила:
— Юрек, это я… Он наврал тебе, что я уехала. Мне так неприятно… Юрек!
Я не мог сказать ни слова. Я слушал ее голос, и в ушах стоял нарастающий гул, он превращался в высокий, пронзительно вибрирующий звук. Так бывает, наверно, с человеком, которого силой толкают под воду, не давая вдохнуть воздуха…
Она подошла, стала рядом.
И тишина. Можно перевести дыхание, и пальцы шевелятся без усилия, не как прежде, и не кажется, будто они в густой смоле, и видно все ясно и четко, как в солнечный день. В одно мгновение рушится плотина, и человек слышит как бы с удивлением собственные слова, поток слов…
— Эльжбета, я весь день… весь день думал, что больше тебя не увижу. Скажи, зачем он это подстроил? Я искал тебя везде… Хотел… Помнишь, ты спрашивала вчера, а я… Я тоже хотел, Эльжбета… — выбрасывал я на себя слова, фразы, которые не склеивались друг с другом. Я знал, что хочу сказать, но у меня не получалось…
— Не думай больше об этом. Я здесь… Мне все рассказал Толстый…
— Что может он знать? Эльжбета, он ничего не знает… И ты не знаешь. Я только сегодня понял, что я тебя… я тебя…
Быстрым движением руки она закрыла мне рот.
— Не говори… Ведь я тоже… Так же, как ты!
В одном из окон зажегся свет, яркая полоса упала между нами. Но Эльжбета не отступила, только неторопливым движением перенесла руку мне на плечо, И вдруг подняла голову… Я не видел ее лица, но был уверен, что она улыбается. Она сказала вполголоса:
— Дождь пошел… Какие большие капли! Поздно, мне пора возвращаться…
Мы вышли на улицу, но пришлось вбежать в первые же ворота. Хлынул ливень.
— Придется подождать, — сказал я. Снял с себя свитер и накрыл ее.
Мы втиснулись в самый угол, дождь хлестал наискось, у наших ног росла на глазах большая лужа, вторая, третья…
Разразилась гроза, сверкали молнии, на мгновение становилось светло как днем. Деревья у дороги почти ложились друг на друга, ветер дергал лампочку фонаря, раскачивал ее — и та бросала блики на мокрые сверкающие ветви, на дорогу, на нас.
Теперь мы кричали, стараясь перекричать непогоду:
— Ну, льет… Эльжбета, тебе страшно?
— Нет!
— Слушай, а где Толстый? — вспомнил я вдруг. — Ведь он был там.
— Нет… Он только привел меня сюда и вызвал тебя. Я не хотела одна. А потом он сразу ушел…
— Хорошо, что ушел! — сказал я и улыбнулся. Ей и самому себе.
— Ты не спрашиваешь, где я была весь день?
Вот именно! Мне и в голову не пришло спросить об этом. Теперь, когда она была здесь, рядом, потеряло значение все, что происходило в течение дня, все, что осталось позади.
— Я пришла на пруд, как всегда, после десяти. Тебя не было, и я села на берегу… Вдруг прилетает Збышек, запыхался, тетка его прислала. Пришла телеграмма из дому… Угадай, кто родился?
Некоторое время я не мог понять, о чем речь.
— Юрек, да ведь я рассказывала тебе в саду, еще в первый день… В самом деле. Только теперь я вспомнил об этом.
Она рассказывала, что ее мама ждет ребенка в июле, все правильно.
— Ну и что? У тебя сестра? А может, близнецы?
— Этого только не хватало: близнецы! Желаешь ты мне добра… И вовсе не сестра. К счастью, мальчик!
Откровенно говоря, я ею видел никакой разницы. Мальчик, девочка — не все ли равно?
— …Ну и отец просил в телеграмме, чтоб с двенадцати я ждала на почте, что он позвонит, расскажет. Я с пруда — прямо на почту, почти три часа ждала… Но все в порядке, они здоровы и так далее. После обеда я хотела искать тебя, но где? Я осталась дома и написала маме письмо, в больницу…
Эльжбета задумалась.
— Знаешь что? — сказала она вдруг. — Может, ты не поверишь, но это было первое письмо к ней, первое с того дня, как я приехала сюда…
— Поверю… Я тоже маме ни разу не написал. Не было как-то времени!
— Ой, Юрек! — покачала Эльжбета головой и погрозила пальцем. — Не было времени! Это ты во всем виноват! Видишь, какие мы оба? Пойдем, а? Тетя умрет со страху…
Я выставил голову из ворот, осмотрелся.
— Погоди минутку, скоро успокоится… Она уже уходит, гроза. А весь день было так душно. Ужасный день!
— Неправда! Наоборот, чудесный… Такого еще не было, знаешь? И гроза тоже чудесная! Скажешь, нет?..
— Чудесная? Нравится тебе? Ну так пошли! — Я потянул Эльжбету за собой, и мы выскочили из ворот.
Перебежали дорогу, промчались метров двадцать, еще, еще… Полный мрак и ливень, гудящая стена дождя, сквозь которую пробиваешься с трудом. Мы остановились под деревом перевести дыхание. Я откинул мокрые волосы с ее лица. И вдруг нагнулся и быстро поцеловал ее. Еще секунду назад я не знал, что сделаю это. А чуть позднее уже не решился бы. Я ни о чем не думал, не видел ее лица, не было грозы. Я слышал звенящую тишину. Эльжбета оторвалась от дерева и выскочила под дождь, который хлынул, казалось, еще сильнее. Опять вернулся оглушительный шум, окружил нас со всех сторон, бушевала непогода…
Теперь мы бежали по середине мостовой. Эльжбета ловко перескакивала через большие лужи, а я шлепал по ним своими кедами так, что вода брызгала в разные стороны.
Мы были мокрые, грязные, задыхались от бега.
Ни с того ни с сего я начал смеяться, полной грудью, во весь голос.
— Сумасшедший с мокрой головой! — крикнула Эльжбета. Я догнал ее и схватил за руку. Мы бежали теперь рядом.
И вдруг я услышал: какие-то люди, пережидавшие дождь под балконом у пекарни, громко заговорили:
— Глядите, до чего им весело! Шляются такие щенки по ночам…
— А мать ждет, наверно, дома с ремнем!
Я засмеялся еще громче. «Что вы можете знать о нас?» — подумал я. Крепче сжал ее руку, и мы побежали дальше.
Глава 10
Возвращался я уже не по середине улицы, а перебегал от дома к дому, укрываясь от дождя под балконами и ветвями деревьев, хотя, честно говоря, никакого значения это уже не имело: я и так промок до нитки. Когда я был уже около ресторана, в голове мелькнуло: не зайти ли к дедушке и бабушке — они жили как раз в этом доме. Наверно, еще не поздно, и мне перепадет что-нибудь на ужин. Только сейчас я понял, как я голоден.
Я остановился под большим ясенем, почти напротив ступенек в ресторан. Хотел хоть чуточку причесаться, чтоб бабушка не подумала, что за мной гонится милиция.
Они еще не спали, в окнах был свет. «Сколько сейчас времени? — задумался я. — Одиннадцать, может? Отец, наверное, уже дома. Волнуется, что меня нет…» Я вытер лицо платком. Потом переменил решение: не пойду к дедушке и бабушке. Подумаешь, ужин, выдюжу и так…
Двери ресторана внезапно распахнулись. На улицу вышло несколько человек, а потом и директор с металлической планкой, какую навешивают на ставни. Я очутился в полосе света и невольно спрятался за дерево.
Из дверей пополз папиросный дым. Отсюда казалось, будто в зале туман. Директор ругался вслух, возясь со ставнями.
«Зачем это я здесь стою?» — подумал я. Но не успел сделать и двух шагов, как до меня долетел голос отца.
Он стоял на ступеньках и громко прощался с Холевой. Потом медленно сошел вниз и зашагал по улице. Я поспешно перебежал на другую сторону, не понимая, зачем я, собственно говоря, это делаю. И так, перебегая от дерева к дереву, шел следом за отцом, метрах в пятнадцати позади.
Дождь все лил да лил, хоть, может, уже и меньше. По улице текли ручьи, их все реже освещала мелькавшая на горизонте молния. Это была одна из тех августовских гроз, которые незаметно переходят в однообразный, длящийся часами ливень.
Отец как бы не видел всего этого, не замечал дождя. Он шел серединой той самой улицы, по которой полчаса назад, хохоча во все горло, бежали мы с Эльжбетой, шел очень медленно, чуть пошатываясь, расстегнув пиджак и низко склонив голову, точно считал шаги или пытался понять, куда несут его ноги.
Я знал уже, как мне поступить, что делать. Я выбежал на мостовую и остановил отца. Он не удивился, что я здесь, не сказал ни слова. Мы подошли к дому. На лестнице он тяжело опирался мне на плечо.
Повернув на кухне выключатель, я увидел, что мы оставляем за собой не просто мокрые следы, а целые лужи. Отец снял пиджак, я подал ему полотенце. Не говоря ни слова, он уселся за стол и уставился в одну точку. Меня вдруг затрясло. В жизни я не промокал еще так, как сегодня, но затрясло меня, по-моему, все-таки не из-за этого.
Я приготовил чаю и, лишь поставив стакан на стол перед отцом, набрался смелости глянуть ему в лицо. Это было не то лицо, к которому я привык. Неожиданно я понял, что отец вовсе не так уж пьян, как это казалось там, под дождем, на улице.
— Прими две таблетки аспирина… и ложись, сынок, спать.
Это были первые слова, прервавшие нестерпимо долгое, жутковатое молчание. Первые слова с той минуты, как я взял на улице его под руку.
— Папочка, — сказал я, но в горле у меня был точно горячий песок, Я не мог выговорить ни слова. И отвернулся, чтоб не смотреть ему в глаза, то ли грустные до безнадежности, то ли усталые.
— Иди спать…
Нет. Скажи, что-то случилось? Папочка, у тебя неприятности? Отец опустил голову.
— Какие?.. Скажи, какие?
Он смотрел теперь как бы сквозь меня, куда-то вдаль. Покачал головой. И я понял, что он ничего не скажет. Но все-таки не удержался:
— Папочка…
Он вновь покачал головой.
Когда я лег, часы пробили два. Но отец по-прежнему сидел за столом, глядя все так же в одну точку. В голове у меня гудело, глаза закрывались сами собой, и веки горели. Дождь барабанил по крыше, по стеклам текли грязные струи воды. С чердака доносилось негромкое воркованье голубей, они всегда волновались в ненастье. «Что за день! — подумал я. — Что за день…»
Утром, как это часто бывает после большого дождя, солнце припекало, а воздух был влажным и бодрящим.
Отец стоял у открытого окна, уже одетый, руки заложены за спину. Курил. Мне показалось, он ждет, когда я проснусь. А я, хоть уже и не спал, все лежал с прикрытыми глазами, незаметно за ним наблюдая. И подумал, что он сильно ссутулился, а может, просто наклонился вперед? Я не знал, как мне вести себя, что говорить. Но сколько можно притворяться спящим?
— Доброе утро! Ну и погода! — сказал я громко и как можно веселее, но это прозвучало фальшиво.
Он повернулся ко мне. И хоть не улыбнулся, но это было то самое лицо, к которому я привык. Может, только глаза…
— Два слова, Юрек! — сказал он. — Во-первых, мне очень неприятно, что ты из-за меня так промок, волновался, наверно. Ну да… Короче… извини меня.
— Папа, да ведь я вчера… — И я хотел рассказать ему про Эльжбету и что промок еще раньше, пока мы бежали с ней по городу в самый ливень. Хотел остановить его, чтоб он не говорил со мной так, таким тоном, словно добивался оправдания.
— Не перебивай! Я знаю, что ты думаешь, Юрек, — продолжал он спокойно, — Но ничего не попишешь, я должен попросить у тебя извинения. И еще одно: давай договоримся — это останется между нами, ладно?
— Конечно! — сказал я, хоть, говоря откровенно, не очень-то понимал, что, собственно, он имеет в виду. И потом я еще пробурчал, но уже, кажется, без необходимости: — Ничего не случилось… такой ливень…
Он улыбнулся, печально как-то, и, не сказав больше ни слова, вышел из комнаты.
Я побежал к окну и, когда отец показался на улице, спросил, куда он.
— На шахту, часа на два. На моем участке неполадки.
— Так ведь у тебя отпуск, а? А ты все сидишь на шахте, целыми днями.
— Небольшая авария! Надо туда сходить… А дома? Что мне делать дома?
Я приготовил себе завтрак и не спеша за него принялся.
В голову лезли всякие мысли. От них было не отделаться. Все возвращались и возвращались. Отец ведет себя не так, как раньше. И еще эта вчерашняя история… Что он от меня скрывает?
Сказал, что у него неприятности. Нет, не сказал, но ведь это и так ясно, я это понял. Имеет ли это отношение к шахте? А может… Может, мама почувствовала себя хуже, может, с ней что-то случилось?
Как, собственно, обстоит с ее болезнью? Что это вообще за болезнь, что-то серьезное? О поездке в санаторий заговорили так неожиданно, перед самыми каникулами… Письмо от мамы пришло уже давно, наверное, больше двух недель. А я и не спросил, что было в письме. И он сам не сказал ни слова. «Надо написать маме! Сегодня или завтра! Узнаю у отца адрес и напишу!» — решил я.
Чувствовалось, что недавно прошла гроза, что долго лил дождь. Валялись обломанные ветром сучья, в низинках стояли лужи, водостоки были забиты грязью, листьями.
На мосту я встретил Ирку. Хотел пройти мимо молча, но Ирка остановилась и заговорила со мной первая:
— Зенек прислал письмо и снимки. Через два-три дня приедет.
— Уже? — удивился я. — Так быстро!
— Быстро? Так ведь август… Десятое число. Наверно, это только у тебя так летит время!
Я посмотрел на нее, но ссориться не хотелось.
— Юрек, я уже могу отдать тебе книжку, эту… из серии «золотого тигра».
— Ну так отдай. Прочитала?
— Отдай! Когда? Тебя все время нет дома…
— Ну… Тоже сказала! Принеси вечером. — И я хотел было уже идти, но Ирка приподняла большую сумку, которую держала в руке.
— Хочешь яблочка? Только что купила, очень хорошие.
— Ну давай. Можно два?
— Бери два! — улыбнулась она. И вдруг сразу: — Юрек, я хотела тебе сказать, этот солдат, это сын моей тети. Он тут в Шленске служит, за Катовицами. В увольнение приехал.
— Какой солдат?
— Не помнишь? Ну, тот, на ярмарке, в тире…
— Ах, этот… образцовый стрелок! — вспомнилось мне. Зачем она говорит мне это?
Я пожал плечами.
— Ну и что из того, что сын тети?
— Ничего. Я хотела тебе сказать. Чтоб знал.
— Мне-то какое дело? Все болтаешь да болтаешь…
Ирка как-то сразу нахмурилась, а может, смутилась, потому что потупила голову.
— Ирка, слушай, а где же Зенек? Из лагеря он собирался вернуться в конце июля, так?
Она немного оживилась, но глянула на меня, кажется, с недоверием.
— Ты что, не знаешь? Он тебе ни разу не написал? Быть не может!
— Очень даже может. Чего это ему писать? О харцерском лагере рассказывать, что ли? Да и о чем писать из лагеря? Домой написать — другое дело. Денег попросить…
— Вот именно…
Это меня удивило. Ирка что-то знает, но не хочет сказать. Что натворил Черный?
— Говори, мне некогда. Где он сейчас? Куда поехал из лагеря?
— Официально-то он на каких-то харцерских курсах. Написал в середине июля, чтоб мать послала ему пятьсот злотых: после лагеря он, дескать, уезжает на три недели на курсы… Ну, мать и послала.
— Что значит «официально»? А неофициально? Чего ты, собственно, крутишь?
— Кой о чем догадываюсь. Но говорить не хочу. Пусть сам тебе расскажет, когда приедет. Ведь вы такие друзья! — И она состроила гримасу. — Друг, а ничего не знаешь…
Ужасно разозлила меня эта соплячка. Что она воображает?
— Можешь быть спокойна, мне он все расскажет! И не морочь голову.
Едва я сделал два шага, как за спиной послышалось:
— Юрек, почему это мы с тобой всегда ссоримся? Ведь…
— Потому что ты дура! — крикнул я ей. — Дура набитая! Эльжбету я встретил в парке, невдалеке от теннисных кортов. Она уже возвращалась с пруда. Она остановилась, заложила руки за спину и грозно на меня посмотрела. Я рассмеялся.
— Знаешь, ты похожа сейчас на Зонтика!
— На что?
— На кого, а не на что. Зонтик, он был учителем географии и истории. Рассказывал нам всегда разные удивительные вещи. А когда спрашивал на отметку, то стоял вот так же, как ты сейчас. Только он почти лысый!
— Это ты сейчас будешь лысый, вот что! Все волосы у тебя повыдергаю. Ты чего это опаздываешь? Да еще сегодня! Двадцать минут жду.
— Вот тебе за это яблочко! — сказал я и вынул из кармана одно из яблок, взятых у Ирки.
Мне показалось, что Эльжбета чуточку бледная, может, не выспалась, А может, простудилась вчера? Я спросил у нее. Но она помотала головой.
— Я плакала сегодня утром. Из-за тебя! Почти целый час.
— Из-за меня? Что ты говоришь!
— Пошли на корты, сядем, посмотрим, как играют. Потом расскажу…
Сегодня было больше желающих поиграть в теннис, чем обычно. Корты, собственно, почти не использовались. В нашем клубе «Гурник» есть вроде бы теннисная секция, но в ней состоит всего несколько человек, так же, как в секции фехтования. Это трудные виды спорта: годами можно тренироваться и ничего не добьешься. Толстый взялся как-то за фехтование, но ему тут же объяснили, что у него замедленная реакция. Отец играл, кажется, раньше в теннис, но без особого успеха, разве что научил меня подсчитывать очки. И на том спасибо, по крайней мере видишь, кто выигрывает, и не глядишь как баран на новые ворота.
Когда мы пришли, на двух кортах уже играли. На третьем натягивали сетку. Двое парией из техникума — я знал их в лицо — с усилием крутили рукоятку, которая пронзительно скрипела. Девушка у скамейки снимала свитер. И только когда она обернулась, я узнал ее и громко фыркнул. Борунская, из нашего класса. Тоже мне теннисистка!
Они заметили нас я стали о чем-то совещаться. Когда мы устроились на соседней скамейке, к нам подошла Борунская.
— Простите… Юрек, твоя девушка не играет? — и она указала подбородком на Эльжбету. — Нам не хватает партнера для смешанной пары.
— Смешанная пара! Когда это ты таким словам научилась? А что такое смешанная пара? — Меня разбирал смех и злость в то же самое время, из-за чего — не пойму.
— Это когда партнер и партнерша с каждой стороны, — объяснила Эльжбета. — Я немножко играю, но…
— Ну так иди, сыграешь с нами! — крикнул один из парней. Они бросили крутить в конце концов рукоятку, сетка была натянута. — У нас есть запасная ракетка, вон лежит.
— У нее нет времени, — буркнул я, может, и в самом деле не к месту, но мне не хотелось, чтоб Эльжбета с ними играла. А я что, сидеть буду? Да еще мы собирались поговорить…
— Почему нет времени? — удивилась Эльжбета. — Что ты болтаешь?
— Ревнует, — заметила Борунская.
«Идиотка, — подумал я про нее с досадой. — Зачем только мы сюда пришли?»
— Ну, играй, если хочешь…
— Спасибо за разрешение! — улыбнулась Эльжбета, сделала глубокий реверанс, взяла со скамейки ракетку и выбежала на корт.
Борунская глянула на нее и сказала мне вполголоса:
— Девчонка что надо. Где это ты такую подцепил? Кто бы мог подумать — ты?! Мир меняется… А Ханка Карбовская два года за тобой бегала, ты даже не заметил, а?
— Отцепись со своими замечаниями! «Теннисистка»! Хотела играть — играй!
Глава 11
Не раз у же приходили мне в голову такие мысли, но сейчас, пока я смотрел за игрой, было время подумать хорошенько. Взять, к примеру, Борунскую. Знаю ли я ее? Попроси кто-нибудь рассказать о ней, у меня и двух фраз не наберется. А как насчет других ребят из класса? Все мы сходимся на несколько часов в школу вот уже семь лет. И ничегошеньки друг о друге не знаем. Мама спрашивала меня иногда о классе, о том, какие у нас новости, о товарищах. Я что-то ей всякий раз сообщал, но это были ничего не значащие пустяки, и уже на следующий день все забывалось. А через месяц, через год?.. Каждый в школе знает по-настоящему только трех-четырех человек. Я мог бы насчитать сейчас немало девочек из класса, да и ребят тоже (но меньше), с которыми, если вспомнить, не разговаривал месяцами. Не верится — больше чем месяцами.
Борунская… Могу поручиться головой, что в седьмом классе я не сказал ей ни слова. Да и она мне тоже. В шестом, а может, в пятом Черный подставил ей ножку в дверях, и получился скандал. Почему я запомнил? Потому что Черного вызывали к директору, только из-за этого. Но если б тут был замешан не Зенек, а кто-то другой, это забылось бы через два дня. Вот и все про Борунскую. Сидела она около окна. Ага! И отец у нее милиционер… Что еще? Однажды она написала дурацкое сочинение о грибах, и весь класс выл от смеха.
В середине июля, приехав от дяди из деревни, я горевал, что придется просидеть вес каникулы одному в городе. Одному — это значит, без Зенека, Збышека, без Толстого. Будь в городе весь класс, я б и тогда посчитал, что я один. Пришло бы мне в голову идти, скажем, к Борунской и спрашивать: «Борунская, пойдешь на пруд?» Я и по имени-то ее никогда не звал, только по фамилии. В нашем классе обращались друг к другу чаще по фамилии.
А ведь для этих двух парней из техникума она не какая-нибудь там Борунская у окошка, нет, она… Может, для одного из них она значит не меньше, чем для меня Эльжбета? Ведь она хорошенькая. А там, в классе, никто этого не замечал или, может, за каникулы она так сильно изменилась? Вряд ли. Может, она очень славная девчонка, гораздо лучше других? Но это как-то никому не приходило в голову, верней, не приходило в голову мне. Странно… Да и не в Борунской тут дело, с остальными то же самое. Значит, каждый из нас для разных людей совсем разный? Для одних он существует, для других его нет? Или: для кого-то он существовал и перестал существовать, исчез, провалился сквозь землю… Как для меня сейчас Збышек. А Борунская… Не было ее, и вдруг появилась: играет с Эльжбетой в теннис, они переговариваются, смеются. Выходит, она существует и для меня.
Странно как-то… Только мне приходят в голову такие мысли или у других тоже бывает? И такие и похожие мысли о самых разных вещах, о которых не говорят ни в школе, ни дома, вообще не говорят никогда ни с кем…
— Ты не скучаешь, Юрек? Может, сердишься?
Это Эльжбета. Она стоит возле; скамейки, помахивает ракеткой, раскрасневшаяся, веселая. Я улыбаюсь:
— Нет, почему же? Я сижу, думаю…
— О ком?
— Думаю, почему сегодня утром ты плакала?
— Не стоит и вспоминать! Тетка устроила мне головомойку: шляюсь, мол, ночью по улице, в грозу, неизвестно где и неизвестно с кем…
— Збышек не наябедничал, с кем?
— Видимо, нет. Он делает сейчас аквариум, собирается разводить рыбок. Занят по горло! Со мной вообще не разговаривает! Да оно и лучше. Но с теткой случилась истерика! И утром я плакала. Нарочно, чтоб она меня пожалела…
С корта крикнула Борунская:
— Эльжбета, сыграешь еще?
— Немножко устала. Пусть они теперь сыграют между собой! Иди, Ядя, посидишь с нами…
«Ну вот, пожалуйста… Она знает ее уже лучше, чем я! — пронеслось у меня в голове. — А через минуту окажется, что я знаю Борунскую лучше, чем Збышека… Так зачем они были нужны, эти семь лет? Забавно, все меняется так быстро, что не поспеваешь…»
— Витек хорошо играет, правда? — спросила Борунская, словно желая этим похвастаться.
— Витек, это который? — поинтересовался я.
— Да вон слева… Не помнишь его? Два года назад он кончил нашу школу. Еще выступал со стихами на торжественных вечерах, не помнишь? Собирался стать актером.
— Ага, — буркнул я, но совершенно не мог его припомнить. Я никогда не слушал стихов. На вечерах мы с ребятами играли в «балду» или в «морской бой». Только когда раздавались аплодисменты, мы тоже били посильней в ладоши и орали «Бис!».
— Что он теперь делает?
— Учится в Домброве Гурничей, в этом большом техникуме. Я тоже иду туда с сентября…
— Какой это техникум? — спросила Эльжбета.
— Горно-металлургический, я поступила на механический факультет.
Я посмотрел на Борунскую с сомнением. Наверно, потому только и пошла, что там учится этот парень… Она? На механический?
— Зуля тоже там, знаешь? Вместе со мной…
— Какая Зуля?
— Техомская. А Ванда Липник в Катовицах, в училище технической эстетики.
Меня нисколько не интересовало, кто из них куда подался. Но надо ж было о чем-то говорить. И мне пришло в голову, что я даже не знаю, куда будет ходить с сентября Эльжбета… Выручила меня Борунская:
— А ты, Эльжбета?
Я в общеобразовательную, в лицей.
Те двое, видно, тоже устали, потому что бросили игру и подошли к нам.
— Что это вы о лицее? — спросил один из них. — Каникулы, а они о школе!
— Да это мы так… — сказала Борунская. А потом, помолчав, Эльжбете: — А ты где живешь? Ты откуда?
— Из Варшавы…
— Из Варшавы? — заинтересовался Витек. — Кто б мог подумать… Я был там раза два. Неплохой городишко, даже металлургический завод есть! Только давка в трамваях. И все куда-то спешат, неизвестно зачем… Пошел я как-то на матч. Польша — США. Хороший стадион, почти как в Хожове!
— Хотела бы я жить в Варшаве, — вздохнула Борунская.
Я почувствовал себя вдруг не в своей тарелке, сам не знаю почему. Может, потому, что они не обращались ко мне и, разговаривая, смотрели только на Эльжбету. А может, потому, что она сейчас была какой-то другой, не такой, как со мной и с Толстым. А еще Борунская со своими вопросами. Самое лучшее — встать да уйти, только я не знал, как это сделать. Ну и не знал еще, пойдет ли за мной Эльжбета.
Она вся сияла, точно этот дурацкий разговор доставлял ей удовольствие. Вела себя как-то неестественно. Нет, наверно, мне это казалось. Но я уже понял: мне не по сердцу, если рядом с ней парни постарше. Я сердился и раньше, если кто-то заговаривал с ней, пробовал знакомиться на пруду. Почему она без конца улыбается? Не лучше ли прекратить этот разговор и вместе со мной уйти отсюда?
— Слушайте, у меня идея, — сказал один из парней. — Пошли купим мороженого, у меня две десятки, хватит!
Я поднялся, теперь уже без колебаний.
— Привет! Мне пора домой.
— Почему домой? — спросила Эльжбета. — Ведь еще рано.
— Забыл молоко на плитке, думаешь, убежало? — пошутил Витек.
— Вот именно! — ответил я. — Что-то вроде этого… — И зашагал к выходу.
За оградой, у калитки, меня догнала Эльжбета. Минуту мы шли рядом, не говоря ни слова. Потом она принялась смеяться. Сперва хихикала, а потом разошлась вовсю. Я остановился. Она тоже.
— У тебя будет икота. Над чем смеешься?
— Над тобой. И над ними тоже!
— Почему над ними?
— Потому что я уговорилась с ними завтра на корте. Скажем, в двенадцать…
— Ага… — сказал я, и дыхание у меня перехватило. Она подошла ближе.
— Юрек, ты глупый, знаешь?
— Не знал. Спасибо!
Эльжбета снова принялась хохотать.
— На здоровье! Теперь, по крайней мере, знаешь. Пошли! — потянула она меня за руку. — Пройдем здесь, через парк.
А минуту спустя, когда мы очутились у грота с водопадом, она сказала:
— Знаешь, где мы будем завтра в двенадцать? Мы поедем на велосипедах к замку. Не прихватить ли с собой Толстого? Или нет. Поедем одни. Может, встретим там Казика?
— Какого тебе еще Казика?
— Великого. Ведь это он построил замок в Божехове. Казимир Великий. Так, по крайней мере, я в школе учила.
— Это хорошо, что учила, — буркнул я и улыбнулся, хоть улыбаться не собирался. Просто не мог сдержаться.
Мы сели на скамейку возле грота. Как раз напротив. Может, эта была та самая скамейка, где сидели вчера мы с Толстым? Эльжбета думала, видно, о том же.
— Слушай, Толстый мне сказал, будто это было так: Збышек вылез из той вон дыры, а ты спросил, где я. И тут он тебе наврал, что я уехала, правда?
— Да. А почему спрашиваешь?
— Я скажу тебе, только не смейся. Не будешь смеяться, ладно? Так вот, ночью, когда я засыпаю, мне вспоминаются разные вещи — то, что было днем. И разговоры тоже… Глаза у меня закрыты, но я все вижу, как в кино. Вижу то, что мне хочется видеть. Смешно, правда?
— Нет. Я тоже так делаю. Но не всегда. Чаще засыпаю сразу. А вот Толстый может уснуть в течение минуты, в любое время дня. Отец говорит, в армии ему это пригодится. Эльжбета!
— Что?
Но я ничего не сказал. Она тоже задумалась. Подняла камешек, бросила перед собой, взяла со скамейки оструганный прутик, оставленный тут, наверно, каким-нибудь ребятенком, принялась его разглядывать.
— Странно это…
— Что странно?
— Все. Сам хорошо знаешь. Когда читаешь об этом в книгах, все выглядит по-другому. Или в кино… Как знать, может, и не по-другому…
— Помнишь, как мы вчера бежали в грозу? — рискнул я спросить. — Сперва стояли под воротами. А потом…
— Молчи. Знаю, о чем ты вспомнил.
— Сердишься на меня?
— Нет…
Эльжбета не переставая чертила палочкой круги на песке, квадраты, зигзаги. Долго не поднимала головы. Сидела так, точно меня здесь не было. Почему? Трудно понять ее, странные эти девочки.
— Эля… — обратился я к ней и осекся: она взглянула на меня почти со злостью..
— Что это взбрело тебе в голову? Не смей называть меня Элей. Не называл и никогда не называй! Эля… Элюня… «Эля, надень кофточку, свежо!», «Элюнька, зачеши по-другому волосы, в школу так не ходят…», «Эля! Как ты говоришь? Как хулиган. Что это значит: влипла на матёме? Ты хочешь сказать: я получила двойку по математике, не правда ли?», «Элюша, вымой после обеда посуду…»
— Кто это так говорит? — прервал я ее.
— Мама так говорит. А отец зовет меня «Элек» или просто «Элька» — Элька то, Элька се…
— А мальчишки?
— Какие тебе еще мальчишки?
— Ну там, у вас в классе… товарищи…
— Ты что, не знаешь, как с нами разговаривают мальчишки? Низко кланяются и говорят всегда: «Здравствуйте, барышня», «Большое спасибо, дорогая одноклассница», «Чем могу помочь, мой ангел?» Такие слова, как, например, «Вали отсюда, дура!», мы знаем, разумеется, только из книг. Разве не так?
— Если желаешь, могу тебя звать «мой ангел»…
— Обойдусь! — Она поднялась со скамейки и стала снимать сандалии.
— Что ты делаешь? — удивился я.
— Хочу заглянуть в грот, ладно? Что там, собственно, внутри? Мы подошли к болотцу.
Шаг за шагом Эльжбета осторожно пересекла его. А я стоял на дорожке и, как вчера, глядел на вершины деревьев, которые слегка покачивались, на проплывающие облака. Снова по дорожке скакал воробьишка, а по камням грота катилась не спеша никому не нужным водопадом вода. Но сегодня я смотрел на это иначе, — все было другим. Выходит, одно и то же — это каждый раз что-то другое?
Эльжбета заглянула в грот и попятилась.
— Нет! Не полезу, там темно! Одна боюсь… — И вернулась.
Глава 12
День был хороший, пока не привел с собой вечера, а вместе с ним и моего вопроса. Простого вопроса насчет маминого адреса…
После ужина я достал недописанную тетрадь, вынул конверт и ручку, расположился за столом. Отец не спрашивал, что я делаю, он читал «Желтого тигра». Наверно, Ирка принесла книжку, пока я ходил на чердак засыпать голубям зерно. Последнее время я мало ими занимался, чаще, по-моему, с ними возился отец. «Может, показать их как-нибудь Эльжбете? — мелькнуло в голове. — Вылупились птенцы, девочки любят такие вещи. Вот только захочет ли прийти?» Я принялся за письмо.
О чем писать? После трех-четырех строчек все мысли пропали. Когда уезжаешь из дому, писать проще. Если сидишь дома, неизвестно, о чем сообщать. Но еще одна, еще две фразы, и страничка все-таки дописана.
— Дай мне конверт с адресом! — сказал я отцу. — С адресом того санатория, где мама…
Отец отложил книгу и уставился на меня.
— Ты это о чем?
— Конверт. Письмо, которое прислала мама.
— Зачем тебе конверт?
— Сам видишь, я написал письмо! Теперь мне нужен адрес.
— Ага, тебе нужен адрес, — буркнул отец, словно только сейчас понял, в чем дело. Сунул руку в карман, в другой… — На!
Я взял конверт, перевернул, чтоб найти адрес отправителя. Пробежал взглядом и тут… Тут прочитал еще раз, вслух, слово за словом, не веря собственным глазам.
— Как же так? Ведь это адрес тети Ванды, правильно? Значит, мама не уехала в санаторий? Ты знал об этом?
Отец смутился. Не глядя на меня, протянул руку за конвертом.
— Знал. Она у тети Ванды. Но ведь тетя живет в Отвоцке! В санатории или у тети — какая разница? И там и там один и тот же воздух, правильно?
— А вы сказали, мама едет в санаторий. Почему?
— Ты уже переписал? Отдай письмо.
— Я спрашиваю, почему вы так сказали? У мамы что-то с легкими? Это серьезно?
— Да, легкие… Ничего серьезного. Отдохнет, подышит воздухом… Не огорчайся!
— А когда она приедет? Когда вернется?
Отец посмотрел на меня. Он смотрел долго и наконец тихо сказал:
— Не знаю. Может, через месяц, два… В общем, через какое-то время…
Я встал из-за стола. Взял письмо, которое только что написал, порвал.
— Что ты делаешь? — резко спросил отец.
— Ничего. Напишу другое. Если она не в санатории, напишу другое. Это не годится.
Я пошел на кухню выкинуть клочки бумаги. И внезапно ощутил страх. Что он от меня скрывает? Уехала вроде бы в санаторий, всем и всюду об этом рассказывали. А живет у тети Ванды. Само собой, воздух что в санатории, что в Отвоцке, но… но в чем все-таки дело? Мне показалось, будто над головой собираются тучи. Ведь хороших вестей не скрывают.
Когда я вернулся в комнату, отец по-прежнему читал книгу. И я спросил как можно спокойнее:
— Слушай, а что мама писала тебе, ну… в этом письме?
— Ничего особенного. В основном о тебе. Беспокоится, как мы тут справляемся. Просит поцеловать тебя. Разве я не говорил?
— Нет! Об этом письме ты не сказал мне ни слова!
Он будто не слышал моего ответа. И в этот вечер мы с ним больше не разговаривали. Но тишина в квартире стояла напряженная, слишком много было незаданных вопросов, несказанных слов. В такой тишине одна минута превращается в невыносимых пятнадцать минут!
На следующий день я встал очень рано. Проснулся в шесть и не мог больше заснуть. Встал и потихоньку оделся. Отец еще спал.
Я пошел на кухню, закрыл за собой дверь и написал длинное письмо, такое длинное, что сам себе подивился. До сих пор не было у меня письма длиннее, чем на двух сторонах тетрадного листка. На почту я пришел раньше восьми, пришлось немного подождать, пока не откроют окошечко. Я послал письмо экспрессом. Через пять-шесть дней должен прийти ответ. Что она мне напишет? Как ответит на все мои вопросы? Когда я вернулся, отец сидел за завтраком. Он был в отличном настроении, а может, просто притворялся.
— Принимаюсь за стирку! — весело крикнул он. — Рубах пять уже скопилось. Перекуси — и в магазин за порошком. Где ты пропадал?
— На почте. Я послал письмо.
— Да? Это хорошо. А я уж было подумал, что ты со своей девочкой в такую рань встречаешься.
Зачем он это? Ни разу еще не говорил про Эльжбету. Почему именно теперь об этом? Может, дает мне тем самым понять: у каждого свои тайны, ведь и я говорил ему не все, а он тем не менее не спрашивает… Нет, чушь. Что это лезет мне в голову?..
— С Эльжбетой? Нет. С ней и с Толстым мы встречаемся всегда в десять, на пруду.
— Понятно… — И отец улыбнулся. — Только что был тут Толстый, сказал, что не видел тебя вчера целый день. Принеси мне порошок и отправляйся к нему. Он будет ждать около своего дома.
Польная улица, где жил Толстый, называлась так не зря. Это была улица на окраине города, рядом с полем, усеянным грудами камней. Не знаю, проезжала ли по ней хоть раз в месяц машина; ребятишки играли здесь стайками на мостовой.
Толстый сидел на краю тротуара около дома и забрасывал то и дело увесистый камень, который его сумасшедший пес тут же ему приносил. И так полдня — собака неутомимая. Я поднял с земли прутик и крикнул:
— Ландыш, ко мне! Хоп! Ну, хоп!
Я держал прутик не выше чем на метр от земли, но овчарка не пожелала прыгать. Подбежала, завиляла хвостом — и все.
— Хорошо, что ты пришел! Наконец-то! — буркнул Толстый.
— Слушай, что с собакой? — обратился я к нему. — Гналась, помню, за курицей, перемахнула через двухметровый забор. А через прутик не хочет.
— Потому что собака умная. Чего ей ни с того ни с сего через прутик скакать? Ты б стал скакать на ее месте? Не заговаривай мне зубы. Не для того я тебя больше часа жду!
— Ждешь!.. Будто сам с ней только что не играл. Скажешь, нет? — И я уселся возле Толстого. — Чего огрызаешься?
— Это не игра… Надо согнать с нее жир, она стала толстеть. Пора погонять ее немного. Отцепись, в конце концов, от собаки! Ни о чем другом не говоришь!
Толстый был явно не в духе. Я, конечно, не знал, что случилось, но спрашивать не стал. Все равно вопросами из него много не выжмешь. Лучше подождать, пока сам не скажет.
— Дурацкая, знаешь ли, история… — начал наконец Толстый. — Встречаю это я вчера вечером нашего старика, он тут рядом живет, дома три отсюда…
— Какого старика?
— Ну, Зонтика. Идет с ведром за водой, к колодцу, в пальто, понимаешь? Август, а он в толстом пальто с поднятым воротником. Я подошел, говорю: «Воду вам могу принести…» А он странный какой-то, понимаешь? Только потом догадался, что у него температура… Жаром от него так и пышет!
— Надо было спросить, что с ним такое, а не догадки строить. Толстый глянул на меня и покачал головой.
— Ишь шустрый какой… «Надо было спросить»!
Он замолк и уставился на ребятишек, копошившихся на мостовой. Наконец встал. Я тоже.
— Ну и что будем делать?
— Да с чем делать? Ты говори по-человечески! — рассердился я.
— Когда я ему, понимаешь, принес ведро, он сказал, что лежит так уже несколько дней. И чтоб утром я заглянул, если нетрудно. Он собирается кой о чем попросить. Он живет один!
— Один? Такой старый? Сколько ж ему в общем лет?
— Много. Может, семьдесят… Но он один. Ты об этом не знал?
— Откуда мне знать? Ну, пошли, зайдем! — И я направился к дому, где жил старик. Но Толстый не двинулся с места. Остановился и я.
— Не ходи, нет смысла… Я только что оттуда. Он почти без сознания. Он и на ночь-то не запирался, дверь была открытая. Дышит тяжело, еле говорит. Врача бы надо! Что будем делать?
Я знал не больше, чем он. На шахте есть поликлиника, но врач с шахты не придет, потому что там лечат только рабочих. «Скорой» у нас нет, не позвонишь. Остается больница. Теперь до меня дошло, отчего это Толстый такой злой: попалось нам ни с того ни с сего чужое дело, да еще какое! Кому это нравится? Тут, пожалуй, не отвертишься…
Толстый подумал, наверно, то же самое. Тихонько выругался и сказал:
— Дернуло меня встретить его вчера у этого колодца…
Тут мне стало не по себе. Мы взглянули друг на друга. Толстый закусил губу, но сказанного не вернешь. Я был в более выгодном положении: он сказал то, что думал я, но сказал-то все-таки он… Мы направились в поликлинику. Это было неблизко, но мы не проронили ни слова, пока шли через город. И только перед самым входом Толстый дернул меня за рукав и пробурчал:
— Юрек, я не то хотел сказать… Ты неправильно меня понял!
— Ясно, не то… — поспешил я с ним согласиться. Оба мы знали, что врем друг другу.
Перед окошечком в регистратуру очередь. Ждать пришлось больше получаса: никому и в голову не пришло пропустить нас вперед. Наконец я очутился с глазу на глаз с девушкой в окошечке. «Фамилия… имя… возраст… адрес…» — выбрасывала она из себя, как автомат. Толстый мне подсказывал, и с этим мы как-то проскочили.
И тут вопрос:
— Чем болен? Прошу страховую книжку.
— О боже! — простонал Толстый. — У нас нет страховой книжки…
— Что значит нет? — закипятилась девушка. — Не морочьте мне голову, без книжки визит к больному не регистрируется! Следующий!
Я просил, объяснял, что это важно, что старый человек, учитель. Вцепился в окошечко, потому что люди стали меня оттирать. Кто-то сзади кричал, чтоб я не занимал места. Поднялся шум.
Девушка все не унималась:
— Мне все едино, что пекарь, что учитель! Каждый должен иметь страховую книжку!
— Тоже мне цаца! — громко сказал какой-то мужчина, который стоял позади меня. — Ей, видите ли, все равно — учитель или нет… Будто сама никогда не ходила в школу.
Она это услышала. Даже высунулась из окошечка.
— Вы пьяный! — завизжала она. — Выйдите отсюда вон!
От него и в самом деле попахивало, может, пива выпил, а может, не только пива. Теперь все сосредоточилось на нем. Минуту спустя явилась старшая медсестра, и в конце концов дело было улажено: вызов приняли, врача обещали прислать около шести вечера. А того мужчину выдворили из поликлиники, не пожелали с ним даже разговаривать.
— Гляди, Юрек, сами люди его выгнали! — сказал Толстый, когда мы вышли наконец на улицу. — Сами люди…
У меня тряслись руки, и я смотрел на них чуть ли не со страхом, никогда еще у меня такого не было. Я невольно сунул руки в карманы, стараясь унять дрожь. Было стыдно самого себя. Странное это чувство. Впервые в жизни оно овладело мной, ошеломило.
— Ну, ты очень-то не расстраивайся… Было и прошло. Ты что, жизни не знаешь? Этот дядя еще на ней отыграется. А не он, так кто-нибудь другой. Получит воображала! На всякого управа найдется… — И вдруг Толстый стал громко смеяться: — Юрек, да ведь это ж наш Зонтик говорил так в классе, а? «На всякого управа найдется!» Жаль старика, хороший был…
— Ты всегда говорил: «Старый зануда, пилит, как ржавая пила…» — вспомнилось мне. — Так что не рассыпайся.
— Грозный был старик… А ты его не боялся?
Толстый говорил что-то еще, но я не слушал. Мне пришло в голову: не много мы здесь добились. До вечера далеко. А что, если Зонтик не может ждать до вечера? Я взглянул на часы — скоро одиннадцать. Минуточку… Одиннадцать? И только тут я вспомнил: ведь Эльжбета ждет меня уже почти час! В двенадцать мы собирались ехать с ней на развалины замка… Что делать? Глупейшее положение!
— Ты прав, врач в шесть вечера — это, наверно, не лучший выход! — согласился Толстый. — А что делать? Как-никак мы его вызвали, сделали все, что в наших силах. Лучше, чем ничего. Ага, я забыл тебе кое-что сказать…
— Что еще?
— Мне, понимаешь, придется с тобой расстаться. Нам с матерью надо ехать в Сосновец, покупать мне костюм. Скоро начало учебного года… техникум и все прочее. Надо ж мне прилично одеться, не пойду ж я в штанах по колено в техникум!
Я остановился как вкопанный. Злость меня душила… Значит, бросает меня здесь, а сам — в Сосковец. Ловко! А что мне делать со стариком?
— Толстый! — сказал я. — Знаешь ли…
— Честное слово, Юрек, мне надо ехать! — стал бить себя в грудь Толстый. — Мать и так, наверно, уже сердится. Она специально взяла отгул на сегодня… Надо ехать! Ты что, не веришь, да?
Конечно же, верил. Только признаваться не хотелось. Не мог примириться с мыслью, что остался один с делом, которое выглядело теперь и хуже и трудней, чем вначале. Почему именно я? Он затеял, а свалил на меня. У меня в конце концов тоже свои неприятности. Мне вспомнился и вчерашний разговор с отцом, и письмо к маме, которое я написал сегодня утром. Да и Эльжбета ждет… Что она подумает, если я вдруг не приду? А если она пойдет на корты? Ведь она договорилась с этими ребятами и с Борунской. А Толстый едет себе за костюмчиком как ни в чем не бывало!
— Проваливай в свой Сосновец, а меня оставь в покое! — вырвалось у меня, может, и слишком резко. — Привет!
— Юрек, да ты пойми… — кричал мне вслед Толстый. — Да ведь я…
— Желаю успеха!
Глава 13
Я решил отправиться на пруд, разыскать Эльжбету. Если там нет, пойду на корты. Наверно, она прихватила с собой велосипед, я забегу потом за СБОИМ, и мы вместе поедем в замок. Давненько я не был на Замковой горе. Не знаю почему, но чаще всего мы с ребятами ездили туда весной, а летом как-то не очень, летом мы больше торчали на пруду.
Я спешил как только мог, ведь я задержался на целый час. Но возле кино замедлил шаг, меня удивило, что собираются люди, стоит уже большая очередь… Неужели все же кончился ремонт и будут демонстрировать фильмы? Я подошел поближе и стал смотреть по сторонам, не увижу ли кого из знакомых. Может, кто купит мне билеты? Впервые я пошел бы в кино с Эльжбетой… Ага, вон Каминский.
Я был знаком с ним по спортивному кружку в школе, вместе играли в баскетбол. В этом году он тоже кончил нашу школу. Учился он то ли в седьмом «Б», то ли в седьмом «А». Я уж и позабыл, как его зовут, и потому говорю:
— Привет, баскетболист! Во сколько кассу откроют?
— Должны сейчас открыть. Кассирша попьет чайку, накрасит губки и начнет, пожалуй, продавать. Тебе купить?
— Не знаю… Тебе, наверно, столько не дадут. Мне надо два. А тебе?
— Я и так беру четыре, на всю семью. На два больше, на два меньше — какая разница?
— Не продадут тебе шесть билетов.
— Мне? — И Каминский иронически улыбнулся: — Мне не продадут? Шутишь! А ты с кем идешь? С девочкой?
Я кивнул. Мы постояли минуту, и Каминский говорит:
— С Козловской, что ли?
— Что с Козловской? — спрашиваю я его, потому что сразу не понял.
— Я говорю, с Козловской, что ли, идешь в кино?
— Ты что, спятил? — говорю я ему. — С Иркой в кино? Что тебе в голову взбрело?
Он мне ничего не отвечает, а сам, вижу, стал читать ценник билетов на стенке.
— Подорожали, — бурчит себе под нос. — Это потому, что кинотеатр теперь панорамный.
Но зубы мне не заговоришь. И чего это ему втемяшилась Ирка Козловская? Откуда он знает, что мы с Иркой знакомы?
— А ты, Каминский, я вижу, очень Иркой интересуешься. Ну и ходи с ней в кино, а мне голову не морочь. Кто-нибудь, наверно, глупостей тебе наболтал…
— Может, и наболтал. Да это неважно. Если хочешь знать, так она сама болтает подружкам, что ты за ней бегаешь.
— Сумасшедшая!
Я даже не разозлился, просто стало смешно. А смешно стало потому, что он обо всем этом всерьез, да еще смутился.
Из дома напротив кино, из открытого окна послышался по радио марьяцкий хейнал.
— Боже ты мой, уже двенадцать? — перепугался я. — Столько времени!
И тут-то мне вспомнились эти двое: Эльжбета, которая играет, конечно, с этими ребятами из техникума в теннис, и Зонтик, который ждет в своей квартире… Хотя нет, он-то не ждет! Старик вообще не знает, что мы вызвали ему врача. А врач приедет только в шесть вечера. Еще через шесть часов! Ничего себе…
— Знаешь, Каминский? Не надо мне билетов, — решил я. — Мне нельзя в кино!
— А что случилось?
— Видишь ли, я, собственно, ищу врача. Не знаешь, как найти? Нужен врач, быстро и даром! Есть какие-нибудь идеи?
— Мой брат. Да какой он врач? Погляди, как вчера вырвал мне зуб, вся физиономия распухла! Ноет и ноет… Хуже дантиста не найдешь. Никому не посоветую у него лечиться.
В самом деле, физиономию у него малость перекосило.
— Дантист не нужен. Эх, история… — сказал я с огорчением. — Теперь уж, пожалуй, ничего не придумаешь. Придется ему ждать до вечера. Такое дело…
— А что случилось? Болтаешься тут полчаса, и вдруг спешка. Кто заболел? — спрашивает Каминский.
Я рассказал всю историю. Последние три года Зонтик был у нас классным воспитателем. Но ведь и у них он вел свои предметы. Я и подумал, может, теперь всем этим займется Каминский, пойдет, скажем, к Зонтику или чего еще. А я сбегаю к Эльжбете… Мысль была неплохая, но я, конечно, не сказал об этом — как-то неудобно.
Каминский поморщился:
— Скверно… Да, ты влип. И надо же такому именно с ним случиться!
— Не понимаю…
— Не люблю Забеляка… Вы звали его Зонтик, да? Что ты на меня так уставился? Не люблю, говорю, и все… Одного учителя любят, другого нет.
— Ну и что из того, что не любишь?
Открыли кассу, толпа заколыхалась, все бросились вперед. Но дело пошло быстро. Минут через пять Каминский появился с билетами. Не знаю сам почему, но я его ждал, ведь от билетов я отказался. Он свернул гармошкой ленту с билетами, сунул в карман и остановился, глядя на меня. Словно задумался о чем-то.
— В общем-то, ты прав: что из того, что не люблю? — сказал он наконец. — Пошли на шахту!
— На кой бес опять на шахту? — удивился я. — Зачем?
— Чего дурака валяешь? «Зачем, зачем»! О чем мы с тобой все время толкуем? О враче, да? Ну, идешь? Или мне одному идти?
— А ты один пошел бы? — обрадовался я, и он, наверно, это понял: с улыбкой посмотрел на меня и пожал плечами.
— Почему бы нет? Дай только его адрес.
— Я пойду с тобой! — сказал я с досадой, и мы отправились вместе.
Я только рот разинул, глядя, как он это делает, я бы так не смог. Я думал, нас вышвырнут вон. Мне еще не случалось ходить куда-нибудь по делу, может, потому я и считал, что это так трудно. Сдать в школе взносы на комитет, сбегать на почту, в магазин… Что еще? Но это сущая чепуха. Мама тоже ни во что не вникала, делами занимался отец. Я давно считал, что он может все и выйдет из любого затруднения. Это было очень удобно. А теперь, оторопело глядя из угла, я завидовал, что не у меня, а у Каминского так складно все получается.
Он протиснулся между людьми, навалился на барьер, за которым сидела регистраторша, и сказал во весь голос: «Здравствуйте!» И все тотчас обратили на него внимание. В приемной у врача принято говорить вполголоса, как в церкви. И это обычное, в общем-то, «здравствуйте» прозвучало как гонг и произвело впечатление. Самое сильное, кажется, впрочем, на меня.
— Меня прислал директор шахты. Надо срочно связаться с врачом! Он в каком кабинете?
У меня перехватило дыхание. Ну горазд врать… Как он потом вывернется?
— Что случилось? Директор Хрущевский заболел? — оживилась регистраторша. Люди в очереди тоже.
Каминский посмотрел по сторонам и состроил физиономию, которая, по-моему, ровным счетом ничего не значила. Затем откашлялся и поправил волосы, что, с моей точки зрения, тоже ни о чем не говорило. Но вероятно, каждый понял это по-своему, и все остались удовлетворены ответом, которого не было. Регистраторша указала на одну из дверей, и Каминский опять очень громко сказал: «Можно?» — и, не колеблясь, вошел. А в приемной все пошло своим чередом: регистраторша вполголоса командовала людьми, те протискивались вперед с какими-то бумажками, рецептами и почти шепотом спорили друг с другом, кто перед кем стоял в очереди.
Через несколько минут из кабинета выглянул доктор и распорядился:
— Позвоните диспетчеру, пусть пришлют машину! Регистраторша вскочила со стула.
— Звоню, звоню! А что с директором? Врач посмотрел на нее, как на сумасшедшую.
— Что? Не морочьте мне голову.
— Да, да, доктор! Сейчас…
Она почтительно улыбнулась, люди сделали вид, что всего этого не слышат, а я почувствовал себя так, как на выступлении драм-коллектива у нас в школе. Мне казалось, вот-вот в этом скверном театрике обвалится крыша и рухнет на наши головы.
Однако ничего не случилось. Каминский вышел, нарочито громко сказав «до свиданья», кивнул мне, и через минуту мы были уже на улице.
— Велел подождать. Поедем вместе, когда дадут машину.
— Что, собственно, ты ему наплел? — спросил я с беспокойством.
— Неважно. Что надо… Более или менее правду. Оказывается, мы попали в десятку: За беляк когда-то учил и его тоже. Ну, чего морщишься? Не нравится, да? А иначе ты б ничего не добился, с ними так только и можно…
Около часа дня мы вместе с врачом оказались в квартире Зонтика. Будь я один, я б, наверно, бросился вон, стал звать на помощь людей — ну, не знаю, что бы такое я сделал, если бы пришел один.
— Черт возьми… — процедил сквозь зубы врач. — За такие-то труды…
Он тоже замер в дверях, как и мы. Но уже минуту спустя работал как одержимый, я не мог уследить за его руками. На пол сыпались головки от ампул, смененные уже в который раз иглы глухо звякали о металлическое дно коробочки со шприцами.
В квартире был полумрак, окна занавешены толстыми, надорванными с краев портьерами, духотища, беспорядок. Возле кровати разбитый стакан, разлитая по полу вода почти высохла. Наверно, Зонтик столкнул или выронил стакан и не смог подобрать осколки. Одежда скатилась со стула, на спинке висела только рубашка с оттопыренным крахмальным воротничком и галстук, его темно-синий галстук, в котором он всегда появлялся в школе. Я попробовал кое как собрать вещи, сложить. Невозможно было стоять без дела у стенки и смотреть, как работает врач. Каминский тоже в конце концов очнулся, я услышал, как на кухне наливается в чайник вода.
— Найди там какое-нибудь полотенце, намочи и тащи сюда! — крикнул ему врач, а сам стал поправлять подушки, одеяло. — Открой окно! — это уже мне.
Может, странно, но сейчас я увидел в его квартире не то, что поразило меня в первую минуту. Сейчас я заметил, сколько здесь фотографий и картинок, а от пола до средины стены всюду стеллажи с книгами, уложенными не как в школьной библиотеке, а боком, друг на друга, наискось, корешками вверх, по-разному… В углу прислонены к шкафу свернутые в рулон листы бумаги, может быть карты. На столе среди книжек, стаканов, кастрюлек, ломтей хлеба, рядом с глиняным стаканчиком с разноцветными карандашами торчит странный глобус с деревянной подставкой в форме человеческой руки: земля лежит на указательном пальце, как вздутая сердцевина перстня.
Минут через пять Зонтик пришел немного в себя, открыл глаза, теперь вид у него был не такой страшный. Может, подействовали уколы? А может, ему стало лучше, когда понял, что уже не один в квартире? Но говорил он с трудом, медленно, еле-еле…
— Как вы допустили? — стал отчитывать его врач. — Разве нет соседей? Людей нет?
— Соседи работают. Своих дел хватает. Старику нельзя быть людям в тягость… Это пройдет. Грипп, наверно?
— «Грипп»… — Врач заговорил теперь с ним ласково, как с маленьким ребенком: — Знаешь что? Так, наугад, при беглом осмотре могу насчитать не меньше пяти болезней… А я, по существу, хирург, не терапевт. Терапевт, может, еще больше насчитает. Впитали вы их в себя, будто губка…
Зонтик отозвался, как эхо:
— Да… Впитал… За столько-то лет…
— Вот видите. А скоро сентябрь, новый учебный год, пора в школу. Ну и что будет?
— Ничего не будет, — отозвался Зонтик. — В школу не надо… Вот уже несколько лет я на пенсии, но еще работал… После этих каникул не буду…
— Замечательно, пан Забеляк! Великолепно! — И доктор весело улыбнулся, словно эта новость доставила ему огромное удовольствие.
Я понял: притворяется. Он вынул сигарету, но не закурил, сунул обратно в карман. Я хотел было вылезти с вопросом, да раздумал. Каминский стоял у стола и играл глобусом. Наступила тишина, и Зонтик закрыл глаза.
Удивило меня то, что он сказал. Ведь если учитель уходит на пенсию, в школе устраивают проводы. А тут ничего. Он вел наш класс, нам бы следовало узнать об этом раньше всех.
В июне же он с нами прощался, не мы с ним. Сказал, что мы кончили седьмой класс, что он выпускает нас в свет. Пожелал, чтоб у нас все хорошо сложилось. Что же это значит? Неужели он больше не вернется в школу? Неужели мы были его последними учениками?
Я все-таки спросил, не удержался. Подождал, пока он откроет глаза и спросил:
— Скажите, пожалуйста… А почему вы нам об этом не сказали? О том, что не будете больше учить? Ведь…
— А зачем? — перебил он меня. — Скажи, зачем? Я нарочно попросил директора не устраивать никакого спектакля… Кого это, по правде говоря, волнует?
— Что вы, если мы все станем так рассуждать… — заговорил с упреком врач, но смолк, не кончил. Наверно, ничего не пришло в голову.
И вдруг я заметил, что Зонтик всматривается в Каминского, точно не может припомнить. Каминский тоже это заметил, подошел поближе.
— А ты… ты из седьмого «Б»? Не помню…
— Да. Я из этого класса.
Мне послышалась в ответе какая-то странная нотка. «Из этого класса»… Может, потому, что Каминский так спокойно говорил. Как бы растягивая слова.
Через некоторое время Зонтик опять спросил:
— Слушай, какие у тебя были по моим предметам оценки?
— Да не очень… тройки, двойки, когда как… Только раз вы мне поставили пятерку. За карту Африки, помнится… — Каминский улыбнулся, но всего на мгновение.
— Ой, как скверно… — сказал Забеляк. — Ну, а эти оценки, они заслуженные? Бывает, учитель ошибется…
— Вы не ошибались. География у меня не шла! Не люблю ее.
— «Не люблю»… Потому что не знаешь!
— А у меня всегда были пятерки по вашим предметам! — похвастался врач. — Хоть, может, на первый взгляд не скажешь… — И вдруг встал, заговорил по-другому: — Ребята, нужно кое-что еще сделать. Напрасно я отправил машину. Сбегайте-ка, а я тут подожду…
Он послал нас с запиской к сестре за лекарствами. Мы быстро обернулись, и на обратном пути Каминский сказал:
— Слушай, может, попросим кого, чтоб приготовили ему поесть? Кашу, скажем, там какую-нибудь?
Я подумал сразу об Эльжбете. Но как было найти ее сейчас, в третьем часу? Да и умеет ли она готовить? О таких вещах мы с ней не говорили. Потом наверняка выяснится, что и о многих других тоже. Вроде бы всегда вместе, а времени не хватает…
— Моей мамы нету, уехала. Кого ж найдешь? — принялся рассуждать я вслух. — Может, твоя мама?
Он ответил не сразу:
— У меня нет родителей. Оба погибли в катастрофе… Я живу у брата. Но жена брата не придет, у нее маленькие ребятишки.
Мы были уже на Польной. Я спросил:
— А как тебя, собственно, зовут? Не помню… Меня Юрек…
— Адам…
Глава 14
«Как удачно, что мы встретились у кинотеатра! — подумал я. — Ничего бы мне без него не добиться… Забеляк все б еще ждал…» И только теперь мне пришло в голову, что надо было с самого утра мчаться к отцу, и он, наверное, легко и просто уладил бы дело с врачом. Впрочем, может, и лучше, что не догадался. Это проще всего: пусть отец похлопочет. Что же, выходит, так всегда и будет вместо меня хлопотать? К тому же Толстый говорит: жизни не знаешь… Может, лучше, что так получилось, что я встретил Адама…
— Слушай-ка, — обратился я неожиданно для самого себя к Адаму. — Помню, ты неплохо играл в баскет, но как-то быстро исчез. Выносливости не хватало, что ли? Потом тебя почему-то больше не включали в команду…
— Первый раз Греля не включил меня в наказание, что я две тренировки промотал. А потом я и сам обиделся!
— Жаль, данные у тебя есть: и рост, и реакция быстрая. Но собственно, в средней школе хорошей команды в баскет не составишь: ребята несерьезные, тренироваться не любят. Может, в лицее будет иначе… Кстати, ты в лицей? Имени Коперника? Значит, там и встретимся! Только бы попасть в один класс.
— Это уж мы как-нибудь устроим! — усмехнулся Адам. — Скажем в крайнем случае, что «вечное» перо у нас общее, что должны сидеть за одной партой.
У дома, где жил Зонтик, меня вдруг осенило:
— Погоди-ка… Ты сказал, хорошо бы найти кого, чтоб приготовил поесть, хоть на сегодня. Тут есть одна девочка из наших, из нашего класса, — стал вспоминать я на ходу, — вот здесь, по-моему, на первом этаже!
Мы подошли. Первый этаж был невысокий. «Загляну-ка в окошко», — подумал я и вскарабкался на выступ. Ну откуда было мне знать, что мать у нее портниха и что там как раз заказчица с примеркой? Когда я заглянул, поднялся визг, Я соскочил. В окне появилась эта девочка, по фамилии Вуйтик. И давай смеяться:
— Ты что такой любопытный? Подглядывать пришел?..
— Вот именно, — ответил за меня Адам. — Нечего нам делать, вот мы и подумали, ну-ка подглянем… Слушай! Ты умеешь готовить? Например, кашу?
— А ты что, жениться на мне хочешь? Готовить умею. В чем дело? Мы ей объяснили, и Вуйтик, может, и вышла б, кабы не ее мамаша. Та слышала, наверно, весь разговор, потому что сразу в голос:
— Никуда не пойдешь! Тебе известно, чем он болен? Заразишься еще, чего доброго. Никому не разрешу прислуживать, слыхала? Ты уж и школу кончила, больше не ученица… Нечего подлизываться!
— Пошли! — буркнул Адам и сплюнул сквозь зубы. Мы не спеша ушли.
— Я тебе кое-что расскажу, — начал я, чтоб хоть как-нибудь сгладить впечатление. — Расскажу, лопнешь со смеху. До третьей четверти у нее по матёме было все кол да кол. Просто «степной туман», как про нас говорил Зонтик. Он говорил: «Ну, ты степной туман». Или: «У тебя в голове пустыня Гоби». У вас в классе тоже так говорил? Но под конец года выпросил все нее для Вуйтик у математика тройку… Классный воспитатель, если захочет, всегда может так повернуть, что другие учителя ему уступят. Но еще раньше, примерно в мае, ее мамаша купила на всякий случай заявку для Забеляка в радиоконцерте. Я сам слышал. «От ученицы Зофьи Вуйтик и всего благодарного класса» — так и было там сказано. Мы спросили потом у Зонтика, слышал ли он. Нет, говорит, у меня, говорит, радиоприемник во время глупых передач трещит! Смешно, а?
— Да. Куда уж смешней! — ответил Каминский с этим своим каменным спокойствием на лице. — Зато теперь мы по крайней мере знаем, что делаем целый день! Подлизываемся. Ищем у Забеляка протекции… Наверно, на том свете…
Оставь! Нет, ты и в самом деле думаешь, что он уже скоро?.. — спросил я.
Ничего не думаю. Голодный как черт. Целый день не ел.
— Я тоже.
Мы поднялись по лестнице. Вдруг Адам остановился.
— Слушай, теперь кое-что расскажу тебе я. Тоже веселенькое. Знаешь, почему он после этих каникул уже не вернется в школу?
— Нет, Говорил про пенсию…
— Учителям в пенсионном возрасте разрешается преподавать. Пока могут. А ты знаешь, почему он не будет больше преподавать? Из-за нас. Из-за нашего класса, этого «золотого» седьмого «Б», любимого класса директора…
— Не понимаю, — пожал я плечами. — Может, ты что-то путаешь?
— Ничего я не путаю, я точно знаю. Брат в родительском комитете, он рассказывал. А началось с того, что мы подстроили вот какую штуку: один из нас поставил стойку для карты таким образом, что все о грохотом рухнуло на пол, когда За беляк повесил карту. В классе загоготали. Прибежал директор, началась свистопляска. Дежурный — был один такой, по фамилии Котерба, — дал тогда честное слово от имени класса, что мы к стойке не прикасались, что это, наверно, Забеляк на нее навалился… Так сказал Котерба. И весь класс подтвердил, дескать, в самом деле никто не трогал… У нас было тогда много плохих отметок и по географии и по истории, как раз по его предметам. Если б не это, класс был бы образцовый. У всех был зуб на Забеляка. Родители тоже жаловались на собраниях. А после этой штуки со стойкой Забеляку вежливенько объяснили, что он, надо думать, староват, что не может держать класс в руках, ну и так далее. Он их понял и сказал, что уходит из школы. Теперь ты в курсе? Могу дать голову на отсечение, — он догадался, что это со стойкой было подстроено.
Я ничего ему не ответил, так-таки ничего. Да и что можно было сказать?
Доктор ждал нас уже на кухне.
— Спит… Не ходите туда. Присмотрите за ним, посидите немного. Часа через два пришлю машину. Я уже говорил старику, он согласился ехать. Не оставаться ж ему одному!
— У него что-то серьезное? — спросил я.
— Дела неважные. Еще бы, в таком возрасте… И сердце очень слабое. Я устрою его в больницу в Сосновец, там у меня есть приятель, очень хороший врач. Понятно? Ну, держитесь, ребята! — И он вышел.
Мы сидели молча. Адам открыл дверь в комнату, чтоб услышать, если Зонтик чего-нибудь вдруг попросит. Я смотрел на старика и не мог поверить, что это тот самый Забеляк, перед которым все так дрожали. В седьмом-то, пожалуй, уж не так, но когда мы были поменьше! На уроках он рассказывал много интересного, гораздо больше, чем в учебнике. Зато все мы потом должны были знать это, не знаешь — пара. Кроме географии и истории, он никогда ни о чем с нами не говорил. Может, поэтому его не очень любили? На других уроках, ну хоть на матёме, можно было иногда поговорить с учителем, скажем, о том, что передавали по телеку, или о том, как наш «Гурник» опять продул второму составу «Заглембя» из Сосновца. С Забеляком же говорили только о его предметах. Даже самые бойкие наши ребята, специалисты насчет отвлечь, ничего не могли поделать с Зонтиком.
Всегда один и тот же темный костюм, всегда тот же темно-синий галстук и крахмальная рубашка. А потом — потом мы кончили школу, и он уже не был грозой для нас. Неделя каникул перевернула все вверх дном. В одно мгновение вылетел из головы Забеляк и все наши школьные страхи. Вдруг что-то оборвалось. Точно захлопнулась дверь, и мы очутились снаружи. Было — сплыло, как любил говаривать Толстый.
А теперь вот я в этой квартире, где сижу первый и, наверно, последний раз, и опять Забеляк. Но уже не наш школьный Зонтик (откуда это его прозвище? Совсем не помню), а другой, обыкновенный человек. И мне не освоиться с мыслью, которая последние дни возвращается все настойчивее: почему что-то привычное и знакомое становится вдруг далеким и чужим?..
Машина из больницы и в самом деле приехала около пяти, и это вызвало переполох. Не меньше половины населения Польной улицы сбежалось к дому, стали заглядывать соседи, спрашивать, что случилось. Каминский сначала не пускал женщин в квартиру, потом просто-напросто повернул в замке ключ, и нас оставили в покое. Я помогал Забеляку одеваться — он еле держался на ногах. Потом мы крикнули из окошка санитару, и тот, поднявшись с шофером, уложил старика на носилки.
Когда мы с носилками были уже в передней, Адам ни с того ни с сего наклонился к Забеляку и сказал:
— А со стойкой было нарочно подстроено… Вы догадались? Зонтик открыл глаза и метнул на него неожиданно быстрый, внимательный взгляд.
— Это было давно, еще до каникул… — прошептал он. И, помолчав: — Кто же это подстроил? Не ты ли?
— Я… Простите.
Теперь мне было уже совсем ничего не понять. Я закрыл замок, отдал ключ Забеляку, последним спустился по лестнице. Но думал я об одном: зачем он это сказал? Почему признался именно сейчас?
Возле машины Зонтик нам улыбнулся:
— Спасибо, мальчики. Целый день у вас пропал.
— Да что вы! Ведь теперь каникулы… — ответил Каминский спокойно, почти весело. — Делать все равно нечего.
— Желаем вам здоровья, — сказал я ему в тон.
Санитар захлопнул дверцы, машина уехала. Я догадался, почему Адам так сказал. Чтоб Забеляк нас не благодарил. Не очень-то приятно, если человек благодарит ни за что ни про что.
Сделав два-три шага, я остановился, посмотрел на Каминского.
— Адам, ты соврал, правда? Со стойкой.
— Соврал.
— А кто это подстроил?
— Котерба. Тот самый, который дал потом слово. Но его тут нет. А если б и был, он бы ни за что не признался.
— Зачем же ты тогда сказал?
— А зачем старику думать, что весь класс — свиньи? Пусть думает, что свинья только одна. К примеру, я… Не лучше ли так, а?
— Не знаю. Не знаю, поверил ли он тебе, Адам! — отозвался я, подумав. — Хорошо, что я тебя встретил. Дело не только в старике.
— Боже мой! — закричал вдруг Адам. — Надо бежать: билеты в кино пропадут и брат меня изругает! Пока!
— Пока!
И помчался к площади. А я не спеша побрел следом.
Всего три минуты назад я не знал, что пойду сейчас искать Эльжбету. Отец, наверное, сердится: целый день меня нет дома. Будет скандал. Наверное, думает, что я отправился с Эльжбетой куда-нибудь с утра. Голова у меня трещала. Может, с голодухи. Надо было идти домой. Но я не пошел. Чувствовал, что должен увидеться с Эльжбетой сейчас, именно сейчас. Я не знал почему, не знал, что ей скажу. Но хотелось ее видеть.
Было все равно, что подумает Збышек, я подошел к дому и позвал несколько раз подряд. Тишина. Что это значит? До сих пор не вернулась с корта? Не может быть. Наконец выглянул Збышек.
— Нету ее. Пошла с моей мамой в кино. Я купил им билеты, потому что она целый день дома скучала, — заявил Збышек и исчез в окошке.
Я удивился: ведь мы друг с другом не разговариваем, зачем он мне все это выкладывает? Ведь он знает, как я к нему отношусь.
Но все же я был доволен, что Эльжбета не встретилась с теми, не пошла на теннисные корты, а ждала меня. Вроде и пустяк, а хорошо, что она такая.
— Где ты шатался? — набросился на меня отец, когда я появился дома. Я рассказал про Забеляка в нескольких словах, только самое главное, и принялся за еду.
На кухне были натянуты веревки, как в те дни, когда мама стирала. На веревках — рубашки, носки, носовые платки, мои и отца. Наверное, целый день стирал, раньше он никогда этим не занимался — вот, наверно, намучился. А может быть, у него и в этом деле сноровка?
Отец растянулся на диване, подложил руки под голову и лежал не шевелясь. Мне показалось, он отдыхает. Не сразу я понял, о чем он думает.
— Знаешь, Юрек, что здесь, по-моему, хуже всего? — заговорил отец. — Сам посуди: Забеляк остался без всякой помощи и считал, что так оно и должно быть. Он мог умереть в четырех стенах, без опеки. И он смирился, будто это в порядке вещей. Даже ни на кого не в претензии.
— Почему ты думаешь, что не в претензии? А если и в претензии, разве это ему поможет?
— Ты не понял меня, — пробурчал отец. — Он не должен с этим мириться. Четверть города — его ученики. Есть у него право требовать что-то от них, есть?
«Ой, папа, папа, — подумал я про себя, — жизни не знаешь…» Но вслух, разумеется, не сказал. Как раз сегодня я такое услышал о себе. И тут мне вспомнились долгие споры отца с Холевой, который вечно пытался что-то втолковать отцу и, когда не знал, что еще сказать, твердил: «Пойми, человек, какое имеет значение, что так не должно быть, когда именно так оно и есть?»
Отец и в самом деле иногда как ребенок. Что мог сделать Забеляк? Выйти на площадь, крикнуть: «Люди, будьте другими!» Тогда, может быть, все — и та регистраторша из поликлиники, и мамаша Зоськи Вуйтик, и все прочие потупятся со стыдом и скажут: «Мы исправимся, учитель! Пан Забеляк, мы исправимся!» На мгновение я почувствовал себя старше отца, взрослее.
Ну, а если он в это не верит и все же считает, что нужно протестовать, что ни в коем случае нельзя соглашаться? Я смотрел на отца и думал о Забеляке. Нет, даже не о нем самом, а так, вообще… Зонтик на каждом своем уроке уплывал с нами в моря, открывал для нас континенты, а потом без скидок ставил оценки. Но какой прок в этих оценках, в далеких материках, если потом слышится рядом: жизни не знаешь! Чему он научил меня?.. И та четверть населения нашего городка — чему научил Забеляк ее? Не об этом ли думал он, когда сказал Адаму, что учитель тоже ошибается?
А может, все не так, может, я ошибаюсь и сегодня самым важным было что-то другое? Например то, что делал и говорил Адам. Или, может быть, то, что для меня это не был один из обыкновенных дней, из тех дней, которые ничего с собой не приносят?
Поздно вечером заявился Толстый в новом костюме. Вид у него был торжественный, совсем не такой, как утром. Перед домом оглушительно лаяла его собака. Я знал: она не отрываясь смотрит на наши окна — так омывает всякий раз, когда Толстый оставляет ее во дворе.
— О, да ты был у парикмахера! — оживился отец. — Юреку тоже бы не мешало. Уговоришь его — мороженое за мной!
— Ну как костюмчик? Ничего? — допытывался Толстый. — Что это ты такой дохлый? — И потише, чтоб не слышал отец: — Опять потерял Эльжбету? Ну и хлопот мне с вами! Хорошо хоть, скоро занятия!
Мне не хотелось пускаться с ним в разговоры. Да и о чем? Я похвалил костюм — дескать, верно, ничего. И все же Толстый был мне симпатичнее в старых, заношенных до лоска джинсах, таких же, как у меня, у Зенека, у других ребят. Само собой разумеется, многие из нас купят себе через неделю-другую новые костюмы в новую школу и бросят в угол с тряпьем брюки, которые носили раньше. В новом костюме Толстый был для меня другим, мне показалось, что он ходит уже в этот свой механический техникум, в котором мне не бывать.
— Ну, мне пора. Разгавкалась моя псина! — сказал Толстый минуту спустя, может, разочарованный, что я слабо восхищаюсь его новым костюмом, а может, просто дивясь, что разговор не клеится. Откровенно говоря, я и сам немного этому удивился, но что я мог сделать? В дверях Толстый спросил:
— Был ты лотом у Зонтика? Пришел вечером врач?
— Пришел. Все в порядке, можешь не беспокоиться.
Глава 15
Сначала я убеждал себя, что четыре дня, что пять дней слишком мало. Но когда и через неделю ответа от мамы не было, я всполошился — уж не случилось ли чего? Нет, не там, где она сейчас находится, а здесь, откуда она уехала. Шел разговор о санатории, потом выяснилось, что это неправда. Но ведь была ж у них какая-то причина, чтоб всем так говорить. Не очень-то мне теперь верилось, что мама вообще больна и что ей нужно лечиться.
Я стал припоминать, когда впервые услышал от них о санатории. Это было непросто. Как упомнишь все эти привычные ежедневные разговоры в доме — за обедом, за ужином. Пожалуй, в июне… Под самый конец школьного года. Я спросил однажды, поедем ли мы куда-нибудь летом. Они ответили, нет, То есть я поеду в деревню к дяде. В сущности, это был не дядя, а младший брат дедушки, но все его называли дядей. Ехать туда мне не хотелось. Деревня была большая, что-то вроде поселка. Но хоть и считалось, что это вблизи от Нисы, реки там все же не было и до леса тоже путь немалый. Дядя был совсем не похож на дедушку, зануда. И как раз для того, чтоб уговорить меня поехать к нему, мама сказала о санатории.
Я тогда над этим не раздумывал. Я даже толком не представлял себе, что значит санаторий. Ну, что-то такое, в общем не больница. У дяди я выдержал только две недели. Решил: раз такая же скучища, как дома, то лучше жить в Божехове, по крайней мере пруд под боком. Вернулся я неожиданно. И сразу заметил, что мое появление застигло их врасплох, но выход им оставался один — примириться с этим. Мама через два дня уехала, а отец неизвестно почему пожелал вдруг взять отпуск. Но тогда, в середине июля, все это меня не удивило. Не было даже времени подумать об этом. Ведь появилась Эльжбета…
Ждать неделю письма — это очень долго. В особенности если что-то неладно. И не у кого спросить, в чем, собственно, дело. С отцом на эту тему я больше не разговаривал. Отпуск у него кончился, он стал ходить на работу. Впрочем, и во время отпуска он пропадал целыми днями на шахте, так что разницы, по существу, не было. Несколько раз отец спрашивал, нет ли почты. Как ни в чем не бывало я отвечал, что нет. И мне показалось, что он нервничает не меньше моего. Я не рассказывал об этом Эльжбете, но она, наверно, чувствовала, что у меня что-то не в порядке. Может, только по-другому себе объясняла. Она тоже переменилась. Часто задумывалась, становилась вдруг грустной без причины и смотрела на меня так, словно вот-вот расплачется.
Однажды утром она крикнула с улицы:
— Юрек! Ты уже готов? Слушай, поедем куда-нибудь сегодня, ладно? Надоел мне этот пруд. Да и холодно купаться…
Эльжбета сидела на велосипеде, держась рукой за забор, совсем, как Збышек в тот день, когда привез ее к нам. И вдруг мелькнула мысль: а ведь прошел месяц, целый месяц!
— Ладно! Но ты сперва подымись! — крикнул я Эльжбете. — На пять минут. Я только доем завтрак.
Эльжбета скользнула взглядом по окну первого этажа, и я понял, в чем дело. Лепишевская наверняка уже на своем наблюдательном пункте. И я бы не удивился, скажи Эльжбета, что наверх не пойдет, что подождет на улице. Но она соскочила с седла, прислонила велосипед к забору и поднялась в квартиру.
Едва появившись на кухне, она шепотом заявила:
— Знаешь, я пришла не потому, что ты просишь, а чтоб сделать этой бабе назло! И не только ей…
— Молодец! — похвалил я Эльжбету. — Но почему шепотом? Тут не часовня!
Она засмеялась:
— А я, думаешь, знаю, почему? Так получилось. И не заговаривай мне зубы, Юрек! Та твоя соседка тоже меня видела. У тебя могут быть неприятности!
— Ирка торчит в окне? Ну и что? Какие неприятности? Эльжбета прошла в комнату, села у стола.
— Интересно, Юрек, как начну говорить про эту девушку, так ты притворяешься, будто не понимаешь. Ни бе ни ме! Просто ангел, невинный ребенок…
— Потому что не люблю, когда мне начинают что-то внушать, даже в шутку. Меня это злит! Эльжбета… — начал я и осекся.
— Ну?
— Ты что, ревнуешь?
— Нет. Не тебя ли ревновать, а? Спятил! Но если даже меня сведут судороги от ревности, все равно не признаюсь. И потому не спрашивай… А знаешь, почему не ревную? Потому что я самонадеянная соплячка и не раз еще пожалею об этом.
— Кто тебе так сказал? — мне было не удержаться от смеха.
— Тетка, полчаса тому назад. Сегодня утром мы беседовали, как говорится, о жизни. Тетка долго ерзала на табуретке, а потом выдавила из себя: «Элюня, у тебя есть мальчик?» Я говорю: «Есть, да». А тетка: «А мама об этом знает?» — «Мама знает, да». Тогда тетка: «Что мама об этом думает?» — «Мама ничего об этом не думает». Тогда тетка: «В голове не укладывается. Когда мне было пятнадцать, я краснела, если мальчики звали меня…» А я в ответ: «Зависит, куда звали!»
Я думала, она меня облает, но она, к счастью, не поняла. Тогда я как можно скорее: «А мама говорила, в моем возрасте она убежала к партизанам, потому что влюбилась в одного сержанта!» Тетка подумала немного и вздохнула: «В самом деле… к счастью, дедушка нашел ее тогда на вокзале и привел домой. Твоя мать вообще с бзиком! Этот второй ребенок нужен ей, как рыбе зонтик…»
Я спокойненько жду, о чем еще спросит тетка. Но у нее мысли иссякли, и она только сказала: «Вмешиваться не буду, пусть они тебя воспитывают, как хотят… Элюня, а ты пишешь письма этому своему мальчику?» — «Нет, тетя, а зачем писать?» — «Ну так ведь он за каникулы может о тебе забыть. Девушек много!» — и тетка рассмеялась — по-видимому, это была шутка.
Все это мне страшно надоело, и я говорю: «О, меня так легко не забудешь! Отец однажды сказал, что я, тетя, самая хорошенькая девушка в маминой семье, и в Центральной Европе тоже!» Ну, Юрек, скажу я тебе, у тетки сперва язык отнялся. Она посмотрела на меня со злостью, а потом выпалила: «Ты самонадеянная соплячка и еще не раз пожалеешь об этом!»
Давно я так не хохотал. Даже захлебнулся чаем, и пришлось выскочить в кухню за полотенцем. Эльжбета рассказывала все это без улыбки. Только когда изображала тетку, забавно вытягивала шею и кривила физиономию.
— Ну, теперь ты все уже знаешь. Так мы поговорили с теткой о жизни. Какой из этого вывод?
— Она, по-видимому, не очень умна.
— «По-видимому»… Абсолютно точно, а не по-видимому. Но не об этом речь. Вывод такой, что тетка ничего про нас с тобой не знает, даже не догадывается. Или, говоря другими словами, Збышек нас не продал. Хотя, впрочем, не очень-то он может нас и продать. Кстати, ты мог бы с ним помириться, он не такой плохой парень… Ты уже поел? Тогда пошли. Нельзя столько времени сидеть в квартире. Твои соседки лопнут, увидишь!
Эльжбета закружилась по комнате, качнула маленького медвежонка, повешенного на соломенном коврике над диваном, улыбнулась:
— Как его зовут? Моего зовут Пимпусь.
— По-дурацки его зовут: Огурчик.
— Почему Огурчик? — удивилась Эльжбета. — Первый раз слышу такое имя у медвежонка.
— Целая история. Когда я был маленький, ребята меня дразнили: «Юрчик-огурчик», ну и так далее… А я плакал. Тогда мама придумала назвать медвежонка Огурчиком и сказала: дети не дразнят, а зовут: Юрчик — меня, Огурчик — медвежонка. Я в это поверил и перестал плакать.
— Хорошая мысль! Надо будет запомнить, может, у меня когда-нибудь будет сын…
Она подошла к стене, где висела увеличенная фотография. Я сам когда-то на мамины именины вставил ее в рамку и повесил на гвоздь.
— Твоя мама? Какая красивая…
С минуту она внимательно смотрела на фотографию, потом вышла на кухню, поправила перед зеркалом волосы, нажала на дверную ручку.
— Ну, пошли!
Мы вышли на лестницу. И тут меня осенило, что я собирался показать Эльжбете голубей вместе с птенцами.
— Хочешь посмотреть? — спросил я. — Заодно я их покормлю. Когда мы шли на чердак, мне показалось, что у Козловских приоткрылась дверь. Но сделал вид, будто не замечаю.
Я насыпал голубям зерна, переменил воды. Работы было изрядно, но я не торопился. Эльжбета села на старый сундук, ей тут нравилось.
— Вижу, ты сегодня с утра в хорошем настроении! — сказал я, — Последнее время ты была какая-то грустная.
— Да, это правда. Веселой я чаще притворяюсь. Но тетка меня сегодня расшевелила.
— Эльжбета… Слушай, сколько мы друг с другом знакомы? Я как раз подумал об этом, когда увидел тебя в окошке.
— Погоди-ка, посчитаем… — стала прикидывать она. — Была середина июля. Значит, уже больше месяца… Очень долго!
— Или коротко.
— Или коротко… — повторила Эльжбета. — Я все время думаю о том, что скоро надо будет отсюда уехать. Осталось всего десять дней!
Я ждал, что скажет она еще. Что скажет? Да, конец каникул. Ну и что? Ни разу не говорили мы о том, что наступает сентябрь. Я даже не думал об этом. Мне пришло это в голову только тогда, когда я прощался с Адамом у дома Збеляка. И потом еще раз, когда Толстый пришел к нам показать свою обновку. Только тогда мелькнула мысль, что каникулы и в самом деле кончаются.
А теперь я жду, что скажет еще Эльжбета, и мне кажется, я знаю это заранее.
Мы смотрим друг на друга и думаем об одном и том нее.
Тишина. Молчание затягивается. И я возвращаюсь к своим делам: разливаю воду по жестяным плошкам в клетках, засыпаю зерно. Я понял: мы не скажем об этом друг другу ни слова! И становится жаль, что не сказано то, чего я ждал: о следующих каникулах, о еще следующих и еще следующих, о письмах, которые мы будем писать друг другу.
Но я жалею об этом не долго. Смотрю на Эльжбету, и появляется странное чувство: будто слышу собственные мысли, вижу и Эльжбету и себя, но не сегодня и даже не следующим летом, а позднее, гораздо позднее… И грусть пропадает.
Эльжбета шевельнулась. Голуби в соседней клетке всполошились, я ей улыбнулся.
— О чем думаешь, Юрек?
— Думаю о голубях, — сказал я. — Я рад, что ты сюда зашла. На голубей можно смотреть часами… Мне всегда казалось, что в этих маленьких головках так и вьются мысли. Это неверно, что голубь тихая и смирная птица. Но, думаю, хорошо, что они не умеют разговаривать. Не то были б очень болтливыми.
Эльжбета пожала плечами.
— Ну, знаешь… Тоже сказал! А хочешь знать, о чем думала я? Мне пришло в голову, что в новой школе у меня наверняка будет подруга. Сейчас у меня нет подруги, я тебе уже говорила. Если у меня будет подруга, настоящая, я расскажу ей о тебе…
— Зачем? — удивился я. — Что ты ей расскажешь?
— Тебе этого не понять, но у меня будет что рассказать. Настоящая подруга умеет, конечно, слушать и никогда не устанет… Может, она сама захочет рассказать мне о ком-нибудь? И тогда эти каникулы не кончатся в сентябре, они продолжатся… Как думаешь, Юрек, можно найти такую подругу?
Я не знал, что и отвечать. Но мне хотелось, чтоб она нашла. Ведь я тоже мечтал, чтоб наше лето не кончилось так внезапно, как началось, не кончилось, как кончается в календаре.
— Жаль, что ты не оттуда… что мне придется ехать, а ты останешься здесь, — сказала Эльжбета. — Если б ты жил где-нибудь там, поблизости от меня, мне бы не была так нужна подруга. Зачем? А приятельницы всегда найдутся.
— Приятели тоже.
— Приятели тоже, — согласилась она. — Тогда можно было бы обойтись без подруги. Если бы там был ты. А так неизвестно еще, как все сложится…
— Теперь у тебя прибавится дома работы. С маленьким ребенком, увидишь! Велят смотреть за ним, стирать и вообще…
— Да уж наверно… — улыбнулась Эльжбета. — Но это хорошо., я люблю малышей. Может, и с мамой мне будет теперь легче договориться. Рядом с малышом я буду ужасно взрослая! Может, мама, наконец, это заметит?
Мы собрались идти, когда на лестнице, ведущей на чердак, послышались чьи-то быстрые шаги.
— Наверно, Толстый, — пробурчал я. — Заметил твой велосипед перед домом и ищет нас…
Глава 16
Я сказал «наверно, Толстый», хотя прекрасно знал, что это не он. Толстый шагал всегда через ступеньку, скорее карабкался по лестнице, чем бежал. Никогда его не услышишь, если идет наверх, зато сверху вниз — громыхание на весь дом. Почему я так сказал? Не знаю.
И я ничуть не удивился, когда дверь на чердак распахнулась и ворвалась Ирка Козловская. Быстро глянула по сторонам и прикинулась, будто удивлена. Но вышло это так, что и ребенок стал бы над ней смеяться.
— О, простите, пожалуйста! Я не знала, что ты не один!
— Знала, — отозвалась Эльжбета. — Чего представляешься? Ирка пожала плечами и отвернулась.
— Я вам мешаю, да? — Она посмотрела на меня и тут же сама себе ответила: — Разумеется, мешаю. Извините, пожалуйста!
Я понял, что ей страшно хочется поссориться. Только почему именно с нами? Пусть ссорится с матерью, как обычно. Так я ей и хотел сказать, да раздумал. Мне в голову пришла мысль.
— Не валяй дурака! Во-первых, скажи, чего тебе надо. А во-вторых, мы и так собирались спуститься и хотели пригласить тебя.
Эльжбета вытаращила глаза, но, к счастью, ничего не сказала. Ирка была поражена и сбавила тон:
— Меня? А зачем?
— Мы собираемся на Замковую гору. Бери велосипед, поедем вместе.
— Правда? — Ирка уставилась на меня. Но я сохранял серьезность, хотя, по правде сказать, в пору было смеяться. Она повернулась к Эльжбете: — Вы это всерьез?
Я уже успел подмигнуть, потому что Ирка повернулась ко мне спиной, но, думаю, Эльжбета не заметила, что я подаю ей знаки.
— Почему бы тебе не поехать? — ответила ей Эльжбета без всякого энтузиазма, но спокойно.
— Ну, выходите, я закрываю лавочку!
Я сказал это, чтоб не затягивать разговора, иначе Ирка могла заподозрить неладное. Мы сошли вниз. Мне было интересно, что ж она теперь будет делать. Поедет или нет? Не знаю, что она там подумала и как объяснила сама себе мое приглашение. На лестнице она не проронила ни слова. Но когда мы вышли на улицу, заговорила — не со мной, с Эльжбетой:
— Ладно, я поеду, если ты хочешь… Все равно скучища! Схожу за велосипедом.
— Ирка! — обратился я к ней. — Ты же что-то хотела мне сказать, а? Там, наверху?
— Ага… Да, да. Я хотела сказать, что сегодня должен приехать Зенек. После обеда. Знаешь, откуда он прислал письмо? Из Ольштына! И как это он там очутился? Ведь лагерь у них был в Свентокшиских горах…
— Сегодня? Прекрасно! Наконец-то! — обрадовался я. — Как он там очутился? Приедет — расскажет.
— Что ты выделываешь, Юрек? — спросила Эльжбета, когда мы остались одни. — Зачем это брать ее в замок? Из жалости, что скучает?
— Видишь! Вот ты и ревнуешь, Помешает тебе бедная девочка? — пошутил я. — Мы с ней поболтаем.
— Не ломайся! Я не хочу, чтоб ты делал из нее дуру. Нехорошо, так не поступают!
— Будь спокойна! У меня есть план: нас будет четверо, кой-кого мы прихватим по дороге!
— Как хочешь, — с неудовольствием сказала Эльжбета. Мы поехали. Возле площади я притормозил и стал оглядываться по сторонам, Я был уверен, это где-то здесь, и искал табличку дантиста. Раз это его брат, значит, фамилия та же самая. Есть!
Я спрыгнул с велосипеда.
— Погодите минутку! — крикнул я им. — У меня тут дело. Адам сидел во дворе и играл с двумя карапузами. То одного, то другого он подсаживал к стойке, из которой выколачивают одежду, ребятишки хватались за перекладину, качались на ней, как на турнике. Увидев меня, Адам очень удивился.
— Что случилось? Как ты меня отыскал? Тихо, ребята! — гаркнул он на малышню, — Новый дяденька пришел!
— Взял да отыскал. Подумаешь, труд! Адам, велосипед у тебя есть?
— Нет. То есть вроде бы есть, но не взрослый. Мне уже маловат. Пригодится этой мелкотне. Когда только они вырастут!.. Честное слово, спятить можно! У меня руки уже болят от этой игры… Почему ты про велосипед?
— Мы едем к замку. Хочешь с нами? Я возьму тебя на раму, а?
— Что значит «мы»? Кто еще?
— Увидишь. На улице ждут девушки…
— О!
Я расхохотался. Физиономия у него была такая, будто я сообщил ему, что он стал шахиншахом. Наверно, Адам догадался, что там Ирка, потому что больше не спрашивал. А может, ему было все равно. Так или иначе, но раздумывать он не стал.
— Зоська! — крикнул он. — Зола!
— Мама! — завторили ему ребятишки. Крик поднялся на весь двор.
— Я ухожу с приятелем! — сказал он молодой женщине, которая высунулась в окошко. — Смотри за ними теперь ты.
— Ладно, только займи их чем-нибудь!
— Видал? — буркнул мне Адам. — Все я да я. Знаешь, они играют со мной охотней, чем с отцом. Тот их боится, у него и понятия нет о детях. О зубах, впрочем, тоже, У меня все еще челюсть ломит…
— Поторопись, Адам, — прервал я его. — Девчонки будут злиться.
Было интересно, как он займет ребятишек. Но Адам оказался мастером итого дела. Впрочем, дети и так смотрели ему в рот.
— Слушать меня, вожди индейцев! — Адам присел на корточки и понизил голос: — Я сейчас пойду на охоту за большим петухом. Вытри нос, Мариола! Платком. Так… Убью петуха и вырву перья из его хвоста. А после обеда мы сделаем плюмажи, ясно? Но если только кто-то из вас выйдет на улицу, горе ему, плюмажа он не получит. А теперь копать песок, пока не появится вода. Я приду и проверю.
Ребятишки закивали головой и направились в угол двора. Женщина в окне улыбнулась и сказала:
— В порядке. Хоть на время будет тишина. Можешь прийти на обед попозже, к трем!
Мы вышли на улицу. Девочки, как по команде, повернули головы в нашу сторону, но ничего не сказали. Если б молчал еще и Адам, положение у меня было бы трудное. Я не умею развлекать общество.
— Мой приятель, — буркнул я, сам не зная, что еще сказать.
— Мы друг друга немножко знаем! — сказала Ирка. — По школе…
— Совершенно верно! — сказал Адам и поздоровался с Эльжбетой. — Ну что, берете меня с собой? Юрек не хочет…
— Почему ты не хочешь? — удивилась Ирка. Посмотрела на Эльжбету, чуть улыбнулась.
— Ладно уж, садись на раму! — сказал я ему, и мы покатили.
Девочки вырвались вперед, и я заметил, что они даже разговаривают друг с другом. Хорошо, что удалось. Но зачем, собственно, я все это затеял? Если бы кто-то спросил, я б, наверно, объяснить не сумел. Мне казалось, что это остроумная шутка, разыгранная… только с кем? Вот именно. С Иркой? С Адамом?
— А ты малый не промах, я и не думал! — заговорил Адам, когда мы, миновав рыночную площадь, выехали на проселочную дорогу, которая вела к замку. — Совсем даже неглупая мысль… Сверни только немного вбок. Трясет. Потом поменяемся, я возьму на раму тебя.
Менялись мы несколько раз, потому что до замка было почти два километра. Когда начался подъем, Эльжбета предложила сойти с велосипедов. И мы пошли в ряд, заняв всю ширину дороги.
Адам говорил не закрывая рта, девочки смеялись, а я был по-настоящему горд своей затеей. Если б с нами поехал Толстый или Збышек, не было б, наверно, такого веселья. Может, один только Зенек сумел бы… Хотя… Откуда мне знать? Мы с Зенеком не были в такой ситуации, не ездили никуда с девочками. Всегда ходили сами по себе, в своей компании. Он, Збышек, Толстый да я. Кто знает, пришелся ли бы там кстати Адам. Думая обо всем этом, я понял, что Адам мне по сердцу. Может, именно потому и появилась эта мысль — отправиться всем вместе в замок.
Тут было прохладней — среди старинных стен, осыпавшихся постепенно во рвы, заросшие высокой травой. В башне пахло сыростью. Вблизи замок казался маленьким, удивительно даже, что тут когда-то мог разместиться гарнизон. Не было в нем и ничего мрачного, он не походил на замки, известные своими зловещими подземельями, на высеченные в скале, отгороженные от мира решетками крепости. В глубине башни весело прыгали лягушки, под самым замком паслись козы.
Эльжбета была немного разочарована.
— Вы и в самом деле не знаете никаких преданий? — допытывалась она. — Не было тут замурованной принцессы, злого рыцаря? Никто с этой башни не бросался на скалы? Никого не отравили?
— Вот, понимаешь ли, нет, — ответил Адам. — Ты уж нас извини, в будущем исправимся. Может, кого из городского совета сюда замуруем, начальника жилищного отдела, к примеру…
— Зонтик говорил, что этот замок входил в оборонительную систему, которая защищала Краков с запада… — вздумал я было похвастаться своими знаниями по истории, но Адам не дал договорить.
— Ты знаешь, я видел его вчера! Ему ничуть не лучше. Правда, там все-таки присмотр…
— Ты был у Забеляка в больнице?
— Ездил с женой брата к дяде. Ну и при случае навестил старика… Он дал мне ключ от квартиры, просил кой-какие книги привезти. В воскресенье пошлю вместе с братом, он как раз туда выбирается.
Мы походили немного среди развалин, но делать там было нечего, и я уговорил Эльжбету забраться на наружную стену. Попыхтели мы, пока лезли наверх, но вид оттуда был замечательный. Адам с Иркой остались внутри двора, мы наблюдали сверху, как они, присев на камни, завели разговор друг с другом.
— Почему ты ни разу не привел его на пруд? — спросила Эльжбета. — Славный мальчик…
— Да я совсем недавно с ним познакомился. Как тебе объяснить? Знаю-то я его давно, только…
— Тогда не объясняй, мне все равно. Ты это нарочно подстроил, чтоб он с ней встретился? Она даже перестала на тебя таращиться, знаешь? А почему Толстого последнее время не видно?
— Понятия не имею. Он только и думает, что об этом своем техникуме. Кто знает, может, и другие дела есть, — сказал я, догадываясь, впрочем, что техникум — не единственная причина. Тот день, когда пришлось хлопотать из-за врача, оставил как бы след. Трудно это объяснить, но в наших отношениях словно что-то разладилось. Может быть, мне так кажется?
— Чудесный вид! Только теперь понимаешь, сколько здесь труб, шахт! Странно… Замок как-то сюда не подходит, верно?
Мне нечего было отвечать, по-моему, все-таки подходит, я привык к этим руинам. Исчезни они в один прекрасный день, и холм станет голым, безобразным.
— Замок есть замок, даже без легенд…
— Ну тогда выдумаем какую-нибудь легенду сами! — Эльжбета так и загорелась, но уже минуту спустя передумала и сказала, таинственно улыбаясь: — Нет! Сделаем так: выдумаю легенду я и сообщу тебе в письме. Хорошо? В первом же письме из Варшавы!
— Хорошо, — согласился я, но мне стало грустно. Возвращаясь, мы ехали по-другому. Я предложил Адаму сесть на велосипед Эльжбеты и сказал, что возьму ее на свой. Все трое засмеялись, и тогда я ни с того ни с сего пустился в объяснения:
— Она легче, понимаешь? Колеса не будут так врезаться в песок, ведь там полевая дорога…
— Так вот в чем дело! — закричал Адам. — Ты в самом деле верно подметил, дорога там полевая! Никогда б не обратил внимания.
— А помнишь, ты не хотел брать меня на свой велосипед? — спросила Эльжбета уже в дороге. — Помнишь, когда мы ехали первый раз в ваш сад, с семенами…
— Не помню, — буркнул я. — Это было давно. Зато кое-что другое ты мне напомнила: зайди-ка после обеда в наш сад, придет Зенек, мы все там встретимся!
Я догнал Ирку и сказал ей то же самое. Та кивнула:
— Скажу Зенеку, ладно, Адам, ты тоже придешь?
— Сегодня после обеда мне не выбраться, И так опаздываю. А надо еще, учти, доехать до вашего дома, чтоб я мог потом вас найти. Разве что завтра…
«Ну и хитрец! — промелькнуло у меня в голове. — Вот бы никогда не додумался. В самом деле, ведь он не знает, где живет Ирка…»
Глава 17
Как трудно что-то предвидеть: Бывает, одно слово переворачивает все вверх дном! Ведь я по-настоящему радовался, что приехал Зенек. Чего ж я на него так набросился? Через минуту я уже упрекал себя за это, но сказанного не вернешь. Если бы дело было, впрочем, только во мне!
Нам с Эльжбетой долго пришлось дожидаться. Я догадался — они на пруду. Так уж повелось: если кто-то из нас возвращается с каникул и погода сносная, идем купаться. Это как бы встреча с городом. Я уговаривал Эльжбету пойти поискать их, но она заупрямилась:
— Иди сам! А я посижу здесь…
После обеда Эльжбета была не в настроении, грустная какая-то, а может, и злая. Уселась в беседке и принялась молча рассматривать листья дикого винограда, которые свисали со всех сторон, обвивали рейки стенок, ползли под самую крышу.
— Один не пойду… Захотят прийти — придут сами! — ответил я. Так мы их и ждали. Потом Эльжбета ни с того ни с сего стала полоть грядки, а я, вспомнив о просьбе, которую вот уже несколько дней повторяла бабка, принялся рвать крыжовник на компот.
И вдруг в аллейке между садами послышались громкие голоса. Я прислушался. Эльжбета тоже оторвалась от грядок. Голоса приближались со стороны пруда, и мне они показались знакомыми.
— Идут? — спросила Эльжбета. — Вроде бы Збышек, а?
«А он-то зачем тут нужен? — подумал я с досадой. — Надеюсь, в сад не зайдет. Болван…» Но именно Збышек и говорил громче других, ему вторила Ирка. Вскоре они появились у забора. С мокрыми волосами, с планками в руках, веселые. Был там и Толстый и его собака.
Зенек распахнул калитку, стал в проходе и крикнул:
— Что, зятек, не купался сегодня? Сад караулишь?
Если б не Эльжбета, я б и внимания не обратил на «зятька» — он всегда называл так меня в шутку. Но сегодня здесь была Эльжбета, и я заметил, как она повернула голову в их сторону — шутка пришлась ей не по вкусу. Еще бы, при Ирке!.. Сейчас та снова что-нибудь выкинет. Хоть я и обрадовался Зенеку, ответ был не из самых вежливых:
— Кончай со своим «зятьком». Надоело. — И я направился к беседке.
Черный остолбенел от изумления. Но так и не успел ничего сказать, потому что Толстый отстранил его и вошел первым. Он сразу заговорил с Эльжбетой:
— Нет у тебя чего поесть? Голодный как волк. Раньше, когда я с вами ходил, у тебя с собой был хлеб!
— Весь сад готов съесть… Зачем тебе хлеб? Ешь крыжовник!
— Юрек! Надеюсь, ты пригласишь нас войти? — спросила Ирка. Я ничего не ответил. Думал только, как мне загладить неловкость, тем более что Зенек прошел по дорожке, не поздоровавшись ни со мной, ни с Эльжбетой. По примеру Толстого он принялся за крыжовник.
— Вот ты и приехал… — выдавил я наконец из себя. — Привет, Черный!
— Привет, — буркнул он, не оборачиваясь.
Тут я услыхал скрип калитки к подумал, что Збышек вышел, наверно, из сада. Какое там! Он только прикрыл за собой калитку и как ни в чем не бывало направился вместе с Иркой в нашу сторону. Я решил не замечать его и вести себя так, будто его не было. Но от этого ничто не изменилось.
Было неловко и тягостно. Сперва никто ничего не говорил, потом они стали громко переговариваться друг с другом. Меня это раздражало, Эльжбета, я видел, тоже Сила недовольна. Все, впрочем, чувствовали: что-то не в порядке, надо найти выход из положения. Кто б мог подумать, что встреча будет такая!
— Почему ты ни разу не написал? — обратился я к Зенеку, для того чтоб что-то сказать. — Куда пропал после лагеря? Ирка напустила на себя таинственность, говорила, догадывается…
— А ты что, девушка, чтоб я тебе письма писал? — ответил Зенек, и все вокруг рассмеялись, будто это и в самом деле было очень смешно. Все — это значит они, потому что Эльжбета не смеялась.
— Знаешь, где он был? Обалдеешь, когда узнаешь… — заговорил Толстый.
«Выходит, Черный им уже рассказал, — промелькнуло у меня в голове, — я узнаю последним…» А всегда было наоборот. Ведь именно со мной Зенек дружил больше всего. Меня это задело, но, не подавая вида, я стал слушать Толстого. А тот говорил с таким жаром, точно рассказывал о себе, не о Зенеке, он даже не скрывал, что завидует товарищу.
Может, я невнимательно слушал, а может, Толстый говорил бестолково, только понял я все это с пятого на десятое. Ну, после лагеря Черный присоединился к какой-то там компании, ну, прекрасно, проехали автостопом через всю Мазурию. Ну и что из того? А все они меж тем ждут не дождутся, когда это я начну восхищаться.
— Вот это каникулы, а? Сам скажи: ты хотел бы так, а? — допытывался Толстый. — Гитара, две палатки… Вот жизнь!
Я невольно взглянул на Эльжбету. Лицо у нее было такое, точно вся эта история интересовала ее не больше, чем прошлогодний снег, да еще на другом полушарии. Но Ирка и Збышек с таким восхищением уставились на Зенека, что это меня в конце концов рассмешило.
— Черный, на будущий год не будет отбоя от желающих… Ирка первая!
— А ты что думаешь, я бы не поехала? Дома наплела бы матери, что еду к тетке. Пока они спишутся, лето, глядишь, и прошло…
— Я бы тоже поехал, — вылез Збышек, словно кто-то интересовался его мнением.
Эльжбета прыснула со смеху, и Збышек нахмурился, посмотрел на нее исподлобья и отвернулся.
— Те двое были постарше нас, уже после школы, — заявил Черный, словно для того, чтобы дать нам понять, что такое путешествие не для всякого.
— Почему двое? — недоумевал Толстый. — Ты ж говорил, что вас было четверо?
— Да… Четвертой была девушка! Разве я не сказал? — небрежно произнес Зенек и глянул на нас с равнодушным видом. Чуть дольше задержал только взгляд на Эльжбете. — Тоже из Варшавы! — сказал он, подчеркивая слова. — Мы прихватили ее по дороге, кажется в Гижицке…
— Разумеется, это ты ее прихватил, правда? — спокойно спросила Эльжбета.
Только я один и понял, что она смеется над ним в душе. Больше других завелась Ирка.
— Девушка? С тремя парнями? Быть такого не может… Как же вы спали в двух палатках?
Збышек даже шею вытянул, чтоб ничего не пропустить. А Черный ответил:
— Как? Обыкновенно…
«Привирает! — подумал я. — А зачем? Кто ему поверит? Если даже и правда, что один из ребят постарше был с девушкой, то почему он сообщает нам об этом таким образом?» Я знал, Черный любит, чтоб им восхищались, хочет быть лучше всех. Впрочем, из нас четверых он всегда был самой важной персоной. В шестом и седьмом про нас так и говорили: «банда Черного». А кличку он придумал себе еще в то время, когда мы играли в индейцев и всякие такие игры. Иногда Зенека заносило, но нам это даже нравилось.
Любил я его очень, но, может, чуть поменьше, чем Толстого, а может, по-другому. У нас в классе всегда учитывалось, с кем Черный в хороших отношениях, с кем в плохих. И все знали, что самым большим его другом был я. И теперь, видя, как ломается Зенек, я готов был махнуть на это рукой. Пусть себе рассказывает! Пусть Збышек слушает его с красными пятнами на щеках, а Ирка пусть думает, каким образом они в этой поездке спали в двух палатках. Меня это только смешило. Подумаешь!..
— Знаете, я бы, пожалуй, не поехала… Одна с тремя парнями… — принялась вслух рассуждать Ирка вполне серьезно.
Я не удержался:
— Ты? А кто б тебя взял на автостоп? Разве что картошку чистить… Толстый загоготал, а Зенек посмотрел на сестру так, словно собирался сказать то же самое.
— Вот именно!
И тогда заговорила Эльжбета. И напрасно. Что она, защитить хотела Ирку? Какое ей дело до Ирки и до всего этого разговора?
— Твоя шутка с картошкой дурацкая, понятно? — заявила она мне. — Уж наверно, нашлись бы желающие взять ее в такую поездку. Скорей взяли бы ее, чем вас. Не делайте же из нее дуру. Сами знаете, она очень хорошенькая…
Мы все так и разинули рты, даже Ирка посмотрела на Эльжбету с подозрением: обижаться или благодарить? «К чему она клонит? — подумал я. — Ирка хорошенькая! Вот так штука! А потом, какое отношение имеет это к автостопу?» Но промолчал, зато не промолчал Зенек.
— Ты-то уж, наверно, поехала бы с нами, а? — спросил он у Эльжбеты. — Если б мы, скажем, встретили в Гижицке не ту варшавянку, а тебя?
Не нравился мне этот разговор, не нравилась ухмылка Зенека, с которой тот смотрел на Эльжбету. Толстый беспокойно шевельнулся и заговорил, стараясь утихомирить их немного:
— Ну… если б, скажем, кто-то из знакомых предложил тебе такую поездку…
— Отвяжитесь от нее! — буркнул Збышек.
Я пожалел, что это он. Собственно, это должен был сказать я.
— Предлагали мне мои товарищи по клубу. В этом году, в августе… Поездка была интересной, на машине… — холодно ответила Эльжбета.
Я чувствовал, она разозлилась и сдерживает себя с трудом.
— Что-то мы, пожалуй, не в меру хвалимся, — иронически засмеялся Черный.
— Я — нет. Мне хвалиться нечем. А нот ты хвалишься. Хоть тоже нечем!
— Правильно, — поддержала ее Ирка. — Я вообще не верю, что та девочка была с вами. Загибаешь!
— Перестаньте, — сказал Збышек и встал. — Зачем ссориться!
Но Эльжбета молчать не собиралась. Здорово это ее, видно, задело. Теперь она говорила, обращаясь к одному только Зенеку:
— Спрашиваешь, что было бы, если б вы пригласили меня в Гижицке в эти свои две палатки? Смешной ты парень… Можешь быть спокоен, ты бы не прихватил меня ни в Гижицке, ни в Монте-Карло. И нечего так улыбаться…
«Ну и скандал вышел! — подумал я. — И вроде бы из ничего. Теперь добром не кончится…» Зря Эльжбета заговорила, могла бы и не встревать, пусть болтает себе на здоровье. Но теперь поздно, теперь и мне придется влезть в это дело. Полетит кувырком вся моя дружба с Черным…
— Пошли, Юрек, — спокойно сказала Эльжбета, будто ничего не случилось. — Здесь скучновато.
Только теперь Зенек понял, что это он проиграл в схватке, что Эльжбета взяла над ним верх. Я глядел и чувствовал: еще минута, и у Зенека вырвется крепкое словцо, очень крепкое, Збышек стал вдруг о чем-то громко говорить Ирке, все вели себя так, словно хотели как можно скорее замять разговор. Я заметил, как Толстый положил руку Зенеку на плечо и что-то сказал на ухо, И Черный не открыл больше рта. У него на лице появилось вдруг такое выражение, будто ему нет дела до всей нашей компании. Насвистывая сквозь зубы, он сорвал пригоршню смородины, стал есть..
Все вышли из сада.
— Что ты ему сказал? Там, у беседки? — спросил я у Толстого, когда по пути домой мы поотстали от нашей компании.
— Я ему сказал: «Оставь, Черный, ведь это все сопляки! Что они понимают?» Ну, он и отвязался… Ты что, не знаешь, как разговаривать с Зенеком? Он должен чувствовать себя победителем!
Мы оба расхохотались. Где та пора, когда мы играли в индейцев, и Зенек был предводителем, и мальчишки говорили про нас «банда Черного»?
На мосту Эльжбета остановилась, но попрощалась только с Иркой. Я пошел за ней следом, Збышек остался с остальной компанией, и я проводил Эльжбету домой.
— И это твой лучший друг? Столько ты о нем рассказывал! Полудурок какой-то… Вывел меня из себя!
— Хотел похвастаться, да у него не вышло, — пробовал я объяснить Эльжбете. — Впрочем, неважно, не стоит и обижаться!
— Нет, важно. Видеть больше его не хочу! Я вообще не хочу, чтоб мы с ним встречались. Разве что для тебя это имеет значение…
— Не имеет значения. Никакого! — сказал я. И это была правда.
Глава 18
Еще день и еще день. Письма от мамы все не было. До конца каникул оставалась одна неделя. Я ждал, когда Эльжбета заговорит об отъезде, Самому спрашивай, но хотелось.
На пруд мы теперь не ходили и к нам в сад тоже.
Мы ездили на велосипедах за город. Жара спала, и Эльжбета заявила, что такая погода хороша для прогулок. Ей нравились наши каменистые взгорья, поросшие тимьяном и вереском, который должен был вот-вот зацвести, вытяжные стволы шахты, торчавшие с разных сторон вокруг Божехова среди старых терриконов, на которых были высажены березки, потому что другие деревья там не принимались.
Мы вернулись как раз с прогулки и поставили велосипеды, хотя времени до обеда было еще много. Эльжбета предложила купить билеты в кино, пока нет очереди. Показывали комедию, и желающих было хоть отбавляй.
Возле кино мы увидели почтальона. Эльжбета заметила его первая.
— Погоди-ка! Может, есть что-нибудь для меня из дома.
— Я тоже спрошу… — сказал я и мы оба пошли ему навстречу.
Почтальон остановился, порылся в сумке и ничего не нашел — ни мне, ни Эльжбете. Но мне как-то не верилось…
— Пан Вежба! — крикнул я вслед почтальону, который уже отправился дальше. — Может, еще разок посмотрите, а? Должно же быть что-нибудь у вас для меня.
Старик Вежба обернулся, порылся в одном отделении сумки, в другом.
— Раз говорю нету, значит, нету. Хочешь каждый день получать письма? Только вчера было письмо твоему дедушке.
— Дедушке? А вы не знаете, от кого?
— Откуда мне знать? Сам спроси!
Меня это удивило: письмо дедушки? Кто мог писать дедушке? Только дядя… Вчера я был у дедушки с бабушкой на обеде, они ничего такого мне не сказали. Будь письмо от дяди, он бы, конечно, жаловался на то, что я от него так быстро смылся. Бабушка не выдержала бы и поругала меня…
— Ну, пошли, чего ждешь? Кончатся билеты на балкон, — крикнула Эльжбета, и мы направились к кинотеатру.
В очереди у кассы стояло несколько человек и среди них Дерда, самый известный в Божехове голубятник. Я поздоровался с ним и удивился вслух:
— Вы тоже в кино?
— А что делать? Телевизор испортился. Не буду же я целый вечер на свою бабу любоваться!
Эльжбета улыбнулась, а Дерди добавил:
— Вчера вечером встретил твоего отца. Сказал: «Зайди ко мне посмотри, что там в моей бандуре испортилось, выпьем смородинового винца!». А он не желает. Говорит: «Не приставай, Дерда, со своим телевизором, не до того мне сейчас…» Вот и пришлось идти в кино. А как быть?
— Так и сказал?
— Ну!
Мы купили два билета и побрели обратно. Эльжбета спросила:
— Твой отец умеет чинить телевизоры? Кто он по специальности?
— Отец все умеет. Будь необходимость, наверно, и реактивный самолет починит… Однажды в деревне у дяди починил сноповязалку!
«Что с ним стряслось? — думал я. — Он любит старика Дерду… Почему не пожелал зайти к нему? А вчера домой вернулся поздно ночью, я уже спал…»
— Я спросила про специальность.
— Про какую специальность?
— Юрек! Да ведь мы говорили о твоем отце!
— Инженер-электрик. Вентиляцией ведает.
И тут Эльжбета давай хохотать! Но почему? Я начал сердиться. В чем, собственно, дело?
— Ты, наверно, шутишь! Вентиляцией?.. — И снова в смех.
— Слушай, ты!.. Ты даже не знаешь, что такое шахта! — вспылил я не на шутку. — Ты представляешь себе, что такое вентиляционная система, сколько там установок? Без нее люди под землей задохнутся. Понимаешь ли ты вообще, что такое вентиляция, над чем смеешься? Думаешь, это комнатный вентилятор, да?
— Юрек, да ведь я…
— Отцепись! Не знаешь, не спрашивай.
— Но ведь я потому именно и спросила!
«Где он вчера пропадал? Не имеет ли это отношение к письму, которое получил дедушка?» — такая мысль меня самого удивила. Я уцепился за нее, хоть никакой связи, может, и не было. Меня тревожила неизвестность. Что-то происходит вокруг, а я ничего не знаю! Что я тут делаю? Надо пойти к отцу и спросить его, спросить напрямик! Но сейчас двенадцать дня, как его найдешь сейчас в шахте?..
— Если не желаешь разговаривать, будем молчать весь день! — услышал я вдруг.
Взглянул на Эльжбету: надувшись, она шла по другому краю тротуара.
— Слушай, в чем дело? — спросил я, но уже спокойнее.
— В чем дело? Да ведь ты на людей бросаешься!
— Ничуть не бросаюсь… Ну, что еще ты желаешь знать? — Я уже завелся, и было б, наверно, лучше, если б я вообще промолчал, но мне захотелось кончить этот разговор раз и навсегда. — Ты спросила, какая у него специальность, я тебе сказал: электрик, инженер-электрик. Вечерний инженер… Может, это тоже смешно? Кое-кто над этим смеялся, и даже очень! Может, тебе приходилось слышать у Малецких о таких сумасбродах? Мать Збышека когда-то потешалась над этим, я хорошо помню.
Эльжбета внезапно остановилась и перебила меня:
— Сумасшедший! Успокоишься — встретимся в кино. Возьми свой билет! А пока я с тобой не разговариваю. До свидания! — И она пошла прочь.
Меня это не взволновало. Может, и хорошо, что ушла, мне было не до беседы. Почему мне втемяшилось в голову это прозвище — «вечерний инженер»? И зачем я вообще сказал ей об этом, раз она все равно ничего не знает. Пусть расспрашивает тетку, Малецкая ей скажет. Только теперь не будет смеяться, как раньше.
Мне врезался в память разговор моей мамы с Малецкой. Они встретились тогда на улице. «Как вы позволили влипнуть ему в эту историю! — говорила Малецкая. — Он и дома-то не бывает! Есть ли польза от такого мужа? Я сказала своему: „Сиди, не рыпайся, ты и так неплохо зарабатываешь, зачем тебе это? Подумаешь, вечерний инженер!“» Мама что-то ей тогда возразила, довольно резко, и они поссорились. Но мне казалось: в глубине души мама считает, что Малецкая права. Однако с отцом ей было не сладить.
Тогда человек пятнадцать — техников, старых мастеров, штейгеров — шахта направила в инженерную академию. По нескольку раз в неделю, едва кончив работу, они ездили с портфелями в Катовицы. Старые уже дяди, и со стороны это выглядело смешно. Возвращались чуть ли не ночью. Потом отец корпел над заданиями. А утром — на шахту. И так несколько лет подряд.
Глядя на них, люди стучали пальцем по лбу: «Тронулись!» Мама спрашивала: «Зачем мучаешь себя и меня? Будешь ли ты хоть больше зарабатывать?» Отец отвечал: «Нет. Не намного больше. Впрочем, дело не в этом…» Но никто от этой группы не откололся, и люди перестали смеяться над вечерними инженерами, тем более что теперь они были уже не вечерние. Но в нашей семье только бабушка считала, что отец поступает правильно. Мама часто говорила о ней: «Твоя бабушка невозможный человек. Даже если он на руках начнет ходить, бабушка все равно скажет, что правильно!» Он — это значит отец…
Я медленно брел по валу вдоль реки и, хоть не очень-то представлял себе, куда держу путь, не удивился, очутившись у дома, где жили бабушка с дедушкой. Обедать было еще рано, да я об этом не думал. «Зайду и спрошу бабушку насчет письма! — решил я. — Если письмо не от мамы, придется спросить кой о чем еще… Трудно с ней разговаривать. Я для нее все еще маленький мальчик, которого проверяют, есть ли у него чистый носовой платок. Но все же попробую…»
— Обед пока не готов. Подождешь! — сказал дедушка. А бабушка сказала:
— Что тебе до чужих писем? Письмо взял отец, потому что это письмо для него, только на наш адрес.
И когда я увидел, что их не удивляют мои вопросы, которыми я так и сыпал, один за другим, все настойчивее, я понял: то, что я услышу, будет хуже самых худших предположений. Долгое время оба молчали, словно ждали, кто скажет первый.
Бабушка стояла на пороге кухни и переливала молоко из стакана в стакан. То ли студила она это молоко, то ли оттягивала минуту, когда придется заговорить. Наконец она поставила передо мной стакан и заявила:
— Спроси своего отца, не меня. Чего вам всем от меня надо? Все вы считаете себя умней глупой бабки, а потом — к ней со слезами…
— Старуха, соображай, с кем говоришь! — перебил дедушка.
— Нет! Пусть знает! — продолжала бабушка решительно. — Не мне говорить с тобой об этом, Юрек, но ты спросил сам. Может, я несправедливая, может, слишком старая, чтоб их понять. Никогда я не любила твою мать, она меня тоже… Пей молоко! Пей, говорю, молоко, не то остынет! Чего на меня так уставился? Что такое я сказала? Ты уже вырос, и тебе можно…
— Хватит!
Дедушка медленно поднялся из-за стола и кивком указал мне на дверь. Я глянул на бабушку, хотел с ней заговорить. Но она отвернулась к стене.
Я вышел на улицу, дедушка — следом за мной. Некоторое время мы молча шли рядом.
— Ничего другого не остается… — начал в конце концов дедушка. — Оно к лучшему, что мы вышли. Бабка волнуется… Видишь ли, вчера вечером здесь был твой отец. Бабушка проплакала всю ночь. Зачем тебе много знать? Будешь потом всю жизнь в претензии на бабку…
Я остановился как вкопанный.
— Должен же наконец кто-то мне объяснить! Что, собственно, случилось?
— Это должен был сделать отец. Но у него, видишь ли, духу не хватило. Пойми его, Юрек, он боится сказать тебе правду…
— Какую правду?
Дедушка медлил. А я испугался, что и он ничего не скажет. Это было бы слишком. Я хотел выслушать все до конца, узнать, из-за чего они так волнуются. Хватит с меня! Пусть худшее, но я хочу знать…
— Видишь ли, они расходятся. Твоя мать вовсе не больна, это они просто выдумали для людей… Городок маленький, не хотели, чтоб стали судачить. Мы вчера долго толковали с твоим отцом, Юрек. И ты… ты должен ехать к ней, быть с матерью…
— Понимаю, — сказал я, помолчав, и так спокойно, что сам себе подивился. — Теперь я все понял… — И быстро пошел прочь.
— Юрек, Юрек! — закричал вдогонку дедушка.
Я вернулся. Какое-то время он смотрел на меня странным взглядом, будто мы с ним прощались.
— Послушай меня… и запомни, что я тебе скажу. Видишь ли, ты сможешь понять их только когда-нибудь в будущем, сейчас не старайся. Держись, Юрек… Будь молодцом! Я перебил дедушку:
— Ты меня словно на смерть провожаешь…
— Глупый ты! — заорал вне себя дедушка. — Строил чудо, а вышло худо. Не болтай чепухи. Помни, прежде ты должен сплясать на моих поминках…
Я невольно улыбнулся. Это был уже прежний дедушка — старичок-балагур, переворачивавший вверх тормашками любое присловье.
— Держись, Юрек. Будь молодцом… — повторил он снова. Хлопнул меня по плечу, а потом вдруг отвернулся и заспешил к дому.
Они расходятся. Вот, значит, в чем дело. Вот почему она уехала. Вот зачем понадобились разговоры про санаторий. Не знаю, может, и странно, но, шагая по улице, я думал об этом, точно о событии из книжки. Будто меня это не касалось. Читаешь такую книжку, и всякие печальные истории там происходят, но когда станет слишком грустно, отложишь ее и пойдешь за мороженым. Только что я боялся неизвестности, чего-то такого, что, таясь вблизи, остается неведомым, недоступным глазу, и не понять, с какой стороны оно ударит. Но стоило дедушке назвать все по имени, как бы ткнуть пальцем, произнести два-три простых слова — и вдруг события стали совершаться точно отдельно от меня.
Почему они не сказали мне об этом по-хорошему, раньше? Они, которые всегда знали, что надо, чего нельзя, всегда могли объяснить любые вещи, спрашивал я или нет. А может, не всё они знали, не всё умели… «Они»? Так говорил дедушка. «Они» расходятся — так он сказал. И я, думая об этом, тоже пользуюсь коротеньким словцом «они». Коротенькое словцо… Коротенькое словцо… Коротенькое словцо… Что-то вдруг точно заскочило у меня в голове, и, лишь поймав себя на том, что твержу одно и то же без смысла, как испорченная пластинка, почувствовал: по спине пробежали мурашки.
Глава 19
Я брел домой. Решил не возвращаться к бабушке на обед, дождаться дома отца. Если он придет к бабушке, там ему скажут: Юрек уже все знает. И потому мне нельзя идти с Эльжбетой в кино — отец станет меня разыскивать. Да и не хочется мне в кино. И надо ж именно сегодня мне с ней поссориться! Впервые, и как раз сегодня. Хотя… ведь мы, в сущности, не ссорились. Это я взорвался, будто она в чем-то виновата. Жаль, что ее сейчас нет рядом, что я один…
А будь она здесь, что тогда? О чем с ней говорить? Рассказать все с самого начала… Что значит «все»? Да и знаю я только конец: мне велят отсюда уехать. И только об этом могу сказать Эльжбете.
А что я скажу отцу, когда он придет? Спрошу… Нет, спрашивать ни о чем не стану. Раз не хотят говорить, пусть не говорят. Не касается меня все это, не касаются меня их дела.
Скажи они нормально, по-человечески: «Юрек, мы разводимся, мама отсюда уезжает, что ты об этом думаешь?» — тогда я мог бы с ними поговорить. А теперь? Мне остается только выслушать, на какой день назначен отъезд… Нет. Я сам скажу, что хочу уехать как можно скорее, завтра, послезавтра. И пусть все это кончится…
— Юрек! — услышал я вдруг.
Это кричала Ирка. Она шла по другой стороне улицы, увидев меня, перебежала дорогу.
— Почему у тебя такой вид? Заболел, что ли?
— Почему заболел?
— Не знаю, мне так показалось…
— Чего тебе надо? Зачем кричала? Ирка покачала головой:
— Что с тобой? Даже заговорить нельзя? Ты совсем ума лишился из-за той девочки…
— Не болтай, Ирка… Говори, чего надо?
— Ничего не надо… Нет, надо! Надо, чтоб она уехала… Это из-за нее ты со всеми ссоришься, из-за Эльжбеты. Зенек так сказал сегодня Збышеку. Ребята говорят, ты совсем сбрендил!
Что мне с ней разговаривать? «Зенек сказал… Ребята говорят…» Пусть говорят что хотят. Какое мне дело? Меня больше не интересует, что они обо мне думают…
— Могу тебя обрадовать, скоро нечего будет обсуждать! — сказал я. — Я уезжаю отсюда. Ясно?
— Куда? — удивилась Ирка. — Ты уезжаешь или она?
— Я, В Австралию… — И я пошел прочь.
— Слушай, Юрек! — послышалось за спиной. — Лепишевская всюду тебя ищет! Это я и хотела тебе сказать, а ты сразу спорить!
Старуха Лепишевская и в самом деле торчала в окошке. Стоило мне появиться во дворе, она закричала:
— Наконец-то пришел! Иди скорей наверх!
Она вышла на порог своей квартиры. И, вне себя от волнения, зашептала, точно это была бог знает какая тайна:
— Представь себе, ксендз у меня уже с полчаса дожидается! Тебя дожидается!.. На что это похоже?
— Рай не уговаривался, пусть ждет, — буркнул я хмуро. — Да и о каком ксендзе речь? Чего надо от меня ксендзу?
Я подумал о нашем приходском ксендзе. Что же это он, из-за тех яблок сюда притащился? Тоже мне дело — десяток зеленых яблок сорвали мы с ребятами у него в саду. Ну, при этом ветки поломались… Год прошел, а он все еще помнит. У Зенека три дня живот потом болел… Отрава — не яблоки! Кто ему мог наябедничать через год? Этого только сегодня не хватало…
— Ну, где этот ксендз? — спросил я.
В том настроении, в каком я был, я мог поскандалить с каждым из-за чего угодно. Тем более из-за прошлогодних яблок…
Лепишевская нырнула в свою квартиру, и оттуда вышел викарий Майхшак. Поблагодарил ее, как он выразился, «за гостеприимство» и обратился ко мне:
— Есть у тебя ключ от своей квартиры? Ну так поднимемся к тебе, у меня дело…
Лишь в квартире я заметил, что у викария в руках старый пузатый портфель, в котором что-то шевелится.
— Нет, нет, садиться не буду. Мне некогда, достаточно там насиделся! — заявил он. — Жаль, что нет отца… А может, так удобнее… Я, понимаешь ли, принес тебе шесть почтовых, самые лучшие. Отнеси их сразу в голубятню, чтоб не задохнулись.
— Не понимаю: шесть почтовых? А что с ними? — начал я, ужасно удивившись.
Но Майхшак замахал по-своему руками:
— Только не спрашивай ни о чем. Отнеси на чердак, и все. Сколько будет теперь у тебя вместе с твоими, а?
— Сколько? Ну, сорок три…
— Вот, видишь! Это уже кое-что. Только присматривай за почтовыми, ладно? Чтоб с голоду не передохли…
— А вы что, тоже уезжаете?
— Что значит «тоже»?
Но я не ответил. Тогда он смерил меня долгим взглядом и пробурчал:
— Ну, разумеется. У каждого свои огорчения… Лучше не спрашивай. Заставили меня, понимаешь? И чем епископу мои голуби помешали? Можешь ты объяснить? Старухи святоши бегают жаловаться к приходскому, дескать, на пальцах свищу. А как голубей вспугнешь? На флейте им играть? Эта баба тоже, наверно, сразу донесет, потому что заворковали у меня в портфеле, пока у нее сидел…
И грустно и смешно. Майхшак был сам не свой, уж, наверно, не так легко отдавать своих лучших почтовиков. Никогда еще я с ним так долго не разговаривал, не знал его — ксендз, и все тут. Иногда только забежишь в дом к приходскому, чтоб про какого голубя спросить. Всем в Божехове известно: викарий Майхшак держит голубей. Почему именно мне отдает он своих почтовиков? И вдруг меня осенило:
— Здорово я тогда вас подвел с нашим Рыжим, а? Я слышал, как приходский сердился; что ж, с тех пор и пошло? Простите, я его тогда не заметил…
— Не твоя это вина, раньше или позже — все равно бы так случилось… Переводят меня. Не о чем говорить… — ответил он каким-то странным голосом. — До свидания! — И вышел.
Я не успел даже спросить, что мне делать с портфелем. Сперва послышался быстрый топот по ступенькам, а потом голос Лепишевской:
— Слава Иисусу Христу!
— Во веки веков, — донеслось уже снизу.
«Это он так ко мне из-за подлеца Рыжего, — подумал я, заглядывая в портфель, — Надо же, именно мне принес лучших голубей… Может, ему так на исповеди велели? Чтоб было наоборот: чтоб не ругал меня, а подарил голубей… А на кой черт мне теперь его голуби? Даже лучшие?»
Лепишевская дежурила уже у дверей.
— Ну и что? — спросила она тем же шепотом. — Чего нужно было от вас ксендзу?
Не знаю, почему это взбрело мне в голову. Ни с того ни с сего я сунул ей под нос портфель и сказал с досадой:
— Доллары принес. Хотите посмотреть? Банк ограбил и принес на хранение!
Папаша Зенека Козловский, который драй а карбидную лампу в коридоре у окна — как видно, перед вечерней сменой, — громко загоготал.
— Здорово, Юрек! Молодец! Видите, Лепишевская, не в каждую дырку можно совать свой богоугодный нос. Хорошо он вас отделал!
Та даже подпрыгнула от ярости и замахнулась на меня, но я шмыгнул по лестнице на чердак, Наверху, открывая висячий замок, я слышал, как все еще гоготал Козловский, пока старуха пыталась сорвать на нем злобу:
— Старый хулиган! Голова седая, а сам как мальчишка!
— Я старый? Да я, по крайней мере, на пять лет вас моложе. Думать надо, Лепишевская, что говорите, — так он поддразнивал ее, впрочем, при каждой встрече в коридоре или на лестнице и все смеялся. Смрад от карбидной лампы разносился по дому.
…И вот я здесь, в своей голубятне, где ничего худого не может со мной случиться, куда прихожу всякий раз, если бывают неприятности, У меня уже сорок три голубя, это очень много. Если б, скажем, еще три недели назад кто-нибудь подарил мне шесть первоклассных почтовиков, я б не знал, кому раньше похвастаться…
Я прислонился спиной к сетке, которая отделяла голубятню от остального чердака. Она прогибалась под тяжестью, приятно пружинила. Я смотрел на голубей, а те на меня… Здесь и Рыжий. Умей он говорить, что бы он мне сейчас сказал?
Сказан бы, наверно, обманули тебя, обманули! И ты, щенок, из-за этого в обиде на весь мир. Никому до тебя дела нет. Кто тебе остался? Только я да эти голуби… Ну кто еще? Мать, которая уехала, ничего не сказав, потому что боялась сказать? Или бабка с ее припадками ярости и обедами в три часа? Или дед, который со спокойной, душой советовал тебе не пытаться понять родителей? Или, может, та девочка, которая скоро отсюда уедет, потому что каникулы уже на исходе? Ну кто тебе остался? Отец?
Отец… «Приходи ко мне со всем, что у тебя есть…» Да, приходи… А ты с чем ко мне пришел? Где ты был, когда надо было сказать самое важное? Почему согласился на мой отъезд? Теперь поздно говорить. Ладно, я уеду отсюда! Ничего здесь от меня не зависит, все происходит у меня за спиной. Передают меня из рук в руки, как чемодан…
Голуби смотрели на меня, а я на Рыжего. Столько раз он удирал, но потом возвращался в свое гнездо… Глупый, обыкновенный голубь, а вот поди ж ты, есть у него свое гнездо. А у меня что? Голуби… И все?
Поначалу эта мысль бродила как бы вокруг, в отдалении, боясь приблизиться. А может, я сам ее отгонял, потому что чувствовал: мысль плохая. Но теперь я понял: мне от нее не избавиться! Я встал и распахнул оконце. И одного за другим выбросил всех шестерых голубей Майхшака, И каждый, почувствовав воздух под крылом, взмывал вверх, точно по нему выстрелили из рогатки.
Я открыл еще одно окошечко и еще одно. В голубятне поднялся переполох. Улетел Рыжий, за ним другие. Тех, которые топтались на доске, словно раздумывая, сталкивал я сам. Мной овладело ожесточение. Я бегал по голубятне, вырывая дверки клеток, переворачивая миски с водой. Голуби пугались; трепеща крыльями, метались как безумные по чердаку. Туча птиц, и я посредине. И все гоню и гоню их из клеток…
Что мне до голубей, пусть летят куда угодно! Завтра, послезавтра я уеду отсюда навсегда, нет у меня голубей и больше не будет. Ничего у меня нет Никакая граница не отделяет теперь мою голубятню от остального мира…
Пробиваясь к окнам, они били меня крыльями по лицу, некоторые садились на руки, на голову, цеплялись за одежду. Я снимал их и выкидывал во двор. Пусть и у них не будет своего гнезда, пусть скитаются! Не желаю их видеть. Вот еще два, вот последний… Вот и все, нет больше голубей, я один…
Что это?.. В темном углу что-то шевельнулось. Я бросился туда, но у меня не поднялась рука. Там были птенцы. Уродливые, не оперившиеся еще птенцы и с ними большой голубь. Он смотрел на меня, и казалось, только он меня не боится. Охраняя потомство, он сидел спокойно, словно какая-то сила, самая большая на свете, велела ему противостоять моей злобе.
«Ладно, оставайтесь! — подумал я. — Все равно вас кошка сожрет». Наступила тишина.
Я повесил на дверь замок и сбежал во двор. Лишь теперь я заметил, что весь в поту, будто заболел гриппом, и горло спеклось до боли.
— Что, прибираешь в клетках? Выгнал их погулять? — спросил Лях. Он перестал колоть дрова и вышел из сарая. Указал вверх: — Хорошо идут!
Я задрал голову: над домом шли кругами мои голуби. Они рассыпались на маленькие стайки, снова объединялись, это было похоже на огромный смерч, который втягивается небом.
— Да. Я все прибрал! — ответил я. А про себя подумал: «Ну вот, сделано одно дело, хоть и не самое важное, но все-таки… Можно ехать». Но чувствовал я себя как час назад — не лучше.
Я не мог заставить себя оторвать взгляд от птиц, которых только что выгнал из голубятни. Мне вспомнился какой-то фильм: вот так же кружились стервятники над караваном, увязшим в песках пустыни. Теперь распоряжались они. Но голуби — не стервятники в пустыне. Через несколько минут они ушли в разные стороны, впятером, вдесятером…
Я решил пойти к шахте, навстречу отцу. Пора ему вернуться. Да, я поговорю с ним на улице. По дороге, пока идем домой. Тогда и это, самое важное дело будет сделано…
И вдруг я увидел, что на сараях сидит еще голубь. Что ж это, не улетел с остальными? Я подошел ближе. Рыжий! Свистнул на пальцах. Но он не испугался. Тогда я бросил в него чем-то, что было у меня в руке. И только тут сообразил: да это ж ключ от чердака, от голубятни! Рыжий не обращал на меня внимания: он нахально красовался на виду, вышагивая по крышам сараев то в одну, то в другую сторону.
Глава 20
Отец сказал:
— Вот как! Значит, ты считаешь, что тебе все известно от деда… Все! Не прибегай к этому слову. Всего никто из нас не знает. Это немыслимо. Только бабушке кажется, что черное — это черное, а белое — это белое. Они говорят, что я не желаю сказать тебе правду… Ладно, будем считать, что правда тебе известна. Твоя мать уехала, да. И может быть, сюда уже не вернется…
Мы с отцом шли вдоль реки, он говорил вполголоса, почти спокойно, вроде бы рассуждая сам с собой:
— Почему она с тобой не попрощалась? Ты спал, ты не можешь знать… Она поцеловала тебя и заплакала. Она считала, что тебе лучше не говорить… пока. Потом, может быть, все сложится иначе. Тебе этого не понять. Да, дедушка прав: и не пытайся. Это дело трудное. Для бабушки тоже слишком трудное. А санаторий был выдуман не для соседей. Чихал я на соседей! Это было выдумано для тебя… Мы должны дать матери немного времени… Все еще может измениться. И она вернется… Думаю, с тебя пока достаточно. Понимаю, ты в обиде на всех… Что? Только не таким тоном, Юрек! Не таким тоном со мной… — Перейдя мост, мы очутились на главной улице. Мелькали прохожие, мы шли очень медленно. — Придется тебе поверить на слово, что это было неизбежно. Нет, не в июне это было решено, а гораздо раньше. Мама хотела… Ладно. Ты прав. Не будем о нас, будем о тебе. Говоришь, для тебя это самое важное. Вот если б ты еще поверил, что это самое важное и для нас…
Словно не отцу, а куда-то в пространство, я сухо сказал:
— Я хочу ехать к маме. Хоть завтра. Да, я поеду завтра! Отец, застигнутый врасплох, остановился.
— Хочешь ехать… Ты уверен, что хочешь? Может, поговорим об этом потом, спокойно… Ну, скажем, через три-четыре дня?
Я не размышлял ни секунды. Не о чем больше говорить. Раз предстоит ехать, значит, лучше завтра.
— Нет! Я уезжаю завтра! Не хочу здесь оставаться. Понимаешь? Теперь уже не хочу!
Мы стояли друг против друга, молчание затягивалось. Отец отвернулся. Сказал тихо, как бы равнодушно:
— Не хочешь… Хорошо, понимаю. Не будем больше об этом. Я схожу сейчас на почту и дам маме телеграмму. Уедешь завтра к вечеру.
— Это точно? — допытывался я с ожесточением.
Отец кивнул, стремительно повернулся и пошел прочь. Но, пройдя совсем немного, замедлил шаг. Он замедлял шаг все больше… Он шел сгорбившись, заложив руки за спину, как ходят старые, усталые люди. Я подбежал к нему.
— Я пойду на почту с тобой…
До самой рыночной площади мы не проронили ни слова. Мы шли рядом по тротуару, но мне казалось, между нами — Атлантический океан, огромное пространство, которого не преодолеть. Теперь и я был спокоен. Все выяснилось, завтра я уезжаю. Только надо попрощаться с ребятами. А Эльжбета? Пойдет в кино одна, будет ждать, но я не приду… Ну конечно, надо попрощаться и с Эльжбетой. Мы расстаемся ненадолго. Встретимся там, в Варшаве.
Телеграмма была будничная, до смешного простая. Отец отодвинулся в сторону от окошечка и написал четкими печатными буквами:
ЮРЕК РЕШИЛ ПРИЕХАТЬ ТЕБЕ ЗАВТРА ВЕЧЕРОМ СКОРЫМ ЖДИ ГЛАВНОМ ВОКЗАЛЕ ОКОЛО ДВАДЦАТИ ТОЧКА
«…Около двадцати, точка». Итак, с этим покончено… — подумал я. — Как это здорово звучит: «Юрек решил…»
Из окошечка высунулась дежурная:
— Тебе тоже телеграфный бланк? Может, перевод? Я попятился.
— Мне?.. Нет. Мне ничего не надо… Я с этим мужчиной.
И вдруг испугался собственных слов. «С этим мужчиной…» Обыкновенные слова, а ведь страшно. Я взглянул на отца — он платил за телеграмму, не глядя в мою сторону.
Было уже поздно, когда я подошел к дому, где живут Малецкие. Я крикнул раз, другой. Эльжбета появилась в освещенном окне, кивнула и исчезла в глубине квартиры. Вот она выбежала на улицу.
Я сидел на скамеечке, вкопанной в землю возле самых ворот. Эльжбета заколебалась, но подошла.
— Ну что? Прошло это у тебя? — заговорила она с насмешкой. — Но в кино прийти не соизволил! Я ждала, как дура…
— Погоди, Эльжбета. Есть дела поважнее!
— Что-нибудь случилось?
— Худо, Эльжбета. Случилось, многое случилось… Наступило молчание. Она не нарушала его, ждала, а я не знал, что сказать. И подумал: «Может, лучше не говорить ничего? Что это мне даст? А ей?..»
— Юрек… — Эльжбета села рядом, очень близко. Повторила: — Юрек…
Я начал говорить. Но это были не те немногие слова, которые я услышал от деда. И даже не те, что сказал мне отец. И слова не были спокойные, обыкновенные. Странная вещь — слова. Они придавливают сильней, чем камни. Однажды сказанные, они лежат потом под рукой, не надо и нагибаться, чтоб бросить ими. А я бросал вслепую, но попадал всякий раз только в себя. И все больнее. И все ясней видел, что это, к сожалению, не история из книжки — из той книжки, которую можно в любую минуту отложить, если покажется, что она слишком печальная.
— Может, это не ее вина? — спросила Эльжбета, точно обращаясь к самой себе. — Не думай о матери плохо.
Я не очень-то ее понял. Я вообще не думаю, чья это вина. Не в этом дело, для меня важнее другое.
Я знаю, Эльжбета… Не хочу здесь оставаться, понимаешь? — Хочешь уехать? Правда, хочешь?
— Должен…
Из окна послышалось:
— Эля! Эльжбета!
Она понизила голос, наклонилась ко мне:
— Это тетка. Почему должен?.. Может, лучше подождать, как сказал тебе отец…
— Я уеду. Буду жить там, ходить в школу, Может, будет не так уж плохо… Где-то под Варшавой, в Отвоцке…
Глаза у нее сверкнули, она вскочила.
— Юрек, правда? Ты будешь в Отвоцке? Замечательно! Так ведь это ж рядом… Близко… Боже, как я рада! Мы будем встречаться, ты будешь звонить мне. Ты не подумал об этом? Да ведь мы сможем часто встречаться! Слышишь? Хоть каждую неделю!
Об этом я и раньше думал. Конечно, мы будем близко, будем видеться. Но сейчас я не радовался этому, как она. Наверно, она поняла почему, перестала улыбаться.
— Да… Не знаю только, хорошо ли это, что ты отсюда уедешь.
И опять голос из окна, нетерпеливый:
— Эля! Что ты там делаешь?
Она не ответила. Шепнула мне:
— В самом деле, не знаю. Мне хочется, чтоб ты был там… Ну, мне пора! Знаешь, что я думаю? Жаль что мы не старше. На несколько лет… Я помогла бы тебе тогда. А теперь не знаю, что и сказать. Не расстраивайся, Юрек… Мы будем близко. Знаешь, почему я была такая грустная, когда мы вернулись из замка, после обеда? Ты спрашивал об этом в саду, но мне не хотелось тогда говорить. Я получила письмо, что через пять дней надо ехать в Варшаву. Я написала маме, чтоб она разрешила мне остаться здесь до второго сентября. Теперь это не имеет значения! Можно ехать хоть сейчас…
— Эльжбета!
— Сейчас, тетя!
Она улыбнулась мне на прощание, и вот я уже один, Только теперь я понял, почему рассказал ей все это. Если б не она, некому было б рассказать. Наверно, поэтому.
Как все сложится там, куда еду? Мне было не представить себе этого. Как будет в Варшаве? Ну конечно, улицы, дома… Но, думая о тех улицах и тех домах, я представлял себе их такими же как и наши, в Божехове, только гораздо больше. Помножить, скажем, Божехов на десять, может, на двадцать и поставить посредине Дворец культуры, который я знал по кино, по фотографиям. Только шахты не будет… И пруда. И нашего сада. И моста через Брыницу. И нашего дома… Так что ж, тогда там, собственно, будет?
Я брел по улице и хоть было уже темно, смотрел по сторонам, будто я приезжий, будто в первый раз вижу все это. А может, и в последний. Я знал, предчувствовал весь день, что сегодня кончится что-то, но не думал, что это «что-то» будет заключать в себе так много…
Я долго не мог заснуть, а утром проснулся поздно, на кухне я застал отца — он сидел у стола и глядел в окно. Может, он вообще не ложился? На подоконнике лежали мои рубашки, платки, свитер — то, что надо будет положить в чемодан. На спинке стула висели брюки и пиджак. Мой выходной костюм, только что выглаженным.
Я позавтракал и ушел. Не нашлось у меня такого слова, которое хотелось бы сказать отцу. Толстого не было дома, и его мать сообщила, что он пошел, наверное, с ребятами на пруд.
— В такую рань? — подивился я. — С какими ребятами? С Зенеком? С кем еще?
Но мать Толстого не знала, с кем еще, и добавила, что не уверена насчет пруда, просто ей так кажется. Куда ж еще могли они пойти?
Вот именно, куда ж еще? В сто разных мест, мне было лучше знать это. Только взрослым кажется, что в Божехове некуда податься. Мама тоже часто говорила: «В жизни еще не видала такой дыры, как Божехов. Куда тут идти? Три шага в одну сторону — шахта, три в другую — костел. Это ужасно — прожить тут столько лет!» Почему ужасно? Да и сколько она тут прожила?.. Не знаю.
Да и что я знаку о них вообще? О собственном отце и о матери. Если хорошенько подумать, так я почти ничего о них не знаю. Да и откуда мне знать? Сами не говорят. А спрашивать? Все равно не скажут. Почему же так получается? Не хотят о себе говорить или нечего сказать? Вот если б можно было просветить насквозь таким аппаратиком кого хочешь и чтоб сразу понять: каким был раньше, что думает теперь? Пригодится ли такое изобретение?
Только бабку не надо просвечивать. Она сама скажет все, что думает, сразу и во всеуслышание. Но и это не больно-то хорошо. А дедушка — тот сам по себе такой аппарат. Он про каждого в нашем городе что-то знает, всех помнит. А может, не всех. Знает ли он, скажем, меня? Навряд ли. Про меня никто ничего не знает. Может, только Толстый да Зенек, ну… и Эльжбета, теперь она знает больше всех. Но даже больше всех — это сущая кроха. А отец? Мама? Да собственно говоря, сколько лет мама тут прожила? Во всяком случае гораздо меньше, чем дедушка. А почему дедушка никогда не говорит, что Божехов — дыра?
По улице медленной вереницей тащились подводы с углем, иногда проносилась машина. Я шел мимо подвод. Грохоченый уголь, кулачковый первый, орешек, кулачковый второй, орешек с мелом, кусковой… Я б и в темноте не перепутал, А мама говорила, что когда-то раньше, когда она жила еще в Варшаве, она не отличала один сорт угля от другого, все черное; это был для нее просто уголь. Забавно…
— Збышек пошел, кажется, на рыбалку! — сообщила мне Малецкая в окно, когда я свистнул особенным образом — наш старый сигнал.
Меня ничуть не интересовало, куда пошел Збышек, мне надо было вызвать Эльжбету, чтоб с ней попрощаться. Но она не появилась в окошке, наверно, ее не было дома. На всякий случай я свистнул еще раз, погромче, вроде бы голубям, и немного подождал.
Куда они все подевались? Как раз сегодня, когда до отъезда остается каких-то два часа. Я рассердился на них. Я был на них в обиде. На всех. Вроде бы и понимал, что это случайность, что они где-то рядом, может, сами ищут меня. Но главное в том, что они знать не знали о моем сегодняшнем отъезде. Даже Эльжбете я не сказал, что это уже сегодня, не успел сказать. Да, я рассердился. Они обязаны со мной попрощаться, и все тут. Да и Эльжбета могла бы догадаться, или спросить, или… Ну мало ли что…
Ладно. Не буду ни с кем прощаться, сами виноваты, что их нету. Хотя, собственно… Будь они дома, что из того? Что я скажу Зенеку или Толстому? «Будь здоров, Толстый!» А он мне: «Будь здоров, Юрек!» Вот и все.
На шахте завыл гудок. Я прибавил шагу, пора возвращаться. И вдруг ужасно заторопился, будто мой поезд стоит уже у перрона. Запыхавшись, влетел в квартиру.
— Который час? Пора?
Отец отложил газету и посмотрел на часы:
— Пожалуй, да. Можно и отправляться. Заглянем еще к бабушке и дедушке. Я думаю, ты хочешь с ними попрощаться?
— Конечно!
— А с мальчиками? Был тут один, я даже его не знаю. Спрашивал тебя…
— Наверно, Адам! Не страшно… Я напишу ему письмо! Я взял чемодан, и мы пошли.
Глава 21
Давно я уже не видел бабку такой злой, как сегодня. Она подгоняла меня, пока я обедал, покрикивала на деда, только на отца смотрела, как на пустое место, точно его не было. Отец ел, не проронив в спешке ни слова, а дедушка облекался меж тем в свой выходной костюм и все время не мог чего-нибудь найти.
— Ну чего ты крутишься? — спрашивала бабка. — Чего тебе надо?
— Ботинки.
— Потрудился б, нагнул голову, так увидел бы, что они под кроватью.
— Нету их там, — бурчал дедушка. — Нет… Есть. Мать, нет рожка для ботинок.
— Да ведь на стуле лежит!
— А, верно, — соглашался дедушка. — Видишь, Юрек, какой у бабушки зоркий глаз, а? И она вовсе не такой уж зверь, хоть на первый взгляд — сущий царь Николай II. Только без бороды.
Я улыбнулся.
— А тебе весело? Рад, что едешь? — заговорила бабушка с ехидцей. — Вижу, что доволен. В Варшаву! Только тебя там не видали! Поглядите на него, сияет… В кого ты, собственно, уродился, а?
— В меня! — заявил дедушка. Я знал, что он отпускает спои шуточки, чтобы предупредить скандал, старается спасти положение. — В меня он уродился. И в тебя, старуха, тоже. Красотой!
Но бабушке было не до шуток. Она громко вздохнула:
— Эх вы, люди! Ты никогда не принимаешь ничего близко к сердцу, старая калоша, одни шутки в голове. Зато сын у тебя — великий умник, всех перехитрил. Да… А теперь еще ребенка испортят…
Она принялась плакать. Старая простая женщина, она вытирала нос о передник, плакала громко, и это было невыносимо. Отец резко встал, отодвинул тарелку и вышел из дому. А дедушка справился наконец с ботинками, напялил пиджак и заявил серьезно:
— Поцелуй бабушку, Юрек. И обещай, что сразу по приезде ей напишешь. Ну, прощайтесь. Перестань, бабка, реветь. Я тебе говорю, он парень с головой, он свое место найдет… Ну, пора!
Бабушка вышла с нами за порог. Я повернулся, помахал ей. Но она не ответила мне. Она стояла на крыльце не шевелясь и смотрела на меня, как мне показалось, каким-то странным взглядом. Словно я был чужой. Я поставил чемодан на тротуар и подбежал к крыльцу. Схватил ее за руку.
— Бабушка, что мне делать?
Всего секунду назад я не знал, о чем спрошу. Я не хотел ни о чем спрашивать, хотел только поцеловать ей руку… и чтоб не смотрела на меня так. Но когда подбежал, я увидел у нее на лице то, чего раньше никогда не видел, а может, просто не замечал. Словно досаду на меня, неприязнь… Значит, и я для нее чем-то виноват? Я… А что такое я сделал? Ведь я всего-навсего уезжаю…
— Скажи, бабушка, что мне делать?
— Поезжай. Не забывай… — И ее рука описала широкую дугу, словно одним движением она хотела замкнуть некое пространство, охватить то, чего не выразить словами. — Не забывай про нас. У меня один-единственный сын… Это твой отец. И он все потерял. Никогда ей этого не прощу… Поезжай. Это не твоя вина…
Я отступил на шаг, но все не мог оторвать глаз от ее лица. Никогда еще не видал я такой ненависти. И подумал, что для своей бабушки в эту самую минуту я перестал что-либо значить. Теперь один только человек был ей важен: ее собственный сын. Только мой отец. И весь мир она, наверно, поделила на тех, кто с ним, и на тех, кто может обидеть его. С сегодняшнего дня для своей бабушки я отношусь к тем другим. Я не стал ей отвечать, да она и не ждала моего ответа. Опустив голову, я отошел от крыльца.
Дорога к станции была в гору, но мы шли быстро. «Если б все тяжелое было таким же тяжелым, как этот чемодан, — думал я, — тогда по любому склону я взбежал бы с песней! Неужели им непонятно, что слишком много взвалили они на мои плечи? Что я им всем сделал?»
Возле рыночной площади, рядом с книжным магазином, нам встретился Збышек Малецкий. Збышек был на велосипеде. Он поздоровался с отцом и посмотрел на меня, словно хотел о чем-то спросить или ожидал, что я с ним заговорю. Но когда я прошел мимо без слов, с равнодушным видом, Збышек вскочил на велосипед и уехал.
Вот мы и на станции. На перроне толпятся люди. Мы остановились под часами, отец отдал мне билет, дедушка стоял рядом, волнуясь и перекладывая тросточку из одной руки в другую. То и дело он давал мне какой-нибудь чудной совет, а я притворялся, что слушаю его. Потому что чувствовал — замолкни дедушка, и мы все будем молчать. Так же, как по дороге на станцию.
— В поезде не пей лимонаду, он, конечно, крашеный. Смотри в оба за чемоданом — уведут. Не спи. Или спи, но чемодан держи тогда под ногами…
— Когда держать под ногами?
— Когда будешь спать. Но лучше все-таки не спи, не то проспишь станцию.
— Это ж конечная станция…
— Так только говорится, всегда могут что-нибудь изменить, и поезд пойдет дальше. Ага! И не разрешай открывать окна, иначе будет сквозняк. Скажи людям, что заело. Но лучше всего не разговаривай совсем, потому что неизвестно, что за люди. Если будут о чем спрашивать, буркни в ответ, что у тебя горло болит.
Отец рассердился:
— Дедушка, что ты городишь? Глупости какие-то…
— Глупости? Пусть будет глупости. Только, боже сохрани, не пей холодной воды. А теперь пошли туда, к ларьку… Напьемся пива.
— Я не люблю пива.
— Ну, тогда лимонаду!
Отец пожал плечами и остался у чемодана. А мы направились к ларьку. Там дедушка тихо сказал:
— Не в лимонаде дело, все равно крашеный, покупать не стану. Юрек… тут немного денег… вот! Только спрячь хорошенько. Может, в ботинок, а?
— Триста злотых! Дедушка, да ведь это…
— Тихо! Ну!.. Ни слова. Не серди меня!
Ни с того ни с сего дед принялся кричать и так замахал тросточкой, что продавщица в киоске забеспокоилась:
— Что случилось, папаша? Если что не так — вон стоит милиционер…
— Пусть присядет, не то жилы на ногах вздуются! — ответил дедушка. — Две большие светлого!
Он кивнул милиционеру и, когда тот подошел, внимательно на него посмотрел:
— Клеофаса Матеяка сын, а? С Замурной улицы?
— Верно, дед, — улыбнулся милиционер.
— Ну так берись, человек, за другую кружку, стоишь, как на свадьбе, а с кем мне выпить?
По радио объявили поезд на Варшаву. Меня охватило беспокойство, только сейчас я заволновался по-настоящему.
Подбежал к отцу. Эту фразу я давно уже приготовил:
— Слушай, голубей я выпустил со злости… я не хотел…
— Каких голубей?
— Моих… наших. Я выгнал их… всех…
— Не стоит сейчас об этом, это не самое важное… Юрек, нет уже времени. Бери чемодан, живо!
Поезд остановился. Щелкая, открывались двери вагонов. На платформе поднялась суматоха. Все бежали в разные стороны, заглядывали в окна в поисках купе посвободней. Мне ничего так и не удалось сказать, слишком поздно… Только сейчас я понял: сказать надо многое! Так быстро пришел поезд…
Я не слышал, что говорил отец, дедушка. Милиционер дал дедушке подержать свою кружку с пивом и помог мне внести чемодан, я пробивался через коридор и, заглядывая в купе, спрашивал, нет ли свободного места, но мне не отвечали; кто-то с кем-то громко прощался; женщина рвала что есть силы кладь, застрявшую в дверях… Каждый совершал тысячу мелких ненужных движений, суетился, нервничал. Какой-то человек назойливо и громко кричал в окошко:
— Алло, бутылку минеральной сюда! Бутылку минеральной! Алло, бутылку минеральной…
Я силой пробился к окну, открыл его и высунулся как можно дальше. Поцеловал дедушку, который обе кружки с пивом отдал теперь милиционеру. Схватил отца за руку, горло у меня свело судорогой, я не мог произнести ни слова…
Крик начальника поезда перекрыл голос, требовавший минеральной воды. Люди немного утихли. Издалека долетело протяжное:
— Готоооооов!
— Папа! Почему вы меня отсылаете? Почему ты согласился, чтоб я ехал?
Поезд тронулся. На нашей станции он стоял не больше минуты. Я все еще держал отца за руку, он шел теперь рядом с вагоном. Мне казалось, что и он не мог в эту минуту найти те слова, которые собирался сказать раньше.
— Отсылаете? Неправда!
Пришлось разжать руки. Поезд прибавил ходу, отец стал отставать. Крикнул:
— Юрек, да ведь ты сам хотел!..
Я отодвинулся в глубь вагона. Отец сделал еще несколько шагов и остановился: кончился перрон. Он вытянул руку, однако прощального взмаха не последовало, казалось, прерванный на полуслове, он выскажется сейчас до конца, но поскольку высказаться возможности не было, терял смысл и этот жест прощания.
Один из пассажиров заговорил со мной, но я так и не понял, чего ему нужно. Я не видел станции, которую мы проезжали, не видел на перроне никого и ничего. Все отдалилось, и только фигура отца, замершего с поднятой, как бы вытянутой рукой, не уменьшалась, а росла, приближалась, заслоняя собой все, была рядом, у самого окна…
Станция исчезла из глаз, колеса застучали по стрелкам, поезд мчался теперь в пологой выемке и, огибая город, описывал широкую дугу. Видны были еще ближние дома, а потом уже только башни костела. Я знал, скоро мы проскочим мост, тогда появится шахта и весь Божехов будет как на ладони, будто разложенный на огромной миске. Я не отходил от окна.
Сейчас машинисту придется сбавить ход, и я увижу, наверно, кусочек пруда. Мы замечали, купаясь, что поезда в этом месте сбавляют ход, может, поворот слишком крутой. Вот уже тормозит…
Солнце бьет в глаза, оно над самым городом, больно смотреть. И вот открывается Божехов: вдали, будто уменьшенные, проходят панорамой терриконы, вытяжные стволы шахт, деревья, заслоняющие крыши городка, склоны меловых холмов… Уже видна дорога к развалинам замка. Сейчас она пересечется с железной дорогой. Шлагбаум будет опущен, возле будки уже наверняка стоит сторож с флажком… Столько раз я это видел, но чаще с другой стороны, когда приходилось пережидать поезд. А теперь я в вагоне. Может, на переезде дежурит сегодня старик Дерда? Тогда я крикну ему: «До свиданья, пан Дерда!» А он, наверное, не услышит. Только до свиданья ли?..
Поезд все еще сбавляет ход. Божехов уже исчез, его заслонили деревья. Только трубы шахты торчат вдалеке. Раз, два, три, четыре… Зачем считать? Ведь я хорошо знаю, что их четыре. Переезд!
Впиваюсь руками в окно. Нет! Это не обман зрения! Три велосипеда лежат на обочине! А за шлагбаумом — они. Махают руками. Эльжбета! Толстый, Збышек… Хочу что-нибудь крикнуть, но не знаю что. Хотя б одно слово, одно… А те кричат, но поезд заглушает голоса. Переезд остается позади. Эльжбета срывает с себя косынку, размахивает над головой. Хвост вагонов на повороте заслоняет собой все, выгибается позади…
Кто-то из пассажиров отодвигает меня, закрывает со злостью окно. Пусть закрывает. Я сажусь на скамейку — все равно больше ничего не увидишь.
Значит, приехали на переезд те трое. Наверное, Збышек сказал, он видел меня с чемоданом. Хороший парень Проблема!
Через четыре часа на другой станции меня будет встречать мама. Это будет конечная станция. Я выйду и скажу: «Вот и я! Я хотел к тебе приехать». Только правда ли это? В самом ли деле хотел?..
Глава 22
Все угомонились, каждый как-то устроился, рассмотрел соседей, убедился, что места в купе достаточно, и занялся своим несложным делом: кто принялся за бутерброды с колбасой, кто заснул, кто взялся за газету. Итак, тишина. До следующей станции, где снова один выйдет, другой войдет и опять начнется неразбериха. Я отправился в коридор и открыл окно.
Еще час шел поезд по угольному бассейну, словно жаль ему было расставаться с нашими местами. Мы петляли между вытяжными трубами и терриконами, которых тут все же меньше, чем кажется приезжему, и вместе с тем больше; поезд пролетал у раскаленного жерла огромных печей металлургического комбината имени Дзержинского, а минуту спустя — будто ради потехи — пропал в сосновом бору, где на секунду возникала табличка с самым забавным в этой округе названием станции: «Синичка»; хотя еще смешней мог показаться Голоног, оставшийся уже позади… для меня, впрочем, в этом названии никогда ничего смешного не было.
Каждая из этих станций, увиденных невзначай, промелькнувших на мгновение и вроде бы уже ненужных и исчезнувших за последним вагоном поезда, кое-что значила все же для меня. Зомбковицы — сюда мы приезжали на озеро Погориа, здесь же были со школьной экскурсией на заводе оконного стекла; Лазы — здесь у Толстого живет тетка, а у тетки есть лошадь, на которой мы учились когда-то ездить верхом: Мышков — отсюда родом Форнальчик… Вроде бы и не так важно, но когда проходили велогонки Мира, для всех нас это имело большое значение!
Форнальчик!.. Народный спортивный клуб Мышков, народный спортклуб Бендин. Я знал наизусть названия всех спортклубов из городов, которые мы проезжали. Форнальчик — превосходный гонщик, но Вильчевский! Вспомнились те самые знаменитые гонки, когда наша команда осталось лишь втроем, и все же не отдала на территории Польши ни одного этапа! Нет, один, кажется, отдали, лодзинский, и то поляку, только из Франции. Вильчевский победил тогда в родном Хожеве. Пролетев финишную черту, он соскочил с велосипеда и стал смеяться во весь голос, прыгать от радости, как мальчишка из детского сад;). Кто-то подарил ему — «на счастье» — маленького забавного поросенка, который вырывался и визжал, словно его уже резали. Весь хожеский стадион забыл в ту минуту про велогонки, и тысячи людей скандировали хором Вильчевскому: «Метек, Метек, ноги задние свяжи! И передние свяжи! Метек, съешь его с горчицей!»
Вот позади и Завертье. Теперь — Ченстохова. Когда едешь варшавским поездом, этот город кок бы последнее воспоминание о Шлёнске. Опять металлургический комбинат, огромный… Люди в коридоре говорили, что здесь поезд постоит дольше. Можно, пожалуй, сгонять за лимонадам… Тут мне вспомнился совет дедушки, и я улыбнулся. «Наверняка крашеный!» И я вернулся в купе.
Да. Значит, придется приучать теперь себя к мысли, что «мой» клуб — это Легия или варшавская Полония? Надо выучиться говорить: «Я из Отвоцка!» Может, город и хороший, да не мой: я и знать не знаю, как он выглядит. Да и не больно-то меня это интересует. «А что будет, если на матч высшей футбольной лиги в Варшаву приедет сосновское „Заглембе“ или „Гурник“ — „Забже“? — пришло мне вдруг в голову. — Буду тогда орать: „Давай, „Заглембе“! Браво, „Гурник“! „Заглембе“, шайбу! „Гурник“, давай!“ — решил я без особого раздумья. Сейчас, заранее, чтоб не было потом сомнений.
Еще час пути, и еще час… Перестук колес сливается в однообразную мелодию, меняющую снос настроение и ритм, иногда мелодия стихает, чтоб взорваться грохотом промчавшегося навстречу экспресса. Поезд останавливался и трот лея вновь. И чего только не передумает человек, пока едет в поезде? Даже не расскажешь.
За окном становилось темней, густели сумерки. Проносились строения, высокие платформы, столбы. Варшава-Западная… Я выглянул в окно: виден ярко подсвеченный Дворец культуры. Значит, еще несколько минут, и все, Четыре часа — пожалуй, не слишком много… Но как далеко отсюда до Божехова, до них до всех! Я снял с полки чемодан. И вдруг — странное возбуждение. Будто чего-то боюсь… Я? Чего? Поезд остановился. Переполненный перрон гудел от говора и криков, возгласы носильщиков, заглушал» голос, объявлявший что-то по радио. Меня толкали, и я не шел, стоять ли у вагона или вместе с толпой двигаться к выходу. Вдруг я увидел тетю Ванду. Пробиваясь ко мне, она махала рукой.
Тетя Ванда засыпала меня вопросами, которых я не слышал, я все пытался увидеть маму, был уверен, что она здесь, что сейчас подойдет. Я не допускал мысли, что может быть иначе.
— Наконец-то ты приехал. Я тут тебя, наверно, уже час жду. Теснота была в поезде, да? Уж конечно, теснота! Кто это слыхивал, чтоб выбрать такой поезд? Будто твой отец не знает, что нам ехать еще в Отвоцк! Чуть ли не все поезда из Катовиц приходят в Варшаву-Центр, а этот как раз — нет! Там и пересадка… А отец впихнул тебя именно сюда!
Мы пробирались к выходу. Толпа, напирая, то и дело разъединяла нас… «Может, мама ждет у вокзала?..» — подумал я. Но когда мы прошли мимо длинной очереди приезжих, пытавшихся на привокзальной площади сесть в такси, и на другой стороне улицы стали спускаться вниз, к перронам электричек, я понял, что мама не пришла. И тогда испугался, засверлила отчаянная мысль: может, с мамой что-то не так?.. Может, заболела или несчастный случай? Тетка тараторила о пустяках, а я все ждал, когда она скажет одно-единственное слово, которое для меня сейчас всего важнее. Лишь в электричке, когда состав тронулся, тетка сказала:
— Ну что? Про мать не спрашиваешь? Она не могла приехать на вокзал, ее здесь нет. Мне удалось ее, к счастью, уговорить, она поехала со знакомыми на несколько дней к морю… Я послала ей письмо, сразу после телеграммы отца…
Мы мчались по длинному туннелю, через каждые две-три секунды мелькали лампы по обеим сторонам пути. Тетка старалась перекричать грохот колес:
— Наверно, получит письмо завтра… Подождешь мать несколько дней, пусть сама решает, как с тобой быть, я вмешиваться не хочу…
Я слушал внимательно, каждое слово имело свое особое значение. В действительности, может, меньшее, чем мне казалось, но слова врезались в память. Поезд выскочил из туннеля, мы пересекали по мосту Вислу. Я встал и подошел к окну. За спиной послышалось:
— Только помни, не мешай Стасю, он готовится к какому-то очень важному экзамену.
Освещенные мосты отражались в Висле; на том берегу, который остался позади, сияла панорама города. Впервые я видел Варшаву, но о ней я не думал. Мамы здесь нет… Потому и не пришла. Приедет, решит сама. О чем решит? Ее здесь нет. Обыкновенная вещь…
Все выглядело по-иному, все. Я лежу на раскладушке и боюсь шевельнуться, потому что раскладушка страшно скрипит. Мне не уснуть, и в то же время, размышляя, я не в силах ответить на свой собственный вопрос: чего мне здесь надо?
Темно. Едва различимы очертания незнакомой мебели в чужой квартире, которой предстоит теперь стать и моей квартирой. Чего мне надо? Ведь я же знал, куда еду. Ну так чего же?..
Поздно вечером мы сели втроем ужинать. Поздоровавшись со Стасем, я подумал: хорошо, что он здесь, с ним все-таки лучше, чем с одной теткой. Я мало его знал, всего раз, три года тому назад, он приезжал к нам в Божехов на праздники. Там он тоже все время занимался, готовился к экзаменам на аттестат зрелости. Он так важничал, что Черный сказал: «Видишь эту физиономию — зевать с тоски хочется. Ты за ним, Юрек, присматривай: такой умный, того и гляди, пенициллин изобретет. Что тогда?»
Сташек называл маму по имени: тетя Ванда была намного старше ее, кто не знал, ни за что бы не догадался, что они сестры. Сташек был скорее чем-то вроде маминого брата.
В первые минуты мне показалось, что он рад моему приезду. Потом, за ужином, я уже не был уверен.
Тетка заметила, что я присматриваюсь к стоящей на буфете фотографии пятнадцатилетней на вид, хорошенькой девочки в харцерском мундирчике. Улыбнулась:
— Да, это твоя мама… Прекрасные у нее были косы, правда? Ты не видел этой фотографии? Я очень ее люблю…
И тетку понесло:
— Для меня твоя мама всегда останется такой маленькой девочкой… Это я воспитывала ее, когда родители погибли в восстании. Потом она познакомилась с твоим отцом, здесь, в Варшаве. Даже не знаю, каким образом… Он приезжал сюда в министерство, что-то в этом роде. Ну, и великая любовь! Я не хотела ее отпускать, но она заартачилась. И все же я была права: вышла бы здесь толком замуж и не ехала бы в ту дыру с таким человеком… Боже, что она пережила! Хоть теперь капельку отдохнет.
Не обращая на нас внимания, тетка говорила это, казалось, самой себе и была взволнована собственными словами. Сташек поднял голову от стакана, точно хотел что-то сказать, но промолчал.
— Сколько она выстрадала… — продолжала тетка. — Так и должно было все кончиться. Если б не ребенок — то есть ты, Юрек, — ей следовало бы вернуться раньше.
Я не дрогнул. Что-то точно защелкнулось внутри, я с трудом глотал чай, но, думаю, вряд ли это было заметно. «Та дыра» — значит Божехов, «такой человек» — значит мой отец. Я чувствовал, надо выслушать это со спокойствием. И не знаю, чем объяснить, но, кажется, я был совершенно спокоен.
— Ну что такое, к примеру, она выстрадала, что? — услышал я свой голос.
Тетка принялась убирать со стола. Расхаживая по кухне, говорила:
— Что ты понимаешь! Через многое ей пришлось пройти, о многом она мне и не писала. Если у человека такой характер, как у твоего отца, он не должен жениться. Еще и этот Божехов — изрядная дыра. Сама не была, но представляю!
Сташек поморщился и заерзал на стуле.
— Зато Отвоцк — почти Париж! — заметил он.
Но тетка даже не слышала. Она ухватилась за свое и твердила одно и то же с каким-то непонятным ожесточением. А может, и в самом деле верила в то, что говорила?
— Скверно она себя там чувствовала. Приезжала к нам каждый год на недельку, на две — кот и весь отдых…
Сташек вскочил из-за стола.
— Мама, может, перестанешь, а?
— Да, конечно… Не стоит с вами разговаривать на такую тему! — заявила тетка. — Что вы можете знать? Но твой отец… Видишь ли, я считала, он не пойдет на это!
— На что «на это»? — переспросил я.
Наступило молчание. Я ждал ответа как бы за нас обоих, за себя и за отца. Странно, но пока она говорила, передо мной стояла не тетка, а он, отец.
— На что, вы считали, но пойдет? — повторил я с тем спокойствием, на какое только был способен.
Тетка поколебалась, но желание высказаться было сильнее ее.
— Ты только пойми меня правильно… Я не думала, что он постарается избавиться от тебя, переложит это на ее плечи! Целый год он твердил, что ты должен остаться с ним и что останешься. Твоя мама, может, с этим и примирилась бы… Как-нибудь устроила тут свою жизнь. Я объясняла: года через три так и так ты приедешь в Варшаву учиться, все равно будешь с ней… А он — бах телеграмму и сажает тебя в вагон. В одну минуту решил все, стал свободным человеком…
И тут я, наверное, улыбнулся, а может, тетку удивило выражение моего лица, потому что она вдруг осеклась. Мне трудно было удержаться. Если б только мог, я смеялся бы во весь голос. «Дурак! — ругал я в мыслях себя. — Видишь, как оно выглядит в действительности? Чего твой дед наколбасил!»
Я встал, подошел к чемодану, наклонился. Замки с треском отскочили, я вынул пижаму.
— Где мне спать, тетя? — спросил я.
Они с удивлением переглянулись, но меня не волновало то, что они обо мне подумают.
…И вот я лежу на этой скрипучей раскладушке, от которой пахнет подвалом, откуда ее в мою честь и притащили; я понял: все обстоит иначе, чем мне казалось.
Но я не огорчаюсь, не жалею, что приехал. Все ясно: я здесь никому не нужен. Очень хорошо, когда знаешь наверняка.
Вот если б только от раскладушки не несло сыростью. Не выношу затхлости подвала… В комнате тихо, все уже спят. А у нас!.. Отец сидит сейчас, наверно, у стола и думает обо мне. Он уверен, мама долго сегодня со мной говорила, она обрадовалась моему приезду… Жаль, что я разрушил голубятню… Там были наши общие голуби, его и мои. Я не имел права.
Глава 23
Тетка ходила на работу. Сташек то сидел и занимался, то пропадал куда-то на долгие часы. А я слонялся по Отвоцку, торчал один в квартире… Но большую часть времени проводил в садике перед домом — квартира тетки казалась мне все более чужой и несимпатичной. Так же, как и она сама.
Она не пускалась теперь со мной в разговоры, да и у меня не было на это охоты. Кто знает, может, она жалела, что в первый вечер так разоткровенничалась. А может Сташек ее урезонил? Я заметил, что отношения у них неважные, тетка частенько глядит на него исподлобья, так же, как и на меня. Я даже подумал — может, они из-за меня и поссорились? И решил поговорить со Сташеком, да все случай не подворачивался. Ведь не мог же я говорить с ним об этом при тетке! А когда ее не было, он брал книги и исчезал из дому. Может, и не нарочно, хотя кто его знает… Но все это, к моему удивлению, не волновало меня, как в Божехове. Я чувствовал себя здесь как то иначе, не так, как дома. Здесь я не был среди своих, не высказывал того, что думаю, — молчал, С опаской вслушивался в каждое слово, когда они говорили друг с другом, но ни о чем не спрашивал их, и они не спрашивали меня, Я поймал себя на том, что по мелочам злю тетку. Это доставляло мне удовольствие.
Я прикидывался простачком, как это любил делать Зенек. Если б он мог меня видеть, он был бы горд, что в конце концов я чему-то у него научился, недаром же все-таки он был три года предводителем нашей компании. Я втихую смеялся, когда тетка скрежетала от злости зубами. Мне даже хотелось, чтоб разразился скандал из-за какого-нибудь пустяка. Но тетка держала себя в руках, хоть мне и казалось, что не раз с удовольствием дала бы мне тумака. Если б могла.
В первый же день испортился приемник.
— Крутил, наверное, беи зазрения совести, вот и пожалуйста! — набросилась она на меня.
— Я крутил? Что на такой развалине накрутишь? — сказал я с издевкой. — У нас в подвале стой в пять раз лучше этого. Если хотите, напишу отцу, он оботрет пяль и пришлет в подарок…
Тетка проглотила это, но с трудом. Тогда я сказал:
— Могу покопаться в вашем ящике, выясню, в чем там дело.
Я поставил приемник на стол, вынул из него все лампы, конденсаторы, все, что можно. Стал смотреть лампы на свет. Хорошо, что Сташека не было дома. Он бы, наверно, сразу догадался, что таким образом ничего не выяснишь. Но тетка глядела на меня с благоговением. А я понятия не имел, что испортилось в приемнике. Отец-то бы догадался, ну а я?
— Ну, что ты там видишь?
— Лампа перегорела, купите такую завтра, я вставлю! — заявил я. Разумеется, это была липа. Я оставил весь этот ералаш на столе и отправился спать. На следующий день, когда тетка сообщила, что в магазине таких ламп нет, я сказал со смехом:
— Что у вас вообще есть, в этом вашем Отвоцке? Напишу отцу, он пришлет мешок с лампами…
— Переживем! — буркнула тетка и велела Сташеку отнести приемник в мастерскую.
В воскресенье я отправился на станцию, сказал, что за газетой.
— Только чтоб через час был дома! Не люблю, когда опаздывают на обед! — предупредила тетка.
Не скажи она этого, может, я б и вернулся. Но со станции отходила как раз электричка на Варшаву. Я взял билет и поехал.
На огромной площади перед Дворцом культуры стояли рядами автобусы, то и дело высаживалась какая-нибудь экскурсия и направлялась к дворцу. Припекало солнце, почти на каждой скамейке сидели в скверике люди. И всюду голуби. Может, именно поэтому я почувствовал себя как дома, свободно, будто здесь не впервые.
И я принялся бродить по городу, просто так, без цели. Садился в первый попавшийся трамвай, автобус и выходил где вздумается. Ведь у меня были деньги от дедушки, много денег. И у меня было время. Куда спешить? К тетке?.. На обед? Пусть подождет. Я чувствовал себя так, точно весь этот огромный город принадлежал сейчас мне.
Я воображал себе, что я здесь с Эльжбетой. Это она показывает мне Старое Място, это с ней я иду по аллеям в центре города, по Новому Святу… Мы останавливаемся у больших витрин, пьем воду с сиропом возле уличных тележек, покупаем мороженое. Она рассказывает мне, какие места, какие улицы любит больше всего, куда ходит гулять, на каком автобусе ездит в спортивный клуб. Показывает мне свою школу, потом мы смотрим на Вислу с моста… И раздумываем вдвоем: не махнуть ли в парк, а то и на пляж? Там полно народу! Даже не верится, что у реки бывает такая толчея! По воде скользят моторные лодки и глиссеры, сверкают на солнце белые треугольники парусов… А возле берега режет воду академическая четверка, одна, другая. Рулевой на корме. Может, соревнования? Хорошо в Варшаве…
Беспокоит только одно: почему так трудно представить себе Эльжбету здесь, на этих улицах, в этом городе? Почему я все время вижу ее там, у нас, на берегу пруда, в нашем шахтерском парке, на теннисных кортах и у башни божеховского замка?
Та Эльжбета настоящая, я уверен. А тут я и сам-то другой, мне себя не узнать… Значит, и ту Эльжбету, Эльжбету с каникул, трудно мне будет найти здесь. Почему так?
Поражает внезапная мысль: может, она уже вернулась? Может, сидит дома и ждет меня или загорает на пляже? А может, идет соседней улицей, и я даже представления не имею, что мы так близко друг от друга?
Где, собственно, она живет? У меня нет адреса, я не подумал об этом, но однажды она говорила о телефоне, и я знаю фамилию… Я посмотрел по сторонам: нет, на мосту телефона-автомата нет придется вернуться! Я забрался в первую же попавшуюся будку возле музея Войска Польского. Через стекло видны пушки, танки, самолеты, расставленные во дворе. Возле будки появляются два, три человека… Ждут, когда выйду! А мне никак не совладать с телефонной книгой, все ищу да ищу… Есть! Фамилия, адрес…
Я набрал номер и, лишь услышав гудок, понял, что волнуюсь, что мне не сказать ни слова, не знаю, как начать.
— Здравствуйте! Эльжбета дома? — выдавил я наконец из себя.
— Эльжбета? Эля?.. Нет, ее нет в Варшаве. А кто говорит?
«Наверно, это ее мама! — думаю я. — Значит, Эльжбета еще не вернулась… Кто говорит? Что ответить? Товарищ?» И неожиданно для самого себя я сообщаю в трубку свое имя и фамилию. По ту сторону на мгновение тишина. И наконец вопрос, который меня изумляет:
— Юрек? Из Божехова? Откуда звонишь?
— Отсюда… Я у моста Понятовского, у музея! — говорю я. «Откуда она меня знает?» — мелькнуло в голове.
— К счастью, это близко. Наверно, ты с экскурсией, да? Жаль, что Эля не выбралась с вами… Слушай, может, забежишь на минутку? Если у тебя есть время…
— Конечно! Большое спасибо… — И я с облегчением вешаю трубку. Из будки я вышел весь мокрый. Но пришлось еще раз туда вернуться и снова порыться в телефонной книге — ведь адреса-то я не запомнил. Зато и улицу и дом нашел потом без труда.
Маленькая кухонька, одна комната… Смотрю по сторонам, и мне не верится, что я в квартире Эльжбеты, а эта женщина — ее мать. На диване, завернутый во что-то, спит махонький, жалкий ребятенок. Это из-за него Эльжбету послали на каникулы в Божехов. Никогда б не поверил, что ребенок может быть такой махонький. Как такого брать в руки, что с ним делать?
— Хорошо, что ты позвонил… Так, значит, ты с экскурсией? Наверно, от шахты, на автобусе?..
Я кивнул. Пусть будет с экскурсией. Зачем рассказывать ей о своих делах? Потом Эльжбета уж как-нибудь объяснит.
— Как это сестре не пришло в голову послать Элю вместе с вами? Было б дешевле и вообще… Она должна приехать завтра, так ей велел отец, телеграмму послал. Ведь скоро школа… Видишь, как мы тут живем? Жуткая теснота. Но самое большее через год мы должны получить новую квартиру. Вот, значит, какой ты. Может, похож на папу, а? Даже наверняка. Удивляешься, откуда я знаю твоего отца, да? Так ведь мы из Божехова. И я и мой муж. Не слыхал? О чем только вы там с Элей говорите, если она даже этого тебе не сказала!
К счастью, ее мать не давала мне вставить ни слова. Говорила она все это так, точно мы с ней давным-давно знакомы, как-то очень просто, как взрослые говорят со взрослыми. Она не спрашивала, хорошо ли я учусь и кем хочу быть. Я почувствовал себя уверенней. «Как учишься, кем хочешь быть?» — вот вопросы, которые большинство взрослых держат про запас. Им кажется, что они разговаривают с нами по-товарищески, когда лезут с этими вопросами. Я не выношу таких вопросов, никто их не любит. Точно так же, как прежде я не терпел, когда ко мне приставали: «Юречек, кого больше любишь — маму или папу?»
Малек стал хныкать, но получил соску и угомонился. А мне в голову пришла дурацкая мысль. Этот ребятенок тоже когда-нибудь подрастет, и тогда он в свою очередь будет спрашивать детей, как они учатся и кем хотят быть. Что же, выходит, так и идет по кругу, пока существует мир?
— Эльжбета была на вас в обиде… Что вы ее туда услали, хотела помочь с ребенком! — сказал я.
— Знаю. Она еще изрядно повозится с детьми, Будет время… Эля была на меня в страшной обиде, когда уезжала. Но потом написала, что каникулы удачные, значит, все в порядке!
И она чуть заметно усмехнулась.
— Знаешь, Эля мне писала, еще в больницу, что ты прекрасно плаваешь и что вообще ты редкий… Тебе она тоже успела это сказать. Нет? Вот видишь, девочки скрытные… Наверно, она с тобой все время ссорилась? Иногда она бывает невыносима.
«Выходит, они ничего о нас не знают? Совсем ничего… — подумал я. — Так же, как и мы о них. Словно и не общаемся друг с другом. Может, так и должно быть?»
Уже в дверях, когда я благодарил за приветы для родителей и для дедушки с бабушкой, пришел все-таки черед вопросу:
— А как учишься, Юрок? Хорошо? Кем хочешь быть? Я рассмеялся:
— Так… неплохо… Еще не знаю кем. Там видно будет… В Отвоцк я вернулся к вечеру.
— Я заблудился в Варшаве, извините, — сказал я тетке. — Когда приезжаешь из такой дыры, как Божехов, можно ведь в Варшаве и заблудиться, правда?
Я проглотил свой ужин, верней сказать, обед. Сташек занимался на кухне, тетка штопала. Я взял газету, просмотрел… и вдруг, сам не знаю почему, мне в голову пришла мысль, что я здесь уже третий или четвертый день, а не послал даже открытки в Божехов. А ведь обещал бабушке. Может, они беспокоятся, не знают, доехал ли я вообще до Варшавы…
— Тетя, у вас есть бумага для письма? — спросил я.
— Поищи там в буфете, в ящике… Под квитанциями…
Я открыл ящик, там был ворох всяких счетов, квитанций и прочего хлама. Я стал их перебирать, перекладывать из руки в руку… И вдруг застыл от изумления. Не поверил собственным глазам: у меня в руке было мое письмо к маме, даже не распечатанное.
Не знаю, долго ли я стоял так с письмом в руке, пытаясь успокоиться, свыкнуться, объяснить это самому себе.
— Ну что, отыскал бумагу? — долетел до меня голос тетки из кухни Я подошел к ней и сунул под нос письмо.
— Я отослал его три недели назад! Почему она не прочитала?.. Тетка взяла конверт, поправила очки. Я думал, она смутится будет оправдываться. Но она спокойно, как ни в чем не бывало объяснила. Даже удивление было у нее в голосе:
— Надо же!.. Какая память! Сунула в ящик, и из головы вон! Впрочем, кажется, ничего не случилось… Так ли это важно?
Сташек поднял голову, посмотрел на нее, на меня.
— Ничего не случилось! Пустяки!.. — И я вырвал письмо у нее из рук.
— Понимаешь, я не подумала… — заговорила тетка, но Сташек ее оборвал:
— О многом, мама, ты не подумала! Например, о том, что ему через два дня в школу! Я тебя предупреждал: добром это не кончится! — почти крикнул он.
Тетка вновь принялась за штопку.
— Не ори. Приедет, сама решит… — проговорила она сухо.
Глава 24
Мне не заснуть, но я спокоен. Перед глазами проходит все еще раз, с самого начала. Только теперь я вижу это по-другому, не так, как еще вчера. Надо найти, надо понять самое главное. Теперь я знаю гораздо больше о других людях и о самом себе.
Сквозь приоткрытую дверь мерцает свет на кухне. Наверно, Сташек еще занимается. Который все-таки час? Я встал с постели и отправился к Сташеку.
— Не спится? Присаживайся, мне тоже вся эта зубрежка осточертела. Будешь пить чай?
Я подошел к окну, распахнул его настежь. Сел на подоконник.
— Душно тут у вас…
— У вас? Да ведь ты хочешь остаться… Получается, значит, у нас.
— Сташек, скажи: почему все так происходит? Почему они такие?
— Не понимаешь…
— Нет, я понимаю. Но скажи: кто все-таки прав? Сташек задумался.
— Каждый по-своему прав. Как тебе сказать? Люди разводятся, это в порядке вещей. Часто, наверно, никто из них не виноват, просто так получилось.
— Не верю!
— Не хочешь верить… Могу, впрочем, себе представить. Может, они и сами не знают, чего им надо, чего ищут?
— Вот что я думаю… Маме, наверно, не сообщали, что я приехал. Твоя мать ей не писала! Не может быть, чтоб она нарочно тянула с приездом.
Сташек кивнул:
— Мне тоже так кажется… Но это было бы свинство! Не могу в это поверить.
— Скажи правду. Тетка уговаривала маму, чтоб она не возвращалась в Божехов? Скажи, Сташек. Это важно…
— Да.
— Сташек, ты разговаривал с моей мамой обо всем этом? Сташек встал и прошелся по кухне несколько раз. Закрыл дверь в комнату.
— Трудно мне говорить с тобой, Юрек. Но думаю, ты поступил неправильно.
— Что приехал? Нет, я правильно поступил!
— Видишь… Ты не понимаешь меня… Я думаю, твоя мама все-таки вернулась бы туда, к тебе. А теперь, раз ты приехал…
Я прервал его:
— Это ты меня не понимаешь. Я правильно сделал, что приехал. Но здесь не останусь! Уже решил… Знаю.
— Что ты собираешься делать?
— Обо мне не беспокойся. Я знаю, что делать. Но передай ей наш разговор и отдай то письмо, которое твоя мама забыла передать, и все расскажи. Ладно? Сделай так, Сташек…
Когда мы ложились, за окном уже светало.
Я не слышал, как тетка ушла на работу. Я проспал почти до двенадцати. Сташека не было дома. В кухне на столе мне был оставлен завтрак. Я посидел еще немного в садике перед домом, вернулся и сложил чемодан.
Все было так легко, так просто. Час езды на электричке. И снова Варшава.
Но я был в досаде на самого себя: ведь я забыл про Эльжбету! Нет, не забыл, неправда. Заехать к ней? Сегодня она уже дома, знает, что я побывал у них. Обрадуется… А может, позвонить? Пойду на Главный вокзал и позвоню. Нет. Что от этого изменится? Все равно через шесть-семь часов я дома. Конечно, я мог бы остаться, тогда б мы часто виделись, до Отвоцка рукой подать. Ей хотелось, чтоб так оно и было, хотелось и мне. Как объяснить ей, что это невозможно? Поймет ли она? Наверняка поймет. И лучше не звонить ей сейчас, не заезжать. Я запомню ее такой, какой видел у нас в Божехове…
Проводнику пришлось потрудиться, прежде чем он меня растолкал.
— Где мы? — спросил я. Мне казалось, что поезд на Катовицы едва тронулся, что видны еще огни Варшавы.
— А где ты выходишь?
Вместо ответа я бросился к окну. И спрашивать ни о чем больше не пришлось. Справа проплывал холм Доротки. Сразу после него — Гродец. Выходит, я уже дома, отсюда можно добраться и пешком.
И я почувствовал себя так, точно возвращался из-за моря, из дальней экспедиции. Только удачной ли была та экспедиция?
— Я? Я сейчас выхожу, в Божехове! — ответил я, взял свой чемодан и пошел по коридору.
И вновь та же дорога по рыночной площади и вниз по Гливицкой улице, вдоль реки. Я иду не спеша и смотрю по сторонам, и все точно такое же, как несколько дней назад, знакомое, привычное. Значит, ничего не случилось, не произошло? А я? Ведь я не такой, как прежде.
Сортировочная машина гудит сильней обычного, словно хочет, чтоб я обратил на нее внимание, мимо идут люди с ночной смены. По Гливицкой, от шахты, тянутся подводы с углем. Кругом все серое; небо затянуто облаками и похоже на грязное полотнище, развешенное над Божеховом.
Почему я иду сначала к дедушке с бабушкой? Сам не знаю, но вот я уже возле двери, раздумывать не над чем. Я нажимаю на ручку и вхожу.
Бабушка разжигала печь. Она отступила на шаг и машинально вытерла руки о передник.
— Юрек… Приехал?
Я стою посреди кухни. Дедушка соскочил с кровати, смотрит на меня во все глаза, а рука беспокойно шарит в поисках трубки. Я вижу, трубка лежит на стуле возле кровати, но дедушке ее не найти. Я снимаю пиджак и, не говоря ни слова, сажусь к столу.
— Что-то случилось? Юрек, говори!
— Нет. Ничего не случилось, — отвечаю я.
— Плохо тебе там было? Не хотели тебя принять? Обидели? Это спрашивает бабушка. Я хорошо ее знаю, знаю этот ее тон.
И я уже знаю, что с этой минуты я для нее тот же, каким был прежде. Попробуй кто меня обидеть — бабушка расшибет ему башку без промедления. Потому что я снова ее внук, заполнился пробел, я возвращаюсь на прежнее место, которое пустовало без меня.
Я знал, что так оно и случится. Не будь я уверен, может быть, не хватило бы смелости вернуться. Они ждут, что я скажу, но я не открываю рта. Я решил про себя, что ни про кого ничего не скажу. Ни «за», ни «против». Одно только должен я сказать.
— Я приехал к вам, вот и все. Хочу быть с отцом. Вернулся домой. Чего вы так удивляетесь?
Бабушка расплакалась. Я встал из-за стола, подошел к ней. Она твердила сквозь слезы:
— Ты правильно сделал… Отец обрадуется! Ты очень правильно сделал…
Я смотрел на лица стариков — моих дедушки и бабушки. Наверно, они были счастливы и, как маленькие дети, не умели этого ни скрыть, ни выразить в словах.
— Я хочу есть! — заявил я.
И принялся за завтрак. Бабушка отерла в конце концов глаза, что-то накинула на себя и вышла из дому. Я воспользовался этим. Подошел к деду, который сидел на постели.
— Ты обманул меня, дед…
Он помотал головой и понурился. Ничего не ответил.
— Почему, дедушка, ты сказал, что я должен ехать? Я думал, так решил отец. И почему ты дал мне денег? Чтоб было на что вернуться, да? Зачем же было тогда отсылать меня отсюда?
Дедушка покосился на дверь, но бабки еще не было. Он проворчал:
— Не помню, чтоб я давал тебе денег… Не выдумывай и не говори им ни о каких деньгах! Надеюсь, ты не покупал на них этой крашеной дряни?
— Лимонаду? Нет. Я покупал мороженое…
— Все равно дрянь… Да что там! — Он махнул рукой и, помолчав, добавил: — Я тебя не обманывал… Я, видишь ли, хотел, чтоб ты туда поехал! Ты должен был поехать. Только… только я думал, ты вернешься вместе с ней, с твоей матерью…
Когда бабка привела отца, я был ужо к этому хорошо подготовлен. Я подошел к нему, и мы как ни в чем не бывало пожали друг другу руку.
Он не задавал мне вопросов и не удивлялся. Словно мой приезд был в порядке вещей, просто по недоразумению или по случайности состоялся на несколько дней позднее.
— Что же ребенка не поцелуешь? — крикнула с возмущением бабушка.
— Я приехал к тебе, — сказал я. — Буду с, тобой!
Я чувствовал, он ждет еще одной фразы, сам не спрашивает. Не знает, какой она будет, эта фраза. Только я могу сказать ему то, что он желает услышать. И я говорю:
— Мы будем ждать все вместе… Вместе, ладно? Он улыбается мне.
— Да. Мы будем ждать вместе…
Наступило молчание. И вдруг бабка заводит свое обычное:
— Юрек, где твоя расческа? Посмотри, на кого ты похож! Сейчас же мыться! Старик, перестань крутиться возле плиты и сыпать пепел в горшки! Слышишь?..
Мы понимаем, откуда эта воинственность. Дедушка говорит:
— Ну вот, бабка опять в роли царя Николая! Видали, какая грозная? Знал бы ты, Юрек, как она в эти дни притихла!
— Теперь притихнешь ты, старый болтун! Перестанешь бегать на вокзал, да? — И бабка принялась изображать деда: — «Пивка пошел выпить. Пивка»… Точно рядом и ларьке нет пива? А ты куда? — набросилась она на отца.
— На работу, скоро семь часов…
И тут бабка шмыгнула носом и закончила совсем неожиданно:
— Выметайтесь все отсюда! Отвяжитесь от меня, я обед готовлю. Только чтоб потом не пришлось вас по всему городу разыскивать! Суп будет с крупой или овощной, какой получится!..
Она принялась хозяйничать, а мы с отцом вышли на улицу. Я проводил его до шахты и, расставаясь, спросил:
— Что с голубями?
— Не знаю, я туда не заглядывал… Поинтересуешься сам, ведь это твои голуби! Ну, пока. Встретимся за обедом.
Перед самой проходной он повернул обратно:
— Юрек, эта твоя девушка… она уехала? Я кивнул.
— Да… — отозвался отец. — Разумеется… пора. Ведь завтра школа. Слушай, может, купишь два билета в кино? Сходим вместе…
То был странный день, на первый взгляд вроде бы обычный, но все же странный. Он пролетел так, словно все часы сговорились, что будут в два раза быстрее отсчитывать время.
Примчался Толстый со своей сумасшедшей собакой:
— Хорошо, что ты приехал… Мне не верилось, что мы с тобой больше не увидимся! Столько лет вместе! Сам подумай. Хорошо, что все осталось по-старому… Какое это имеет значение, что мы будем учиться врозь? Что огорчаешься? Жизни, брат, не знаешь! Может, оно и лучше, будет о чем поговорить, увидишь! У тебя и в самом деле всего тринадцать голубей? Нехорошо. Я дам тебе одного или тебе придется одного съесть!
Збышек крутился сам не свой, не знал с чего начать:
— Узнаёшь? Это ее велосипед… Завтра отошлем его почтой, а пока езжу на нем я. Так-то… Юрек, ты больше не сердишься? Хочешь, я подарю тебе ту ее фотографию, помнишь — ту самую, которой я тогда хвастался… Зачем она мне? Эльжбета все равно не знает, что у меня ее фотография. Хочешь? Впрочем, наверно, она пришлет тебе что-нибудь получше!
Зенек искренне огорчился:
— Вот незадача… Скажи ты хоть слово, я б ими занялся… Жаль голубей! Что? Вроде бы так. Мы со Збышеком идем, правда, в одну школу, но наша компания все равно распалась, ничего не попишешь. Только тринадцать, черт побери! Такая незадача…
Адам сказал:
— Завтра стартуем, да? Вот увидишь, все пойдет как по маслу. Да-да! Юрек… а старик Забеляк умер, там, в больнице… Нам от него осталась памятка. Он подарил мне этот странный глобус, помнишь? Он сказал, что это из Индии и приносит счастье. Выходит, мы были его последними учениками… Пока! До завтра!
Ирка была какая-то необыкновенно серьезная:
— Наверно, мы больше не будем ссориться — из-за чего? Юрек, это была очень хорошая девочка. Жаль, что уехала. Она мне очень понравилась, теперь я могу тебе это сказать… Знаешь, заходил Адам, искал тебя! Ты его уже видел?
— Искал меня, а нашел тебя. Так? — рассмеялся я в ответ. — Пожалуйста, не красней. Что тут страшного?
— Жаль Забеляка. Да, Адам! Благодаря ему мы и познакомились по-настоящему, правда? — вспомнил я недавнее. — А может, так и так встретились бы в лицее? До завтра, пока. Буду ждать у школы!
— Что голуби? Разве это так важно? — пробовал я втолковать Зенеку. — Слушай, Черный, все-таки жаль, что мы не будем больше лазать за яблоками в чужой сад. И в индейцев тоже играть не будем… Над чем смеешься? А тебе не жаль? Вот видишь…
— Я давно не сержусь, — сказал я Збышеку. — Оставь, пожалуйста, себе ее фотографию. Разумеется, она мне пришлет… А может, и не пришлет?.. Фотографий не дарят тем, кто может забыть. Нет, она знает — я не забуду…
— Подумаешь, голуби! — утешал я Толстого. — Теперь у меня всего двенадцать! Рыжий сегодня опять удрал… Жизни не знаешь? Я тоже рад, что приехал. Ты прав, Толстый. Не все изменилось…
Странный день, налетел, закрутился каруселью лиц, шарманкой слов. Те, что мне дороже, останутся со мной. А день промчался, как обыкновенный. Последний день моих каникул.
Я стою в большом, набитом до отказа актовом зале лицея. Коперник с портрета косится на нас, опять кто-то держит речь… А я словно один. И мне тяжело. Только ли мне?
Нету Эльжбеты. Выбор сделал я сам, обижаться не на кого. И плакать нечего, ведь я не маленький. Мы с отцом будем ждать, будем останавливать на улице почтальона:
— Здравствуйте, пан Вежба! Нет ли для нас чего-нибудь новенького?
Старику Вежбе тоже несладко: столько надежд и слез носит он каждый день в своей сумке. Не одинок тот, кто, остановив почтальона, знает, о чем спросить, знает, какие трудности впереди…
Я слышу громкие аплодисменты, зал оживляется. Стоявший у стены хор начинает петь. Адам толкает меня локтем и говорит:
— Ну наконец-то… Даже начало школьного года имеет свой конец! Мы улыбаемся друг другу.
— Да… — отвечаю я. — Значит, это и в самом деле конец каникул!



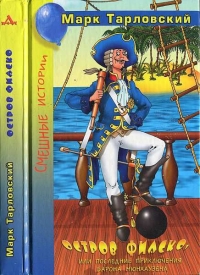
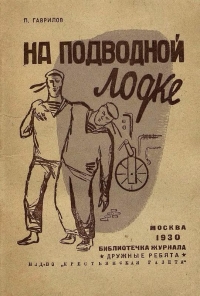


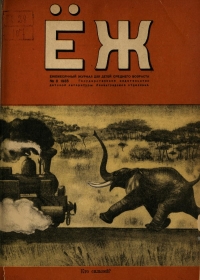

Комментарии к книге «Конец каникул», Януш Домагалик
Всего 0 комментариев