НОЭЛЬ ХИЛЛИАРД КЛОЧОК ЗЕМЛИ РАССКАЗЫ
Эруа
Перевод Н. Ветошкиной
1
Маленький Эруа зарыл в грязь босые ноги и оперся о холодную чугунную ограду. Из пивной напротив доносился гул голосов и по временам взрывы смеха. Эруа смотрел, как в пивную входили посетители: лесорубы в коричневых кожаных куртках и темно-синих рабочих брюках; маорийцы в фуфайках — животы выпирали у них из-под поясов, подбитые гвоздями сапоги стучали о порог; худые прыщавые подростки, курившие сигареты и смачно ругавшиеся с таким развязным видом, словно они были здесь завсегдатаями, но он-то знал, что они только-только со школьной скамьи.
Возле пивной крутились и другие ребята из его школы, но с Эруа они не заговаривали. Они знали, почему ему приходится каждый вечер проводить у дверей пивной. Его обязанностью было следить за отцом, сумеет ли он пьяный добраться до дому, а если нет — бежать и искать такси. И даже когда отец бывал не слишком пьян, Эруа все равно приходилось помогать ему: мальчик шел впереди и расчищал путь в толпе, что собиралась возле кинотеатра и у витрины аптеки — поглазеть на выставленные там фотографии. Иногда ему приходилось тащить тяжелый пакет с бутылками, чтобы отец не уронил его и не разбил о тротуар. Это бывало уже не раз, и Эруа в таких случаях стоял и беспомощно смотрел, как пиво длинными коричневыми струйками стекает в канаву, как пузырится пена, переливаясь через осколки, и превращается в огромную губку, с виду похожую на растаявшую шоколадную конфету.
Эруа было противно стоять вот так возле пивной. Прохожие бросали на него какие-то странные, насмешливые взгляды. Некоторые даже здоровались с ним, хотя он никогда раньше этих людей не видел и не знал, откуда они. Иногда кто-нибудь вставал из-за столика, выходил из пивной и поручал ему сбегать в кафе за табаком. Это уже было лучше: денег, которые ему давали, обычно хватало и на мороженое. А то один раз какой-то пьяный дал ему полкроны и пытался уговорить его поехать с ним покататься на машине, но Эруа не согласился — ему не понравилось, как тот себя держал. Как-то пожилая дама дала ему яблоко, когда он поднял покупку, которую она обронила, сумел догнать ее в толпе и вернуть ей подобранный пакет.
Однажды вечером он, промерзший и голодный, зашел в пирожковую на углу, чтобы погреться возле теплых тарелок. Два прилично одетых парня прервали свою беседу и, оглядев Эруа с ног до головы, попытались заставить его разговориться.
— Что ты тут делаешь, сынок? Хочешь чего-нибудь поесть? Сколько тебе лет — восемь, девять?
Он им ничего не ответил, и они, наверное, решили, что он немой. Тогда один из них — рыжий, упитанный, самодовольный детина — сказал:
— Не пора ли тебе домой, к маме чай пить? — Вопрос этот на минуту поставил его в тупик — ведь он думал, что все знают.
— Моя мама умерла, — сказал он им.
Парни разинули рты, так что стали видны наполовину прожеванные пирожки. Вид у них был совсем ошарашенный, будто он их обругал.
Как бы ему хотелось, чтобы ребята из его класса не вертелись возле пивной. Они обычно ждали, чем все дело кончится, и на другой день в школе издевались над ним:
— Ну как сегодня твой пьяный старикашка себя чувствует?
— Его отец вчера вечером напился так, что еле на ногах стоял.
Эруа больше всего боялся, что об этом узнает учитель.
В пивной прозвонил звонок к закрытию, и посетители, шатаясь, стали выходить оттуда с бочонками, бутылями и пакетами в руках — некоторые грузили все это в свои машины. Нетвердо держась на ногах, они собирались группами возле входа и, сплевывая на тротуар, громко спорили о лошадиных статях. Большинство кличек было Эруа знакомо. Он так часто слышал, как отец обсуждал с приятелями достоинства лошадей, что мог даже сказать, какие из них скаковые, а какие рысистые.
— Пошли, сынок.
Это был его отец. Под мышкой он держал картонную коробку с полдюжиной бутылок. Его сопровождал какой-то приятель.
Протиснувшись сквозь толпу поздних покупателей, они пошли по переулку и свернули на свою улицу. Отец разговаривал с приятелем о каком-то событии, случившемся в этот день на заводе; речь их пересыпалась ругательствами.
— Я сказал Джонни напрямик, взял да и выложил: «Тоже мне делегат… я бы тебе сказал, кто ты такой…»
Эруа радовался, что сегодня ему не надо тащить тяжелый пакет. Они подошли к тому месту, где отец несколько дней назад уронил коробку с бутылками, и Эруа сошел с тротуара, чтобы не напороться босой ногой на осколки стекла.
— Эй, парень, куда тебя несет? Машина задавит!
Эруа первым вошел в дом и включил свет. В кухне стоял удушливый запах от давно замоченного белья, скамья была вся загромождена немытыми тарелками и объедками, на столе вместо скатерти лежала засаленная газета.
Отец поставил бутылки на середину стола, и Эруа вынул из буфета два стакана и штопор. Не дожидаясь, пока ему скажут, он достал хлеб и сделал сэндвичи с джемом и арахисовым маслом. Тарелку с сэндвичами он поставил на стол рядом с пивом.
— Где эти слизняки?
— В чулане.
— Поди принеси их.
Он вылил воду из таза, в котором плавали мидии, очистил раковины от водорослей, вымыл их под краном и отнес на кухню. Затем свернул жгутом газету, чтобы разжечь огонь в печке, но отец сказал:
— К черту печку! Вскипяти электрический чайник, обвари их кипятком, мы и так съедим.
Пока Эруа возился с чайником, приятель отца включил радиоприемник.
— Последние новости… — проговорил диктор.
— К черту новости, поищи-ка музыку.
Он стал крутить рычаг настройки, пока наконец не напал на джазовую музыку. Мужчины стали притопывать ногами в такт навязчивому ритму. Эруа еще раньше заметил у отца одну странную особенность: когда они бывали с ним дома вдвоем и Эруа ловил по радио музыку, отец вечно рычал на него, требуя выключить приемник. Но когда являлся кто-нибудь посторонний, он всегда делал вид, что музыка доставляет ему удовольствие. Может, так оно и было на самом деле. Может, ему нравилась музыка только тогда, когда он бывал слегка навеселе во взрослой компании.
Эруа обдал мидии кипятком; раковины треснули и раскрылись настолько, что в щель можно было просунуть лезвие ножа. Он взял из буфета нож для мидий и сел за стол, мечтая поскорее приступить к еде. Но отец приказал:
— Давай еще хлеба.
Когда Эруа нарезал хлеб, намазал куски маслом и поставил сэндвичи на стол, половина мидий успела уже исчезнуть. Он схватил самую большую из тех, что остались, раскрыл створки раковины и высосал из нее сок. Черт возьми, как он голоден! Отец дал ему с утра полкроны на завтрак в школе, но он истратил их на леденцы и плиточку шоколада. Денег еще хватило на пакетик хрустящего картофеля, который он съел после уроков, но сытости он не почувствовал.
— Чаю хочешь, Джек?
— К черту чай! — Приятель полез во внутренний карман пиджака и извлек оттуда полбутылки виски.
При виде виски мальчик совсем пал духом. Когда отец пил пиво, Эруа знал, чего от него можно ждать, но когда тот пил виски, или джин, или еще что-нибудь из этих фасонистых бутылок, которые потом даже сдать нельзя было, трудно было заранее предвидеть, что может случиться. Эруа соскользнул со стула и тихонько вышел через черный ход во двор.
На дворе подморозило, холод пронизывал насквозь, и изо рта шли клубы пара, совсем как бывало, когда он учился курить. Он пересек улицу и остановился у фонаря, раздумывая, что ему теперь делать. Люди выставляли за дверь молочные бидоны — он слышал оловянное позвякивание монет. Вдоль улицы светились окна домов, и ему очень хотелось посмотреть, как живут там внутри люди, но шторы на всех окнах были плотно задернуты. Мимо проехала машина с шумной компанией, фары ярко осветили деревья у дороги.
Дверь дома Эдди Капы открылась, и его отец, огромный темноволосый мужчина, показался в полосе света.
— Что там такое? — раздался изнутри женский голос. — Кажется, прогудело такси.
— Такси? А кто заказывал такси?
Дверь закрылась, и Эруа так и не узнал, кто же заказывал такси. По вечерам на улице всегда так: собираешь какие-то обрывки чужих жизней.
Проехал велосипед; здоровый парень вез на раме девушку. «Здравствуйте! — сказал про себя Эруа. — Перси и Мона покатили в кино».
Он побрел дальше к магазинам и стал разглядывать освещенные витрины. Ничего нового тут для него не было. Он видел эти витрины столько раз, столько вечеров подряд, что знал наизусть все, что там выставлено; он даже знал, сколько мертвых мух валялось на дне составленных рядами пустых консервных банок в окне бакалейного магазина, иногда он даже пересчитывал этих мух, чтобы проверить, не прибавилось ли новых.
Он смотрел на афиши кинотеатра, и ему очень хотелось разобрать, что там написано. Однако он знал, какой фильм идет сегодня вечером, и не имел особого желания его смотреть. Кто-то в школе ему сказал, что это фильм, где целуются, а ему такие не нравились. Ему нравились фильмы про войну и ковбойские фильмы и всякие другие, лишь бы они были цветные. Главное, в кинозале было тепло и уютно, да и как же иначе, когда там всегда работало отопление и всюду были люди.
Он остановился возле магазинчика, где торговали рыбой и жареным картофелем, и втянул в себя опьяняющий приятный запах. Это снова напомнило ему, что он голоден. Однажды он увидел возле этого магазина пьяного — тот стоял, опершись о перила, ограждавшие витрину, уронив голову на грудь, широко расставив ноги. Пакет с рыбой и жареным картофелем валялся рядом на земле. Эруа схватил пакет, убежал за угол и там съел содержимое; рыба была вкусная, хотя и не такая горячая, как он любил.
Вдоль улицы гулял холодный ветер. Эруа весь дрожал, по коже у него пошли мурашки. Как жаль, что он забыл надеть свитер. Ему хотелось зайти в пирожковую и погреться, но в эти вечерние часы, особенно по пятницам, там всегда переполнено, к горячим тарелкам не пробиться. Он немного потолкался возле кафе, наблюдая, как посетители уничтожают сэндвичи с крутыми яйцами и запивают их чаем. Никто не обращал на него никакого внимания. А ведь было время, когда они с интересом разглядывали его, иногда даже задавали ему вопросы; но это время прошло, теперь все к нему привыкли, и это очень хорошо — ему надоело, что его все вечно разглядывают. Группа парней проигрывала на радиоле последние новинки. Эруа прослушал две пластинки, которые ему особенно понравились, а потом кто-то поставил скучную, и он поплелся дальше.
Выйдя из кафе и очутившись на углу улицы, он стал думать, где он еще не побывал. Нет, он побывал везде. Кроме как домой, больше идти ему некуда.
Он прошел по переулку до железнодорожной линии, втайне надеясь, что в этот последний момент, может, что-нибудь да произойдет: драка, пожар, автомобильная катастрофа — что-нибудь такое, что отсрочит его возвращение домой. Он ждал, стоя под уличным фонарем, прислушиваясь, но все было тихо, только где-то в конце улицы в одном из домов шумела веселая пирушка.
Проходя мимо дома Ребекки Уайхейп, он остановился и заглянул в окно. Ему нравилась Ребекка. В школе она всегда давала ему карандаш, когда у него не было своего, а иногда помогала разбирать трудные слова в учебнике. Больше всего, однако, ему нравилось в ней то, что она никогда не насмехалась над ним. На окнах Уайхейпов не было штор, занавеси были белые, прозрачные, так что он без труда мог разглядеть все, что происходит внутри. В комнате сидел сам мистер Уайхейп, крупный мужчина, и читал газету; миссис Уайхейп заплетала косы одной из старших девочек, а малыши сидели за столом и рисовали. Ребекка читала какой-то комикс; под лампой волосы ее ярко блестели. Ноги мистера Уайхейпа покоились на ящике для дров, стоявшем перед камином, — значит, огонь в камине горел.
Эруа так хотелось войти к ним и посидеть в тепле, поговорить с ними, повозиться на полу, пошутить и посмеяться вместе со всеми.
Из-за угла выскочила машина, осветив его фарами с ног до головы. Он бросился бежать что есть мочи. Он не хотел, чтобы его заметили, на него уже и раньше ворчали за то, что он по вечерам заглядывает в чужие окна. Кто-то даже пытался обвинить его, будто он ворует деньги из молочных бидонов.
Придя домой, он тихонько открыл дверь и проскользнул в кухню. Отец с приятелем все еще сидели за столом. Отец раскачивался из стороны в сторону, выпучив налитые кровью глаза. Взгляд его стал бессмысленным. Воздух в комнате был сизым от дыма, а пепельница — раковина мидии — вся заполнилась окурками, спичками и пробками от пивных бутылок. Виски было почти все выпито; осталась только одна бутылка пива. На столе лежал батон. Им лень было резать его ножом, и они отламывали от него куски прямо руками. Весь стол был завален хлебными корками.
Ни тот, ни другой не заметили, как он вошел. Эруа пригнулся и на четвереньках прополз мимо их ног в спальню. Притворил дверь и зажег свет. Постели были с утра не застелены, одеяла беспомощно свисали на пол. Он надел пижаму и пожалел, что некому пришить оторванные пуговицы: без пуговиц пижама лезла вверх и к утру шарфом закручивалась вокруг шеи. Эруа потушил свет, лег в постель и стал смотреть на светлую полосу под дверью. Из кухни доносились приглушенные голоса, громко орало радио, и время от времени бутылка со звоном ударялась о стакан. «Ага, — подумал он, — они, наверное, извлекли из буфета новую полдюжину».
Ну что ему стоило, пробираясь мимо стола, прихватить корку хлеба?
Он слышал, как отец с приятелем встали и пошли во двор помочиться.
От холода он никак не мог уснуть. Он лежал на боку, свернувшись калачиком, закрыв глаза, не в силах побороть дрожь. Наконец он встал, взял с пола мешок из-под картошки, заменявший коврик, и положил его поверх своих двух тоненьких одеял. Сразу стало теплее, и вскоре он уснул.
Вдруг что-то громадное придавило его своей тяжестью. В ужасе он проснулся. Он чувствовал, как тяжесть эта подминает его под себя и душит. Он бешено отбивался руками и ногами, пытаясь высвободить лицо из-под одеяла, вздохнуть полной грудью. Но тяжесть, придавившую его, невозможно было сдвинуть с места. Он завопил.
И тут тяжесть скатилась с него и с глухим стуком упала на пол. Несколько минут он лежал и жадно глотал воздух, пытаясь побороть безумный страх, охвативший его. Хоть бы свет зажечь! Он высвободил ногу из-под одеяла и стал нащупывать пол. Под пальцами было что-то мягкое и теплое, потом он наконец ощутил холодные доски. Он встал и включил свет.
Отец лежал на полу и храпел, разинув рот.
2
Свежим августовским утром Эруа спешил в школу. Голые ноги его совсем онемели от холода; сжав покрепче кулаки, он засунул руки в карманы и стиснул зубы.
На густой живой изгороди, увитой паутиной, блестели капли росы. Эруа провел по ней рукой, посредине остался длинный след. Ему нравилось, как блестит на солнце паутина, но почему-то ему доставляло удовольствие уничтожать ее одним взмахом руки.
В школу он пришел первым. В классе мистер Скотт аккуратно закладывал в печку растопку поверх разорванной на куски газеты.
— Доброе утро, мистер Скотт!
— Доброе утро, Эруа! — Учитель окинул взглядом бедную одежонку мальчика. — Опять сегодня с утра холодно.
— Не очень! — Эруа улыбнулся и потопал ногами.
— Я думаю посадить тебя сегодня снова за одну парту с Ребеккой, она тебе поможет. Как ты на это смотришь?
Эруа смущенно потупился. Он знал, что мистер Скотт сажает его рядом с Ребеккой только для того, чтобы он мог согреться у печки.
— Нет ли для меня какой работы?
— Сейчас посмотрим.
Учитель обвел взглядом классную комнату. Все доски чисто вытерты, книги аккуратно расставлены по полкам, мел у доски тщательно рассортирован, парты стоят ровными рядами, учебники разложены по своим ящикам, настенные таблицы свернуты и поставлены в угол.
— Спасибо, Эруа. Я думаю, ты вчера все сделал.
— Можно, я вытру пыль?
— Ты это делал уже вчера. Сегодня не твоя очередь.
— Может, мне дров из сарая принести?
— Ну принеси охапку. Только выбери сухие, они отдельно от сырых сложены.
— Я знаю, где сухие. — Эруа пошел в сарай, спустил рукава рубашки и начал накладывать поленья на руку. Он принес две охапки, свалил их возле печки и пошел уже было за третьей, но мистер Скотт сказал:
— Хватит, Эруа, спасибо. Беги во двор и поиграй там до звонка. Беги быстрее, лучше согреешься.
Но Эруа продолжал стоять возле печки, наблюдая за тем, как учитель выписывает мелом на доске столбики цифр. Ему нравилось смотреть на мистера Скотта: на нем хороший костюм, модный воротничок и галстук, розовое лицо его всегда свежевыбрито, волосы аккуратно подстрижены и причесаны. Но больше всего Эруа нравилось в мистере Скотте приветливое обращение. Насколько он лучше их прошлогоднего учителя мистера Белла! Тот вечно был раздражен чем-то, вечно бил детей линейкой по рукам. Эруа так хотелось иногда тоже надеть хороший костюм и выглядеть опрятным, хотелось выступить перед всем классом, чтобы его с таким же уважением все слушали. Когда он смотрел на мистера Скотта, то при этом всегда думал о книгах, о том, как хорошо было бы знать столько же, сколько знает учитель. Почему это, недоумевал Эруа, человек, который так много знает, живет в деревне среди лесорубов, вдали от города? В конце концов, разве город не создан для самых умных и важных людей?
Прозвонил звонок, и дети выстроились в коридоре в линейку, толкаясь и пихая друг друга, — каждый хотел быть первым. Мистер Скотт сказал:
— Потише. Не толкайтесь.
Дети попарно вошли в класс. От разгоревшейся печки в классе было тепло и уютно. Староста открыл окно.
Мистер Скотт поручил Эдди Капе провести сегодня устную беседу. Эдди взял со стола классный журнал и фамилию каждого выступавшего ученика отмечал птичкой.
— Эруа Уилсон, — сказал он. — Твоя очередь.
Мальчик заерзал на своей парте и закрыл лицо локтем.
— Эруа, иди к доске.
Эруа посмотрел на мистера Скотта, ища у него поддержки, но тот был занят — отмечал учеников по списку. Эруа нехотя поднялся с места и вышел на середину класса. Он стоял, сжав за спиной руки, переминаясь с ноги на ногу. Уставившись в окно, он отчаянно пытался припомнить, о чем бы он мог рассказать. Класс захихикал.
Листья пальм, покрывавших склоны ближнего холма, поблескивали на солнце, коровы топтали влажную от росы траву. Эруа хотелось бежать и спрятаться в кустарнике, где никто его не найдет. Бежать и бежать…
Смешки становились громче. Мистер Скотт посмотрел на детей и сказал:
— Можешь не отвечать сегодня, Эруа. После каникул ты, наверное, сумеешь нам что-нибудь рассказать.
Измученный, усталой походкой Эруа вернулся на свое место.
— Эруа, возьми свои учебники и сядь, пожалуйста, за парту к Ребекке.
Снова смешки. Эруа взял с парты учебники и пересел к Ребекке, поближе к печке. Ребекка смотрела в сторону, делая вид, что не замечает его.
— Достаньте тетради по арифметике.
Наконец-то на него перестали обращать внимание. Ребекка с улыбкой повернулась к нему:
— Хорошо здесь, у печки, правда?
Он кивнул.
Дети решали в уме арифметические примеры с доски, а затем взялись за задачки. Эруа ломал голову над цифрами, мучительно стараясь решить примеры.
— Помочь тебе? — спросила Ребекка. Волосы ее сегодня были заплетены в косички, большие глаза сияли.
— Не надо, я и сам могу.
Мистер Скотт взял желтый мел, чтобы написать на доске ответы.
— Отложите карандаши. Поменяйтесь тетрадями. Приготовьтесь проверять. Чарли решит первый пример.
Чарли поднялся.
— Восемь плюс семь будет пятнадцать. Пять пишем, десять в уме.
Эруа всегда забывал, что надо оставлять цифру в уме. Он посмотрел на свои дурацкие ответы и прикрыл тетрадь ладонью.
— Сказали тетрадями поменяться, — напомнила ему Ребекка.
— Вот еще, буду я меняться!
— У тебя первый пример вышел?
— Еще бы! — Он сделал вид, что старательно выводит цифру.
Все по очереди давали ответы. Когда подошел черед Эруа, мистер Скотт с минуту задержал на нем взгляд, а потом обратился к соседнему ряду.
— Мэйвис?
Что в мистере Скотте ему еще нравилось, так это то, что он никогда не приставал с вопросами и никогда не придирался. Когда он только начал у них преподавать, он иногда спрашивал Эруа, но класс при этом всегда начинал хихикать, и уже через неделю он оставил Эруа в покое. Мистер Белл в прошлом году вечно устраивал из этого целый спектакль. Он задавал Эруа какой-нибудь пример и начинал его изводить: «Подумай, мальчик, подумай, не мог же ты забыть все. Что-то ты, наверное, запомнил». Класс покатывался со смеху. Эруа сидел за партой и ухмылялся, чтобы показать, что и ему тоже смешно. При мистере Белле эта глупая ухмылка никогда не сходила у него с лица.
— Все возьмите свои тетради. Подсчитайте правильные ответы. Ну… У кого все двадцать правильные, поднимите руки!
Эруа высоко поднял руку. Мистер Скотт оглядел класс.
— Молодец, Чарли. Ты опять, Эдди… хорошо. А, Мэйвис… — Он увидел поднятую руку Эруа, но промолчал и посмотрел в другую сторону.
— Теперь у кого одна ошибка, поднимите руку!
Щеки Эруа пылали.
Учитель собрал тетради по арифметике. Взглянув на Эруа, он сказал:
— Постарайся писать цифры поотчетливее, мальчик. И пользуйся линейкой, когда линуешь тетрадь… Кстати, в следующий раз не забудь поменяться тетрадями. Понял?
— Да, сэр.
Дети за ближайшими партами улыбались и вытягивали шеи, стараясь не упустить ни одного слова.
— Выньте тетради по письму.
Учитель указал на доску.
— Вот перед вами слова «громко» и «лаять». Интересно, кто из вас может употребить оба слова в одном предложении? Но прежде всего, что такое предложение? Поднимите руки!
Эруа смотрел, сколько рук поднялось. Он знал, что мистер Скотт не спросит его, поэтому поднял руку, чтобы показать всем, что он тоже знает.
— Энни!
— Предложение — это когда слова, взятые вместе, образуют смысл.
— Правильно. Ну а теперь кто соединит «громко» и «лаять» в одно предложение?
Учитель направился к печке. Оглядывая учеников, изучая их лица, он обычно ставил ногу на приступку парты, за которой сидел Эруа. Делал он это по рассеянности, и дети всегда с интересом ждали этого момента.
— Ну смелее, неужели никто из вас не может придумать подходящее предложение…
В классе водворилась внезапная тишина. Все смотрели не на учителя, а на его ногу. Это смутило мистера Скотта, и он тоже посмотрел вниз. Эруа, вынув из кармана носовой платок, усердно начищал им башмак учителя.
Раздался взрыв смеха. Дети в дальнем углу вскочили с мест и кинулись смотреть.
Мистер Скотт поставил ногу на пол.
— Эруа, носовой платок предназначен не для этого, — сказал он.
Все утро, на каждой переменке и даже за завтраком Эруа слышал, что ребята из его класса рассказывали ребятам из других классов о том, как он начищал своим носовым платком башмак учителя. Они неизменно подчеркивали, что сделал это Эруа, а не кто-нибудь другой, чтобы кто чего не подумал. И то один мальчик сказал:
— Эх, мне бы такую штуку отколоть!
На что ребята поспешили ответить:
— Но это же был Эруа. Знаешь, Эруа Уилсон…
— А, — сказал мальчик, — понимаю.
Эруа это доводило до бешенства, у него так и чесались руки поколотить их всех. Ну ладно бы еще европейцы, от этих белых злюк можно всего ожидать, но он не мог понять, почему к нему за последние недели изменили отношение и маорийцы. Он подозревал, что это исходит от их родителей и связано со слухами, будто он ворует деньги из молочных бидонов.
И он задумал отомстить. Он пошел в магазин, купил плитку шоколада и мороженое с вафлями и с небрежным видом вернулся на школьный двор, смакуя на ходу свои лакомства и стараясь изобразить на лице максимум удовольствия. Ни у кого из школьников не водится столько карманных денег, сколько у него — говорил весь его вид. Отец всегда давал ему полкроны, а то и целую крону. Он облизывался и причмокивал, расхаживая по школьному двору от одной кучки ребят к другой, но все его усилия пропадали даром. Никто не попросил у него даже кусочка шоколаду. Мельком взглянув на него, ребята продолжали играть в камешки. Он слышал, как кто-то из них пробормотал: «Молочный бидон».
Ему захотелось привлечь к себе внимание.
— А мой отец умеет летать на реактивных самолетах! — крикнул он.
— Ха! — засмеялся Фрэнки Коллинс. — Сейчас и войны-то нет.
— А вот и есть! Есть! Я сам видел в кино. Мой отец летает на реактивных.
Он понял, что опять терпит поражение. Разговор, обещавший вначале некоторое развлечение, утратил для них интерес, и ребята разбились на партии, чтобы идти играть в футбол.
— Мой отец умеет летать на самых быстрых в мире самолетах!
Но ребята уже ушли. Будто его и не было вовсе. Эруа поплелся в уборную и, усевшись на стульчак, с печальным видом стал жевать свой шоколад.
После большой перемены все дети пришли в класс веселые. Они сложили учебники, протерли доски влажными тряпками, убрали все школьные принадлежности в шкафы, выгребли золу из печки и сдвинули парты к стене. Мистер Скотт вынул из шкафа плащи, резиновые сапоги, свитера, скопившиеся там за прошедшую четверть.
— Это чей? Метки нет. Размер твой, Джо. Не твой ли?
Прозвонил звонок. Дети стояли с ранцами в руках посреди класса, где теперь очень гулко раздавался каждый звук. Мистер Скотт сказал:
— Итак, наши занятия окончены, начинаются двухнедельные каникулы. Будьте осторожны, играя у дорог, не забывайте о грузовиках: прежде чем перейти дорогу, остановитесь и посмотрите в обе стороны. Велосипедисты, не гоняйте по тротуарам. Не забудьте в первый день после каникул принести с собой все учебники. Надеюсь, все вы хорошо проведете время… Желаю вам всего доброго.
— Всего доброго, сэр!
Дети стремглав бросились к двери. Эруа пропустил всех вперед. Когда класс опустел, мистер Скотт вынул несколько книг из ящика своего стола, положил в папку, застегнул на папке молнию и прошел в прихожую за своим пальто. Эруа дожидался его у двери.
— Хэлло, ты, кажется, особенно не спешишь домой?
— Нет, сэр!
— Разве ты не рад каникулам?
— Лучше в школу ходить.
Мистер Скотт накинул на шею красное шелковое кашне и стал надевать пальто.
— Ты едешь куда-нибудь на каникулы, Эруа?
— Никуда я не еду.
— Ну, я уверен, что ты хорошо проведешь время. Товарищей будет много, наиграешься вдоволь.
— Вы вернетесь к нам в следующей четверти, мистер Скотт?
— Конечно, — сказал учитель, не взглянув на Эруа. — А кто тебе сказал, что я не вернусь?
Эруа радостно улыбнулся.
— Я очень боялся, что вы вдруг уедете.
— Конечно, я уеду на неделю-другую. Но к следующей четверти я вернусь.
— Красота!
Учитель нагнулся за своей папкой. Эруа мучительно старался придумать, как бы задержать его еще немного.
— А я могу водить грузовик, — сказал он.
— Да?
— Я даже могу водить большой бульдозер.
— Да ну…
— Я запросто могу водить десятитонный грузовик!
— Ну идем, Эруа. Я должен запереть дверь.
Учитель закрыл парадный вход и повернул ключ. Эруа смотрел, как мистер Скотт пересек школьный двор и скрылся в учительской. Тогда Эруа поправил на плечах ранец и пошел домой.
Около ворот группа мальчиков играла в салки.
— А я последним говорил с мистером Скоттом перед каникулами! — с гордостью объявил им Эруа.
Ребята даже не взглянули на него.
3
Эруа бросил ранец на скамью и обвел взглядом кухню. В раковине была свалена грязная посуда, грязные чайные полотенца, пустые бутылки, остатки пищи — овощные очистки, кости, обрезки жира, корки хлеба. Плита вся в белых потеках от подгоревшего молока и овсянки. Пол не мешало бы подмести. Затхлый запах, стоявший на кухне, исходил, однако, не от испорченных продуктов, а от засохших растений, что стояли в горшках на подоконнике. Мать его очень гордилась ими, но с тех пор, как она умерла, никто ни разу не вспомнил о том, что их нужно полить, и теперь они все сморщились, побурели, засохли и ужасно воняли. Эруа с удовольствием выбросил бы их, но он боялся, что ему попадет за это от отца.
Он собрал часть объедков в эмалированный таз и отнес во двор курам. Потом намазал кусок хлеба маслом и джемом и вышел во двор. Он наколол немного дров и, усевшись на дальнем конце поленницы, стал щепать лучину. Ему нравился певучий треск, с каким от полена отделялась каждая лучина. Звук этот напоминал ему звук камертона, которым мистер Скотт иногда пользовался на уроках пения. Эруа отнес лучину на кухню и свалил ее в ящик у плиты. Затем наполнил углем, который взял из ведра за дверью, ржавую жестяную коробку из-под печенья.
С улицы послышались крики и смех. Эруа бросился к окну. Эдди Капа и другие мальчики играли в ковбоев вокруг теннисного павильона.
— Бах! Бах!
— Ложись! Ложись!
— Ты не сумел до двадцати сосчитать, как я тебя уложил из пистолета.
— Ты же мертвый, ты мертвый!
Эруа вынул из шкафа пистолет, который отец подарил ему на рождество. Взвел курок и поставил его на предохранитель. Надо будет прикупить еще пистонов… Он уже приготовился было выбежать на улицу и посмотреть, не примут ли его в игру, как взгляд его случайно упал на часы.
Четверть шестого.
Час, когда в пивные валит народ.
Эруа отложил пистолет в сторону.
Был день получки, улицы полны были женщин с детскими колясками, с хозяйственными сумками в руках. На тротуаре люди собирались группами поболтать. Эруа пробрался сквозь толпу и занял свое привычное место у главного входа в пивную.
Что он будет делать во время каникул? У него, конечно, работы хватает. Надо убирать в доме, покупать продукты, попытаться как-нибудь заставить отца постирать белье. Он бы и сам это охотно сделал, но он был слишком мал ростом: ему приходилось подставлять ящик, чтобы достать до корыта, и он не мог развесить белье на веревке. Можно будет как-нибудь сходить на реку. В кинотеатре будут показывать фильмы, самые новые.
В день получки с отцом труднее всего. В такие дни Эруа уж наверняка приходилось ловить такси. И отец всегда в эти дни приводил с собой в дом двух-трех приятелей и притаскивал дюжины бутылок пива. Эруа выступал в роли бармена, обходил всех гостей по очереди и подливал пиво в пустые кружки. В такие ночи почти до самого утра ему не удавалось заснуть — громко играло всю ночь радио, из кухни раздавались пьяные крики, пол дрожал от топота ног. Иногда поздно ночью приходили женщины — он слышал по голосам. Должно быть, жены приятелей, которых приводил отец. А иногда отец уходил со всей компанией куда-нибудь и оставлял его на всю ночь одного в доме, и он боялся даже встать с постели, чтобы зажечь свет…
Эруа посмотрел на дверь пивной и вдруг застыл от ужаса. Он увидел красное шелковое кашне. Человек в кашне стоял к нему спиной и с кем-то разговаривал, а потом оба они вместе вошли в пивную. Это был мистер Скотт — ошибиться он не мог — и с ним другой учитель. Лицо у мистера Скотта было очень красное, галстук сдвинут на сторону и вылез из джемпера; он громко смеялся и шел шатаясь, навалившись на своего спутника.
Эруа пустился бежать по улице. Он все бежал и бежал, проталкиваясь между чьих-то ног, пригнув голову и размахивая руками, обгоняя прохожих, бежал так, что только пятки сверкали. Бежал до тех пор, пока не понял, что надо остановиться, и он остановился и встал, прислонившись к чьей-то двери, не в силах отдышаться. Он весь дрожал.
От слабости ноги подкашивались. Эруа огляделся, стараясь понять, где он находится. Вон напротив кафе. Он постоял еще немного, пока не пришел в себя, а затем пересек улицу и вошел в кафе. Играла радиола. Эруа пригнулся и посмотрел через глазок радиолы на светящиеся внутри лампы. А потом вдруг краски расплылись у него перед глазами и он понял, что плачет.
Слуга народа
Перевод Н. Ветошкиной и Э. Питерской
Берт Сазерленд вошел в комнату и отряхнул мокрую от дождя шляпу. В комнате было темно, лишь в углу за стеклянной перегородкой светилась каморка заведующего. Берт прислонил промокший пакет к ноге и опустил свою карточку в щель табельных часов. Механизм щелкнул. Питая, как всегда, неприязнь ко всяким техническим приспособлениям, Берт сверил время, пробитое на карточке, с тем, которое показывали его часы. Оно совпадало: 7.43.
Ну и проклятье, думал он, что приходится ездить ранним трамваем. Теряешь столько времени попусту — никто тебе эти часы не оплачивает. И не на чем сорвать свое раздражение. Думаешь о том, какой у тебя сегодня был скудный завтрак, или стараешься припомнить, где ты видел людей, сидящих в трамвае, или жалеешь, что не купил утреннюю газету.
Он прошел мимо ряда столов к вешалке и стал искать плечики, помеченные его инициалами. Месяц назад, вскоре после того, как он поступил сюда на работу, он по ошибке повесил пальто на вешалку подчитчика корректора, и атмосфера в комнате все утро была напряженной. Только во время обеденнего перерыва, когда все уселись в кафе на верхнем этаже и принялись за мясные консервы и сэндвичи, Чарли Баркер сказал ему, чем он вызвал такое недовольство. Видимо, за четверть века службы в государственном учреждении подчитчик корректора хорошо усвоил, что положено и чего не положено.
Берт зажег свет в комнате и стал следить за тем, как в лампах дневного света заструились фосфоресцирующие облачка. Резкий белый свет рассеял тьму в комнате, но не придал ей уюта. На улице проливной дождь хлестал по тротуарам, ветер завывал в трамвайных проводах, и тусклые глыбы кораблей у причалов по ту сторону залива выступали из густого тумана, окутывавшего гавань.
Из каморки начальника послышался кашель и сморканье.
Значит, даже в дождливые дни он идет на службу пешком, отметил про себя Берт. Он совсем развалина, а все равно каждое утро выходит из дому в семь часов и шествует вдоль набережной, а потом во время утреннего чая рассказывает, за сколько минут ему удалось добраться, и так уже много лет подряд. Интересно, думал Берт, почему он не включает свет и отопление, когда приходит? Наверное, думает, что ублажает начальство, сэкономив за зиму на грош электроэнергии.
Чарли Баркер опустил свою карточку в табельные часы и прошел к вешалке. Он закурил сигарету и скорчился в приступе кашля.
— Вечно так от первой сигареты, — прохрипел он.
Дуг Томпсон отряхнул пальто и принялся искать свою вешалку.
— Как поживаешь, Чарли?
Чарли расчесал мокрые от дождя волосы.
— Да знаешь, то хорошо, то так себе. Чаще так себе.
— Погодка меняется, а?
— Входит в норму, только и всего.
— Вижу, ты сегодня к бритве не прикасался.
— Да… — Чарли искал, как бы отшутиться. — По правде говоря, я сейчас почитываю армейский требник и решил походить на Иоанна Крестителя или еще какого-нибудь святого. Хочу идти в ногу со временем.
Берт уставился в окно, надеясь, что они оставят его в покое. Хорошо уметь отпускать такие же шутки, как они. Но, с другой стороны, может, и неплохо, что он этого не умеет.
— Ну как наш Берт, как его жизнь молодая? — спросил Чарли. — Наверное, повеселился вчера вечером?
Берт повернулся к нему.
— Точно.
— Ничего себе ты пакетик притащил.
— Представляю, как ты с ним помучился в трамвае, — сказал Дуг.
— Что там такое? Батоны? Оконное стекло?
— Это мои картины. Мне надо сегодня кое-кому их показать.
— Картины? — Дуг теребил концы бечевки, которой был перевязан пакет.
— Фотокопии или еще что?
— Я хочу получить работу в отделе литографии. Они попросили меня показать им какие-нибудь мои работы.
— Ты хочешь сказать, что собираешься уйти от нас?
— Я бы не прочь.
— Желаю тебе счастья, парень. — Чарли потрепал его по плечу. — А я отсидел в этом отделе уже двадцать восемь лет. Мне здесь все до гвоздя знакомо.
— На семь лет больше, чем я, — сказал Дуг.
— В феврале исполнится двадцать девять. Я пришел сюда учеником, мне было тогда шестнадцать. Иногда вспоминаешь прошлое и думаешь — лучше уж мне было оступиться на лестнице, когда я сюда шел, да сломать себе шею.
— Тебя скоро повысят, теперь уже недолго ждать. Чарли.
— Это-то меня и удерживает. Я буду не таким уж стариком, когда уйду на пенсию. Куплю себе птицеферму или что-нибудь такое где-нибудь в Вайрарапе и поселюсь там со своей старухой.
— Смотри держись, не зря ведь говорят, что чем дольше работаешь в типографии, тем тупее становишься. А то возьмешь, да и просадишь все денежки в пивных.
Механизм табельных часов теперь щелкал беспрерывно — в двери входили все новые корректоры и толпились у вешалки, встряхивая плащи.
— Дай хоть разок взглянуть на твои картины, Берт, — попросил Чарли.
Берт боялся этой просьбы, но ему не хотелось и отказывать: ведь картины для того и пишут, чтобы на них смотрели. Если ему не удастся получить работу в отделе литографии, то придется работать с этими людьми, поэтому не следует их обижать. Пока он развязывал пакет, ему пришла на ум цитата из какого-то произведения, где говорилось об ответственности художника: художник может погубить свой талант, если не станет признавать критики.
Он поднял повыше свою самую любимую акварель. На ней изображен был берег реки, глинистый обрыв, справа буковая рощица, а слева лошадь тянет огромный воз сена.
Отступив назад, склонив набок головы и преувеличенно жестикулируя, Дуг и Чарли разглядывали картину.
— По мне, это похоже на фруктовый салат, — сказал Дуг, прищурившись в воображаемый лорнет.
— А может тут неподходящее освещение? — предположил Чарли.
— А что это там — бревно, морковка или человек спит? — Дуг ткнул пальцем в холст. — Редиска или кочан цветной капусты? Но уж слишком велик. А может, это кислая капуста? Вот в этом углу? Ты прямо специалист по овощам, Берт.
— Да ты всех перещеголял, Берт, честное слово.
— Мне нравится такая композиция на фоне основного цвета, — объяснял Берт, чувствуя себя по-дурацки.
— Давай посмотрим другую.
Берт выбрал единственную написанную маслом картину — холст без рамы.
— Что это такое?
— Не пойму, то ли это кактусы, то ли телеграфный столб…
— Да это человек! И у него шевелюра вроде моей.
— А плечи не твои, Чарли.
— Я очень горжусь своими плечами, плечи у меня хоть куда. Сам их развил. — Чарли вздохнул, выпятил грудь и откинул назад голову. — Для моего возраста я неплохо сохранился.
Дуг, подойдя вплотную, разглядывал картину.
— Ну а все-таки, Берт, что он у тебя делает?
— Ну это… выражает идею работы… труда…
— Да неужели? Что-то этого труда не видно. И где это он трудится в такую рань?
— …Видите, как я его слил с окружающим пейзажем? Мне хотелось показать, что человек становится частью земли, когда он обрабатывает землю… вроде как частью природы, но воюет с ней тоже…
— По мне, он вот-вот протянет ноги.
— Похоже, что он напропалую пьет горькую.
— Да, вид у него такой, как у меня, когда я выкурю штук двадцать сигарет.
Берт сопротивлялся.
— Видите ли, великие художники, изображавшие людей в процессе работы, всегда думали прежде всего о человеке, о личности. Я же хочу слить человека с природой. Я считаю… Не нужен мне человек, просто выполняющий свою работу. Я хочу противопоставить его чему-то такому, что остается незыблемым, как бы тяжело человек ни трудился. Видите ли, художники, такие как Милле и Ван Гог…
— Это тот ненормальный тип, который из-за девицы себе ухо отрезал, да? — усмехнулся Дуг. — Жена читала о нем книгу, брала в библиотеке.
— Не вздумай и ты выкинуть такую штуку, Берт, дружище, — посоветовал Чарли. — Представляешь, Дуг, каким он будет без одного уха? Ну и вид!
— Почему бы тебе не изобразить этих своих типов похожими на людей, а, Берт?
— Потому что я не хочу голого натурализма, напротив…
Чарли засмеялся.
— Если тебе нужен натурализм, приходи ко мне на улицу Лайадет и малюй нашу мусорную свалку. Из окна у нас открывается на нее прекрасный вид. Выйди на крыльцо и нюхай, сколько хочешь, пока не впитаешь эту самую атмосферу. А чего стоят мусорные ящики, вот уж драматическое зрелище! Вполне реальное!
Вокруг стола собрались и другие корректоры, каждый старался посмотреть на картины.
— Аукцион открывается в восемь, — выкрикнул Чарли. — Сколько вы предлагаете за эти великолепные подлинники кисти старого мастера?.. — Он небрежно поднял вверх картину, написанную маслом. — Гарантирую подлинность… Пять сотен. Раз! Кто больше? Шесть! — Из застекленной кабины вдруг вышел заведующий, и корректоры бросились к своим столам, а Чарли умолк.
Берт снова завернул картины — щеки у него горели — и небрежно перевязал пакет бечевкой. Он запихнул мокрую бумагу в мусорную корзину и с грустным видом сел за свой стол. К нему подошел заведующий — седые волосы его, все еще мокрые от дождя, были взъерошены, словно шерсть у разозленной дворняги.
— Мистер Сазерленд, я хочу, чтобы вы сегодня к обеду закончили корректуру ежегодника, — сказал он резко. — Типография ее требует, и я уже получил конец сверки. Так что принимайтесь за работу. А то у нас дело затянется до второго пришествия.
Берт смотрел в окно. По улицам внизу громыхали трамваи; автомобили, разбрызгивая лужи и визжа шинами, тормозили у светофоров на людных перекрестках; пешеходы, глядя под ноги, торопливо пересекали улицы, над которыми повисли сплетения звенящих проводов. Силуэты пароходов в порту теперь различались яснее, и сквозь туман он мог разглядеть буксир, двигавшийся по молочно-белому морю. Берт вспомнил о погожих днях, когда солнечные блики играли на волнах и скользящие зайчики расцвечивали борта лайнеров. Как тогда ему хотелось иметь достаточно таланта, чтобы изобразить эту стремительную, изменчивую игру света! И пейзаж вокруг — глубоко задумчивую синеву открытого моря, дома на холме, словно белые морские чайки, и над всем этим высоко в небе легкое перышко облака.
Он потянулся за карандашом, и взгляд его остановился на замысловатых вензелях, изображенных на бумаге, покрывавшей стол. Как-то утром, когда у него перед глазами все еще стояли фрески Сикстинской капеллы (он видел их диапозитивы накануне у Мэррея Колдуэлла), он нарисовал замысловатые инициалы «М» и «Б»[1] на бумаге, покрывающей стол. На другой день, удовлетворенный этим своим произведением, которое давало толчок его мыслям, он разукрасил буквы красным и фиолетовым карандашами. Позже он добавил «Р. в. Р.»[2], инициалы Рембрандта, а затем пририсовал еще «О» и «Д»[3] в память того самого французского карикатуриста, который сказал, что художник призван изображать свое время. И хотя рисунки эти отнюдь не были выдающимся произведением искусства, тем не менее они помогали ему отвлечься и в свободные минуты будили воображение, плодом которого и явились следующие краткие заметки, набросанные карандашом:
Карпаччо — переливчатые интерьеры
Питер де Гох — рассеянный свет
Моне и прочие — нерассеянный свет
Тернер — краски словно сквозь призму воды
Эдуард Бэрра — сдерживаемый крик.
Но сейчас в этой сумрачной комнате, в окна которой хлестал дождь, инициалы не пробуждали в нем никаких чувств, кроме отвращения. Микеланджело в виде закорючки на бумаге! Тут скорее место рожице какой-нибудь хорошенькой девочки или орнаменту в стиле маори. А эти мудрые замечания! Совсем в духе бойкого чириканья журнала «Тайм». С раздражением он зачеркнул свои арабески карандашом и вымарывал их до тех пор, пока не прорвал бумагу.
Затем он открыл последние страницы календаря, где он вел что-то вроде дневника: здесь он записывал мысли, раздумья — только это и помогало ему скрасить скуку и однообразие работы.
«Огромный скачок в развитии искусства от Джотто до Рафаэля вызвал соответствующий рост интереса и внимания к искусству среди народа. Так, в Северной Италии у людей развился художественный вкус как раз в соответствии с тем уровнем, которого искусство достигло к тому времени. Пример — соперничество Леонардо и Микеланджело, внимание публики к этому соперничеству. Замечания Боккаччо о Джотто. Свидетельство Челлини о том, какой интерес вызвало у публики его соревнование с Бандинелли (проверить по справочникам)».
Эти строки были набросками того труда, который он собирался написать и целью которого было доказать, что люди всегда безошибочно выбирают хорошее, если им предоставлен выбор между хорошим и плохим. Он вспомнил о событиях сегодняшнего утра и нахмурился.
Но чего ему беспокоиться о мнении Дуга, Чарли и всей остальной компании? Ведь у глухого не спрашивают, какого он мнения о музыке. А может быть, картины его действительно мазня? Как это узнать? Ведь прошли века, прежде чем люди оценили Эль Греко и Вермеера.
Да и чего требовать от людей, которые и читать-то никогда ничего не читают, разве только то, что им приходится по работе: телефонную книгу, расписание пригородных поездов, отчеты о заседаниях парламента, Ежемесячник статистических данных и Бюллетень геологических исследований. Приходится только удивляться, как это после месяца такой работы человек не превращается в идиота, который не может связать и двух слов. А что уж говорить о Чарли — он работает здесь почти двадцать девять лет!
Было время, когда Берту хотелось быть хотя бы немного похожим на Мэррея Колдуэлла, главу местных знатоков искусства. Мэррей ему нравился, но Берт одновременно и завидовал ему и презирал его. Когда Мэррей появлялся на людях, он немедленно зажигал неоновую вывеску своей интеллектуальности, и тут уж все зависело от того, попадетесь вы на эту приманку или нет, а самому Мэррею до этого не было никакого дела. Поклонники кружились вокруг него, словно мошкара вокруг свечки. Мэррей получал огромное удовлетворение, оскорбляя людей, которых он считал ниже себя по культурному уровню. Способный пианист, он играл Бетховена на пьяных вечеринках только для того, чтобы услышать от Толпы осуждение и требование отбарабанить какую-нибудь популярную в данный момент эстрадную песенку.
И все же, раздумывал Берт, я знаю, в чем недостатки позиции Мэррея. Мэррей — это просто актер, который всю жизнь играет для самого себя. Все должно подчеркивать его исключительность, а если нет, то тогда музыка, живопись и все остальное не имеют для него значения — все это только способ привлечь к себе внимание в обществе. Только выставляя себя Как высококультурного и рафинированного знатока, человека необычайной утонченности, мог Мэррей отрешиться от мелочей повседневной жизни, которая была для него невыносимой. И он заставлял мир поверить в то, что эта приукрашенная личность на голову выше обычных людей. Для такой личности не важна была правда жизни, а лишь эффект ее воздействия. Если она производила должное впечатление, то ее и считали подлинной правдой. А критические замечания Мэррея, которые его друзьями воспринимались как оригинальные и вдохновляющие, были не чем иным, как жалкими формулами, которыми он пытался прикрыть свою внутреннюю пустоту. Мэррей был типичным представителем модной разновидности новозеландских «эстетов», которые изо всех сил старались позабыть, что они выросли вот здесь, среди холмов, покрытых папоротниками, рядом с заводами-холодильниками и скотобойнями.
Берт чувствовал все ничтожество Мэррея и устыдился того, что как-то в минуту слабости пожелал быть хоть немного похожим на этого самоуверенного и надменного человека. В конце концов, Берт никогда не лез из кожи вон, чтобы произвести впечатление на окружающих.
Но чем же я лучше его? — спрашивал он себя. Несмотря на все свое высокомерие, Мэррей мог по крайней мере сесть за пианино и с чувством сыграть настоящее произведение искусства. Но не свое произведение! Вот в чем дело. Все предметы, все вещи имеют свои внутренние качества, подчиняются научным законам; сам их внешний вид, физическое состояние являются выражением существующей реальности, и это должен понять художник.
Еще одно мудрое изречение! А ну-ка, запишем его рядом с другими.
Берт разгладил пальцем порванную бумагу, испытывая чувство досады.
Неожиданно новый порыв ветра и дождя ударил в стены, заставив задрожать задвижки на окнах.
Может, он слишком обнажил свою душу, показав всем свои картины? Вот Мэррей — тот показал бы их по собственной инициативе и сопровождал бы их демонстрацию целой лекцией, опровергая любые глупые замечания зрителей.
Вспоминая события этого утра, Берт снова почувствовал стыд, щеки его запылали, и он весь сжался.
Но какова же разница между Дугом и Чарли, с одной стороны, и Мэрреем — с другой? Мэррей и все остальные заумники критиковали его картины за то, что они лишены «нерва», или «профессионализма», или «экспрессивности», или еще какого-либо «качества», популярного в данный момент среди тех, кто каждое свое выступление начинал со слов «в наше время…» и кто без конца умудрялся вставлять слово «ощутимый» в самые различные контексты. Дуг и Чарли были куда приятнее, потому что они не старались представить себя такими всезнайками.
Он взглянул на пакет, прислоненный к столу, и вновь почувствовал, что краснеет. «Пять сотен! Кто больше? Шестьсот!»
Все это было похоже на то, будто ты раскрыл свою душу случайному знакомому, с которым ездишь в трамвае. Выпьешь немного и возомнишь, что он горит нетерпением узнать до последних мелочей всю твою жизнь и все твои мысли; и вот выкладываешь ему все, пока вдруг презрительная гримаса на его лице не заставит тебя в страхе и смятении остановиться на полуслове. И тогда в пьяном тумане ты прозреешь вдруг и поймешь, что он взял над тобой верх — слишком многое ты ему высказал. И хочется тебе забрать все сказанное обратно и стереть эту усмешку с его лица или повернуть дело так, будто все это лишь хорошо разыгранная шутка, но знаешь, что теперь уже ничего нельзя исправить.
Мысль эта мучила Берта, и, чтобы покончить с пыткой, он попробовал забыться. Корректура ежегодника белела на столе, но он к ней так и не притронулся, ему не хотелось даже смотреть на нее.
Он поднял голову. Чарли за столом напротив покончил с чтением гранок и делал запись в учетной тетради. Вся картина поразила Берта ясностью форм и свежестью красок, чего он никогда раньше не замечал. Он смотрел на Чарли, не двигаясь, мысленно делая уже набросок на бумаге.
Угол стола удачно сочетался с дверцей шкафа позади. Немного удлиненная голова Чарли, его загорелый, еще блестящий от капель дождя лоб, очки в роговой оправе — все это прекрасно сочеталось с окружающим фоном. Вечное перо в руке Чарли — надо поднять его повыше. И оживляющее пятно, неяркое, ненавязчивое — гвоздика в петлице или еще лучше — кончик платка, чуть выглядывающий из кармана. Он вспомнил о портрете Гюстава Жеффруа кисти Сезанна.
Что же тут главное? Сама работа, лежащая на столе. Это должен быть не портрет Чарли, а портрет человека, занятого работой. Вырази все это в четких линиях. Сосредоточь внимание на этом, сведи все линии к центру — к работе на столе перед ним.
На листке из блокнота Берт сделал быстрый набросок.
По объявлению
Перевод Ан. Горского
Санни Фостер входил в нашу компанию холостяков, где каждому не было и двадцати пяти; все мы хотели немного побродяжить, прежде чем окончательно угомониться, а потому предпочитали сезонную работу постоянной. Несколько месяцев мы работали на бойне, затем бродили по стране — копали картошку, ставили изгороди, а потом отправлялись в Окленд или в Веллингтон и водили грузовые машины или месяц-другой болтались в порту, пока не начинался сезон забоя скота на экспорт. Весной мы разгружали вагоны на товарной станции или смазывали буксы в трамвайных мастерских, но как только на бойнях начинались жаркие дни, мы снова собирались вместе, обменивались рукопожатиями, рассказывали друг другу об удачной игре на бильярде, о вечеринках, на одной из которых такой-то (имярек) напился до потери сознания, о танцульках и девочках.
Санни мы не видели больше года. Мой дружок Клерри Фишер и я нанялись к одному подрядчику и целыми днями орудовали отбойными молотками на городских трамвайных путях. По пятницам после работы программа у нас была одна: мы шли домой, к миссис Мортон, у которой снимали комнату, брились, принимали холодный душ, надевали чистые сорочки и отглаженные брюки и отправлялись в город. Обычно мы успевали заглянуть в бильярдный зал и сыграть партию, потом перекочевывали в соседнюю пивную и пропускали пару-другую пива, после чего выходили на улицу и стояли у пивной, окликая знакомых ребят. Если где-нибудь устраивалась вечеринка, шли туда. Если вечеринки не было, отправлялись в закусочную, а потом в кино или на танцы.
В ту пятницу мы гоняли шары в бильярдном зале, когда туда вошел Санни и плюхнулся на сиденье рядом со стариками-пенсионерами, что обычно торчали тут от нечего делать и глазели на игру. На Санни был спортивный костюм, но я заметил, что он все еще носит свою фуражку с черным целлулоидным козырьком. По этой фуражке Санни можно было узнать за целый ферлонг[4]. Я не знаю ни одного маорийца, который отказался бы от какой-нибудь работы, позволяющей носить фуражку с блестящим козырьком.
— Здорово, Санни! — Последовали рукопожатия.
— Как жизнь? Чем занимаешься? Где остановился? Где Том? Видел кого-нибудь из ребят?
Санни заухмылялся и снова опустился на стул.
— Мне нужно почитать газету, — заявил он.
— Ищешь что-нибудь интересное на субботу?
— Нет, ищу местечко, где могли бы отдохнуть мои косточки.
— Бери-ка кий, мы поставим шары заново, — пригласил Клерри.
— Не хочу. Да и что за игра втроем.
— Давай, давай! — Клерри положил коробку спичек на полку, показывая, что играют трое.
— Не хочу.
Санни развернул газету на странице с объявлениями. Клерри пожал плечами.
Я уже думал, что выиграл партию, но Клерри положил в лузу розовый шар и явно собирался сделать то же самое с черным.
— Говорят об этом Линдраме[5],— сказал Клерри. — Ты только посмотри на него!
— Никогда не видел, как он играет.
— Так видишь сейчас. — Вслед за несколькими красными шарами в среднюю лузу свалился черный. — Блеск! — Продолжая лежать на бильярде, Клерри с силой выдохнул воздух.
— Пойдем выпить… Линдрам?
Клерри вытащил из кармана мелочь.
— Пойдем и ты с нами, — предложил он Санни, — промочим глотку, тут рядом.
— Неплохая идея! — ответил Санни, складывая газету.
Когда мы направлялись к двери, Клерри споткнулся, задев за отставленную ногу парня, игравшего за соседним бильярдом. Парень сердито взглянул на Клерри, но промолчал. Мы встречали его и раньше. Шляпа его была сдвинута на затылок, с губы свисала сигарета — от ее дыма у парня слезились глаза, сорочка расстегнута, из заднего кармана штанов у него торчала бутылка джина, одна штанина была мокрая… В таком виде, да еще полупьяный, он пытался играть на деньги. Прищурившись от дыма сигареты (а без нее какой же шик!), парень долго и сосредоточенно целился, потом с силой ударил по шару и… промазал. Повернувшись к Клерри, он снова сердито взглянул на него, словно именно тот был виноват в его промахе.
— Пошли, — сказал я.
Вокруг стола в углу кипели настоящие страсти: тут шла крупная игра. Маркер потряс коробкой с фишками и роздал их игрокам; один из них заложил фишку за ухо, другой сунул в карман жилетки. Под дружные подтрунивания болельщиков («Этот сейчас положит!») игрок номер один составил пирамиду. Шары со стуком разлетелись по зеленому полю. Один за другим играющие склонялись над столом; и вот уже первый шар с грохотом покатился по лотку к маркеру.
Один нервный игрок по рассеянности поставил лопатку для сбора шаров так, что другой, обходя бильярд, споткнулся об нее и выругался. Все жевали жвачку, курили и бросали окурки тут же, на грязный пол.
— Четвертый игрок! — раздраженно крикнул маркер. — Четвертый! Где четвертый? Да скажите же ему, пусть идет!
«Четвертым» оказался тот самый парень, которого мы только что видели за соседним столом. Пошатываясь, он добрался до бильярда и теперь целился в шар. Болельщики посмеивались. Парень, наверное, думал, что он мигом обыграет всех, и, может, в самом деле играл неплохо, когда был трезвым. Конечно, никому и в голову не пришло отговаривать его — кто же упустит случай подзаработать на такой глупости! Парень отвел кий и ударил. Промах! Пробубнив что-то, он отошел от стола.
Потом в игру вступил один из профессионалов. Ему нужно было положить чуть ли не все шары, чтобы добраться до своего, и он не спеша принялся за дело, пока остальные стояли вокруг в унылом молчании. Интересно было наблюдать за его игрой. Шары летели в лузы — один, другой, третий… Этот игрок знал, когда можно поживиться: пятница — день получки, а простачков он чуял за милю. Но вот наступил решающий момент; его шар отлетел от борта, и пятерка так аккуратно легла в лузу, что все мы чуть не лопнули от зависти.
— Вот это да! — воскликнул Клерри.
— Возьмите у меня кий, — предложил нервный игрок. — У меня не осталось мелочи.
— Да, да, Линдрам, сыграй! — подхватил я.
— Э, нет, не сейчас, — отозвался Клерри. — Мистеру Линдраму время выпить… Ты как, Санни?
— Ничего не выйдет. С деньгами у меня туговато.
Профессионал мрачно посмотрел на нас и отошел к другим столам.
В пивной Клерри заплатил за выпивку, а я угостил всех сигаретами. Помещение постепенно заполнялось; кое-где посетители сидели большими группами, время от времени подходил кто-нибудь из знакомых, перекидывался с нами несколькими фразами и снова отходил.
— Держусь подальше от больших косяков, — заметил Клерри. — Большие косяки не для меня.
— И не для меня, — отозвался Санни. — Часам к шести вечера соберется куча знакомых — купишь каждому по стакану, и четыре-пять шиллингов из кармана вон.
— Лошака Трейна не встречал? — поинтересовался Клерри.
— Пока нет, — ответил Санни и осклабился.
— Прошлый сезон мне довелось здорово посмеяться, — пояснил Клерри. — Этого типа, что был тогда с нами, все звали Лошаком. Уж больно медленно он мозгами ворочает. Кое-кто считает, что у него не все дома. Только это чепуха — он себе на уме, разве что прикидывается тихоней. Ну-с, так вот, ребята рассуждали о бегах. Лошак и говорит:
«У моего старика много беговых лошадей».
«Да? — переспрашивает Джо Блейк. — Только хороши ли они, вот вопрос». (Джо интересуется лошадьми и считает, что прекрасно разбирается в них.)
«Конечно, хороши, — захорохорился Лошак Трейн. — Красотки!»
«А много ли призов взяли твои красотки за последнее время?» — продолжает Джо.
«Конечно, — отвечает Лошак. — Они выиграли призовые кубки. Много кубков».
«Валяй, валяй, — подзадоривает Джо. — Какие же, например?»
Лошак Трейн маленько подумал, да и ляпнул: «Ну, например, кубок Дэвиса…»[6].
Клерри загоготал, но поперхнулся и раскашлялся. Он страшно любил смеяться над собственными шутками.
— Куренье до добра не доведет, — сказал он. — Придется бросить.
Я решил еще взять пива на всех и протолкался к стойке. За ней орудовал бармен Сирил, потный, раскрасневшийся. Со всех сторон к нему тянулись руки с пустыми стаканами. По-моему, барменам за вечера по пятницам надо платить тройное жалованье.
Наполняя стаканы, Сирил с силой отодвигал их от себя, расплескивал пиво и невозмутимо выслушивал брань, не забывая обсчитывать на каждой сдаче.
— Как дела, Сирил?
— Как сажа бела.
Мы прислонились к стойке, прихлебывая пиво и с любопытством оглядывая каждого нового посетителя.
— Санни, что с тобой? — поинтересовался Клерри. — Ты что-то больно тихий нынче.
— Странная штука произошла сегодня со мной, — ответил Санни и поморщился.
Накануне вечером Санни приехал поездом с Восточного побережья и заночевал в Торндоне у Джека Суини. У Джека всегда можно переночевать. Когда нам приходится работать вместе, мы всегда выбираем его своим профсоюзным делегатом: такого хорошего парня, как он, редко встретишь.
Утром Санни трамваем отправился в Мирамар, нанялся там кочегаром на газовый завод и уже на другой день должен был выйти на работу. На обратном пути Санни купил первый выпуск вечерней газеты. В одном из объявлений он вычитал, что недалеко от вокзала сдается комната, и место показалось ему вполне подходящим, поскольку трамваи на Мирамар отправлялись как раз отсюда. Санни показал нам объявление: «Сд. комн. молод., спок., благовоспит. джентльмену…» и прочая обычная в таких случаях ерунда, а в конце — телефонный номер квартиры.
Санни сейчас же к телефону.
— Да, — ответила хозяйка, — есть чудесная комнатка, весь день там солнце; окнами выходит во двор, так что уличного шума совсем не слышно. По утрам я буду приносить вам чай, поджаренный хлеб и джем. Стирку не беру, но у нас есть прачечная с новенькой стиральной машиной, вы можете стирать сами.
— Вот и хорошо, — ответил Санни. — На случай, если будет много желающих, запишите мою фамилию, а я сейчас приеду.
Женщина спросила его фамилию и дала свой адрес. Санни вскочил в трамвай, доехал до памятника павшим на войне, а потом пешком поднялся на гору, где строится новая церковь. Тут он отыскал ветхий двухэтажный серый домишко. Постучался. Дверь открыла старая женщина — я так и вижу ее перед собой, немало перевидал я таких на своем веку: все они похожи друг на друга, как две капли воды. Разжиревшие, с хриплым голосом… Сизые носы, вставные зубы, спутанные и пережженные перманентом волосы…
Женщина внимательно осмотрела Санни.
— Извини, — сказала она. — Комната сдана.
— Но я же, — возразил Санни, — только что звонил и назвал себя: Санни Фостер, а вы ответили, что все будет в порядке, потому что я первый. Вы сказали, что комната будет за мной.
Женщина уставилась на него.
— Так ты именно тот молодой человек, что звонил?
— Я, я!
— Видишь ли, — продолжала женщина, — по телефону ты не сказал мне, что ты маориец. Я-то ничего не имею против маорийцев, а вот некоторым нашим постоянным жильцам это не по вкусу.
— Какое мне дело до того, что им нравится или не нравится? У вас есть свободная комната, и я хочу ее снять.
— Знаю, сынок. Но у нас тут уже несколько раз появлялись беспокойные квартиранты. Однажды соседи даже жаловались в полицию. Мы не хотим, чтобы о нашем доме пошла дурная слава.
— Вы сдаете комнату или нет?
Женщина помолчала.
— Да, сдаю, — ответила она. — Но не тебе.
И женщина захлопнула дверь у него перед носом. Санни до того разозлился, что готов был разнести домишко.
— Что же мне теперь делать? — спросил он у нас.
— Не вешай носа, — сказал я. — Не все же хозяйки такие.
— Пойдем к нам, — предложил Клерри. — Миссис Мортон добрая старуха, она не станет возражать, если ты будешь жить с нами.
— Ну, не знаю, — усомнился я. — Сида-то Бернса она выперла.
— Да, но с Бернсом дело другое, — возразил Клерри, доставая табак. — Бог мой, сколько же жульничества во всех этих меблирашках! Пустят хозяева иммигрантов и дерут с них семь шкур. Местный житель нипочем не станет платить такие деньги.
— К белому, пусть он хоть на пять минут заглянул в нашу страну, отнесутся совсем по-другому, чем ко мне, — заметил Санни.
— Да, но надо же где-то жить бедолагам, которые только что сошли с парохода, — сказал я.
— Надо, — согласился Клерри. — Но не в том дело. Вы понимаете, как хозяева наживаются на них? Вот о чем речь. Возьмите эту старую каргу, что разговаривала с Санни: она сдаст комнату какому-нибудь иммигранту и сдерет с него не меньше половины недельной зарплаты, а он и пикнуть не посмеет, побоится, что его вышлют из страны, если у него не будет постоянной прописки.
— От всех этих разговоров комната у Санни не появится, — вставил я.
— Комната? Черта с два, — ухмыльнулся Санни. — Скорее уж пиво. — Он собрал стаканы и начал протискиваться к стойке. В помещении стоял сплошной гул, у стойки не было ни одного свободного местечка, вокруг толкались люди, разыскивая своих знакомых. Клерри с отвращением осмотрелся.
— Каждый раз я замечаю, что здесь становится все хуже и хуже, — сказал он. — Может, допьем пиво и перекочуем в другой зал?
Какой-то человек, пробиравшийся через толпу рядом с нами, вдруг заметил Клерри и бросился его обнимать. Потом они повернулись с расплывшимися в улыбке лицами и, отдуваясь, посматривали на нас, то обмениваясь тумаками, то принимаясь пожимать друг другу руки.
— Том! — воскликнул я, хватая парня за плечо. — А Санни не говорил, что вы пришли вместе.
— И правильно сделал. Я пообедал в Мастертоне и только что явился сюда.
— Санни! — заорал Клерри. — Ты председательствуешь. Покупай парню пиво.
Теперь нас было четверо. Мы стояли, притиснутые к стене, вокруг толпились люди со стаканами в руках, в пивную входили все новые и новые посетители.
— На работу устроился? — поинтересовался Клерри.
— Пока нет, — ответил Том. — Завтра у меня уйма времени.
Санни передал ему еще стакан пива. Том залпом его осушил.
— Где остановился? — спросил я.
— Мне повезло, — отозвался Том. — Сошел с автобуса и купил первый выпуск вечерней газеты. В общем удалось найти хорошую комнатку в Торндоне. Оставил там чемодан и — прямым ходом сюда. Думал, может, застану здесь кого из нашей компании.
— А где ты снял комнату? — спросил Санни.
— Я же сказал — в Торндоне. Совсем недалеко от вокзала. Нужно пройти мимо новой церкви… Старый двухэтажный домишко серого цвета.
Мы переглянулись.
— Ну, вам теперь понятно? — спросил Клерри.
— Здорово! Ничего не скажешь, — добавил я.
Санни откашлялся и сплюнул на пол.
— Что у вас за секрет? — поинтересовался Том.
Клерри рассказал.
— Какая-то карга отказала Санни только потому, что он маориец, — пояснил я.
— Вот черт!
Вокруг было все так же шумно, но теперь в воздухе ощущалось какое-то напряжение. Санни сердито глядел на Тома. Казалось, он сейчас ударит его. Том растерянно переминался с ноги на ногу. Клерри смотрел то на Санни, то на Тома.
— А знаете, — наконец сказал он, — никому и в голову не придет, что вы братья.
И в самом деле. У Санни была светло-коричневая кожа и черты лица настоящего маорийца — никто бы не принял его за белого, а Том был белым, и это никаких сомнений не вызывало. Да и остальные Фостеры — девчонки и мальчишки — были одни белые, другие темные: я видел их на фотографиях. Отец у них был пакеха — белый, ирландец из графства Карлоу, в жилах матери текла смешанная кровь. В любой семье встречается такое: одни дети пошли в отца, другие — в мать.
Вот как обстояло дело, и меня сейчас беспокоило, как поведет себя Санни. А Санни смотрел на Клерри так, словно видел в нем своего недруга.
— Верно, верно, — продолжал Клерри. — Тот, кто не знает вас, ни за что не поверит, что вы братья.
Свирепое выражение не сходило с лица Санни, но вот он заулыбался и потянулся за своим пивом.
— Только бы наш старик тебя не услышал, — проговорил он, — а то еще заподозрит, нет ли тут какого подвоха.
Человек на дороге
Перевод Ан. Горского
На вершине холма мы остановили наш старенький «эссекс» и вышли из машины взглянуть на открывающийся вид. Под нами расстилалась бухта, ее огромная дуга, обрамленная кружевной каемкой пены, справа заканчивалась мысом, на котором пестрели недавно построенные летние домики. Над туристскими стоянками в зарослях деревьев вдоль дороги поднимались в неподвижном воздухе столбы дыма. В бухте сновали катера, буксируя спортсменов на водных лыжах; за торчащими из воды камнями покачивались на якорях лодки рыбаков, ожидающих, когда начнется прилив и наступит время лова.
На дороге показался маориец, он плелся за поджарой и грязной собакой. Это был хилый, болезненный на вид старик с белой щетиной на подбородке; на нем были рабочие шаровары, перевязанные выше колен, — я ни разу не видел таких с тех пор, как кончились тяжелые времена кризиса. Заметив нас, он приподнял шляпу и сказал: «Добрый день». Кириваи, моя жена, поздоровалась с ним робко и смущенно, как обычно делают маорийцы, много лет живущие вдали от своего народа из-за брака с белыми или по другим причинам.
— В отпуск приехали?
Да, ответили мы, но остановились тут проездом, задерживаться в этих местах не собираемся.
Кириваи спросила, растет ли здесь жеруха.
— Жеруха? У второго моста по этой дороге ее сколько угодно. На вашем месте я захватил бы с собой сетку, чтобы собирать ее. Ручей глубокий, а берега илистые. Если хотите, могу одолжить свою.
— А пауа[7] встречаются?
— Да, среди камней за мысом их очень много. Вам понадобится лодка, если вы не захотите подниматься на гору. Туда ведет частная дорога… Скорее, тропинка… Я бы не смог проехать туда на машине. Надо просить разрешения, чтобы проехать по этой дороге. Во всяком случае, мне всегда приходится это делать.
— Ну а вообще-то какую-нибудь рыбу здесь ловят? Хапуку[8], например, попадается?
— Хапуку? Уходит отсюда хапуку. Раньше ее можно было ловить недалеко от берега, и ловить помногу, но с тех пор, как у берегов появились траулеры, она стала исчезать. Когда-то много ее попадалось, а теперь, вот уже сколько лет, я и вкуса ее не помню.
Старик взял предложенную сигарету и присел на подножку автомобиля. Глаза его скользили по разбегающимся веером волнам внизу.
— То же произошло и с другой рыбой, — продолжал он. — Не только с хапуку, но и со всей остальной рыбой. Поймать-то вы поймаете… всегда можно что-нибудь поймать. Но только по сравнению с тем, что было раньше, это пустяк. Как-то раз, когда тут собрался народ на праздник, мы втроем за несколько часов поймали полтонны, и только удочками. Мы взвесили улов на пристани. Теперь здесь и за неделю столько не наловишь.
Кириваи рассказала, как накануне вечером она охотилась за камбалой. С фонарем и острогой она исходила по воде вдоль берега около мили, но так ничего и не увидела; ничто не мелькнуло в воде, не взбаламутило песок.
Маориец кивнул.
— Вон там, — он показал на полоску песчаного берега метров двести длиной между двумя бухточками, наполнявшимися водой во время прилива, — там несколько лет назад камбала просто кишела. Потом этот берег начали распродавать по частям… В городских газетах печатались большие объявления. Люди приезжали, строились, привозили с собой сети и брали рыбу сотнями за один заход. А сейчас камбала ушла, нет ее здесь. Можете приходить сюда хоть каждый вечер, и ни одной не увидите. Мне пришлось бросить это. Работа такая, что с ног валишься, а за полночи поймаешь только одну-две рыбины, да и то если повезет. Нет, сетью я никогда не ловил. Я брал лишь сколько мне было нужно… А что же эти люди делали с сотнями и сотнями рыбин, которых вылавливали сетями? — Старик пристально посмотрел на меня своими глубоко запавшими глазами. — Ну, съесть всю эту рыбу они не могли и просто выбрасывали ее. Кучи рыбы гнили на берегу. Мухи… Вам за всю жизнь не довелось видеть столько мух. На моих глазах эти люди сотнями ловили камбалу, пересчитывали ее, а потом, еще живую, бросали гнить на берегу — у них даже не хватало ума пустить ее обратно в воду. Нет, в камбале они не нуждались. Все это им нужно было, чтобы потом похваляться перед своими приятелями в городе: «Ну и камбалы же мы наловили за субботу и воскресенье… Сотни!» Это все, что им требовалось. В рыбе они не нуждались.
— Ну а мидии здесь еще есть, правда?
— Да есть немного, только тоже все меньше становится, все труднее их находить. Чем больше тут появляется людей, тем меньше это нравится рыбе. Уж она-то знает.
Старик отвел глаза в сторону и пробормотал:
— Лучше бы люди боялись тут появляться, а не рыба.
Облака, словно источенные мельчайшими трещинками, закрыли солнце. Мы молча курили.
— Видите? — спросил маориец, показывая на лабиринт проволочных изгородей на берегу. — У этого пакеха[9] теперь собственный берег. Он принадлежит ему и никому больше. Подумайте только: его собственный берег! А в детстве я половину лета проводил тут на песке, а потом и мои дети тоже.
— Да, — отозвался я. — Ему, наверное, хочется иметь и свой собственный закат.
Маориец ухмыльнулся; зубы у него были выщербленные и желтые.
Сквозь щель в рваных облаках брызнуло солнце и осветило большое масляное пятно на поверхности бухты.
— Да, у меня тут земля, — продолжал старик. — Вы помните городок, через который проезжали по дороге сюда? Весь этот участок — от городка до конца бухты, где вам нужно поворачивать в горы, когда-то принадлежал моей семье. Ну а вон там моя ферма. Я покажу ее вам.
Мы зашли с другой стороны машины. Старик указал на стог сена, сложенный из тюков приятного желтовато-кофейного цвета, и обвел рукой чистый луг, повозку, что стояла под ивами, клочок вспаханной земли, небольшой дом, коровник и сад — до аллеи поблескивающих серебристой листвой тополей со стволами бронзового цвета.
— Отсюда вы можете видеть все сразу. Сейчас на меня наседают, хотят, чтобы я отдал под пляж прибрежную часть фермы. Заплатят мне? Конечно, заплатят, и немало. Но деньги скоро разойдутся. А уж если вы распростились с землей — все, конец. Моему народу следовало бы это понять лет сто назад.
Мы снова присели. Мимо нас проносились машины с опущенными стеклами; пассажиры, словно одеревенев, не сводили глаз с дороги.
— Сейчас у меня тридцать коров. Раньше я держал по пятьдесят и больше — чаще всего по пятьдесят, — но выяснилось, что я не могу управляться с ними. У меня два сына. Один из них в Малайе, в армии. Не пойму, что ему там понадобилось. Когда он поступал на военную службу, то даже не мог сказать мне, где находится Малайя, да и сейчас, готов поспорить, не знает этого. Другой мальчик работает в Окленде шофером на грузовой машине у фирмы по продаже кирпича и черепицы. Хороший парень, мастер на все руки, смекалистый. Но сейчас никак не могу уговорить его вернуться домой. Уезжают они туда, привыкают получать деньги за работу, заводят знакомства, узнают вкус пива, и, понимаете, это уже все, домой вы их больше не заманите. А у него еще там девушка, пакеха, всю свою жизнь прожила в городе. Готов биться об заклад, что в деревню она ни за что не поедет.
Он погладил свисающие под подбородком складки кожи.
— Не знаю, что и делать с фермой. У меня есть несколько овец, возможно, придется продать коров и заняться овцами; может, с овцами полегче будет. Только тут у нас не так-то просто со стрижкой. Придется, пожалуй, самому стричь, вручную, а годы у меня уже не те. Для такой работы нужна сильная спина. Хиреет моя ферма. Мне уже не по силам управляться с ней, как раньше. И если на меня будут наседать, наверное придется продать прибрежный участок. Жалко, но ничего не поделаешь. Если бы только мальчики вернулись домой!
— А как тут у вас с электроэнергией для стрижки овец?
Старик покачал головой.
— Я плачу пятнадцать фунтов ежегодно за клочок земли под домом. Если не считать щебенчатой дороги, ничего-то тут у нас нет. Как-то раз я разговорился с человеком из Веллингтона: он рассказывал, что живет на улице с тротуаром, в минуте ходьбы от железнодорожной станции. У него водопровод… газ… электричество… канализация… И платит налогов тридцать фунтов в год. А у нас ничего нет, если не считать того, что сделаем сами. Куда только они тратят деньги?
Он показал на мыс. По песчаной дороге к берегу спускалась машина с прицепом и лодкой на нем.
— Видите эту дорогу? Ее отобрали у меня. Он — пакеха с соседней фермы, депутат муниципалитета. Его земля когда-то принадлежала моим старикам. В трудные времена он купил у нас около тысячи акров по десять шиллингов за акр. Несколько лет назад сосед решил разбить прибрежную часть своей фермы на участки. Он пришел ко мне и сказал, что людям нужна дорога к берегу. Я спросил, почему же он не дает ее им. Потом я узнал, что муниципалитет принял решение, и у меня отобрали полосу земли, чтобы провести дорогу к его участкам. Что вы думаете об этом? Нет, мне ничего не заплатили. Землю у меня отобрали потому, что есть будто бы такой закон. Если бы я стал судиться, может и получил бы что-нибудь. Но для этого пришлось бы ехать в Окленд, повидать адвоката или еще кого-нибудь — мне бы и не объяснить толком, что да как, а сочинять бумаги я не мастер. А кто будет смотреть за фермой, когда я уеду? Да и жена у меня не очень-то здорова, мне не хотелось оставлять ее одну.
Маориец показал в другом направлении.
— А если вы остановитесь вон там, под деревьями, на местах, отведенных под стоянку машин, он заставит вас внести деньги на его церковь. Понимаете, он же общественный деятель, из муниципалитета. Просто так заплатить ему вроде бы нехорошо. Вот вы и делаете пожертвование на церковь. Не знаю, перепадает ли что-нибудь церкви. Раньше была больница. Вы разбивали тут свой лагерь и вносили деньги на больницу. Потом больница стала государственной, так он стал собирать пожертвования на церковь. Пожалуй, про него когда-нибудь еще скажут, что он щедрый человек… за чужой счет.
Тявкнув, к старику подбежала собака, и он ласково похлопал ее по голове. Из беспорядочного нагромождения лохматых туч в глубине проглянуло голубое небо с клочьями разорванных облаков. В бухту возвращался экскурсионный катер, над ним с криками носилось много чаек — у рыбаков, очевидно, был удачный день.
— Нет, бухта стала не та, что раньше. Люди приезжают из города, строят бунгало и время от времени наведываются сюда. Они совсем не считаются с нами, кто живет здесь постоянно и трудится ради куска хлеба. Тут прошла вся моя жизнь. А теперь, среди этих горожан, я начинаю чувствовать себя посторонним. С месяц назад мне пришлось поехать в город за покупками. Возвращаюсь, а коровы мои, все до одной, на шоссе. Смотрю — вокруг чужие люди. Разбили палатки на выгоне, срубили несколько деревьев и разожгли костер, раскрыли настежь ворота. Я вошел в дом, взял молоток, прогнал всех и забил ворота гвоздями. Эти люди самовольно брали воду из цистерны, хотя перед последним дождем ее оставалось очень мало. Наверное, только они отъехали от моей фермы, как принялись ругать меня на все лады. Ну да это пустяки по сравнению с тем, как ругался я после их отъезда. Эти люди приезжают сюда на машинах, словно в гостинице на колесах, и воображают, будто тут все принадлежит им. И пока так не будет, они не успокоятся. Ждут не дождутся, чтобы выжить отсюда старого маорийца, который так испортил им праздник!
Он приподнял шляпу и почесал голову.
— Пожалуй, мне и вправду надо бы убраться отсюда по многим причинам. Не знаю, смогу ли я долго продержаться тут. Вот только хочется, чтобы дети вернулись домой.
У противоположной обочины дороги остановилась машина, и из нее выбралось несколько экскурсантов в цветных рубашках, шортах и защитных очках. Все они не сводили глаз с моря и оживленно разговаривали между собой. Мы слышали, как один из них сказал:
— Спроси-ка вон у того хори[10].
Подстриженный ежиком юноша в свитере с высоким воротником, жуя резинку, большими шагами подошел к нам.
— Эй, начальник, где тут хорошие места для рыбалки, а?
Старик улыбнулся и подтянул шаровары.
— Если клев есть, вы можете поймать рыбу везде, — ответил он. — А если клева нет, все равно, где рыбачить.
Маориец приподнял на прощанье шляпу перед моей женой, пожал мне руку и зашагал по дороге вслед за своей собакой.
Мак-Криди
Перевод Н. Ветошкиной
Вы слышали когда-нибудь о Мак-Криди? Нет? Он жил здесь еще до вас. Сам я был с ним знаком не слишком близко; по правде говоря, я даже понятия не имею, какая у него была специальность. Я в то время работал на бульдозере и иногда встречал его на строительном участке, но что он там делал, не знаю. Сдается мне, что и никто этого не знал. Возможно, он просто здорово умел устраиваться и ничего не делал. Подрабатывал, видно, на плотницких работах.
Первая встреча с ним произошла у меня в автобусе, когда я возвращался из города. Он сидел один, рядом с ним место пустовало. Автобус был переполнен, люди стояли в проходе, но никто не хотел садиться рядом с Мак-Криди. Пьяный, он развалился на сиденье и при каждом Толчке качался из стороны в сторону. Морщинистая шея, шляпа сдвинута на затылок, волосы спутаны, изо рта торчит окурок самокрутки. Так он выглядел, и никто не изъявлял желания сесть с ним рядом.
Я уже говорил, что почти никогда не сталкивался с ним на работе. Однажды, впрочем, я встретил его на мосту около закусочной как раз в тот момент, когда над нами пролетал самолет-наблюдатель. Было очень жарко, и я окликнул Мака:
— В такую жару, как сегодня, в этой штуке сидеть неплохо — прохладно и уютно.
Он остановился, посмотрел вверх на самолет и сказал:
— Ну, без бутылочки меня туда не заманишь.
Что тут скажешь? Мак был из той породы людей, которые на работе еще кое-как терпимы, но не дай бог очутиться с ними в пивной. Вы меня понимаете? Перспектива не из веселых.
Вы вот рассказывали о том, как парни хватаются за любую работу, какая ни подвернется, лишь бы не угодить в армию безработных. Ну а я расскажу вам о Мак-Криди и о том, как он нашел золото. У нас на строительстве об этом до сих пор вспоминают.
Тед Доусон гулял с Шерли — девушкой из закусочной — и подарил ей такую маленькую бутылочку с золотым песком: знаете, их еще ставят в виде украшения на каминную полку. Когда-то Тед занимался промывкой золота на Западном побережье, и этот песок хранил как сувенир. Цена ему была небольшая, и Шерли, увидев как-то в его хижине эту бутылочку, попросила ее, и Тед подарил ей.
Хорошенькая девчонка была эта Шерли (правда, ноги у нее были чуть толстоваты). И на язык острая. Продвигаясь мимо прилавка с закусками, за которым она стояла, парни, бывало, так и норовили сорвать у нее поцелуй, и тут уж она могла так отбрить каждого, что любо-дорого!
Однажды утром Мак-Криди вошел в закусочную, чтобы выпросить чашку чаю, и вдруг приметил на полке позади прилавка бутылочку с золотым песком.
— Где это ты достала? — поинтересовался Мак-Криди, взяв бутылку в руки.
— Из ручья на отмели, ясное дело, — сказала Шерли. — Где же еще, по-твоему?
Она ответила ему не задумываясь. Мак-Криди удивился.
— Неужто правда?
— А то нет? Каждый знает, что там есть золото. Посиди на берегу, и сам увидишь, как крупинки по дну течением несет.
Мак-Криди схватил ее за руку и, придвинувшись к ней совсем вплотную, лицом к лицу, прошептал:
— Я бы на твоем месте об этом не болтал. — А затем поставил бутылку снова на полку, но то и дело на нее поглядывал. — Впрочем, что тут волноваться, — сказал он (испугавшись, видимо, что слишком себя выдал). — Грош цена этому золоту. Качество очень низкое. — И вышел, не допив свою чашку чая.
Он пошел к хижине Теда Доусона и постучал в дверь.
— Послушай-ка, Тед, не сохранился ли у тебя грохот с тех пор, как ты золотой песок в реке добывал?
Тед берег весь свой инструмент, полагая, что когда-нибудь снова отправится на прииски.
— Конечно, вон он там, за печкой лежит. А зачем он тебе понадобился?
— Да так, надо, — сказал Мак-Криди. — Во всяком случае, ты в накладе не останешься. Только помалкивай и наберись терпения, ручаюсь, ты об этом не пожалеешь.
И он ушел, забрав грохот, а Тед тут же забыл об этом. Он решил, что Маку понадобился грохот, чтобы наносить земли к себе в огород. Мак очень любил цветы, и к его хижине примыкал маленький садик, обнесенный бетонной оградкой — цемент для нее он натаскал со строительства.
В тот вечер, когда Тед шел по мосту, направляясь в закусочную, он увидел, как Мак-Криди в больших сапогах шлепает по воде. Есть такие ручьи — несколько крошечных водоемов, а между ними водопадики, вот в одном из этих водоемов и стоял Мак, тряс в грохоте песок, взятый со дна, и промывал его — ну, вы ведь знаете, как это обычно делается?
Тед рассказал об этом Шерли, она засмеялась, показала бутылочку с золотым песком и передала Теду, какой у нее был утром разговор с Мак-Криди. Этот рассказ очень насмешил Теда и всех ребят, собравшихся в закусочной. Слышали бы вы, какой гогот поднялся, когда Мак просунул голову в дверь и попросил Шерли поставить его ужин в духовку, потому что он дотемна не сумеет освободиться.
Все порешили разыграть старину Мака. Один из механиков сказал, что в мастерской есть медные опилки, которые могут вполне сойти за золото. В тот же вечер он набрал этих опилок и рассыпал их по дну водоема, расположенного по течению ниже, чем тот, где работал Мак-Криди.
На следующий день была суббота, и сразу же после завтрака Мак в болотных сапогах, держа в руках грохот, помчался к своему водоему; летел он на всех парах. Все утро он промывал песок на одном и том же месте, и люди со всего поселка стали сходиться, чтобы посмотреть на старателя за работой.
— Ты что, Мак, очумел, что ли? Там ведь ничего нет! — кричали ему.
— Есть. Я своими глазами видел. Смейтесь себе на здоровье. А я все равно видел. Золото, добытое из этого самого ручья. Спросите-ка Шерли, она вам расскажет.
Они все измывались над ним, но без толку. Он продолжал работать, не обращая на них никакого внимания.
Большинство парней уехало на воскресенье в город, а те, что остались в поселке, после завтрака уселись позади бани играть в ту-ап[11]. Все радиоприемники были настроены на одну программу — передавали скачки, и Сэм Вэйс, букмекер, бегал по всему поселку, словно заведенный. Азартная игра в ту-ап завладела всеобщим вниманием, но то и дело кто-нибудь отрывался и шел подразнить Мак-Криди.
К вечеру Тед Доусон пошел к ручью и сказал:
— Послушай, Мак, если в этом ручье и родится золото, оно должно быть ниже по течению. Течением его сносит, понимаешь?
— А ведь, может, ты и прав, Тед. Кажется, я возьму тебя в компанию. — И Мак двинулся ниже по течению, к тому самому месту, где парни набросали медных опилок.
Спустя десять минут раздался ликующий крик; игра прервалась — игроки повскакали с мест и побежали смотреть представление, а болельщики даже пропустили результаты последнего заезда.
Мак-Криди стоял по колено в воде, потрясая грохотом над головой, с рук у него стекала вода.
— Вот оно! — кричал он. — Дураком Мак-Криди все называли, а вот посмотрите-ка, вы, всезнайки! — И он передал грохот собравшимся, чтобы люди могли сами убедиться. Все сказали, что сожалеют, что смеялись над ним и делали из него посмешище. Ну да кто прошлое помянет, тому глаз вон, и пусть он включит их в долю.
Нет, этого он не сделает.
— Это мое, потом моим добытое, и если я кого здесь, на этом ручье, увижу, тогда берегись! Это все мое, каждая крупинка.
— Верно, это все Маку принадлежит, — сказал Тед Доусон. — Победителю добыча. Кто первый нашел, тот все и забирает. У старателей это закон.
— Сказано — и точка. Советую это запомнить. — Мак показал рукой на вершину холма. В том месте, где ручей вырывался из скал на волю, было разбросано с десяток домов, в которых жили семейные рабочие. — Кто живет в тех домах? Что они там делают?
— Это квартиры семейных, ты же знаешь!
— Пусть переезжают. Пусть выселяются все! Переселяйте их в другое место. Сносите все эти дома, они мне мешают. Этот ручей отныне моя собственность. В понедельник я первым делом повидаю Рассела. — (В то время Рассел был главным инженером строительства.) — Повидаю Рассела и заставлю его всех их выселить. А если он не захочет этого сделать, я его самого выселю.
— Прежде ты должен сделать заявку, — сказал ему Тед Доусон. — Так во всех законах сказано. Ты все должен сделать на законном основании. Пока эта земля тебе не принадлежит, не можешь ты сносить дома.
— Тед, ну и голова же у тебя! В понедельник я первым делом поеду в город. Повидаю там адвоката и получу нужные бумаги и все прочее, и тут уж дело пойдет! Боже, подумать только! Мою фотографию поместят в газете, все девушки будут на меня вешаться, все жулики наперебой будут стараться, чтобы я поместил свои денежки в то или иное дельце…
И Мак-Криди понесло, фантазии его не было предела. Никто не в силах был его остановить.
Но тут кто-то с самым невинным видом сказал:
— Мак, а откуда тебе известно, что оно настоящее? Не лучше ли тебе сделать проверку? А вдруг там золотом и не пахнет? Заранее никогда ведь неизвестно.
Кругом зашикали и заворчали, чтобы человек этот заткнулся, но Тед Доусон сказал:
— Хорошая идея. А ну, Мак, неси-ка грохот в хижину.
У Теда было много химикатов из тех, которые применяются в строительном деле, и он в свободное время любил производить разные опыты. Он неплохо в этом деле разбирался, знал, как действует кислота на различные металлы, и все такое прочее.
Мак отнес грохот с песком в хижину, хотя ему очень не хотелось покидать ручей, — он опасался, что, стоит ему отлучиться, кто-нибудь непременно начнет там копаться.
А в хижине Тед завел длинный разговор о различных химических реакциях, пуская в ход всякие технические термины. Никто не мог понять, что у него правда, а что выдумка, но Мак-Криди кивал головой в знак того, что он внимательно слушает. Затем Тед бросил немного медных опилок в пробирку и налил туда какой-то жидкости. Содержимое начало вскипать, и из пробирки стал подниматься не то пар, не то дым. Тед, словно факир, показывающий фокус, взмахнул руками.
— Вот и все! — сказал он. — Никакого мошенничества.
— Тед, — сказал Мак, — как хорошо я сделал, что взял тебя в долю на равных началах.
Мак проработал в поте лица все воскресенье и собрал все медные опилки в кувшин. Я думаю, за весь день у него даже крошки во рту не было, а ведь обычно он насчет еды был не дурак.
Рано утром в понедельник в город отправлялся автобус, и я видел, как Мак ждал его перед зданием Ассоциации молодых христиан. В своем лучшем костюме он выглядел очень нарядно, только галстук висел на нем, как петля на висельнике, — большим узлом (знаете, как раньше старики носили), а воротничок рубашки аж уши подпирал. Весь он был подтянутый, гладко выбритый и в руках у него был чемодан, чтобы привезти в нем из города пиво.
Во всем поселке целый день только и разговору было, что о Маке. Некоторые считали, что шутка слишком уж далеко зашла, другие говорили, что старина Мак молодец: ничего, не рассердится.
В этот вечер в закусочной было особенно оживленно и весело, как на детском рождественском празднике. Все перебрасывались шутками; стоило кому-нибудь слово произнести, как поднимался общий хохот. Игра на скачках принесла выигрыш, пьяницы предвкушали хорошую выпивку, игроки в ту-ап почти все без исключения чувствовали себя героями дня. Деньги у людей в этом поселке водились, пунш еще не иссяк, и в девицах недостатка не было, если кто знал, где их найти, а «на сладкое» еще оставался Мак-Криди. Настроение у всех было хоть куда. И тут явился Мак.
Он был пьян, парадный костюм его с одного боку был выпачкан сверху донизу (видно, он ушел из пивной и до отправления автобуса проспал на берегу реки). Трава оставила на коленях и локтях зеленые пятна; шляпу свою он потерял, ботинки были не зашнурованы, одна подтяжка болталась.
Появление его вызвало всеобщее оживление.
— Ну как, золотоискатель?
— Сделал заявку?
— Берешь нас всех в долю?
— Послушай, Мак, уж меня-то ты знаешь…
Он стоял в дверях, глаза его были полузакрыты и влажны от слез. Он качался из стороны в сторону, стараясь удержать равновесие, и подмигивал нам, а потом снова погружался в какое-то полудремотное состояние.
Мне стало жаль его и стыдно за свое поведение. Один он, что ли, такой был? Это случалось с каждым из нас: вы могли иметь хорошую работу и лишиться ее по своей вине; поставить все свои денежки на неизвестную лошадь, которая так и не выиграет; понадеяться на обещание девушки, а она навсегда вас покинет. Так вот и он стоял там, грязный, печальный, и все над ним издевались. Кое-кто из парней испытывал те же чувства, что и я.
— Довольно! Хватит!
— Оставьте старика Мака в покое.
— Прекратите ваши шуточки!
Мак-Криди повернулся, чтобы уйти. Крики прекратились. Казалось, он сейчас рухнет на пол. Тишина наступила мертвая.
Мак повернулся и пристально посмотрел на всех.
— Знаете, — сказал он, — порой мне кажется, счастлив тот, кто живым из вашей компании выберется.
Больше он ничего не сказал.
Старик Гарри
Перевод Н. Ветошкиной
Мы лежали в отделении уха, горла, носа. Какая-то загадочная машина внизу нещадно грохотала всю ночь, и теперь мы молча смотрели друг на друга, и каждый думал, что нового готовит нам грядущий день, разгонит ли он томящую скуку.
Старик Гарри лежал на соседней койке. Сестры говорили, что ему шестьдесят семь, но выглядел он на все восемьдесят. Глаза у него были бесцветные, веки красные, воспаленные. Лицо такое худое, что в его туго обтянутых блестящих скулах, как в зеркале, отражались оконные переплеты. Бакенбарды его были закрыты пушистым одеялом. Усы свисали надо ртом, концы их чуть не касались подбородка. Зубы у него все выпали, и когда он открывал рот, так и казалось, что сейчас потечет слюна. Он лежал на спине и спал, костлявое лицо и острый крючковатый нос придавали ему вид мумии.
Он зашевелился; тяжело дыша, с трудом сел на прогнутой кровати, разложил на коленях полотенце и начал отчаянно, надрывно кашлять. Все тело его сотрясалось, губы обвисли, слезы текли из глаз.
Вошел мальчишка, разносчик газет, и бросил газету Гарри на коврик перед его койкой. Гарри откинулся на подушки, стараясь отдышаться, одеяло его при этом так и вздымалось; наконец он успокоился.
Торопливой походкой в палату вошла старшая сестра, стуча каблуками по натертому линолеуму.
— Как мы сегодня себя чувствуем? — требовательным тоном спрашивала она каждого из нас. И прежде, чем мы успевали ответить, уже устремлялась к другой койке. Она остановилась возле койки Гарри, с минуту смотрела, как он мучительно дышит, беспомощно моргая, и тут же, не сказав ни слова, поспешила дальше.
Гарри увидел газету. Он протянул костлявую руку, но не смог ее достать. Он подался вперед насколько мог, тяжело дыша. Но в конце концов, не достав газету, откинулся на подушки. Мы переглянулись. Ничего, он своего добьется, подумали мы: нянечка подаст ему газету.
Он попытался пододвинуть к себе газету ногой, но от его слабых толчков она только перевернулась. Под конец он уселся на койке, засунул ноги в шлепанцы и с трудом приподнялся. Ему удалось накинуть халат, он поднял газету и, устало волоча ноги, потащил через всю палату стул к окну. Усевшись, он развернул газету и стал читать с напряженным вниманием. Страницы дрожали у него в руках.
Днем старика Гарри пришла навестить его сестра. За час или за два до этого я вернулся из операционной, и перед моей койкой стояла ширма, так что сестру его я не видел.
Голос у нее был высокий, с металлическими нотками, режущими слух.
— Господи! И как у тебя только нахальства хватает, — проснувшись, услышал я. — Дома ты стонешь, жалуешься все время, создаешь ад. Хнычешь, как тяжело тебе приходится, считаешь, что мы только и должны, что ждать тебя денно и нощно, словно нам делать больше нечего, как всю жизнь ухаживать за таким больным, как ты. А теперь еще твердишь о своих деньгах! Что нам, нужны, что ли, твои деньги? Ты что, считаешь, мы у тебя по карманам шарим? Какая наглость то и дело твердить о своих деньгах… И кому — мне!
Гарри что-то пробормотал.
— Во всяком случае, мы тебя больше дома держать не намерены. И пора сказать тебе об этом напрямик. У меня больше сил не хватает и у Нелл тоже. Мы по горло сыты. Из года в год одно и то же. Надоело нам тянуть эту лямку. Нелл договорилась с Союзом ветеранов, и как только ты выйдешь из больницы, тебя отправят в Дом ветеранов. Больше ты с нами жить не будешь, и нечего тебе об этом мечтать. Представляю, как тут нянечкам от тебя досталось. Во всяком случае, мы уже обо всем договорились…
Я снова погрузился в сон и не слышал, как реагировал на все это Гарри. Меня разбудил стук посуды: принесли полдник. Гарри приплелся из ванной и уселся на стул около своей койки.
— Вам чего: чаю, минеральной воды или фруктового сока? — спросила нянечка — свеженькая, опрятная девушка лет восемнадцати с большой родинкой на щеке.
— А? — Гарри скосил на нее глаза. — Что вы?
— Чего пожелаете — чашку чаю или, может, минеральной воды?
— По правде сказать, я вполне обойдусь стаканом холодного пива.
Вся палата захохотала. Гарри посмотрел каждому в лицо, в глазах его светилась благодарность.
Нянечка с насмешкой сказала:
— Когда же ты меня, красавец мой, в кино сводишь?
— Мне ведь около семидесяти, детка!
— Ничего! Давай, красавец мой, выпей-ка вот это.
Она взъерошила его редкие волосы, так что они комично встали торчком, и, пока он пил, наклонившись над чашкой чая, придерживала его за плечи.
Вечером я хотел было послушать радио, но заметил, что Гарри шевелит губами.
Я выключил приемник и напряг слух, чтобы уловить, что он бормочет. Говорил он очень невнятно и понять его можно было с трудом. Он ни к кому, собственно, не обращался.
— Там было двое мертвых и двое живых. Капрал мне и говорит: «Тебе придется стрелять из этого пулемета». Я ему прямо признался, что никогда раньше в атаку с таким оружием не ходил. «Ну а теперь придется, — сказал он, — или мы все отдадим богу душу». И вот я взялся за пулемет, и все пошло хорошо. Страху я набрался порядком, да и все ребята тоже. Противник приближался в темноте, и я стрелял из пулемета — та-та-та — и заставил врагов отступить. Это сделал я, они бежали, что есть мочи, пробирались сквозь проволочные заграждения, и чего мне в тот момент ужасно захотелось, так это большую порцию устриц. Тут стал накрапывать дождик, я почти ничего не видел перед собой, хотя зрение мое тогда было куда лучше, чем сейчас. Ребята собирали со дна окопа патроны, увязнув по колено в грязи. Моя работа была намного лучше, но граната могла оторвать мне голову каждую минуту. А тут еще холод собачий! Представить себе не можете, как там было холодно. Никогда не думал, что я смогу стрелять из пулемета во время атаки — хотя часто думал, что неплохо было бы попробовать. Одно дело стрелять во время маневров, но совсем другое — когда на тебя наступает противник…
Старик Гарри запнулся. Он подавился яйцом, поданным к вечернему чаю. Его сотрясал ужасный кашель, он прямо-таки задыхался. Мы нажали кнопку звонка, и сестра вбежала в палату. Его отвели в изолятор, он еще способен был передвигаться. Всю ночь напролет мы слышали, как он кашлял. Кашель его перекрывал дикий шум машины, доносившийся снизу.
— Слава богу, его убрали, — сказал мой сосед, молодой парень, когда койку старика Гарри выкатили из палаты. — Теперь хоть можно будет поспать.
— Он меня никогда не беспокоил, — сказал я.
— Это потому, что вы почти все время снотворное глотаете. Хорошо бы всем нам тоже таблетки прописали, может, мы бы тогда спали. Он кашляет, бормочет, отхаркивается и плюется так, что с ума можно сойти.
— Да и теперь слышно, как он кашляет.
— Теперь не так сильно. Я, бывало, только и жду — вот сейчас начнется: в его кашле был своего рода ритм.
— А из-за чего его сюда положили?
— Он думает, что у него неладно с горлом, — сказал парень. — Я слышал, как он бормотал что-то насчет отравления газом во время войны. Но мне кажется, это он прикидывается. Ему просто хочется быть подальше от своих сестер. Одна из них была сегодня здесь. Вы бы слышали, какое она тут представление устроила! Дома он, кажется, не пользуется особой популярностью.
— Я слышал краем уха.
На следующий день рано утром я заглянул в изолятор к Гарри. Он, казалось, был очень обрадован, что есть с кем поговорить, но речь его была довольно бессвязна, и я с трудом понимал его. Вот что мне удалось составить из его разрозненных фраз:
— Я работал как вол, чтобы одолеть этот чертов дрок и расчистить участок. Целый день работал топором, а потом выкорчевывал корни. Если этот кустарник разрастется, то тогда, знаете ли, пиши пропало. Я понял, что одному мне с ним не справиться. Сколько бы я ни вырубал его, он появлялся все в новых и новых местах. А я уже тогда не больно-то молодой был. Под конец дня я, бывало, совсем выматывался. А что в этом хорошего? Человек должен иметь досуг, чтобы почитать книжку, или послушать радио, или пойти куда-нибудь развлечься, или просто посидеть, отдохнуть. А я каждый день приходил домой и сразу в постель валился — даже чай не мог себе вскипятить. И тут я написал в Отдел личного состава (тогда такие отделы существовали, это было во время войны), я написал им (а для меня это было труднее всякой работы, пальцы у меня от корчевки совсем скрючило, перо едва в руках держалось), я написал им и попросил, не могут ли они дать мне кого-нибудь в помощь, чтобы расчистить участок. Это, знаете ли, такая воинская часть. Они ответили мне, что с этим можно подождать, есть дела куда важнее. Тогда я снова написал им: что касается меня, то для меня это дело важное, и даже очень. Но они были другого мнения. И поэтому в скором времени я просто не выдержал и вынужден был отказаться от участка…
Помолчав немного, он добавил:
— Затем я вложил деньги в какой-то заем, который тогда выпускали. Мне казалось, неплохо будет получить с него проценты. Но теперь я вижу, что лучше бы я этого не делал. Жизнь дорожает так быстро, что даже если я сейчас его продам и получу проценты, все равно я останусь в накладе…
В это же утро у Гарри начался новый приступ кашля, и два санитара вынесли его из отделения. Мы все интересовались его дальнейшей судьбой, но никто из персонала больницы ничего нам не говорил. А потом прибыл еще один больной, внимание наше переключилось на новенького, и на какое-то время мы забыли о старике Гарри. Пока три дня спустя не прочли в газете извещение о его смерти.
В то время как тело его увозили, мы лишь сожалели, что он не мог послушать речи, которые произносились по радио по случаю Дня Анзака[12].
Дела идут неплохо
Перевод Н. Ветошкиной
Кепа Сэмюэл считал, что дела у него идут совсем неплохо. А в таком районе, как Нгаоре, маорийцам выбиться в люди гораздо труднее, чем европейцам. И начал-то он, можно сказать, на пустом месте.
В шестнадцать лет он ушел из дому на общественные работы; он работал и на холодильных установках, и шофером на грузовике, и механиком на бульдозере, строил дороги. Он бросил выпивать и все время откладывал деньги; кроме того, ему везло на скачках, а в игре в ту-ап он выигрывал столько, что никто бы ушам своим не поверил. Женился он на девушке пакеха, медицинской сестре, и в течение трех лет оба они питались ее больничным пайком. Чтобы ссудить его деньгами, отец влез в большие долги. И этих денег (плюс его собственные сбережения и небольшое приданое жены) хватило на то, чтобы сделать первый взнос за вполне приличную ферму на побережье.
Ферма эта эксплуатировалась уже много лет подряд и была в хорошем состоянии, не то что ферма его отца в долине реки Матити, созданная на голом месте и все время норовившая возвратиться в первобытное состояние. И хотя в зимнее время поля бывали затоплены, земля у него на ферме была хорошая, и, возможно, именно из-за того, что она постоянно удобрялась речным илом. Кепа работал на ней в поте лица, все сам заново отстроил, развел целое стадо коров и в конце концов продал ее, получив почти тысячу фунтов прибыли. Пораздумав над тем, стоит ли отдавать долг отцу, он решил, что не стоит; в конце концов, думал он, отец просто-напросто уплатил ему за те годы, когда он еще школьником работал на отцовской ферме в Матити. Да и вообще старику живется неплохо, все дети выросли, стали самостоятельными и разъехались кто куда.
В руках у него теперь оказалась солидная сумма — этого могло хватить для первого взноса за отличную ферму в самом хорошем месте побережья. Со стариком из-за того долга у него была масса неприятностей — они перестали ездить друг к другу в гости; остальные члены семьи приняли сторону отца, поэтому Кепа стал относиться к ним с холодком, чтобы и они не напрашивались к нему в гости.
Он был очень доволен своей новой фермой. Коровник был прямо загляденье — чистенький, как операционная хирурга. И хотя земли у него было не больше, чем у отца, она вполне могла прокормить девяносто, а то и все сто голов скота. На ферме у него был постоянный работник, а иногда приходилось нанимать еще двух-трех. Это доставляло ему особое чувство удовлетворения. Старик отец всю жизнь сам выбивался из сил, никогда не мог нанять работника себе в помощь, разве что в страдную пору уборки сена, да и то только через день. На ферме в Матити всё глушили кормовые трэды. Черная смородина, ежевика и чайное дерево там больше не росли. Кепа иногда удивлялся, почему отец не продаст эту ферму и не приобретет себе другую, получше. Вечно ему там приходится воевать с зарослями папоротника и камыша. Но, несмотря на это, старик был очень упрям и консервативен. Он вбил себе в голову, что именно этот клочок земли должен переходить в семье из рода в род, хотя стоило ему захотеть, и он бы мог иметь гораздо лучшую землю. Эта сентиментальная привязанность к какому-то паршивому куску земли в старые времена, наверное, считалась вполне нормальным явлением, думал Кепа, но теперь времена другие. Ценность вещей теперь измеряется звонкой монетой, а чувства в счет не идут.
Жена Кепы умела ладить со всеми. Когда она достаточно обтесала мужа, она почувствовала уверенность в себе и стала приглашать гостей в дом; так они перезнакомились со всеми окрестными фермерами-европейцами. Вполне понятно, им всем было приятно знать, что и фермер-маориец может иногда добиться успеха; они ему во многом помогали.
Кепа с женой приняли участие в делах местной церкви, регулярно делали пожертвования и помогали в устройстве благотворительных базаров. Затем Кепе предложили вступить в кружок прихожан. Тут-то все и началось: они с женой стали получать постоянные приглашения в гости, два очень влиятельных лица дали Кепе рекомендацию для вступления в клуб, и в скором времени он был избран в совет местного отделения Фермерского союза. Он купил себе фетровую шляпу — первую в жизни.
Его раздражало, что окрестные маорийцы не проявляли к нему того уважения, какого он, ему казалось, заслуживал. Ведь в конце концов дела его шли совсем неплохо, он действительно процветал, а разве это не должно их воодушевлять и он не заслуживает уважения? Поначалу он с охотой ходил на все празднества маорийцев в их районе, но после первого такого вечера Джоан больше не захотела его сопровождать — прежде всего ей показались отвратительными их туалетные комнаты. И, кроме того, она считала неудобным ходить без приглашения. Кепа объяснил ей, что маорийские празднества открыты для всех желающих, никто никогда не ждет приглашения. Но Джоан ответила, что если люди хотят, чтобы они посещали их вечера в будущем, они должны посылать им приглашение по всей форме. Конечно, ни одного приглашения они не получили, и Кепа обиделся и решил покончить с этим. Если бы их пригласили, Джоан уж, конечно, отклонила бы приглашение; и все же как приятно, когда тебя приглашают. И хотя маорийцы всегда почтительно приветствовали его, встречая на улице по пятницам («Здравствуйте, мистер Сэмюэл!») и кланялись ему, его раздражало, что они продолжали при этом стоять на углу и разговаривать с каким-нибудь оборванным, нечесаным стариком маорийцем, пришедшим прямо из лесу, и не могли прервать разговор и подойти к Кепе.
Наверное, причина крылась в этой истории с его долгом отцу; люди вокруг знали все друг о друге, а если чего не знали, то из кожи лезли вон, чтобы узнать. Маорийцы — те, что жили на заболоченных землях, — как-то раз пытались упросить его поговорить о них на собрании отделения Фермерского союза, но он не захотел и привел достаточно убедительные доводы, почему он не хочет; и все-таки они, видимо, продолжали считать, что он должен их поддержать, потому что ведь он сам маориец, и очень негодовали, узнав, что он этого не сделал. Однако это его ничуть не обеспокоило. В конце концов, дела его шли совсем неплохо.
У него есть ферма, о которой надо заботиться, и Джоан; для приятного времяпрепровождения у него есть хорошая машина и церковь, а также компания для игры в теннис, и Фермерский союз, и клуб, в который он вступил. Были даже предложения выдвинуть его кандидатуру в муниципалитет; приятели уверяли его, что он найдет пути и возможности, как прибрать к рукам заброшенную маорийскую землю, граничащую на востоке с болотом.
Все шло хорошо, пока он не получил телеграммы от своего старшего брата Муту, в которой тот сообщал, что приедет погостить к нему на несколько дней. Жизнь у Муту сложилась неважно. Он работал на лесопильном заводе в Тураме, где-то в глубине острова. Муту любил выпить, и в карты поиграть, и подраться, и даже после женитьбы не прочь был поволочиться за женщинами. У него был целый выводок детей, и жил он в старом, развалившемся заводском домишке, где его семейство помещалось с трудом. У него не было ни автомобиля, ни холодильника, ни стиральной машины, только одна радиола да куча пластинок, которые проигрывались бесконечное количество раз, когда собиралась компания распить бочонок пива. Муту был малый грубый и неотесанный. Он умел работать, но умел и погулять, швыряя на ветер заработанные деньги, и нимало не интересовался тем, что творится вокруг него в мире. Чего, ломал себе голову Кепа, чего он к нам привязался? Зачем ему понадобилось ехать сюда? Почему он не может прямиком отправиться к отцу? Он ведь всегда ладил со стариком.
Может быть, ему нужны деньги?
Ну если так, то ответ он получит только один. Деньги не растут на деревьях. В конце концов, шансы у них были равные. Взялся бы он за ум да откладывал бы деньги, старался бы усвоить что-нибудь новое, что-нибудь полезное, вместо того чтобы нарожать столько детей, что прокормить невозможно, и прожигать жизнь по старому маорийскому обычаю.
Да, если он попросит денег, то ответ получит только один.
Эта привычка делить все — деньги, одежду, дом и еду — точь-в-точь такая же, как у их старика, что держится за свой старый клочок земли. Все знают, что толку от этой земли никакого, но никто с ней не расстается. Старая маорийская блажь, которая себя теперь изживает, как и многое другое. Ведь не татуируют себя больше маорийцы и не едят друг друга. Так зачем же надо держаться за другие обветшалые обычаи?
Муту приехал на поезде. Он вышел из вагона с широким радушным жестом и приветливой улыбкой на лице. Но Кепа держался настороженно и сухо пожал ему руку, словно они никогда раньше не встречались.
— Черт возьми! А я-то думал, чего это ты решил жениться на пакеха! Теперь я понимаю! — Муту потянулся было, чтобы расцеловать Джоан, но она вздрогнула и отшатнулась.
— А как у вас, дети есть уже?
Джоан вскинула голову.
— Мне кажется, эта тема не подходит для того, чтобы обсуждать ее на вокзале.
Что-то в их поведении укололо Муту. Он пожал плечами и пошел в вагон за своим чемоданом. Джоан строго посмотрела на Кепу. Он знал, о чем она думала. Когда они поженились, она рассказала ему, о чем предупреждала ее мать. «Он, видимо, довольно приличный парень, но все же запомни, что, выходя замуж за маорийца, ты получаешь в придачу к мужу всю его родню. Так что не попадись!» Может, думала она, это только начало вторжения в их личную жизнь? Первая разведка, чтобы оценить обстановку?
Кепа сказал:
— Посмотрю, может, завтра мне удастся уговорить его отправиться к отцу.
— Было бы неплохо.
Они сели в машину. Кепа и Джоан впереди, Муту на заднем сиденье опекал свой чемодан.
— Машина, брат, у тебя шикарная, — восхищался Муту. — Хотел бы я иметь такую.
Кепа презрительно посматривал по сторонам.
— Я собираюсь обменять ее на последнюю модель, — сказал он.
— О! — Муту даже рот раскрыл от удивления. — Видно, дела у тебя идут отлично.
— Да, дела идут хорошо, — подтвердил Кепа.
Они проезжали по главной улице. Заметив ресторан, Муту сказал:
— Давай-ка остановимся да прихватим дюжину бутылочек, а? Херес Джоан любит?
— Лучше не надо, благодарю, — сказала Джоан. — Кепа не пьет.
— Я остановлюсь, а ты можешь купить себе, если хочешь, — сказал Кепа.
Муту пожал плечами.
— Не надо.
Кепа повел брата осматривать ферму. Муту кивал головой и внимательно все оглядывал, вид у него был совсем ошеломленный. Не раз он подумывал о том, чтобы самому приобрести ферму, предпочтительно на общинной земле в долине Матити, но никогда у него не хватало денег и, кроме того, жил он в глуши и не имел возможности обстоятельно заняться этим вопросом. Планы его так никогда и не претворялись в жизнь. Кепа с гордостью указал ему на молодого человека, доившего корову.
— У меня есть работник, который помогает мне на ферме, — сказал он. — Плачу ему хорошее жалованье.
Муту с удивлением покачал головой.
— Да! Ничего не скажешь, дела у тебя идут прекрасно. К тому же, я вижу, он пакеха.
— Да, — гордо выпячивая грудь, сказал Кепа. — На меня работает пакеха.
Они уселись пить чай. На столе лежали накрахмаленные салфетки — этого Муту, кроме как в гостиницах, где он останавливался с бродячими футбольными командами, нигде больше не видел. Он вспоминал с тоской о беспорядке, который царил у него дома в Тураме: грязные запотевшие окна, в доме запахи кухни.
— Раз у вас есть на кого оставить ферму, почему бы вам не приехать погостить ко мне? — сказал он.
Джоан поморщилась.
— Это очень любезно с твоей стороны, Муту, — сказал Кепа. — Но сейчас мне трудно отлучиться с фермы. Прибывает новая партия скота.
Муту проговорил что-то по-маорийски.
Кепа с удивлением уставился на брата:
— Извини?
Муту засмеялся.
— Ты разве не понимаешь по-маорийски?
— Отец никогда нас не учил. Ты ведь знаешь.
— Знаю. Но я изучил наш язык, живя в лесу. Пришлось! Когда работаешь среди маорийцев, нужно понимать, что они говорят, вот и приходится изучать. Ведь всякое может случиться. Ну, например, дерево начнет падать, они крикнут тебе на языке маори, чтобы ты посторонился, значит, нужно понимать их, а то тут тебе и крышка.
Он ухмыльнулся и положил локти на стол.
— Как-то раз пошел я на скачки. Смотрю я на программку и не знаю, на какую лошадь поставить, не могу решить. И тут подходит ко мне один маориец, хлопает меня по руке, подмигивает и говорит: «Текау ма рима!» Никогда я раньше этого парня не видел и думаю себе: «Это хороший совет». И вот я смотрю на программку, ищу лошадь под кличкой Текау. Ничего подобного там нет. И Римы тоже нет. Тогда я решаю, что это жокея, видно, так звать, и ищу жокея, по имени Текау Ма Рима. Ничего похожего. Тогда я думаю, может, это масть лошади или цвет камзола жокея. В конце концов я решил, что это, должно быть, номер. И тут я начал разыскивать какого-нибудь маорийца, чтобы он сказал мне, что такое «текау ма рима». И вот я нахожу одного, и он говорит мне: «Пятнадцатый! У него есть шанс выиграть». Тут я кидаюсь к тотализатору, чтобы сделать ставку, но слишком поздно, на этот заезд ставок больше не принимают. И вот я смотрю на скачки. И пятнадцатый номер приходит первым. И знаете, сколько за него выдают? Тринадцать фунтов! Тут я решил про себя: нет, уж больше я не попадусь! Нужно знать свой язык, иначе я каждый раз буду терять на этом деньги.
Он было засмеялся, но выражение лица Джоан заставило его сразу замолкнуть.
— Кепа не играет на скачках, — сказала она.
Вечер в гостиной прошел в атмосфере натянутости. Муту сидел в большом жестком кресле, не снимая ботинок, и чувствовал себя очень неуютно. Каждый раз, как он стряхивал пепел с сигареты в металлическую пепельницу, Джоан относила ее на кухню, опорожняла, начищала до блеска и приносила обратно. И хотя Муту редко бывал настроен так бодро и энергично, он все же сказал, что устал с дороги и хочет лечь спать пораньше. Кепа так и не сумел выбрать подходящий момент и намекнуть, что отец будет очень рад повидать Муту и что ему следует завтра же отправиться к нему.
За завтраком Муту сам заговорил об этом. Кепа огорченно покачал головой и предложил отвезти его на машине в город. Муту положил пижаму в чемодан и попрощался с Джоан. Она выразила сожаление, что он не мог погостить у них подольше, и надежду, что он когда-нибудь еще навестит их.
Они поехали в город. Кепа оставил машину на стоянке, и они отправились пешком к автобусной станции. Владелец писчебумажного магазина, вынимая газеты из своего почтового ящика, кивнул Кепе.
— Как поживаете, мистер Сэмюэл?
— Прекрасно, благодарю вас. А вы как, хорошо?
Пройдя несколько шагов, Муту спросил:
— Кто это такой?
— О, это член клуба. Я теперь, знаешь ли, состою в клубе.
— Не может быть!
Около здания банка изысканно одетый человек вежливо раскланялся с Кепой.
— Доброе утро, мистер Сэмюэл.
— Доброе утро, Тед.
— А это кто такой? — спросил Муту.
— Это управляющий банком, мистер Симмонс. Мой хороший знакомый.
Муту наслаждался прогулкой. Как приятно ощущать под ногами гладкий асфальт после усыпанных щебнем дорог Турамы.
Шикарный лимузин затормозил у тротуара, сидевший за рулем человек опустил стекло и сказал:
— Доброе утро, Кепа!
— Привет! Как поживаешь?
Кепа подошел к машине и несколько минут болтал с приятелем. Муту опустил свой чемодан на тротуар и стоял, ожидая.
— А это кто? — спросил он у Кепы, когда тот снова присоединился к нему.
— Это хозяин магазина Дэлгети. Мой друг. Мы встречаемся с ним в клубе довольно часто.
— Правда?
— Конечно. В клубе знакомишься со многими людьми.
— Там, должно быть, замечательно. Место встреч пакеха.
Еще один, одетый с иголочки джентльмен приветствовал Кепу, дружески протянув навстречу обе руки.
— Черт возьми… мистер Сэмюэл! Как поживаете?
— Прекрасно, мистер Пейн. А вы как?
— Неплохо, неплохо. Не жалуюсь. На весь день в город?
— Да, знаете ли, небольшое дельце есть.
Они пошли дальше.
— Кто это?
— Это мэр.
— Кто?!
— Мэр. Глава города.
— Ты и с ним знаком?
— Очень хорошо. Он мой приятель.
— А кого-нибудь из маорийцев ты тут знаешь?
— Немногих. Совсем немногих.
Они подошли к повороту, откуда открывался вид на реку. С берега навстречу им поднимался старый маориец, весь заросший волосами: он, видимо, уже месяц не брился. Космы его были приклеены ко лбу комьями оранжевой глины; фуфайка на локтях продрана. Штаны с заплатами цвета хаки были все в грязи, наполовину расстегнуты. Шнурки ботинок волочились по земле. За плечами он нес мешок из-под сахара, и из дыры на дне мешка высовывался хвост угря, скользкий и отвратительный. Эти угри живут в грязи и выделяют из себя грязь, и запах их слышен за милю. Во время разлива, когда угри голодны, можно, гуляя по берегу, слышать их шипение.
Маориец остановился и посмотрел на них с другой стороны улицы. Лицо его расплылось в широкой улыбке.
— Эй, Кепа, Кепа! — закричал он. — У меня тут есть для тебя угорь. Красота, а не угорь!
Муту повернулся к Кепе.
— Ты знаешь вон того человека?
Но Кепы нигде не было видно. Он исчез в дверях магазина дамских шляп.
Скэб
Перевод Н. Ветошкиной
Люк открыли, и можно было приступить к работе, но Эрик Найт никак не мог отделаться от гнетущего чувства безразличия, которое сковывало его последние недели. Он посмотрел сквозь дыру в палубе. Там внизу среди мешков с цементом двигались человеческие фигуры и уже начинала подниматься тонкая удушливая пыль.
«Упадешь туда, так не встанешь», — подумал он.
Лебедка вращалась, и канат, подергиваясь, тянулся вверх, ударяясь о борт судна.
— Берегись! — крикнул механик. — А то недолго и без головы остаться!
Медленно наматывался канат, грузовая сетка, раскачиваясь, повисла за бортом и опустилась на причал.
— К какой тебя работе приставили? — крикнул ему механик. — Ты что, снизу, из трюма, что ли? Здесь ты только мешаешь.
Найт облокотился о поручни. После дождливой ночи настил причала стал черным, таким же, как и закрытые железные ворота, ведущие в порт. За доками, где стояли грузовые суда, туманное небо прорезали высокие подъемные краны. Вагонетка — желтая краска на ней потрескалась и облупилась, — громыхая, протащила за собой несколько тележек. Снизу послышались отрывистые звуки команды, и из пакгауза строем вышел взвод солдат, развернулся и промаршировал по причалу.
— Ты слышал, что я тебе сказал? — закричал механик.
— Я и сам ничего не знаю. Мне сказали прийти сюда и приниматься за работу.
— Тогда иди и спроси кого-нибудь. А то здесь ты без толку околачиваешься. Ты что, никогда раньше не работал на разгрузке цемента?
Найт укрылся от ветра позади рубки и свернул сигарету.
Неделю назад он получил из Управления по труду открытку, в которой его заверяли, что, если он возобновит работу, закон обеспечит ему полную защиту. Ему будут выплачивать особые премиальные. Работа в порту будет считаться почетной. Если он согласен, он должен отослать открытку обратно, указав свое имя и адрес, и военный грузовик заедет за ним в понедельник утром, чтобы в безопасности доставить его в порт.
В конце первого месяца локаута Найт перестал посещать ежедневные собрания в Доме профсоюзов и сменил пивную, для того чтобы не встречаться со знакомыми, но это не помогло, потому что в дни локаута, куда бы ты ни пошел, ты повсюду непременно на них натыкался. Они ходили на собрания, распространяли бюллетени, выступали перед рабочими во время обеденного перерыва на заводах, а потом устремлялись в пивную и Свои пособия тратили на выпивку, словно лучшего занятия у них не находилось.
Во всяком случае, ему уже порядком надоело все это представление, и он заполнил открытку и отослал ее по обратному адресу, не сказав никому ни слова. Потом он несколько струсил. Профсоюз имел своих друзей в Управлении и везде и повсюду, поэтому, если пройдет слух, что он выходит на работу, кто-нибудь из них может явиться к нему домой и вправить ему мозги. А что он один против них всех?
В эту ночь он почти не сомкнул глаз, и к тому же утро было пасмурное, ненастное. Проливной дождь ночью обил листву с кустов в саду, и на лужайке перед домом не просыхали глубокие лужи. Стоя на крыльце в ожидании грузовика, он весь дрожал на холодном ветру. Разносчик молока как-то странно посмотрел на него и не ответил на его приветствие.
Военный грузовик остановился возле калитки. Найт поплотнее обмотал шарф вокруг шеи и зашагал по дорожке. Послышался странный свист, и он ощутил на лице легкие брызги. Он обернулся. Элси Хокинс, из соседнего дома, выплеснула на газон старую заварку из чайника и чуть не облила его. Он мог поклясться, что сделала она это нарочно.
Найт залез в кузов машины под брезентовый навес и в кромешной тьме уселся на скамейку. Рядом с ним сидели еще несколько человек, но в темноте он не мог разглядеть их лиц; все молчали. Время от времени грузовик останавливался, солдат раздвигал брезент, и при тусклом свете в щель пролезал еще кто-нибудь и протискивался к скамье, задевая лица сидевших полами мокрого плаща.
— Скольких мы еще должны забрать? — спросил Найт солдата.
— Почем я знаю? — Солдат не смотрел на него.
— Кто-нибудь из старых рабочих тебе здесь не встречался? Все спокойно?
— Вроде да.
— А там, в порту, ты кого-нибудь из них видел?
Солдат взглянул на Найта.
— Послушай, заткнись-ка ты лучше.
— Ладно, ладно, не кипятись.
Найт снова откинулся назад и стал шарить по карманам в поисках табака. Он весь продрог. Гарри Хокинс, его сосед, кричал повсюду, что выпустит кишки каждому, кто станет штрейкбрехером. И лучше не думать, что могут с ним сделать другие, особенно те двое, из их компании, что когда-то выступали на ринге. Там этих других достаточно. Некоторые радовались, что профсоюз помогает им, но были и такие, которые выражали недовольство.
Гарри Хокинс был неплохой парень; порой он приносил домой несколько бутылок пива, и они вдвоем пили и разговаривали. Беда только в том, что Гарри был помешан на профсоюзе. Послушать Гарри, так можно было подумать, что лучше профсоюза нет ничего на свете. А что этот профсоюз делал? Каждый месяц они на полдня прерывали работу, набивались в зал, старались перекричать друг друга и затевали спор по поводу того, кому предоставить слово, а когда кто-нибудь говорил, другие перебивали его. Он присутствовал только на двух-трех собраниях, когда решался вопрос о забастовке, и с него достаточно. И они вечно принимали резолюции о каких-то правах южноафриканских негров, или индонезийских рабочих, или еще кого-нибудь в этом роде. А какое им до этого дело? Какое им дело, что там происходит в Южной Африке, или в Индонезии, или еще где-нибудь? Для чего, спрашивается, в стране существует правительство? Это дело правительства выступать от имени народа, а вовсе не профсоюза грузчиков. Руководство профсоюза — это одни коммунисты, во всяком случае так пишут в газетах. Да это сразу и видно, стоит их только послушать. Вечно твердят о том, кто прав и кто неправ. Можно подумать, что им, бедным, и жить-то не на что. Да к тому же состоять в этой организации — довольно дорогое удовольствие, а какая от этого польза? Никакой, провалиться ему на этом месте. Профсоюз их существует уже не счесть сколько лет, а его руководители все жалуются на тяжелые условия жизни и тому подобное. Так вот, если союз существует столько лет и дела идут все так же плохо, как они утверждают, какой тогда толк от этого профсоюза? Что-то тут не то.
Нет, он правильно поступает. Может, в скором времени и многие другие поймут это.
Грузовик остановился, и из кузова вылезли человек восемь. Их грузовик замыкал колонну. Двадцать других грузовиков выстроились впереди, но лишь некоторые привезли людей. Остальные приехали сюда ради психологического эффекта, на тот случай, если бастующие рабочие охраняли бы ворота порта.
Приехавшие собрались в пакгаузе, их было человек двадцать. Мэр — кирпично-красное лицо его едва выглядывало из поднятого воротника пальто — произнес короткий панегирик. Он хвалил их за проявленную храбрость и дух патриотизма, за то, что они поняли: работа на благо общества превыше всего, превыше всех эгоистических личных или групповых интересов. А затем правительственный чиновник проверил их всех по списку, приколотому к куску фанеры, пересчитал и нахмурился. Они чувствовали себя в довольно глупом положении: жалкая горстка людей на огромной территории порта. В пустом пакгаузе с высоким потолком, в котором звук резонировал, как в церкви, гулкие голоса звучали кощунством, нарушая величественную тишину помещения.
Порыв ветра подхватил обрывки соломы в углу пакгауза, где рядом с погрузочной площадкой на стене было размашисто написано:
«Шоферы, отказывайтесь перевозить штрейкбрехеров!»
На волнах качались повернутые носами к морю внушительные силуэты грузовых судов; истертые канаты, накинутые на кнехты, небрежно свисали с бортов. В тех местах, где туго натянутые канаты протерли дерево, настил причала требовал ремонта. На маслянистой поверхности воды в медленном водовороте кружилась всякая всячина: коробки из-под сигарет, обрывки веревок, пустые бутылки, электрические лампочки.
Найт узнал некоторых из прибывших вместе с ним людей. Среди них был Осберт Свит, известный всему городу под кличкой Профессор, который писал письма королевским семьям во всех странах и посещал все премьеры в опере, облачившись во фрак; грудь его украшали всякого рода побрякушки, монеты и значки. А впереди всех стоял Дингл, глава нового профсоюза, толстый, с квадратной челюстью. Он как-то даже выступал по радио и однажды ему публично пожал руку премьер-министр — фотография, запечатлевшая этот момент, была напечатана во всех газетах. Та самая рука, вон она, которой он сейчас гладит подбородок. «Подумать только, — рассуждал про себя Найт, — простая рабочая рука, а ее пожимал сам премьер-министр!» Найт вновь обрел уверенность.
Когда их группа двинулась вперед, солдаты уже приступили к работе. У края причала стоял офицер с тростью под мышкой и наблюдал за разгрузкой так, словно это было рытье окопов или похороны павшего в бою. Проходя мимо, Найт бодро поздоровался с солдатами и выжидательно склонил голову, но они, казалось, были слишком погружены в работу и не заметили его.
Он разозлился, когда обнаружил, что его поставили на разгрузку цемента. Ему не хотелось спускаться в трюм: цементная пыль попадала в нос и заставляла чихать. Он всегда был предрасположен к сенной лихорадке; и никогда ведь не знаешь, где свое здоровье погубишь. Он также слышал, что от этой пыли, если сильно надышаться ею, можно заболеть туберкулезом. Значит, следует соблюдать осторожность. Поэтому он остался на палубе и сказал остальным, что будет помогать подтягивать канат через крышку люка, если его заест. Ему не трудно было убедить их в том, что это очень важная мера предосторожности. Тем более, что большинство из них были новички и ничего в этом деле не смыслили. Чувствовалось, что им на все наплевать. Что ж, приходилось самому о себе заботиться. Ведь никому до тебя нет дела.
Механик был явно возмущен его притворством.
— Убирайся с палубы! — снова закричал он. — Почему ты не спускаешься в трюм? Принимайся за работу. Ну что ты тут без толку околачиваешься?
Механик был из другого отделения профсоюза. Когда встал вопрос о том, поддержать ли грузчиков, они незначительным большинством голосов решили продолжать работу, но ясно было, на чьей стороне симпатии этого механика.
Когда лебедка опять заработала, Найт оперся о поручни. Вся беда в том, рассуждал он, что профсоюзу, видно, невдомек, какие сейчас трудные времена, сколько надо денег, чтобы прожить. А тебе выдают жалкое пособие по случаю локаута — всего несколько фунтов, попробуй-ка продержись на них. Среди бастующих были такие, которые работали уже много лет, а пособие получали одинаковое с теми, что проработали всего несколько месяцев. Разве это демократия? Руководителям союза при этом живется неплохо — можете не сомневаться, да и тем, кто состоит с ними в дружбе, тоже. По всей видимости, никто из них никогда не нуждался в деньгах.
Разве они не понимают, что у каждого человека могут быть свои потребности. В конце концов, ведь работаешь в порту вовсе не потому, что тебе это нравится. Да и кому может нравиться эта работа? Делаешь это ради заработка. А вот теперь ты лишился заработка и живешь на ничтожные гроши, и они думают, что этого достаточно, чтобы свести концы с концами. И еще не разрешают браться за другую работу. А что ты, не человек, что ли? И какое тебя ждет будущее? Работаешь ведь только ради заработка, и вот из-за того, что нескольким коммунистам захотелось заварить всю эту кашу, ты и этого лишился.
Он задолжал на скачках букмекеру больше сорока фунтов, и тот ему прямо сказал, что если он не выплатит хотя бы десяти, то больше не сможет делать ставки. Потом новый костюм, который он сшил себе из красивой синей материи, — он украл ее в порту за месяц до забастовки. Портной сказал ему, что не отдаст костюма, пока за него не будет уплачено, а ему до смерти хотелось надеть этот костюм. Ему осточертело выпрашивать у всех деньги на талоны в столовую. Он давно задолжал своей квартирной хозяйке, и старуха мстила ему тем, что готовила отвратительную еду — только в армии он ел подобную гадость. А тут еще взносы за машину… Господи, ну как человеку жить на свете? Если он честно отработал день, ему должны за это честно заплатить — он так считает. А если он иногда и позволяет себе передышку, то кто этого не делает?
«Что там еще такое?» — вдруг подумал он.
За воротами порта, на углу улицы собралась толпа: мужчины в рубашках с расстегнутыми воротничками, со сдвинутыми на затылок шляпами и подтяжками поверх свитеров. В первое мгновение ему показалось, что произошел какой-то несчастный случай или кто-то устроил драку. Потом он заметил, что взгляды всех этих людей устремлены в сторону порта. Слышался гул голосов, суровый гул недовольства. Дюжина полицейских патрулировала перед толпой и теснила людей назад, когда они пытались прорвать их цепь и перебежать на эту сторону улицы. Раздавались выкрики:
— Штрейкбрехеры! Ублюдки! Мерзавцы!
— Смотрите, вон он, Профессор!
— Привет, Профессор!
Осберт Свит, работавший на соседнем судне, поднял голову, посмотрел на толпу полным презрения взглядом, пренебрежительно повернулся к ней спиной и снова принялся за работу.
— Эй, Профессор, а ну поплавай, а мы посмотрим!
— Чтобы тебе захлебнуться, гад!
Полицейские расхаживали взад и вперед, размахивая дубинками. Пока что они никого не трогали.
Найт спрятался за рубку, но сделал это недостаточно проворно — кто-то узнал его.
— Смотрите, вон Фурункул!
— Эй, Фурункул!
Найт весь покраснел и крепко сжал кулаки. Если и было за что отвернуться от прежних друзей, так именно за это дурацкое прозвище.
Приземистый парень в рабочем комбинезоне отделился от толпы и, незамеченный полицейскими, помчался вдоль набережной, лавируя между машинами. Он ухватился руками за решетку на воротах и, прижав лицо к железным прутьям, закричал солдатам:
— Слушайте, ребята, слушайте! Знаете ли вы, что это за твари, с которыми вас заставили вместе работать? Может быть, вы и не виноваты, вам приходится это делать: приказ есть приказ. В таком же положении был и я, и большинство моих товарищей, там, в африканской пустыне, да и в Италии, и в других местах. Тут нас много таких, которые побывали в трудных переделках. Мы там не загорали, как те штабные крысы, что сейчас в полиции служат…
Полицейские усиленно теснили толпу назад. Люди видели, что для их товарища дорога каждая минута, и старались создать как можно больше суматохи и шуму и отвлечь тем самым внимание полиции. Ветер гнал вдоль канавы газеты, сор.
— Слушайте! Знаете ли вы, что такое скэбы? Вон те самые и есть скэбы — присмотритесь к ним хорошенько, вы их быстро распознаете. Скэб — это тварь, которая пресмыкается. Увивается около сержанта, или младшего лейтенанта, или около другого чина повыше, и пресмыкается все время, если есть в том выгода — законченный подхалим — знаете такого? Всем готов служить. На седьмом небе от счастья, если ему бросают подачку. Ничтожную подачку. Как только он ее получает, ему хочется еще. Он лижет им зады, и снова получает подачку, и просит еще. И тут-то он уж возомнит себя властелином и садится всем на шею. Все вы знаете такого — посмотрите: вон он!
Солдаты прекратили работу, стояли и слушали с заинтересованным видом. Некоторые усмехались.
— Если вы сидели когда-нибудь за решеткой, вы бы сразу распознали скэба. Это он, скэб, доносит обо всем стражникам, чтобы получить пару жалких сигарет. И когда вы наконец до него добирались, что вы с ним делали, а? Скэб — это тот самый подлец, который увивается за твоей женой, пока тебя нет дома. Он предает тебя в лагере и на судне. Он предает тебя на фронте, если вообще туда попадает, он предает тебя в тылу, предает все время, потому что ни на что другое не способен…
Сержант наконец заметил оратора и остановил движение машин вдоль набережной. Трое полицейских побежали к нему.
— Слушайте! Любой, кто отнимает работу у другого, когда тот борется за свои права…
Он все еще кричал, когда полицейские схватили его за руки и потащили к полицейской машине, стоявшей у обочины. Человек вырвался, толпа расступилась, чтобы пропустить его, и он исчез в гуще людей, запрудивших улицу, и затерялся там.
Полицейские, взявшись за руки, образовали цепь и стали медленно теснить толпу назад. Шум улегся, но, перекрывая гудение автомашин, порой раздавался пронзительный крик:
— Скэбы! Мерзавцы!
Найт вышел из-за рубки. Они теперь знают, что он больше не с ними, это ясно.
— Ну и нахальные же они, — сказал он, обращаясь к механику. — Нахальства у них не меньше, чем у Неда Келли[13].
Механик отвернулся.
Солдат с усталым видом прокатил по пристани тележку с котелком и кружками. Найт облизал губы.
— Вот это здорово! — крикнул он. — Наконец-то перерыв!
— Да, видать, ты совсем выдохся, передохнуть хочешь! — сказал механик.
Он крикнул людям в трюме. Команда грузчиков поднялась наверх, счищая цементную пыль с комбинезонов, сморкаясь, отирая лбы.
— Сейчас бы неплохо выпить, — сказал Найт. — Черт, ну и высушивает же этот цемент глотку!
— Да ну? — сказал механик. — Ты-то как это заметил?
Солдаты, работавшие на соседнем судне, уселись на пристани вокруг котелка с чаем. Они курили и потягивали чай из жестяных кружек.
Заметив подходивших грузчиков, солдаты поставили кружки и поднялись.
— Оставили нам немного, ребята? — спросил Найт.
Солдаты повернулись и стали подниматься по трапу. Один задержался.
Найт подошел и заглянул в котелок.
— Нам хватит, — крикнул он через плечо остальным рабочим и потянулся за кружкой.
Солдат пнул котелок ногой. Котелок с грохотом опрокинулся. Чай расплескался по сторонам и по каплям стал протекать в щели дощатого настила.
Солдат сплюнул и быстро пошел прочь.
Лучшие вечера по пятницам
Перевод Ан. Горского
1
Для Фила Бэрке настали трудные времена. Мастер на все руки, он с некоторых пор напрасно обивал пороги в поисках хоть какой-нибудь работы. 1951 год, когда произошли крупные выступления рабочих, застал его на выборном посту в профсоюзе, а когда все кончилось, Фил бросил сезонную работу и решил устроиться на постоянное место где-нибудь поближе к центру города. Тут-то и выяснилось, что охотников нанять Фила не находится. Даже в муниципалитете, где он раньше работал, ему ответили, что вакансий, к сожалению, нет, хотя в газете каждую неделю появлялись объявления муниципальных отделов о найме рабочей силы.
Правда, все это было для него не впервой, но теперь, к сорока семи годам, он потерял вкус к подобным передрягам, если даже когда-нибудь его имел. Забот хоть отбавляй: за дом плати, за обучение двух дочерей-подростков плати. А тут еще по болезни и ему и жене летом позарез нужно выехать куда-нибудь за город.
В свое время Фил был игроком в регби, чемпионом велосипедных гонок, профессиональным боксером; довелось ему побывать батраком и шахтером, проходчиком туннелей и забойщиком скота, объездчиком лошадей и такелажником, железнодорожным обходчиком и барменом, санитаром в психиатрической больнице и охотником; он занимал пост то председателя, то секретаря профессиональных союзов, был делегатом профсоюзных советов и рабочих комитетов; во время войны сражался в звании сержанта в Ливийской пустыне и в Италии; был кандидатом на выборах в парламент и в муниципальные органы. А теперь, как ему казалось, он стал ничем; не раз уже Фил спрашивал себя, что принесли ему прожитые годы. Ожесточенный, он сидел дома и размышлял. Все чаще и чаще возвращался он к тем дням, когда был мальчишкой, рос на ферме на юге страны — холмы, побеленные утренним инеем, свежий ветер, качающий деревья, клочья тумана, тени облаков на траве, птичий гомон в зарослях… И чем сильнее его охватывали воспоминания, тем больше он расстраивался: нет, теперь, наверное, нечего и думать выбраться из города.
Однажды в конце осени без стука распахнулась дверь и в комнату ввалился старый Билл Бейли.
— Привет, привет, привет!
Фил сидел перед камином, утонув в кресле, но при виде Билла вскочил и схватил его за руку.
— Как я рад, старина!
Жена Фила принялась хлопотать по хозяйству, а Билл пододвинул кресло к огню.
— Слышал я, трудновато тебе приходится?
Фил пожал плечами:
— Ты же знаешь. И надеяться не на что.
— Да, да, — кивнул Билл.
В свое время Биллу тоже пришлось несладко. Накануне первой мировой войны, вскоре после женитьбы, он купил в графстве Кинг ферму — восемьсот акров каменистой земли и холмов. Сосед Билла, австралиец, помог ему обработать участок. Потом Билл помог австралийцу, и они стали хорошими друзьями. Как-то агент, посредник по продаже ферм, обратился к ним с предложением купить у них фермы, но только обе сразу, чтобы объединить в одну. Они согласились (земля оказалась настолько плохой, что друзья были рады любому покупателю) и получили хорошую цену. Австралиец решил переждать с год, не обзаводиться новой фермой. А у Билла уже появились дети, ему нужно было их кормить. Он купил тысячу акров в Вайрарапе, и дела у него стали налаживаться, но в 1922 году наступили тяжелые времена, Билл не сумел вовремя выкупить закладную, и ферма пошла с молотка. Конечно, он не оказался бы в таком положении, если бы, как его дружок австралиец, немного повременил с покупкой участка.
У Билла нашлись знакомые среди агентов по продаже движимого и недвижимого имущества. Они и подыскали ему работу — производить оценку и изъятие предназначенного к продаже с аукциона имущества тех, кто просрочил выкуп закладных, — этим неудачникам разрешалось оставлять себе лишь кое-какие вещи, не больше чем на двадцать пять фунтов, а все остальное распродавалось, так что после многих лет изнурительного труда они становились нищими. Плачущие женщины не раз умоляли Билла оставить им из вещей хоть что-нибудь сверх положенного — гарнитур мебели, пианино, дойную корову. Билл обычно отвечал: «Оставляйте, что хотите, только, чур, припрятать получше!»
Аукционерам вряд ли пришлась бы по вкусу такая щедрость, но к тому времени, когда они все разнюхали, Билл уже успел скопить кое-какие деньжонки и смог приобрести в другом районе небольшую ферму. Окрепнув, он купил еще одну, побольше. Но тут Билл понял, что ему осточертели те, кто наживается на фермерах, он бросил землю и перевез семью в город. Целых десять лет был портовым рабочим. В те дни люди тянули лямку восемьдесят часов в неделю, получали десять фунтов и считали, что им невероятно везет, потому что многие тогда бродили по улицам те же восемьдесят часов и ничего не получали.
Дети Билла росли и обзаводились семьями, жена умерла, а его все больше одолевал зуд странствий. Среди фермеров у него было много друзей — он приобрел их, когда работал оценщиком в Вайрарапе, и теперь разъезжал повсюду и брался за любую работу — батрачил, копал дренажные канавы, охотился на опоссумов, ставил изгороди — в общем занимался всем, что подвернется под руку. У него был акр своей земли, в основном под картошкой, двухкомнатное бунгало около Тасманова залива, дом в городе, и он сам решал, куда ему поехать и чем заняться.
— Я слышал, ты последнее время все киснешь, — сказал он Филу.
— Да. И нервы. Ужасно нервничаю. Удивляюсь, как только терпят меня домашние. Почти не сплю.
Билл наклонился и испытующе взглянул на друга.
— Послушай, а как насчет того, чтобы поработать вместе? Нужно поставить изгородь в графстве Нельсон. И семью сможешь содержать, и еще несколько фунтов прикопишь. Не успеешь и оглянуться, как чертовски тяжелая работа и горный воздух приведут тебя в чувство.
— Но я уже давно не ставил изгородей.
— Ничего, справишься! В прошлом году в графстве Бруклин я заработал за три недели почти полтораста фунтов. Не бойся, не прогадаешь. Со мной ты будешь как у Христа за пазухой. А как я готовлю, дружище!
Филу показалось, что на него повеяло свежим воздухом гор. Он встал.
— Договорились, старина.
Они ударили по рукам.
2
Билл отправился в Нельсон заканчивать переговоры о заключении контракта, а спустя десять дней туда же вылетел и Фил. С западного побережья Южного острова дул порывистый ледяной ветер. На аэродроме Фила захватил проливной дождь. Шлепая по лужам, он добрался до комнаты ожидания, где его встретил Эрни Честер, тот самый фермер, к которому они нанялись. Эрни еще до войны эмигрировал из Англии, некоторое время батрачил, а потом ему повезло: он женился на дочери преуспевающего хозяйчика, и тот помог ему обзавестись собственной фермой.
Фил провел ночь в доме Эрни, познакомился с его женой и тремя малышами, погрелся в гостиной перед большим камином, где пылали огромные поленья, вымылся и, получив грелку, улегся спать. Его положили в большой комнате с длинным рядом окон от пола до потолка. «Летом тут будет недурно. Как на веранде», — подумал Фил.
Утром Эрни довез его на машине до того места, где уже трудился старина Билл. Сначала они ехали по ровной, заросшей травой местности; по временам им встречались аккуратные домики ферм, окруженные садами. Затем перед ними возникли довольно высокие горы, травы стало меньше, зато все чаще и чаще попадались камни; из ущелий внезапно налетал колючий ветер. Над землей нависло холодное и серое от дождя небо.
— Хорошо, что у Билла есть хижина, — заметил Эрни. — А впрочем, насколько мне известно, он большой чудак и с таким же удовольствием согласится спать в палатке — там же, где работает, и готовить пищу на костре.
Билла они застали за работой близ пустынной дороги, пересекавшей горное пастбище. Он отбросил молот и подошел к ним, еще издали протягивая руку. Неожиданный порыв холодного ветра чуть не свалил Фила с ног. Билл что-то буркнул насчет «паршивой ночи» и сел в машину, чтобы показать им свое жилье.
Они подъехали к полуразвалившейся ухаре[14], расположенной в заброшенном карьере. Одна из ее стен почти вплотную прижималась к крутому берегу речушки. Жилье находилось в полумиле от фермы, где им предстояло покупать себе молоко. Фил взглянул на лачугу и невольно поежился.
Они вошли в хижину. Стены ее были сколочены из грубых бревен; для сохранения тепла щели под крышей были забиты дощечками от ящиков из-под фруктов. Билл разгреб тлеющие в золе угольки и бросил на них несколько поленьев. Роль очага выполняла сорокачетырехгалонная канистра из-под бензина, наполовину набитая камнями и поставленная на фундамент из глины; верх печи представлял собой решетку с приделанным к ней вертелом. Трубу заменяли керосиновые банки с выбитыми донышками, скрепленные проволокой, из которой сооружались изгороди. Посредине на земляном полу стоял шаткий столик из досок, а рядом ящик из-под фруктов — сиденье для Фила. Биллу отводился край нижней койки двухэтажных нар у стены.
Взглянув на верхнюю койку, Фил увидел несколько мешков и тюфяк — толстую подстилку, набитую листьями папоротника, татарника и черной смородины.
— Ну, пока. Если что понадобится, дайте знать, — сказал Эрни и уехал.
— Устраивайся, — предложил Билл. — А я пока чайку согрею.
Фил с трудом сдерживался, чтобы не вспылить. Он швырнул чемодан на койку, подошел к очагу и протянул к огню окоченевшие руки.
— За всю свою жизнь, будь она неладна, не видел ничего похожего, — заявил он. — Ведь в каждом трудовом договоре предусмотрены для рабочих какие-то минимальные удобства. Я знаю местного представителя профсоюза и обязательно переговорю с ним при первой же возможности… А я-то вообразил, что наш хозяин настоящий парень! Неужели он думает, что мы сможем так жить? Утром же скажу ему пару теплых слов.
— Оставь, — возразил Билл. — Это моя идея, не его. Стоило нам захотеть, и мы могли бы жить в его доме, в самой лучшей комнате.
— В той, что с окнами, как на веранде?
— Вот, вот. Могли бы жить в доме и столоваться вместе с его семьей.
Пораженный Фил уставился на Билла.
— Что? Что ты говоришь?
— Эрни сам предлагал, когда мы толковали насчет контракта. Я отказался.
— Почему? — Фил старался не повышать голос.
— Да потому, что оттуда далеко до места работы, а это меня… я хочу сказать — нас… никак не устраивает. Пока сюда доберешься — глядь, уже восемь, а то и девять часов утра, а нам надо начинать на рассвете. И возвращаться придется к чаю, к пяти-шести. Нужно будет приспосабливаться к порядкам в семье. А мы должны работать от рассвета до темноты и ежедневно, разве что не в дождливые дни.
Билл засыпал чай в кипящий котелок и поставил его на стол.
— Да и потом я бы перестал там чувствовать себя независимым. Брейся, мойся, одевайся, ежедневно убирай комнату… Нет, это не по мне, тут куда лучше.
— Тут?! — вспылил Фил. — Послушай, какое животное самое независимое и бесцеремонное в мире? Свинья. Она полная хозяйка в своем великолепном хлеву. И никого, кроме нее, не касается, как она себя ведет за едой или в остальное время. И разукрасить свой хлев она вольна, как хочет. Ты что же, хочешь сказать, что ничем не отличаешься от свиньи? Ты, старый профсоюзник! Мне стыдно за тебя.
Билл налил чай и пододвинул кружку Филу; стол заскрипел.
— Да ты не шуми, — продолжал Билл. — Давай успокоимся и потолкуем. Всю свою жизнь ты за что-то боролся и чего-то добивался. Того, что уже есть, тебе было мало. Я понимаю тебя — и я поступал так же. Без борьбы ничего не добьешься. Ну а сейчас, в наши годы, давай на минутку вообразим, что мы в общем-то всем довольны. Давай не будем волноваться из-за каждого пустяка. Давай посмотрим вокруг себя и, к удивлению всех и своему собственному, скажем, что все нас устраивает.
— Тебя-то, может, и устраивает, только не меня. Настоящий свинарник. Да что там! В иных свинарниках даже лучше, чем здесь.
— Все это так, но ты только подумай… Не захотелось нам бриться — пожалуйста, не брейся. Нашла на тебя блажь — снимай башмаки и клади ноги на стол. Захотел чего-то поесть, приготовить по вкусу — на здоровье. Хочешь покрепче выразиться — никто и слова не скажет. Плюнуть на пол? Сколько душе угодно. Господи! Да неужели ты не понимаешь, что наконец-то мы хоть ненадолго отдохнем от этой мышиной возни!
— Ты великовозрастный Гекльберри Финн, вот ты кто!
— Нет, ты только пораскинь мозгами. Неужели ты думаешь, что если мне нравится жить вот так, то выходит, что я продаюсь капиталистам? Ты все поглядываешь вокруг, все хочешь увидеть настоящие вещи — раковину, ванну, краны, изразцовую печь и еще бог знает что. Черт подери! Возьмись наконец за ум и скажи, что вещи для тебя теперь ничто. Ты можешь это сказать, ты заслужил это право, потому что отныне больше не считаешь, будто вещи — это все.
— Да, но вещи создают определенные удобства. Это совсем не пустяк в наши годы. Я бы, например, не возражал, если бы мне пришлось спать в доме Эрни с грелочкой да на чистой простынке.
— Ты считаешь, что у нас должны быть и холодильник, и стиральная машина, и тостер, и прочая ерунда? Ты серьезно думаешь, что без этого не прожить? Особенно если ты еле-еле сводишь концы с концами? Я знаю одного парня — его жена купила пишущую машинку. Печатать не умеет и учиться не собирается. Ей, видишь ли, взбрело на ум, что в приличном доме нельзя без машинки. Да я бы мигом свернул шею своей женушке, если бы она придумала такое.
Он наклонился над очагом и помешал угли.
— Так что взгляни еще разок на наше жилье. Какой нам смысл иметь рояль? Я все равно на нем не играю. А холодильник… Зачем он нам, если тут и без него так холодно, что зуб на зуб не попадает!
— Продолжай, старина! — рассмеялся Фил. — До меня начинает доходить.
— Это все равно как между мужчиной и женщиной. Чем сильнее ей хочется сказать «да», тем больше она артачится. Без борьбы она нипочем не уступит. Ну а когда бедняга наконец заставит ее раздеться, выясняется, что ему уже расхотелось. Вот и ты такой же.
— Желал бы я взглянуть на человека, который заставил бы меня раздеться, если я не захочу!
— Фил, ты даже не отдаешь себе отчет, что уже имеешь то, за что боролся и чего жаждал много-много лет. Ты хочешь знать, что это такое? Свобода! Вот чем мы — ты и я — владеем здесь. Ну и пользуйся ею!
Фил осмотрелся. Ему показалось, что старая, убогая хижина выглядит не так уж скверно. Запах горящего в очаге чайного дерева, труба из керосиновых банок, обшарпанный старый стол, закоптелые стены… Почему бы не набраться мужества и не сказать подобно старине Биллу: «Меня это устраивает? Почему бы нет?» Он подумал о прошедших годах, заполненных профсоюзными собраниями, забастовками, заседаниями арбитражных судов, депутациями, выборными кампаниями, посещениями избирателей, сбором подписей под петициями, уличными демонстрациями — обо всем, что он делал во имя лучшего будущего, которое должно наступить в один прекрасный день. Почему бы сейчас, в старой хижине в горах, не сделать короткую передышку и не устроить себе отдых? Сказать: да, я доволен. Сказать: меня это устраивает.
— Ты прав, старина, — произнес он.
— Вот и хорошо, — ответил Билл и широко улыбнулся. — А теперь и я уступлю тебе немножко. Жена Эрни сказала, что всю нашу стирку она берет на себя. Нам только остается передавать ей белье по пятницам, когда они будут заезжать за нами вечером, чтобы подбросить до города.
3
Весь день они усердно трудились над изгородью. Фил обнаружил, что ладони его рук, так долго не знавших работы, утратили свою прежнюю силу и что не такое уж это простое дело — сгибать проволоку. Отвыкшие от работы мышцы мучительно ныли. В довершение ко всему у него разболелось горло — дал знать себя холодный ветер, налетавший с горных пастбищ.
Спустя некоторое время он заметил, что Билл старается взять на себя самое трудное, оставляя ему то, что полегче, — прикрепить проволоку к столбам или что-нибудь в этом же роде.
Перед наступлением сумерек поднялся сильный южный ветер, насыщенный дождем. Они вернулись в хижину. Билл разжег очаг, вскипятил в котелке чай и начал готовить ужин из мяса и овощей. Фил переоделся во все сухое и извел почти целую коробку спичек, пытаясь зажечь лампу, — ее упорно гасили порывы сырого ветра, проникавшего в хижину. В конце концов он поставил ее под стол, и света было достаточно, чтобы читать газету.
Билл разложил дымящееся тушеное мясо по металлическим, с выщербленной эмалью, тарелкам. Фил уже много лет не испытывал такого голода и не наслаждался так едой.
— Вообще-то тут ничего, когда нет ветра, — заметил Билл. — А дело идет к весне, так что скоро ветров не будет.
Фил положил поверх тюфяка из папоротника несколько мешков и покрыл их одеялами.
— Пожалуй, я не стану выбрасывать черную смородину и татарник, которые ты напихал в подстилку, — сказал он. — Иначе в ней ничего не останется.
— Ты можешь пойти и набрать свежего папоротника. Его тут сколько угодно.
— Под дождем?
Фил вытянулся и закрыл глаза. Здесь, вдали от города, не надо было метаться в поисках работы, просматривать газеты в надежде наткнуться на объявление о вакантном месте, думать о счетах, засиживаться в пивных, надрывать голос по телефону, встречаться с политическими деятелями, которые гоняются за вами и уговаривают сделать то одно, то другое — выступить на митинге, раздать листовки, разнести газеты, распродать брошюры, собрать пожертвования, распространить лотерейные билеты, всучить билеты в кино тем, кому они вовсе не нужны и кто все равно ими не воспользуется… Нет, здесь прямо-таки замечательно! Он снова почувствовал себя мальчишкой, который лежит в постели вечером, когда уже выключен свет, и прислушивается к шуму дождя по крыше.
Фил поднялся и спросил у Билла, как найти «то самое место». Так он узнал о деревянных перилах над ямой у реки, за карьером. Электрического фонарика у него не было. Он замерз и промок и едва не упал, поскользнувшись на прибрежной гальке. Но Фил уже достаточно пожил, чтобы уметь ценить прелесть десятиминутного уединения.
Они поднялись с рассветом, позавтракали жареными почками и беконом, уложили в сумку кое-какой еды на второй завтрак, а также чайную посуду и отправились на работу. Свирепствовавший всю ночь ураган с проливным дождем к утру выдохся, но с гор все еще дул холодный ветер, а в долинах клубился сырой туман.
Все утро они готовили ямы для столбов вдоль берега реки. Билл старательно рыл яму для опорного столба, а немного подальше, в том месте, где берег делал крутой поворот, Фил копал в песчаной почве углубление для одной из угловых стоек.
Подъехал Эрни и сказал, что он свалил дрова около ухары. Эрни помог Филу закончить работу. Потом к ним присоединился Билл.
— Я сегодня заеду за вами; попьете у меня чаю и отдадите в стирку белье, а потом мы все вместе поедем в город купить кое-что и выпить пива.
— Здорово! — обрадовался Фил. — Скорее бы время прошло!
Биллу тоже пришлось по душе это предложение.
— Когда я копался на своей ферме, — заметил он, — времена другие были. Не каждый имел даже башмаки, чтобы показаться в городе, а уж о деньгах на всякие городские удовольствия и думать не приходилось — их и подавно не было.
К приезду Эрни каждый из них приготовил сверток чистого белья — надеть после мытья. Они плотно закусили, расправившись в числе прочего и с пудингом, потом уселись в машину и отправились в город. У Фила на коленях сидел младший сынишка Эрни.
— Мистер Бэрке, ма ведет нас сегодня вечером в церковь. Вы не пойдете с нами?
Фил был равнодушен к церковным делам, а сейчас хотел главным образом одного: выпить кружку-другую пива.
— Мне надо сделать массу покупок, — ответил он.
— Ну, об этом ты не беспокойся, — вмешался Билл. — Пойди с ними. Покажи мальчику пример! Я знаю, что нам нужно, и сам все куплю. А сверх того, специально для тебя, спичек, табаку, пуховую перину и все такое прочее.
«Этот старый мерзавец не хочет, чтобы я попал в пивную. Вот куда он гнет!» — подумал Фил.
— Спасибо, Билл. Но ты же не сможешь примерить за меня башмаки, не так ли? И подстричься за меня ты тоже не сможешь.
Билл промолчал, а спустя некоторое время ворчливо сказал:
— Странно, раньше ты об этом ничего не говорил.
«Я таки сбил его с толку!» — обрадовался про себя Фил.
Они сделали покупки, и Филу, чтобы не прослыть лгуном, пришлось зайти подстричься, хотя надобности в том не было. Погрузив в машину все купленное, они направились в пивную миссис Броди.
В пивной в большом камине горели, потрескивая, толстые поленья. Здесь было много фермеров, стригалей, сезонных портовых рабочих и пастухов. Фил разговорился с шофером грузовой машины — оказалось, в прошлом году они работали на одной стройке в городе, хотя и не знали тогда друг друга. Билл развалился в мягком кресле перед пылающим камином, поставил кружку с пивом на пол около себя и блаженно дремал.
Часов около девяти в пивную заглянул какой-то человек и шепнул, что так как официальные часы торговли уже кончились, сюда с минуты на минуту нагрянет полиция — проверить, не происходит ли тут выпивки в неположенное время. Фил крепко встряхнул Билла и велел ему незаметно смыться, а сам вместе с другими тихонько пробрался через соседний зал на улицу.
Здесь, на улице, они ждали, когда уйдут полицейские. Фил обошел всех, разыскивая Билла, но того нигде не было. Наконец кто-то сказал ему:
— А вот и ваш дружок! Его зацапали фараоны.
Фил почувствовал, как в нем поднимается ярость. Почему он не увел Билла с собой? Почему он бросил его полусонного? И какое право имеют полицейские хватать и тащить человека, словно это враг номер один, только за то, что после дня тяжелой работы в горах он решил пропустить кружечку пива?
Фил сжал кулаки и расправил плечи, собираясь кинуться на полицейских. Однако в эту самую минуту Билл и сержант вдруг засмеялись.
Кто-то в толпе слегка толкнул Фила локтем и сказал:
— Слушай, а как бы сделать, чтобы твой дружок перестал якшаться с полицейскими? Пусть они отправляются спать, а мы вернемся к своим кружкам.
Билл пожелал полицейским спокойной ночи, и когда они ушли, все возвратились в пивную.
— Что с тобой случилось? — спросил Фил.
— Да я снова заснул, как только ты меня разбудил, — засмеялся Билл. — Полицейским, когда они растолкали меня, я сказал, что уселся в это кресло примерно без четверти шесть, пригрелся и задремал.
— И они, конечно, не поверили?
— Еще бы! Не задавай наивных вопросов.
— О чем же вы чесали языки все это время?
— В основном — как ставить изгороди, а еще о сельском хозяйстве, о бегах. Этот сержант — свойский парень. Когда-то в Вайрарапе я знал его отца. Он тоже служил в полиции.
— Да уж у тебя язык — дай бог всякому, — покачал Фил головой. — Удивляюсь, почему ты не стал дипломатом.
— Забыли, должно быть, пригласить.
4
Прошло немного времени, и Фил почувствовал, что руки у него уже не болят, суставы не ноют, и теперь он мог весь день трудиться в горах с таким же упорством, как старина Билл. В работе у него появилась определенная система, через несколько дней превратившаяся в привычку. Поставленная ими изгородь тянулась мили две по прямой, а потом под углом сворачивала на усеянную камнями территорию, по которой некогда спустился ледник и где каждая лопата земли давалась с большим трудом. Иногда им приходилось рыть по две ямы рядом и с помощью ваги перетаскивать из одной в другую огромные валуны. Эрни понимал, насколько тяжелее стала работа, и повысил оплату за каждое звено изгороди на всем этом участке.
Изгородь приблизилась к берегу реки и, пройдя некоторое расстояние вдоль него, повернула обратно, к тому месту, откуда они начали ее ставить. Однажды во время работы Фил увидел, что его друг внезапно плашмя упал на землю и сунул голову в яму, вырытую для столба. Фил отбросил молоток и подбежал к Биллу.
— Что с тобой, старина?
— Я уверен, что видел большой самородок золота. — Рискуя вывихнуть шею, Билл повернул голову и снизу взглянул на приятеля.
Тяжело переводя дух, Фил присел на корточки.
— И, кажется, вообразил, что он с ногами или на колесиках. Ты что, боялся, как бы он не сбежал от тебя?
Смеясь, Билл поднялся, стряхивая пыль со штанов.
— В этих местах золотишко водится, — сказал он. — Я ведь как-то работал тут недалеко, на ферме, только, пожалуй, ближе к Марчисону, а потом некоторое время бродил вдоль реки вверх по течению. Иногда, знаешь, совсем неплохо получалось. Чаще всего рассыпное золото, крупных самородков почти не попадалось. Правда, один или два я видел. Тут ни за что не угадаешь, когда тебе повезет… Как ты смотришь, — что, если пораньше перекусить?
Они разожгли костер и вскипятили чай. Билл рассказывал о знакомых старателях, о том, как они перебивались с хлеба на воду в надежде наткнуться когда-нибудь на золото.
Фил поинтересовался, как будет с уплатой подоходного налога. Деньги, ответил Билл, переведет за них сам Эрни еще до того, как они увидят свое жалованье.
— И тут уж не приходится обижаться на Эрни, тут нет его вины, — объяснил он. — Все проклятое правительство! Маленьким людям, вроде нас с тобой, никогда от этого не избавиться. Только богатым все сходит с рук. Они ремонтируют и красят свои дома, заставляют других выполнять разные свои прихоти, а расходы проводят по книгам своих фирм — или как там называются такие махинации — и увиливают от уплаты налогов. Подлецы!
— Что верно, то верно, — кивнул Фил. — Где уж рабочему человеку рассчитывать на справедливость.
— Бог мой, ну и пустозвон же ты, Бэрке! — воскликнул Билл. — Сколько еще ты будешь рассиживать и болтать? Скоро уже стемнеет, а у нас еще работы по горло.
Фил снова взялся за лопату и еще долго слышал, как Билл, размахивая руками и чертыхаясь, составлял собственный проект закона о налогах.
За работой Билл постоянно разговаривал сам с собой. Сначала он излагал аргументы одной стороны, затем начинал отвечать на них; иногда дебаты принимали особенно бурный характер, он швырял молот и принимал такой вид, словно собирался с кулаками наброситься на своего оппонента.
Однажды Фил спустился с горы за новым запасом скоб и застал Билла в разгаре очередного, проходившего с переменным успехом спора с самим собой. Послушав некоторое время, он спросил:
— Ты обсуждаешь какие-нибудь личные дела или присутствие посторонних разрешается?
Сконфуженный Билл повернулся к нему.
— Валяй, иди сюда, — сказал он. — Я тут размышлял о новой работенке — о запруде на реке. Пожалуй, я посоветую Эрни немного спрямить берег там, где река делает крутой поворот, тогда во время половодья течение не будет таким сильным. Нужна только пара лошадей — притащить несколько толстых бревен, а больше ничего и не надо. Я как раз втолковывал ему, как бы я поступил, если бы взялся за работу.
— Да, но Эрни-то здесь нет.
Билл рассердился:
— Нет, так будет, верно? Не грех заранее поворочать мозгами. Вообще если бы люди почаще сначала ворочали мозгами, а уж потом раскрывали рот, порядка в мире было бы куда больше.
Билл владел секретом сохранять жар в своем самодельном очаге таким образом, что когда с наступлением темноты приятели возвращались в хижину, им оставалось только раздуть засыпанные пеплом угольки и подбросить на них несколько сухих поленьев. Дым больше оседал в самой хижине, чем выходил в трубу из керосиновых банок, и поэтому Фил несколько переделал ее, прикрепив проволокой к задней стене. Иногда огонь в очаге пылал, словно в горне. Случалось, что, вернувшись домой, они находили в питьевой воде головастиков: тлевшие в очаге угли давали достаточно тепла, и в воде созревала икра.
Подогрев воду для умыванья, Фил начинал готовить ужин — основательно они ели только раз в день, после работы, — а Билл тем временем просматривал утреннюю газету. Он любил читать вслух и комментировать отдельные места.
— Вот ворюги! Нет, ты только представь себе, а? — Или же: — Замечательно!.. Он им покажет!.. Молодчина!..
Однажды вечером Фил отправился на расположенную в полумиле ферму за молоком, яйцами и маслом.
— Продолжай в том же духе, Билл, пока я не вернусь, — сказал он, выходя из хижины с мешком из-под сахара.
Вернувшись через полчаса, он остановился у двери, положил свою ношу на камень и стал прислушиваться к разглагольствованиям Билла.
— Уж кому-кому, а этому поджигателю войны (имярек) вовсе не следовало бы говорить о мире и безопасности. Да-с, но вы послушайте дальше — чем дальше, тем хлеще…
— Продолжай, Билл, я сейчас…
Билл взглянул на приятеля исподлобья и, словно тот никуда не уходил, заметил:
— Вот я и говорю: какие же лицемеры и мерзавцы в большинстве своем все эти политики! Вот, например, возьми этого. Вначале он говорит одно, а переверни страницу — и что же он говорит теперь? — Билл привел еще несколько мест. — Враль, — проворчал он. — Но ты послушай напоследок вот это местечко…
Фил предпочитал читать газету сам и редко прислушивался к рассуждениям Билла. А тот, заканчивая чтение какого-нибудь длинного отрывка, торжествующе спрашивал:
— Ну и что ты скажешь об этом?
— Что скажу? — Фил начинал мямлить, подыскивая подходящий ответ. — Да, честное слово, прямо-таки настоящая банда мерзавцев!
На лице Билла появлялось озадаченное выражение.
— Ну, уж это слишком… По-моему, в сложившейся обстановке они действовали правильно.
Фил начинал ломать голову, не зная, как ему держаться дальше.
— Да, но дело-то в чем заключается? Ты ожидаешь, что люди будут действовать и говорить так, а не иначе, правда? Я полагаю, что они обязаны поступать так.
— Ну, в данном случае я бы этого не сказал. Из того, что тут написано, чертовски ясно, что они были вынуждены поступить иначе. У них не оставалось выбора, правильно? Будь у них выбор, они поступили бы совсем по-другому.
Фил лихорадочно пытался припомнить хотя бы несколько слов из предшествующего разговора, чтобы уразуметь наконец, о чем они вообще толкуют.
— Однако хорошо, что дело все-таки дошло до разоблачения, ты согласен? То есть теперь, когда уже столько сказано, ты легко представишь себе все остальное.
— Да дело тут вовсе не в разоблачении. Любой, у кого котелок варит, понимает, что вся эта история назревала уже не одну неделю…
Чтобы вынудить Билла переменить тему, оставалось только прибегнуть к какому-нибудь маневру — попросить его что-нибудь подать или уговорить принести про запас охапку дров.
Позднее Фил сам брался за газету, и когда его особенно захватывала какая-нибудь статья, он начинал пересказывать ее Биллу.
— Господи! — восклицал Билл. — Ну и память же у тебя! Да ведь я читал тебе то же самое полчаса назад, а теперь ты заявляешь…
И Филу приходилось, терзаясь от стыда, выслушивать свои собственные комментарии, сделанные наугад и принятые Биллом за чистую монету.
— Ты понимаешь теперь, какую порол чепуху?
— Ну, если ты так ставишь вопрос…
В те дни весь мир облетело сообщение о том, что Эдмунду Хиллари и Шерпе Тенсингу удалось подняться на Эверест. Билл не пропускал ни одного слова из того, что писали газеты, и в конце концов рассердился.
— Хиллари, — сказал он, — заграбастывает себе все похвалы и славу только потому, что он новозеландец. Начитавшись газет, люди, чего доброго, станут думать, что он один вскарабкался на гору, а что до Шерпы, так это всего лишь какая-то вспомогательная снасть.
— Знаешь, что я тебе скажу? — заметил Фил. — Я напишу письмо в газету, и мы его отправим.
— Здорово! От нас обоих, а? Всыплем ему как следует. Давай сочиняй, а потом прочтешь, и я тебе скажу, как получается.
Фил написал, что весь подъем на Эверест был результатом совместных усилий и что это особенно видно из описания того, как Хиллари и Тенсинг помогали друг другу подняться на вершину. Замалчивая роль Шерпы, печать допускает ошибку. Он прочитал письмо Биллу.
— Чертовски хорошо, — похвалил тот. — Даже я не смог бы написать лучше. Дай-ка его мне, я подпишусь. Как мы назовемся?
— «Два фермера из захолустья», — предложил Фил.
— Красота! Это встряхнет их. Готов поспорить — народ тут сразу поймет, что это мы. Еще одна совместная работенка!
У Фила тотчас же возникло предположение, что его друг начнет охотно снабжать местных жителей кое-какими сведениями о личности «двух фермеров из захолустья». Он никак не мог понять эту черту своих земляков. Отправляя письмо в газету, они подписывались псевдонимом, а затем с гордостью похвалялись перед окружающими, что письмо написали именно они.
Через два дня письмо появилось в газете. Билл прямо таял от удовольствия, когда сначала Эрни, а потом все те, кто обычно собирался по пятницам в пивной, высказали предположение, что ему, безусловно, кое-что известно об истории с письмом.
— Можешь поверить, — сообщил он Филу, — я изо всех сил скромничал, но все же приятно было видеть, что они догадываются, кто написал письмо.
Вечера по пятницам были лучшим временем недели. Друзья приводили себя в порядок у Эрни, делали покупки, в меру выпивали, получали поступившую на их имя почту. Билл любил читать приятелю выдержки из адресованных ему писем и нередко просил Фила прочитать что-нибудь интересное из полученных им. Новостей, услышанных в пивной, друзьям обычно хватало для разговоров на всю неделю.
Как-то вечером, когда они уже лежали на своих койках и потушили лампу, Билл сказал:
— Я все думаю о том, как в прошлую пятницу в пивной мы беседовали с богатыми фермерами. Ты помнишь Тома Винтера? У него тут одна из самых крупных и самых лучших ферм. Помню, ты им сказал, что с русскими лучше торговать, чем спорить и спорить без конца. Они словно воды в рот набрали: боялись с тобой согласиться — вдруг кто-нибудь услышит! Тут в разговор вмешался Том Винтер и сказал, что он с тобой согласен. А потом, когда ты вправил мозги тому типу насчет так называемой забастовки грузчиков, разве не Том снова поддержал тебя? Потом ты стал защищать право рабочих на забастовки и сказал, что это, мол, как с оптовыми и розничными торговцами и с фермерами: они до поры до времени не выпускают свои товары и скот на рынок с расчетом получить потом более высокий барыш. Их так и передернуло, потому что раньше им никто ничего подобного не говорил; они согласились с тобой — что им оставалось делать! — и кто же больше всех с ними спорил? Опять же Том Винтер. А ведь у него такой текущий счет в банке, что закачаешься. И здесь кругом, куда ни посмотришь, — чье это? Винтера. Все дело в том, что он-то уже сколотил себе капиталец и теперь сам себе хозяин; ему плевать, что о нем подумают люди, он может позволить себе роскошь говорить все, что захочет. Кое-кто утверждает, что хороших капиталистов нет. А я так скажу: дураки везде водятся, каким бы путем они ни зарабатывали себе на кусок хлеба. Есть они и среди рабочих.
«Вот даже здесь, в горах, от этого не избавишься, — подумал Фил. — Да оно и к лучшему. Оторвешься тут от всего — потом там, в городе, трудно будет заново привыкать к прежнему. В конце концов не вечно же мы будем здесь жить. А жаль!»
— Билл, как дела семейные?
— Да ничего. Дочь вышла замуж за одного степенного парня из лесничества около Роторуа. Вот сын… Жду не дождусь, когда он наконец угомонится. Похоже, нигде не может осесть. Не удивительно, что его жена все время ворчит. Поступит куда-нибудь, немного поработает — и вдруг бросает, принимается искать что-нибудь новое.
— Вылитый папаша.
— Ну, не сказал бы. По-моему, я всегда был довольно-таки степенным.
— А что ты делал перед тем, как наняться на теперешнюю работу?
— Помогал одному человеку, старому приятелю, строить сарай на ферме, недалеко от Крайстчерча. Я всегда стараюсь оказаться там перед большими ежегодными бегами.
— Ну а до этого?
— Помогал одному знакомому рыть картошку в Отаки.
— Вот видишь!
— Может, ты и прав, — усмехнулся Билл. — Сын до женитьбы несколько лет плавал на судах — это, наверное, и сказывается теперь. Моряки не могут без перемен — новые места, новые пароходы — потому-то им и трудно угомониться… Ну а как поживают твои дочери-красотки?
— Да хорошо. Не знаю только, где раздобуду денег, когда они вздумают выйти замуж.
— А ты возьми один из этих новых краткосрочных страховых полисов.
— Нет смысла. По-моему, и двух лет не пройдет, как обе они выскочат замуж.
В хижине наступило молчание.
— Скажи-ка мне, приятель, — заговорил Билл, — как это у страшилища, вроде тебя, получились две такие красивые дочки? Как это ты изловчился?
— Спи ты, старый мерзавец!
Из темноты донеслось довольное хихиканье Билла.
5
Теперь они работали над последним участком изгороди примерно в миле от дома Эрни, оставляя позади местность, некогда проутюженную ледником, и приближаясь к ферме. Филу нравились сложенные самим Эрни аккуратные, неодолимые для скота изгороди из булыжника с одним рядом колючей проволоки поверху; много сил, упорства и старания потребовала эта работа. Фил с удовольствием поселился бы здесь навсегда, но понимал, что надежды на это нет и быть не может — его дом был в городе. С приближением весны дни стали Теплее, не такими ветреными и облачными. С вершин самых высоких холмов за равнинами и садами он мог видеть море.
Однажды Фил заметил, что Билл как-то замкнулся, даже перестал разговаривать сам с собой, и работал уже не так споро, как прежде. Но сколько он ни расспрашивал его во время обеда, ничего добиться не мог. Вскоре после того, как они поели, Билл вдруг схватился за грудь и упал. Фил подбежал к нему.
— Наверное, это опять проклятое сердце, — задыхаясь, проговорил Билл. Лицо у него посерело.
Фил помог ему дойти до ухары и поспешил на соседнюю ферму позвонить Эрни. Обратно его подвезли на машине. Билл тихонько лежал на койке, прижимая руки к груди. Они завернули в полотенце его пижаму и бритвенные принадлежности и помогли ему дойти до машины.
Билла уложили на заднее сиденье, и Фил подсунул ему под голову вместо подушки скатанное одеяло.
— Если у тебя снова не пойдет дело с натяжкой проволоки, выбрось старые щипцы, — посоветовал Билл. — В моей сумке найдешь новые. Захватил на всякий случай.
— Хорошо, хорошо, старина, — ответил Фил, сердясь на себя за то, что у него дрожат губы и застилает глаза.
Машина ушла, и Фил остался в ухаре один. Никогда раньше он не замечал, какое странное спокойствие окружает его. Работать ему не хотелось. Но вот ему показалось, что он слышит голос Билла: «Уж не скажешь ли ты, что целых полдня не ударил палец о палец?» Он поднялся и пошел в горы.
Фил знал, как его друг гордился своей работой, и старался делать все быстро и добротно. В тот вечер в хижине он по примеру Билла разговаривал сам с собой. Обычно он чуточку раздражался, когда Билл первым хватал газету, а потом разбрасывал по всей ухаре отдельные страницы. Сейчас, когда вся газета была в его распоряжении, он не испытывал к ней интереса. Больше всего ему не хватало комментариев Билла: «Ублюдки! Подумать, до чего мы дожили!..» «Вот молодчина! Теперь они будут знать!..»
На следующий день заглянул Эрни и сказал, что с Биллом все в порядке, он наводил справки по телефону. Позднее он съездит за ним на машине. Фил попросил привезти для Билла побольше почек и печенки (его любимое блюдо) и весь день думал о своем друге.
Билл появился уже почти в сумерки, он широко улыбался и привез с собой полдюжины пива. Они пили его вместе с Эрни из чайных кружек.
— И подумать только, как это человек моего возраста может свалять такого дурака! Вы знаете, что у меня было? Засорение желудка! — Билл скорчил гримасу и похлопал себя по животу. — Они очистили мне желудок какой-то дрянью, и теперь я чувствую себя новехоньким… В другое время я не возражал бы полежать недельку-две да посмотреть, как вокруг меня суетятся сиделки, — добавил Билл после ухода Эрни. — Но нам надо кончать работу, пока держится погода. За безделье нам не платят, а дожди, по-моему, на носу.
Билл сделал несколько глотков пива.
— Сдается мне, что причиной всему картошка, которую мы ели последний раз… Ну а кто в тот день готовил чай?
— Ты.
— В самом деле? Должно быть, я теряю квалификацию повара.
Поставив ноги на очаг, они осушили по паре бутылок пива. Фила так и подмывало сказать своему другу, как он рад его возвращению, но он не мог заставить себя произнести эти слова. Билл же только спросил:
— Черт побери, да что с тобой? Ты бы мог в любое время переехать к Эрни и пожить там, как тебе хотелось в самом начале.
Однако Филу уже не хотелось этого.
Он выложил почки из консервной банки на сковороду и очистил лук, собираясь позднее добавить его в кушанье. Нарезая хлеб, он отодвинул тарелку с луком, так что она оказалась недалеко от Билла. Вскоре Фил заметил, что стол продолжает покачиваться, хотя он уже перестал орудовать ножом. Он поднял глаза и обнаружил, что Билл, поставив локти на стол, берет ломтики лука и втирает его в сбою лысеющую голову.
— Эй! — заорал он. — Ты что, считаешь, что я здесь для того, чтобы готовить для тебя этот вонючий восстановитель волос?
— Говорят, помогает. Я даже читал в газете, что у одного парня из Данедина от лука снова выросли волосы.
— Ну и чисти его сам.
Фил взял тарелку и высыпал лук на сковородку, где уже жарились почки. Ухара наполнилась восхитительным ароматом.
— Что у нас на сладкое?
— Чернослив. Он в котелке, что у тебя над головой.
Чернослив был все в той же посуде, в которой его когда-то сварил Билл. Он снял его, понюхал и сказал:
— Это уж твоя промашка. В твоем-то возрасте пора бы знать, что такие продукты нельзя оставлять в металлической кастрюле. Они же портятся. Попробуй и скажи, можно ли это есть.
Фил был уверен, что чернослив не испортился. Он взял пальцами пару слив и съел.
— Вот, пожалуйста. Ты что, считаешь, что я должен служить для тебя подопытной свинкой?
— Так чернослив-то варил ты! — засмеялся Билл.
— Ничего подобного! Ты! В тот же вечер, когда и картошку.
— Верно! Я, должно быть, действительно теряю квалификацию, — опять рассмеялся Билл. — Удивительно, чем только была занята у меня башка в тот вечер! Ну а вообще-то как ты себя чувствуешь?
— Все в порядке. Садись, еда готова.
6
В тот день, когда они заканчивали работу, погода стояла мрачная и очень холодная. Равнины затянуло тучами; ветер нес с гор колючие мелкие камешки. Они растянули последний моток проволоки и прикрепили ее к столбам; к трем часам дня все было кончено. Билл, как всегда, тщательно осмотрел сделанное, а Фил собрал и проверил инструменты.
По дороге к дому Билл предложил взглянуть на угловую стойку у реки, поставленную Филом на второй день работы.
Ветер дул по узкому ущелью порывами, сгибая деревья, вода казалась ледяной. Столб дюймов на тридцать погрузился в реку. Билл потрогал проволоку и сказал, что нужно поставить дополнительную стойку.
Фил взглянул на воду и поежился от холода. Затем он вспомнил, с какой гордостью его друг относится к своей работе.
— Нужно так нужно, — согласился он. — Молодежь должна приносить жертвы.
Он разделся донага, взял инструмент, проволоку, подпорку, кувалду и полез в реку. Закреплять проволоку под водой было трудно, но еще труднее оказалось забивать подпорку молотом.
Билл сидел на берегу и посмеивался.
— Ты подожди, не выходи, — предложил он. — Могут подойти Эрни со своей хозяйкой и ребятами. Ну и видик же у тебя!
Фил заподозрил подвох. Он не сомневался, что нет никакой необходимости ставить подпорку, потому что они всегда надежно укрепляли прокладками стойки изгороди, расположенные по дну оврагов.
— Над чем ты смеешься, старый греховодник?
Билл схватился за бока и хохотал так, что на глазах у него выступили слезы.
— Ты помнишь, как, едва приехав, принялся устанавливать тут свои законы, собирался жаловаться в профсоюз, грозил устроить скандал? А я старался растолковать, в каких случаях люди вроде тебя должны быть довольны тем, что есть. Я привел в пример женщину: чем больше ей хочется сказать «да», тем сильнее она отбивается. Ты не согласился со мной. Куда там! Уж тебя-то никто не заставит раздеться, если ты сам не захочешь. Ну а сейчас… Да ты только взгляни на себя!
Билл от хохота раскачивался из стороны в сторону до тех пор, пока у него не вывалилась искусственная челюсть.
Фил вышел на берег и несколько раз подпрыгнул, стряхивая воду с застывших ног.
— Ты прав, старина. Твоя взяла!
Они отправились на ферму получить окончательный расчет и попрощаться с семьей хозяина. Эрни достал бутылку виски, и они провели пару приятных часов в гостиной перед камином. Билл не переставая болтал о «двух красотках — дочерях Фила» и столько наговорил о них, что Эрни с трудом удалось отправить своих мальчишек спать.
Вернувшись в ухару, Фил пристроился на ящике у очага написать семье, что перед возвращением в город проведет несколько дней у Билла, в его бунгало у Тасманова залива. В хижину проникал студеный ветер, и Фил, придерживая блокнот на коленях, пододвинул ящик поближе к огню.
Он обвел хижину взглядом. Спору нет, здесь, на этом тюфяке из папоротника, он спал лучше, чем дома на матраце из растительного пуха. А может, все дело в том, что он теперь сильнее уставал, работая от зари до зари в горах, на ветру? Сколько времени потребуется ему, подумал он, чтобы снова привыкнуть к своей семье, и как ему будет не хватать замечаний Билла, вроде: «Что-то чай сегодня не того… Ты, наверное, слишком долго кипятил воду…» Никогда еще за всю свою жизнь он не чувствовал себя так хорошо и независимо.
Билл дремал на койке, натянув до подбородка несколько одеял, поверх которых лежало еще и стеганое, из грубого холста. Фил было решил, что он уже спит, но Билл, не открывая глаз, вдруг заметил:
— По-моему, ты горишь.
Фил вскочил. Край полы его пиджака сгорел, а уцелевшая часть начала тлеть. Он стащил с себя пиджак и затоптал, потом ощупал фуфайку, не горит ли и она.
Лицо Билла расплылось в широкой улыбке.
— Худа без добра не бывает, — заметил он.
— Чего тут доброго, если я остался без почти нового пиджака?
— Меньше вещей придется укладывать утром!
Билл сел.
— Ну а как насчет чайку или какао? Запах горелого пиджака щекочет мне горло.
Утром Эрни привез их в город, и они на автобусе отправились к Тасманову заливу. Билл владел здесь двухкомнатным бунгало и акром земли, засаженным овощами, преимущественно картошкой. По его словам, местный климат позволял, если вы хоть немного смыслили в огородничестве, вырастить все что угодно и когда угодно.
Они купили дюжину пива и провели вечер за разговорами о своих прежних знакомых — где они и что с ними стало. Поужинали совсем поздно консервами. Вымыв и высушив посуду, Фил решил, что надо куда-то убрать тарелки, хлеб и масло. Небольшой шкафчик на стене — в нем стояла только банка с завинчивающейся крышкой — показался ему самым подходящим местом.
Утром его разбудил чей-то рев. Билл топтался в кухне с банкой в руках и отчаянно ругался. Никогда еще Фил не слышал от него такой ругани.
— Видишь?! Это же смертельный яд для крыс и кроликов, да и не только для них, от него кто угодно сдохнет. Тебя угораздило сунуть жратву в тот же самый шкафчик! Если бы не твоя благоразумная супруга и очаровательные дочурки, я бы обязательно подмешал этого проклятого снадобья в твой завтрак!..
На следующий день они доехали на такси до аэропорта и распрощались. Билл все утро был каким-то притихшим, и у Фила возникло подозрение, что он что-то задумал и выжидает только подходящего момента. И этот момент наступил.
— Ты помнишь, — признался Билл, — я сказал тебе, что и холодильник, и стиральные машины, и все такое прочее — ерунда? По правде говоря, все это есть у меня в городе, а сейчас я хочу приобрести и для бунгало. Придется, конечно, немало новых изгородей поставить, чтобы расплатиться за купленное. И все-таки тогда, в ухаре, я здорово говорил, а?
Они рассмеялись.
— Во всяком случае, меня ты сумел убедить, — ответил Фил.
7
Свою семью Фил нашел в полном порядке; в предвидении очередного черного дня жене удалось отложить кругленькую сумму из полученных за изгородь денег. Фуфайка Фила еще долго, несколько месяцев, попахивала дымом от трубы, сделанной из керосиновых банок.
Он поступил сварщиком на плавучий док и снова включился в активную профсоюзную работу. Но когда его друзья затевали спор о дополнительном полпенни к расценкам, он вспоминал о Билле, работающем где-то в горах, о том, как тот заставил его раздеться, и о том, как трудно бывает некоторым понять, что в действительности-то жизнь идет своим чередом. И почему-то повседневные заботы начинали казаться от этого не столь уж значительными и неотложными. Нет, вера Фила в необходимость коллективных требований не поколебалась. Но он всем говорил, что таких друзей, как Билл, у него мало, а уж лучше Билла — ни одного.
Клочок земли
Перевод Ан. Горского
1
Прозвонил станционный колокол.
— Прошу занять места! — крикнул кондуктор.
Два маорийца торопливо проглотили чай и, оставив чашки на подоконнике, бросились к вагону второго класса. Паровоз с шумом разводил пары.
Они уселись друг против друга у открытого окна. На них были узкие, изрядно помятые костюмы, из-под стоячих воротничков свисали неловко повязанные галстуки. Сразу было видно, что эти люди шесть дней в неделю носят майки, рабочие штаны и подбитые гвоздями башмаки.
— Уж больно остановки короткие, и за пивом не успеешь сбегать на станции, — проворчал Муту Сэмюэл, тот, что был крупнее и старше своего спутника.
— Ха! — ухмыльнулся Джо Туки. — Должно быть, боятся, как бы не вылетел в трубу вагонный буфет… или как его там.
Поезд набирал скорость. Маорийцы облокотились на опущенную раму и, прислушиваясь к звонкам паровоза на переездах, покуривали табак из общей пачки.
— Не мешало бы подзаправиться как следует, — заметил Муту.
— Точно. Эх, дружище, ну и жратва была на этих танги[15]! У меня даже пузо выросло! — Джо похлопал себя по животу. — Наверное, пройдет месяц, не меньше, пока я снова похудею.
— Давненько я не пробовал курицы, приготовленной в ханги[16].
— А я вообще не помню, когда ел что-нибудь из ханги. Ты видел, какую свинью они зарезали? Фунтов двести пятьдесят, не меньше.
— Эх, съесть бы еще кусочек таро[17].
— Захватить бы с собой отросток да посадить у нас на лесопилке.
— Пустое дело Почва не та. Сплошная пемза.
Кондуктор, пощелкивая щипцами, распахнул дверь, и в вагон вместе с ветром ворвался лязг сцеплений и стук колес.
— Прошу предъявить билеты до станции Турама!
— Это нас касается, — сказал Джо. — Билеты у тебя?
Муту вытащил из внутреннего кармана старый потертый бумажник и порылся в нем.
— Вот они.
— Благодарю… — Прикусив кончик языка, кондуктор закомпостировал билеты. — С вашего позволения, я оставлю их у себя.
— Вам виднее, начальник.
Покачиваясь, кондуктор двинулся дальше по проходу.
— Билеты до Турамы!.. Билеты…
— Это предпоследняя остановка?
— Да, предпоследняя. — Муту спрятал бумажник. — А все-таки хорошо снова вернуться домой!
— Еще бы. Съесть чего-нибудь горяченького. От сэндвичей и сладкой водички только живот пучит. Как у коровы от клевера.
Муту снова облокотился на раму окна.
— А знаешь, забавно все-таки: едешь домой и радуешься. Ты дома. А спросят тебя: «Где ты был эти дни?» — ответишь: «Дома… Ездил домой на танги…»
— И верно. Не знаешь, где у тебя дом. И там дом, и тут дом. Два дома, наверное.
Поезд проходил по виадуку; внизу виднелись ивы и мутный ручей.
— Джо, а ведь там теперь все по-другому.
— Не сразу и поверишь, что это те же самые места.
— Старых деревьев нет, повырубили. В детстве, помню, был у нас сад позади коровника. Теперь там один чертополох торчит, да и то лишь кое-где. И не подумаешь, что тут когда-то был сад.
Джо кивнул.
— А помнишь, недалеко от большого дерева на выгоне для свиней протекала речка? Я как-то поймал там угря, толстого, как автомобильная шина. Теперь от речки остался малюсенький ручеек. Даже жеруха перестала там расти. Туда, говорят, собираются привезти машину камней и завалить ручей. Вики говорит, зимой там непролазное болото.
— Уезжаешь откуда-нибудь и думаешь, что ничего там не изменится — хоть через десять лет вернись, хоть через пятнадцать.
В окно вместе с ветром влетали хлопья паровозной сажи. Маорийцы сидели молча, каждый по-своему представляя себе утраченный рай.
Внезапно Джо подался вперед.
— Ты слыхал, старый Пайкеа Те Пано говорил, что нам досталась в наследство земля?
Взволнованность Джо не произвела на Муту впечатления.
— Слышал. Я всегда знал, что у меня будет земля, только не знал, сколько и где.
— Понимаешь, я ведь им дальняя родня и никогда особенно не надеялся. Вот было бы здорово — вернуться на свою собственную землю, а, Муту?
— Уж на что лучше. — Он взмахнул рукой. — Но мы не знаем, где она, мы ничего о ней не знаем. Старый Пайкеа тоже не знает.
— Я слышал, он говорил, на ней растет лес. А ты разве не слышал? Помнишь, когда мы вернулись из церкви и собрались в ухаре? Вот тогда он и сказал. Он сказал, что там лес.
— Чего не слыхал, того не слыхал, — усмехнулся Муту. — Зато видел, что никто и глазом не успел моргнуть, как он уже нализался.
— И все равно, пьяный или трезвый, он знает. Он все знает про землю, и кто там живет, и у кого что есть.
— Что он сказал?
— Он сказал, что и мне и тебе там полагается земля, и на ней лес.
— Лес!
— Да, лес. — Джо помолчал. — Уж мы-то знаем, что такое лес, а? Я работал на лесопилках… постой, постой… ну да, лет восемнадцать, не считая войны. На разных, конечно. Фермером мне теперь уж не быть, отвык. А вот лес — другое дело.
— Лес, это да! Если его там много, будем рубить и продавать. Мы с тобой, Джо. Рубить и продавать.
— Вполне возможно. Стоит только начать, а там какая-нибудь большая компания наверняка поможет тебе. Или маорийское управление. Разные фирмы, где я работал, тоже могут помочь.
— Стоит начать, а там — руби да руби. По-моему, маорийское управление обязательно нас поддержит.
— Грузовик купим возить древесину. — Джо взмахнул рукой. — Мы с тобой в лесу, Муту! Работаем на себя, а?
— Здо́рово! Сроду на себя не работал. А хватит леса — дома́ себе построим, Джо.
— Еще бы! Да мой топор… на меня-то… так заработает! Построим свои дома из своего леса. На такую постройку и денег-то не так уж много уйдет.
Тут Муту нахмурился, пораженный собственной бестолковостью.
— Черт возьми! Я слышал, как старый Пайкеа говорил о земле, да пропустил его слова мимо ушей. Даже не подумал!
— И я тоже. Решил, что, наверное, это полоска чьей-нибудь земли, и нечего мне впутываться. Но когда он сказал о лесе…
У Муту внезапно возникло подозрение.
— Подожди, а ты уверен, он так и сказал, что на той земле есть лес? Ты уверен, он не спутал с другим участком? Он говорил, что́ там за лес?
— Нет, не говорил. Он сказал только то, что ты слышал от меня.
— Ну что ж… Придется написать в земельный суд и разузнать.
Джо продолжал горячо настаивать:
— Старый Пайкеа не сказал бы, если бы не знал! Он был пьян, когда говорил, но он никогда не соврет — ни пьяный, ни трезвый.
— Не мешало бы нам поразузнать все еще до отъезда из Матити. Расспросить стариков — может, они что знают. Ты спрашивал у кого-нибудь?
— Нет, и в голову не пришло. Только сейчас, когда мы заговорили об этом, я понял, чем тут пахнет. А до этого и не задумывался. Не до того было — пришлось с каждым поговорить, припомнить имена.
— И мне тоже. Плохо, когда долго не видишь своих, — забываешь, а потом, когда встречаешься, ломай голову, припоминай.
— Да, и чувствуешь себя чужим. Забываешь старые порядки. Вот я, например… пришел в молитвенный дом в башмаках. Хорошо еще, что кто-то посоветовал снять. Чувствуешь себя дураком, когда тебе напоминают об этом.
— Я тоже забыл, — отозвался Муту. — Представь себе, старики разговаривают со мной по-маорийски, а я и половины не понимаю. И знаешь, стою и головою киваю — все, мол, понятно.
Лицо Джо вдруг оживилось, он наклонился и толкнул Муту в бок.
— Но уж если мы вернемся туда, Муту, и станем трудиться на своей земле, то больше не будем там посторонними.
— Да. Одной семьей заживем.
Слово «семья» глубоко взволновало их обоих. Некоторое время они молча смотрели в окно. Луга, ряды тополей, пальмы у заросшего камышом болота, обветшавшие сараи…
Муту ткнул себя в грудь.
— Взгляни на меня, Джо. Всю жизнь я бродил с места на место, скитался по чужим квартирам. Гол как сокол. У меня спрашивают: «Откуда ты?» А я не знаю, что и сказать. Спроси у других маорийцев, откуда они, и сразу получишь ответ: с севера, с восточного берега, с юга или еще откуда-нибудь. А когда спрашивают меня, я называю место, где родился, но, знаешь, не чувствую по-настоящему, что там моя родина.
— Понимаю. Приезжаешь в старый дом только когда кто-нибудь помрет. Плохо это.
— Видишь ли, я уехал из дому еще мальчишкой. Не чувствую я, что Матити — мой дом. Спроси меня: откуда ты? Могу сказать из Окленда, из Копуаухары, из Те-Куити, из любого другого места, где когда-то жил или работал или где у меня друзья. И там, где живет родня жены, у меня тоже дом. У меня везде дом, где я снимал комнату. Везде, где жил, был мой дом, хоть и не собственный.
Джо кивнул.
— То же самое могу сказать о родственниках жены. Мы жили у них после свадьбы три или четыре года. Там дом Химаймы, а значит, и мой. И про Матити можно сказать — это дом. На лесопилке в Тураме теперь тоже дом.
Муту покачал головой.
— Плохо. Я хочу, чтоб мои дети знали, где их родина. Вырастут ребята, люди спросят у них: «Откуда вы?» И они ответят: «Из Матити!» — и будут знать, что так оно и есть, на этой земле они росли. Будут знать: тут у них родина, семья, старики, Полли и я. А уедут — будут знать, что у них есть куда вернуться, стоит только захотеть. Не то что их отец — не знает, откуда он и что отвечать людям.
Поезд подошел к работающей на путях ремонтной бригаде и замедлил ход. Сидевшая напротив, по ту сторону прохода, маорийка сунула ребенку грудь. Вдали показались покрытые густым кустарником холмы.
— Хорошо бы получить участок земли, а, Муту?
— Уж куда лучше. Когда есть земля, чувствуешь себя, как за каменной стеной. Тебя и пальцем тронуть не посмеют, если у тебя есть что-то свое.
— Как приедем домой, напиши в земельный суд, надо разузнать насчет земли.
Муту нахмурился и поскреб затылок.
— Не силен я в писанине, Джо. Сроду не отличался. Учитель в школе называл меня не иначе, как болваном.
— Вот что, — подумав, ответил Джо. — Повидай старину Вайтанги Мэтьюза — он же мировой судья, начальник. Попроси его написать.
Муту покачал головой.
— Не годится. Он с восточного берега, не знает нашей родословной. Начнет расспрашивать, как да что, да почему. А земля все равно наша. Я лучше сам попробую. Обдумаю все, а потом попросим Хайнемоа написать.
— Давай. Оба подумаем — ты и я, все припомним, а как-нибудь вечерком я зайду к тебе и мы обсудим, что написать. Вместе будем писать.
Послышались три долгих пронзительных гудка. Джо выглянул в окно.
— Станция. Вон и водокачка!
— Мы возьмем такси. Передай-ка мне плащ, Джо.
— Надеюсь, у Химаймы есть что-нибудь горяченькое.
Холодный сырой ветер вырывался из соседних зарослей и обдувал маленькую захолустную станцию. Хлопали порванные афиши. Муту надел плащ.
— Хорошо бы выбраться из этой дыры, — сказал он.
2
Химайма Туки лежала на кушетке в столовой Сэмюэлей. Двухлетний ребенок в одной коротенькой рубашонке играл у ее толстых ног нанизанными на веревочку катушками. Тут же, с трудом примостившись на краешке кушетки, сидела за вязаньем Полли Сэмюэл. В открытое окно с лесопилки за выгоном доносился пронзительный визг пил, вгрызающихся в тотару[18]. В комнате пахло горячим молоком, жареным мясом и подгоревшим жиром. Над камином висели фотографии, большей частью без всякой окантовки, — головы стариков, группы улыбающихся и обнимающихся людей; на одной из фотографий был снят Муту с огромным угрем на проволоке.
Посреди комнаты за швейной машиной сидела хорошенькая сердитая девочка лет пятнадцати.
— Хайнемоа, накрой на стол, — распорядилась Полли.
— Но, ма, мне же надо шить платье, — не взглянув на мать, ответила девочка.
— Платьем займешься потом. Убери тряпки со стола. Да помешай в очаге.
— Ох! — Девочка откинула со лба волосы и надула губы. Не торопясь, она свернула материю и унесла машину в спальню.
— Уж эти девчонки… — проворчала Полли. — Поступают в среднюю школу и в четырнадцать-пятнадцать лет начинают невесть что из себя корчить.
— Вот и я думаю, что лучше, — сказала Химайма, — когда они маленькие или когда большие? Пока маленькие, хочется, чтоб скорее подросли и перестали под ногами путаться. А когда подрастают, становятся такими дерзкими, так начинают нос задирать, что уж пусть бы лучше оставались маленькими.
— По-моему, лучший возраст у них — около четырех. А года в два-три прямо не знаешь, как с ними сладить.
— Как с моим Джекки. — Химайма взъерошила волосы игравшему у нее на коленях ребенку. — Скажешь ему: «Нельзя этого делать!», а только отвернешься, он тут же это и сделает. От Джо сейчас помощи никакой. После танги у него только и разговору, что о земле, которая будто бы есть у них в Матити. Сидит целыми вечерами, уставится куда-то, а сам, поди, и не видит ничего.
— Вот и Муту тоже. Скажу ему что-нибудь, а он: «А?» Я повторяю, а он снова: «А?» Что же это такое? Даже на футбол не пошел в субботу.
— Вот уж, наверное, обрадуется, когда увидит письмо! — Химайма кивнула на каминную доску.
— Джо тоже, — улыбнулась Полли. — Наверное, сейчас же отправятся в пивную.
— Да раз уж такое дело… Я и сама с радостью уехала бы из этой дыры!
— Да, да! Я жила при лесопилках лет… дай вспомнить… даже сказать не могу… Во всяком случае, с самой войны.
— Хорошо бы наши участки оказались рядом. Можно было бы всегда забегать друг к другу, как сейчас.
— Какой дом ты хочешь, чтобы построил Джо?
— Ну, я хочу три комнаты, а если появятся еще дети — будем пристраивать. Мне нужна огромная комната с открытым очагом, где я могла бы печь хлеб. Комната должна быть такая, чтоб поместились все, кто к нам придет.
— В этих домах при лесопилках нет таких комнат, где можно собрать всех.
— Уж куда лучше было бы иметь большую комнату с большим очагом. Очаг посредине дома! Тут все считают, что огонь нужен только для стряпни. Не понимают они, а?
— Не понимают! А что за дома тут! Не отличишь один от другого.
Химайма широко развела руки:
— Мне нужен во-от такой огромный огонь, чтобы готовить. Печь хлеб, как пекла моя бабушка. Джо может сам сложить такой очаг из глины.
— Интересно, много ли земли у нас будет под огородом?
— Если наши огороды окажутся рядом, мы можем их объединить. Достанем плуг и вспашем, чтоб не копать самим.
— Можно посадить фруктовые деревья. Не покупать больше в лавках гнилье вместо фруктов.
— Купим лошадь, и ребята смогут кататься на ней по берегу, как когда-то мы сами.
— А как она вздрагивает всей кожей, когда гладишь ее, а?
Они вспомнили те времена, когда были молоды, босоноги и жизнерадостны и жили далеко от этих мест.
— Джо хочет купить грузовой автомобиль и вывозить на нем лес, который они собираются рубить, — продолжала Химайма. — В конце недели посадим ребят в машину и — на берег, кататься. Прихватим с собой чего-нибудь из еды, а домой привезем топливо для очага.
— Я видела в одном каталоге миленькую материю в голубую клетку. Пожалуй, куплю на занавески.
Джекки сполз с кушетки и принялся распускать обтрепавшийся край циновки. Химайма шлепнула его.
— А я куплю линолеум с рисунком, — отозвалась она. — Пора уж выбросить циновки и подстилки из мешков. Можно выделать и покрасить несколько овчин, как делала моя мать. Чего лучше — разостлать их на полу, когда ребенок еще ползает!
— Если мы будем жить рядом, можно обойтись одним гаражом.
— Раз в неделю посылать заказы в магазин. А овощи будут свои: кукуруза, сладкий картофель!
— Заведем пару коров. И домашнюю птицу.
— Джо говорит, в Матити есть ручей. Значит, можно развести там уток. Люблю кекс на утиных яйцах.
— А у нас утиных яиц днем с огнем не сыщешь. Там будет в изобилии жеруха и всякая зелень. Возможно, и лен там растет.
— Только вот до пивной далеко. Наверное, Джо снова начнет варить пиво дома.
— Да! Вероятно, вместе с Муту будут варить.
— Здорово! — Химайма расплылась в улыбке. — По субботним вечерам станем приглашать всех к себе. Комната большая, каждому найдется местечко. Зажжем яркий огонь!
— Если они выгодно продадут лес, можем потом купить холодильник. Станем делать снежные шарики[19] для ребят.
— Не нужно будет платить за квартиру!
— Купим большущее радио. И много пластинок.
— Никто не будет ворчать и жаловаться, если пошумим немножко.
Непривычным и странным было это волнующее чувство при мысли о том, что они могут надеяться в будущем на что-то хорошее.
— С тех пор как Муту рассказал об этой земле, я всем говорю, что мы скоро уедем, — сообщила Полли.
— Лопаются, поди, от зависти!
— Еще бы! Вряд ли найдутся такие, кому не хочется унести отсюда ноги.
— А как хорошо будет выбраться из этих джунглей снова на равнину! Видеть по утрам, как поднимается солнце. Знать, что выстиранное белье обязательно высохнет. Подумать только — с первого дня, как мы сюда приехали, ни одна вещь не просыхает.
— И у нас тоже. Как только переедем в Матити, заставлю Муту сделать одну из этих вертушек для сушки белья, что поворачиваются на ветру.
— Дети смогут в маорийскую школу ходить. А в здешней школе… Чем только дети тут занимаются! Похоже, мой Санни ничего не знает.
— Вот, вот. И Вилли тоже. Если Муту удачно продаст лес, мы пошлем Хайнемоа в одну из этих знаменитых женских школ в Окленде… имени королевы Виктории или в этом роде.
— Красота! — крикнула Хайнемоа из соседней комнаты.
— Ты что там делаешь? — спросила Полли.
— Что же, по-твоему? Шью платье для сегодняшнего вечера. Ты согнала меня со стола, вот я и устроилась на постели.
Полли понизила голос.
— Ей только на пользу пойдет, если мы уедем отсюда, — доверительно сказала она. — Чему хорошему научится девушка в таком месте? Да ничему! Сидят за картами, судачат о мальчишках. А что тут за ребята? Нет, ей обязательно надо уехать отсюда.
— Да, да, — кивнула Химайма. — Ты ведь слышала, что случилось с девочкой Беллы?..
Муту неторопливо пересек выгон и пробрался через проволочную изгородь за домом.
— Вилли! — крикнул он. — Убери башмаки с крыльца!
— А вот и старик, — объявила Полли. — Да еще не в духе.
Вилли, перевернув велосипед вверх колесами, смазывал цепь и не двинулся с места.
— Да это мои сандалии, — пробормотал он.
— Если еще раз бросишь их на самой дороге, получишь взбучку!
— Да это мои сандалии…
— Неважно. Убери!
Муту оставил башмаки у порога и вошел в комнату.
— Тена кое[20], Химайма. Рад видеть тебя. А Джо где?
— Скорее всего в пивной.
— Не мешало бы и мне пойти туда. Черт побери! Как я голоден!
— В кастрюле кусок грудинки, — откликнулась Полли.
Муту пристально посмотрел на нее.
— Э? А где мидии?
— Мы их съели.
— Как?!
— Ну а что, по-твоему, мы должны были делать с ними? Целый день на них любоваться?
— Черт… Мой желудок целый день напоминал мне о них. Неужели не оставили мне хоть немного?
— Пошарь в шкафу.
Муту открыл шкаф и достал из него эмалированную чашку с оббитыми краями.
— Ага! Ну и прекрасно!
Он вынул из ящика нож, присел к столу и начал вскрывать створки раковин, высасывая из них сначала сок, а уж потом съедая содержимое.
— А что ты так волнуешься, муженек? — поддразнивая Муту, спросила Полли. — Вот заживем на своей земле в Матити, и ты сможешь, если захочешь, хоть каждый день ходить на берег и добывать сколько угодно и мидий, и пауа…
— …и кина… и пипи[21]… и камбалу, — добавила Химайма.
— Красота! И тохероа[22], если повезет. Когда-то там водилось много тохероа. Химайма, а ты полакомилась мидиями?
— Да. Вкусно! В последнее время мне что-то нездоровится, вот и тянет на солененькое.
— Трудно долго обходиться без морской пищи, — заключил Муту. — Вот чем плохо здесь, вдали от моря. Эти мидии нам попались первый раз за весь год.
— Ма, покажи отцу письмо! — крикнула Хайнемоа.
Полли вскочила.
— Сегодня пришло из земельного суда.
— Э! Где оно?
— Вот. Ты думаешь, мы его прячем?
— С моими счетами поступай, как знаешь. А мою настоящую почту подавай мне сразу, как только я прихожу.
— Да не прятала я твое письмо!
— Ну говори, что в нем написано?
— А я не все поняла. Больно уж мудрено пишут эти парни из земельного суда. Скажи Хайнемоа, она тебе прочитает.
— Хайн!
— Иду! — Девочка неторопливо, со скучающим видом, вошла в комнату. — Ну, что еще?
— Прочитай отцу письмо! — распорядилась Полли.
— Я его уже читала.
— Прочти еще.
— А разве ты не можешь пересказать, что в нем?
— Делай, как тебе велят!
— Ну хорошо… — Девочка передернула плечами, взяла с камина из-за жестяной чайной коробки длинный конверт и развернула письмо.
— «Мистеру Муту Сэмюэлу. Дом номер пять. Гурамская лесопильная компания, станция Турама. Дорогой сэр! Мы получили ваше письмо от двадцать пятого июня…»
— Они, должно быть, принимают меня за идиота, который не знает, когда он писал свое собственное письмо, — прервал Муту.
— «…и должны сообщить вам, что в округе Матити, как явствует из наших записей, на ваше имя действительно зарегистрирована земля».
— Это значит, что у тебя и в самом деле есть земля, — пояснила Химайма.
— Красота! У нас есть земля!
— «В данное время мы наводим справки, — продолжала Хайнемоа, — с тем чтобы определить площадь, местоположение и денежную стоимость участка. В недалеком будущем мы известим вас о результатах. Одновременно, в соответствии с вашей просьбой, мы наводим справки о собственности мистера Хохепа Тейхотеранги Туки. С совершенным почтением…»
— Это означает, что, по их сведениям, у тебя есть земля, но они не знают, где она, сколько ее и какова ее стоимость, — разъяснила Химайма. — По-моему, и у Джо кое-что есть, иначе они не написали бы, что наводят справки. Они собираются хорошенько поискать и найти.
— И сколько же времени им потребуется?
— В письме об этом ничего нет, — ответила Хайнемоа.
— Может быть, годы, — сказала Полли.
— В конце бумаги говорится, что тебе снова напишут, как только все выяснят, — заметила Хайнемоа, складывая письмо.
— Как ты смотришь, может, мне стоит взять выходной да съездить на автобусе к тому парню, что писал? — спросил Муту, перебирая ракушки.
— Незачем, — ответила Полли. — Ты знаешь обо всем не больше, чем он. Скорее даже меньше.
— Да, но ему могут понадобиться имена всех наших предков.
— Ты и сам их не знаешь. Ты даже не знаешь свою собственную родословную.
— Знаю! — подумав, обиженно ответил Муту. — Я многое знаю. Ты бы удивилась, если бы я стал говорить обо всех, кого знал. Тому парню легче было бы разобраться с разными родами, если бы ему кто-нибудь помог.
— Им все известно, — сказала Полли. — У них записано, им стоит только посмотреть. Этот владел тем участком, тот — другим. У них все записано.
Муту открыл еще одну раковину и, высасывая сок, откинулся на стуле.
— А в общем-то у нас есть земля. Это главное.
— Нужно подождать, пока они не напишут обо всем, — сказала Полли.
— А потом поедем в город! — радостно воскликнула Химайма. — Прихватим бочонок пива галлонов на восемнадцать!
— И раков на ужин!
— Здо́рово! — ухмыльнулся Муту. — Устроим такой пир, что все будут только ахать да охать!
3
До улицы, где находилась почта, Джонни Хиривини подвез Хайнемоа на заднем сиденье своего мотоцикла. Они стояли на углу и болтали, когда Хайнемоа заметила на дороге учителя из своей школы.
— Ну, пока, — заявила она и с независимым видом прошла мимо педагога в почтовую контору.
Она сразу догадалась, откуда пришло письмо, и стремглав выбежала за дверь.
— Джонни! Джонни! Отвези меня скорее домой!
На повороте к дому Хайнемоа соскочила с машины и помчалась по усыпанной гравием дорожке.
— Ма! Ма! — выкрикивала она. — Письмо пришло!
Полли высунулась из окна кухни.
— Давай сюда, да живее! — Она внимательно посмотрела на оттиснутый в углу конверта обратный адрес. — Да, это из земельного суда. Вилли!
Вилли сидел на пороге и вырезал из дощечки нос лодки.
— Ну?
— Беги на лесопилку, позови отца и дядю Джо. Живо! Скажи, пришло письмо, пусть сейчас же идут домой.
— Но гудка еще не было.
— Неважно! Отправляйся. Беги что есть мочи!
— Бегу! — Вилли перескочил через изгородь позади дома и по выгону помчался к лесопилке.
— Хайн, сбегай за Химаймой… Нет, подожди… я сама ее позову. — Полли прошла в спальню, распахнула окно и крикнула: — Химайма! Иди скорее к нам!
Из дома Химаймы донеслись рев и визг Джекки:
— Ма! Ма!
Раскрылось окно.
— Да? Заткнись, Джекки! Дождешься у меня! Ты звала меня, Полли?
— Иди быстрее! Письмо пришло!
— A-а! Подожди минутку!
Полли и Хайнемоа стояли на кухне и рассматривали конверт.
— Хайн, как ты думаешь, Вилли быстро добежит до лесопилки?
— Да он уже, наверное, там. Я слыхала, отец говорил, что сегодня они будут работать во дворе.
Вошла Химайма, босиком, на плечах у нее сидел Джекки.
— Боже мой! Уж как я торопилась! Не понимаю, что происходит с Джекки? Весь день я должна нянчиться с ним.
— Вот наше письмо!
— Дай-ка взглянуть. — Химайма ощупала толстый пакет и подняла его на свет, надеясь разглядеть что-нибудь сквозь конверт. — Откроем, а?
— Что ты! Муту разозлится. Подождем. Вилли побежал за ними, они вот-вот будут здесь.
На крыльце послышались тяжелые шаги, и в комнату ворвался Муту, весь мокрый от пота.
— Где письмо? Где оно?
С трудом переводя дыхание, вбежал Джо и плюхнулся на кушетку.
— Если бы наш тренер видел, как я летел через выгон, он, наверное, в следующую же субботу поставил бы меня нападающим.
Муту разорвал конверт и вынул оттуда жесткие серые листки.
— Прочти, Хайн. У меня язык не приспособлен к таким длинным словам.
Хайнемоа трясущимися руками взяла письмо.
— «Мистеру Муту Сэмюэлу…»
— Можешь пропустить всю эту чепуху. Читай насчет земли.
— Тогда подождите… «…и должны сообщить вам о нижеследующем…» Подождите, подождите… дальше идет что-то непонятное на целую страницу… «Дело номер 632/КУ… Муту Тамахере Сэмюэл… Приход Хое-О-Матити… Карта номер 8435… Примерно девяносто четыре владельца… Ваша доля составляет одну целую пять десятых…»
— Что-то они все на свете перепутали, — заметил Джо.
— Сколько земли? — вмешался Муту. — Там что-нибудь говорится?
— Вот, говорится… Всего два с половиной перча[23].
— Какие еще перчи? — поинтересовалась Полли. — При чем тут курятник?
Хайнемоа снисходительно взглянула на нее и скорчила гримасу.
— Это проходят в третьем классе. Перч — мера длины, по-моему, около тридцати квадратных ярдов.
— Сколько, он говорит, перчей? — спросил Муту.
— Два с половиной.
— Другими словами… — Муту забормотал, покачивая головой, — другими словами, шестьдесят… семьдесят… пять… ну, скажем, семьдесят пять квадратных ярдов. Интересно, сколько это футов?
— Тут говорится — общей стоимостью семь шиллингов шесть пенсов, — сказала Хайнемоа.
Секунд десять все молчали, уставившись в пол.
— Семь и шесть! — прошептала Полли.
— Примерно от линии ворот до того места, откуда бьют пенальти, — пробормотал Муту.
Джо расхохотался. Подбоченившись и откинув голову, он гоготал все громче и громче, так что колыхался его тугой живот. Но вот он закашлялся, брызгая слюной, и его смех перешел в хихиканье.
Муту сурово взглянул на него.
— Над чем ты закатываешься, дружище?
— Да у меня под ногами и то земли больше! — крикнул Джо.
— Ах, так? — ухмыльнулся Муту. — Тогда посмотрим, сколько земли у тебя.
Джо, затаив дыхание, махнул рукой.
— Читай дальше, Хайн.
— Здесь написано на отдельном листке: «Собственность мистера Хохепа Тейхотеранги Туки…»
— Номер участка и все такое можешь не читать.
— «Дело номер… доля… владельцы…» Вот: «…всего девять перчей… приблизительной стоимостью один фунт два шиллинга».
Наступило молчание. Джо сжал губы.
— Бог ты мой! — прошептал он.
Муту с издевкой глядел на него.
— Ну что ж, смейся! — произнес он. — Что ж ты не смеешься?
— Бог ты мой! — повторил Джо.
Полли тихонько всхлипывала, вытирая глаза фартуком. Химайма растерянно гладила Джекки по голове.
— Другими словами, — продолжал Муту, — площадь твоей и моей земли вместе равна примерно теннисному корту.
— Хватит нам на могилы, — сказал Джо.
— Точно!
— А как же с лесом? — спросила Химайма.
— Скорее всего, на участке деревянный забор стоит, — сказал Джо. — Старый Пайкеа, я думаю, о заборных столбах говорил.
— Тут в конце есть подпись парня, который разыскивал землю.
— Ему, наверное, пришлось чертовски потрудиться, пока он отыскал такую уйму земли! — загоготал Муту.
Все засмеялись.
— Ты все еще ревешь? — спросил Муту, поворачиваясь к Полли. — Где кувшины?
— Какие кувшины?
— Что значит — какие? Два моих кувшина по полгаллона каждый.
— В прачечной.
Муту глубоко вздохнул и выпрямился.
— Хайн, — распорядился он, — забери письмо. Отправляйся в прачечную, хорошенько промой кувшины в бочке с холодной водой. А то еще лопнут.
— А почему не Вилли?
— Делай, что тебе говорят!
Хайнемоа выбежала из комнаты.
— Муту, у нас завелось тридцать лишних шиллингов, — усмехнулся Джо.
— Ага. Не купить ли нам лотерейный билет? Может, выиграем что-нибудь? Пошли, Джо.
— Куда вы, ребята? — спросила Химайма.
— Куда же, по-твоему? — огрызнулся Джо.
— Поторопись с кувшинами, Хайн! — крикнул Муту.
— Они готовы.
— Тогда идем, Джо.
— Только не задерживайтесь! — наказала Химайма. Джекки захныкал. — Заткнись, Джекки! Или хорошего шлепка захотел?
Полли вытерла глаза и поправила волосы.
— Вилли! — крикнула она. — Пойди наколи дров.
— Я уже наколол, — сердито ответил Вилли, снова занявшийся своим куском дерева.
— Так наколи еще. У меня завтра стирка.
Муту и Джо свернули с покрытой гравием дорожки на шоссе. Полли высунулась из окна и крикнула:
— Муту! Пришли один кувшин обратно на такси! Для нас.
Муту, не останавливаясь, оглянулся.
— Это еще зачем? Мы быстро.
— Тогда возвращайтесь прямо домой.
— Отец, принеси нам снежный шарик! — закричал Вилли с поленницы.
Послесловие
С каждым годом в нашей стране появляется все больше произведений зарубежной литературы. И это не удивительно. Советский человек любит книгу; подлинный интернационалист по природе, по воспитанию, он с глубоким интересом воспринимает отраженные в талантливых произведениях литературы жизненные явления самых далеких стран и континентов. И вполне закономерно, что на нашей литературной карте мира остается все меньше белых пятен.
Так наш читатель за последние годы познакомился поближе с литературой Новой Зеландии. Это относится прежде всего к жанру рассказа. Несколько лет назад в Советском Союзе вышли рассказы известной новозеландской писательницы Кэтрин Мэнсфилд, в прошлом году был опубликован сборник новозеландских новелл, в котором представлены 27 авторов, а сейчас вниманию читателя предлагается книга рассказов новозеландского писателя Ноэля Хиллиарда.
Новая Зеландия — страна, насчитывающая более двух с половиной миллионов жителей; среди них свыше полутораста тысяч маорийцев, которые представляют собой коренное население страны.
Около 125 лет назад Новая Зеландия стала английской колонией, а в начале нашего века получила статут доминиона. Маорийцы, жившие на новозеландских землях много столетий, вытеснялись белыми пришельцами, которые за бесценок скупали у них землю. Последствия колониалистской экспансии сказались на маорийском народе во всей своей разрушительной силе. Сопротивляясь колонизаторам, разрозненные маорийские племена проявили большую храбрость в период так называемых маорийских войн (60-е годы прошлого века), но их отпор был в конечном счете сломлен и им пришлось покориться. Вплоть до наших дней маорийцы в Новой Зеландии испытывают в той или иной степени расовую дискриминацию. Не достигая таких крайних форм, как, скажем, на юге США, в Южно-Африканской республике или в Австралии, где аборигены лишены всех гражданских прав, она тем не менее наложила свой отпечаток на условия жизни маорийцев. Нашла она свое отражение и в художественной литературе.
Ноэль Хиллиард — ярый противник всякой расовой дискриминации (сам он женат на маорийке), часто обращается к маорийской теме в своих произведениях — как в романе «Маорийская девушка», так и в рассказах, часть которых вошла в настоящий сборник. Мы к ним еще вернемся, коснувшись сначала в самых беглых чертах некоторых сторон развития новозеландской литературы, одним из талантливых и самобытных представителей которой является Хиллиард.
Отношения коренных жителей Новой Зеландии маорийцев и «пакеха» (как назвали маорийцы белых) легли в основу первых литературных произведений о новой английской колонии.
Маорийцы до появления белых колонизаторов жили родовыми общинами. Словом «мара», которым полинезийцы называли храмы, новозеландские маорийцы обозначали площадку перед домом своих встреч и собраний, где находился центр жизни поселения, где влиятельные люди племени выступали с речами. Маорийцы, пишет один из исследователей новозеландской истории, были воинственным народом, и военное искусство достигло у них высокого развития. Многие их подвиги были запечатлены в песнях и гимнах.
Сохранились отдельные произведения маорийского фольклора. При всем своеобразии он не так уж чужд некоторым сказочным мотивам фольклора других народов. Например, в легенде о «нгараре» (она опубликована в обработке одного из новозеландских писателей на английском языке) повествуется о страшном чудовище, имеющем голову птицы с зубами, тело с крыльями летучей мыши и хвост ящера. Оно уничтожает все живое. Одну молодую девушку «нгарара» сделал своей женой. В поединок с чудищем вступает быстроногий охотник Ка-гу вместе со своими верными друзьями. Они одерживают победу, и спасенная девушка отдает свою любовь Ка-гу. Как тут не вспомнить страшных драконов из легенд многих народов мира. И здесь, как во всяком произведении народного творчества, молодость, благородство, отвага одерживают победу над злом, воплощенным в образе внушающего ужас звероподобного существа[24].
В некоторых произведениях европейских писателей XIX века коренные жители Новой Зеландии изображались кровожадными дикарями, нападавшими на белых. Серьезные исследователи новозеландской истории опровергают эти утверждения: «туземцы» терпели немало притеснений от проникавших с давних пор на новозеландские острова искателей наживы, о чем сохранились многочисленные свидетельства современников.
Чарльз Дарвин, посетивший Новую Зеландию в 1835 году, писал, что из находящихся там англичан немалую часть составляют «отбросы общества». По свидетельству другого современника, селившиеся на островах Новой Зеландии англичане, ирландцы, шотландцы, датчане, французы, американцы «были большими дикарями, чем туземцы». Беглые матросы, всякого рода авантюристы были в числе первых белых поселенцев.
Маорийцы, по словам одного из исследователей того времени, убедились, что «великим богом белых людей является ружье». Вместе с тем была взята на вооружение и библия. За десять-пятнадцать лет большинство маорийцев было обращено в христианство. Маорийцы стали порывать с былым укладом, но достойного места в новых условиях жизни не нашли.
Кроме искателей наживы, мечтавших об обогащении, среди первых колонистов были и свободолюбивые, стремящиеся к независимости люди, прозябавшие в своей стране в нужде и голоде и надеявшиеся на новых землях зажить по-человечески. Их настроения и надежды нашли отражение даже в литературных произведениях. Так, один шотландец, переселившийся на новозеландские острова, писал:
Когда я приехал в эту страну, Я был и голодным и нищим, Я ведал только нужду одну, Кормился «общинною пищей». Теперь мне, пожалуй, не страшен сам черт, Не страшен мне мэр и не страшен лорд: Угрозам ничьим не внимаю, Я хлеб свой ем и сыр я ем, И шляпы своей ни перед кем С поклоном не снимаю.Но это ощущение независимости было весьма кратковременным. Вскоре выяснилось, как пишет новозеландский историк К. Синклер, что политика в Новой Зеландии, «как и в Великобритании, оставалась прерогативой людей состоятельных», а «эффективная власть принадлежала владельцам собственности…» В Новой Зеландии начала бурно развиваться капиталистическая экономика. «Господство богатых» осталось непоколебленным и на новых землях. В Новой Зеландии нашлись свои «идеологи», ни в чем не уступавшие рьяным реакционерам их старой родины.
Английский писатель Энтони Троллоп писал о том, что «из всех Джон Булей новозеландские являются самыми ярыми». Новозеландский литературовед профессор Маккормик считает, что в течение долгого времени литературная Новая Зеландия, подобно политической и экономической, стремилась быть самым покорным отпрыском Англии. Перелом в области литературы произошел примерно в 90-х годах прошлого века. Новозеландская литература далеко не сразу обрела свой национальный характер.
Любопытна история первого «романа» о Новой Зеландии, написанного человеком, никогда не бывавшим в ней. Эта книга под названием «Далекий дом, или Семья Грэхем в Новой Зеландии» была написана англичанкой Изабеллой Эймлер на основе писем, получаемых ею от родственников, выезжавших в новую колонию. Эта книга вызвала множество подражаний, сохранивших ныне интерес разве что для литературоведов и историков.
С точки зрения колонизаторов были написаны и многие из книг о «маорийских войнах».
Постепенно, по мере того как новозеландцы начали складываться в нацию, стала существенно меняться и литература.
После некоего эмбрионального периода, под влиянием все более усложняющегося социального бытия страны, наступила пора, когда простому описанию нравов и поверхностному морализированию должны были прийти на смену более глубокие произведения, отличавшиеся разной степенью художественности, но имевшие одну общую черту — стремление правдиво запечатлеть жизнь народа.
По мнению исследователей, формирование национального сознания у новозеландцев относится к тому периоду, когда появились новые поколения жителей Новой Зеландии, родившиеся в стране и не считавшие, подобно первым переселенцам, свое пребывание в ней временным. Впервые число родившихся в стране новозеландцев превысило число иммигрантов в 1890 году. Но, естественно, последствия этого сказались не сразу.
Стоит отметить, что в некоторых новозеландских рассказах представлена эта тема формирования новозеландцев в нацию. Таков герой новеллы Ф. Сарджесона «Рождение новозеландца» молодой иммигрант-далматинец. Герой рассказа писателя Кареджа «почти двадцать лет прожил фермером в Новой Зеландии», но не переставал думать об Англии, как о своей родине. «Сейчас он понял, что никогда не вернется в Англию, как намеревался вернуться ранее… Никогда, — повторял он, — я не вернусь на старую родину. Очень уж она далеко».
Но наиболее важную роль в становлении самобытной новозеландской литературы играет социальная тема, которая начинает занимать в ней немалое место.
Вопреки мечтаниям некоторых утопистов Новая Зеландия оказалась не «исключением» из правил, а обычной капиталистической страной; правда, преобладала в ней не тяжелая промышленность, а пищевая и другие отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. Люди труда упорной борьбой добились некоторых социальных завоеваний в стране.
Рост рабочего самосознания, деятельность профсоюзов, борьба с эксплуатацией, нищетой, расовым неравенством — все это находит свое отражение в художественной литературе Новой Зеландии и обогащает ее. Социальная тематика завоевывает свое место в новозеландской литературе, когда появляются произведения таких «писателей социального протеста», как Джон Ли, Робин Гайд (псевдоним писательницы Айрис Уилкинсон), Джон Малган. Особое значение имели годы кризиса. Проблематика и настроение 30-х годов наложили свой отпечаток и на произведения, появившиеся ряд лет спустя, но идейно связанные с периодом кризиса. Иногда время действия в этих произведениях — 30-е годы, подчас же они, не связанные с ними хронологически, ярко передают настроения тех лет, когда под влиянием кризиса все больше испарялись всякого рода реформистские иллюзии и надежды на «процветание».
Следует в этой связи остановиться на книге Джона Малгана «Человек — один». Уже само название ее заслуживает внимания. Оно навеяно замечательными словами из книги Э. Хемингуэя «Иметь и не иметь»: «Человек… один не может…». Малган рисует вначале своего героя Джонсона как человека, который пытается «прожить один», вести в одиночку бой с враждебным ему обществом. Но в конце книги автор приводит Джонсона на поля сражений в период гражданской войны в Испании, и тогда-то герой романа обретает черты, делающие его настоящим человеком, «человеком, которого нельзя убить».
Пример Малгана свидетельствует: чтобы быть самобытным писателем, вовсе не надо замыкаться в круг традиционной «локальной» тематики.
Развертывание широкой социальной панорамы, «картины рушащейся социальной структуры» делают эту книгу, по словам одного новозеландского критика, «наиболее полным рассказом о том, что чувствовали и переживали новозеландцы в двадцатые и тридцатые годы».
Для таких писателей, как Малган, было плодотворным обращение к крупным социальным проблемам своего времени (гражданская война в Испании). А для известной писательницы Кэтрин Мэнсфилд оказался очень важным глубокий интерес к замечательному художнику далекой от Новой Зеландии страны — Чехову. Эта писательница была искренне увлечена творчеством Чехова. Известно, что ее рассказ «Ребенок, который устал» был написан под явным влиянием чеховского рассказа «Спать хочется». Пронизан «чеховскими мотивами» и ее рассказ «Шестипенсовик». В основе его отчужденность между отцом и сыном. Отец наносит незаслуженное оскорбление мальчику, а затем сам терзается своим бессилием прорвать те непонятные, основанные на недоразумении преграды, которые мешают их общению, не дают им понять друг друга. Речь идет не о простом подражании. Пример Чехова помог К. Мэнсфилд решать проблемы, стоявшие перед ней, как писателем и человеком.
Расширение тематики, привнесенное ростом антифашистских настроений в период второй мировой войны, когда новозеландские части сражались далеко от родины — в Италии, Греции, на Ближнем Востоке, появившиеся в произведениях ряда новозеландских авторов мотивы интернационализма отнюдь не ослабили своеобразия новозеландской литературы.
Новозеландская литература, представляемая К. Мэнсфилд, Д. Ли, Ф. Сарджесоном, Д. Малганом, Р. Гайд и рядом современных прогрессивных авторов, по праву привлекает внимание читателей. В период 1950–1960 годов были достигнуты некоторые новые успехи в области новозеландского реалистического романа, хотя и в этот период появляется немало развлекательного чтива, псевдоисторических опусов и детективов, рассчитанных на невзыскательного читателя, видящего в книге всего лишь средство отвлечься от жизненных невзгод.
Особого внимания заслуживает жанр рассказа, наиболее чутко откликающийся на вопросы, волнующие тех, кого принято называть «простыми людьми». Нельзя не согласиться с новозеландским писателем Дэном Дэвином, который отмечает, что в большинстве новозеландских рассказов «люди показаны на своей работе или поблизости от нее». С течением времени социальная направленность рассказов новозеландских писателей возрастает. «Борьба, — пишет Дэвин, — стала более суровой. Пионеры, сражавшиеся с природой, могли позволить себе повеселиться. Их потомки в годы кризиса поняли, что пионеры расчистили лишь подступы к рудникам… Наша цивилизация, столь быстро достигнутая, уже вскоре обнаружила свою несостоятельность».
Это ценное наблюдение. Не менее справедливо и другое замечание Дэвина — о том, что «творчество новозеландских писателей неразрывно связано с жизнью общества». Не только в рассказах о прошлом, о том, как люди, беззащитные перед природой или силами стихии, объединяли свои усилия, но и в рассказах на современные темы «товарищи, люди, совместно работающие, развлекающиеся, борющиеся, находятся на переднем плане».
Та высокая оценка, которую заслуживают лучшие новозеландские рассказы, приложима и к рассказам Ноэля Хиллиарда, представленным в настоящем сборнике. Его рассказы большей частью посвящены жизни маорийцев, как и принесший ему известность роман «Маорийская девушка». Роман этот во многом отражает настроения и мотивы тридцатых годов, героиня его Нетта родилась в самом начале кризиса. Перед читателем проходят ее детские и отроческие годы на ферме и юность, проведенная в убогом домике средь городских трущоб. Литературовед Джоан Стивенс характеризует эту книгу как «еще одно произведение нашей литературы протеста», близкое роману Джона Ли «Дети бедняков», появившемуся в 1934 году. «Семья Сэмюэлей, родителей Нетты, — это наши новые бедняки; они стали ими отчасти в результате кризиса, отчасти из-за своей расовой принадлежности…»
О маорийцах в Новой Зеландии написано немало; произведения Хиллиарда выгодно отличает от других гуманистическое отношение автора к своим героям. Его мало интересуют экзотические «атрибуты», он видит в маорийцах таких же людей, как он сам, но людей, страдающих не только от социального, но и расового неравенства.
В рассказах Хиллиарда нашел отражение его собственный жизненный опыт. Он родился в 1929 году в городе Нэпьер, после окончания средней школы поступил в университет, занимался журналистикой, был одним из основателей газеты «Сазерн кросс». В разные годы был служащим, железнодорожником, трамвайным рабочим, работал на ферме. В настоящее время преподает в школе, где учатся совместно белые и маорийские дети. Последний сборник Хиллиарда «Клочок земли», откуда взята часть предлагаемых нашим читателям рассказов, был издан в 1963 году в Лондоне.
Рассказы эти привлекают своей человечностью, мягким юмором. Один из лучших рассказов Хиллиарда, открывающий сборник, — «Эруа». С какой симпатией рисует автор образ маленького маорийского мальчика, уже с ранних лет столкнувшегося с неприглядной изнанкой жизни. Лишенный материнской ласки, сам «опекающий» беспутного пьяницу отца, он несет «нагрузку», непосильную и для иного взрослого. И все же он остается ребенком. Как тонко подмечено его ребяческое бахвальство («Мой отец умеет летать на реактивных самолетах»), с помощью которого этот маленький пария пытается победить чувство одиночества и неполноценности. Он жадно ловит каждое теплое дружеское слово. Он преклоняется перед своим учителем Скоттом, который кажется ему каким-то добрым божеством, — и с каким ужасом смотрит он на «падение» учителя: Скотт посещает тот самый бар, из которого Эруа не раз выводил своего пьяного отца. Рассказ подкупает своей жизненностью: видимо, сам Хиллиард в той школе, где он учительствует, не раз встречал таких Эруа.
Порой, когда в том или ином произведении искусства мир взрослых дан в восприятии ребенка, «поле зрения» автора оказывается как бы суженным. У Хиллиарда не так. Автор мог бы легко впасть в сентиментальность. Но и этого не случилось. Хиллиард не стремится вызвать жалость к «бедному ребенку», — он просто и скупо повествует о правде жизни.
Рядом с зарисовками безрадостного детства еще более страшна картина одинокой старости. Трагедия умирающего в больнице ветерана войны старика Гарри (в одноименном рассказе) передана лаконично, но выразительно.
Хиллиард умеет жалеть, но он умеет и ненавидеть. Об этом свидетельствует его маленький рассказ «Скэб». В нем хорошо передана психология отщепенца, штрейкбрехера, которому на все наплевать, кроме собственного благополучия. Его терзает страх, зависть, жадность. Все то, что говорят товарищи о рабочей солидарности, для него лишь «громкие слова». Писатель считает себя обязанным по долгу совести заклеймить этих презренных, ненавистных ему людишек.
Есть среди персонажей Хиллиарда и просто люди жалкие, ущемленные жизнью, такие, как Мак-Криди в рассказе того же названия. Писатель как бы дает понять, что этого, быть может неплохого по существу, человека исковеркала «золотая лихорадка». И автор не скрывает своей жалости к нему, хотя и никак его не оправдывает.
В ряде рассказов сборника перед нами проходят маорийцы. Старик из рассказа «Человек на дороге» все больше чувствует, что он зажился на свете, что с ним никто не считается и он никому не нужен. Он никак не может понять, зачем понадобилось посылать его сына воевать в Малайю.
С чувством неподдельного юмора написан рассказ «Клочок земли», лучше иного социологического трактата раскрывающий положение лишившихся земли маорийцев. Два маорийца узнают о полученном ими наследстве. Они уже предвкушают предстоящую радость — получить землю, может быть лесной участок. Но увы! — радоваться нечему. Ведь наследников около ста человек, и на долю каждого достанется лишь клочок, стоящий жалкие гроши. И писатель смеется вместе со своими героями, неудачливыми «наследниками».
В рассказе «Дела идут неплохо» автор предстает перед нами не как юморист, а как сатирик. Он создает сатирический портрет «преуспевающего» маорийца Кепы Сэмюэла. Кепа забыл родной язык, обманул отца, с презрением относится к брату, но пресмыкается перед белыми, принадлежащими к «сливкам общества».
А когда читаешь рассказ «По объявлению», где Хиллиард повествует о «злоключении» своего героя с мягким добродушием, то сначала не соглашаешься с авторской манерой. «Полукровке» Санни хозяйка меблированных номеров отказывает в комнате из-за его смуглой кожи, в то время как его родному брату Тому эту же комнату сдает, так как он похож на белого. Такое нередко случается в Новой Зеландии, где расовая дискриминация принимает столь «незаметные» формы. Стоило ли писать об этом просто как о забавном случае? Но, перечитав рассказ, видишь, что писатель, пожалуй, прав. Ведь он говорит своим читателям о вещах, им хорошо знакомых. Пусть они сами о них призадумаются, пусть сами сделают выводы.
Конечно, этот небольшой сборник не исчерпывает всего творчества Хиллиарда. Но и в этих немногих рассказах автор их предстает не только как одаренный писатель, но и как активно гуманный писатель, не приемлющий все враждебное людям, все отжившее, все пошлое, все фальшивое. И, надо думать, советские читатели будут рады новому знакомству.
В. Рубин
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Создатель фресок — Микеланджело Буонарроти. — Все примечания принадлежат переводчикам.
(обратно)2
Рембрандт ван Рейн.
(обратно)3
Оноре Домье.
(обратно)4
Мера длины, около 200 метров.
(обратно)5
Известный австралийский игрок в бильярд.
(обратно)6
Призовой кубок по теннису.
(обратно)7
Съедобные моллюски.
(обратно)8
Разновидность морского окуня.
(обратно)9
Так маорийцы называют белых.
(обратно)10
Черномазого (маори).
(обратно)11
Азартная игра, в которую играют с помощью двух монет по одному пенсу.
(обратно)12
25 апреля — День памяти солдат австралийско-новозеландского корпуса, принимавшего участие в первой мировой войне.
(обратно)13
Герой австралийского народа, защитник бедняков; был казнен за грабежи. Сказания о его подвигах напоминают легенды о Робин Гуде.
(обратно)14
Хижине (маори).
(обратно)15
Поминках (маори).
(обратно)16
Очаге из камней (маори).
(обратно)17
Тропическое растение, клубни которого употребляются в пищу как лакомство.
(обратно)18
Дерево, дающее ценную древесину.
(обратно)19
То есть мороженое.
(обратно)20
Привет, здравствуйте (маори).
(обратно)21
Съедобные морские моллюски.
(обратно)22
Разновидность крабов.
(обратно)23
Перч (англ.) — одновременно и мера длины (5,03 метра) и насест для кур. Квадратный перч равен 25,3 квадратных метра.
(обратно)24
См. также «Мифы и легенды страны маори» А. В. Рида (Издательство иностранной литературы, М., 1961 г.).
(обратно)
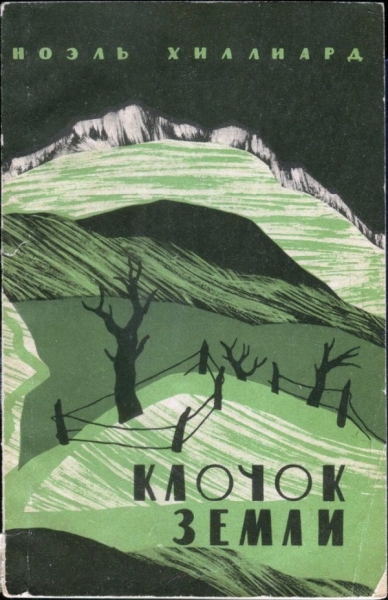

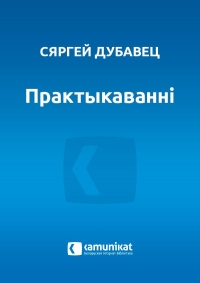
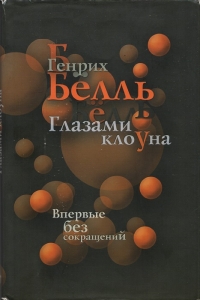

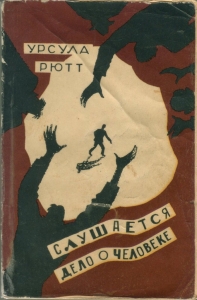

Комментарии к книге «Клочок земли», Ноэль Хиллиард
Всего 0 комментариев