Владимир Сорокин
Ледяная трилогия
Из чьего чрева выходит лед,
и иней небесный, —
кто рождает его?
Книга Иова, 38:29
Итак, отложим, братие, дела темные и станем делать дела света.
Святитель Григорий Палама
Путь Бро
Детство
Я родился 30 июня 1908 года в имении моего отца Дмитрия Ивановича Снегирева. Отец к тому времени состоялся как крупнейший российский сахарозаводчик и владел двумя имениями – в Васкелово, под Санкт-Петербургом, где я родился, и в Басанцах, на Украине, где мне суждено было провести свое детство. Помимо этого у нашей семьи был небольшой, но уютный деревянный дом в Москве на Остоженке и большая квартира на Миллионной в Санкт-Петербурге.
Имение в Басанцах отец выстроил сам в «троглодитову эру сахарного дела», когда купил две тысячи десятин плодородной украинской земли под сахарную свеклу. Он был первым русским сахарозаводчиком, решившим обзавестись собственными сахарными плантациями, а не скупать буряки по старинке у крестьян. Там же они с дедом построили сахарный завод. В имении не было большой необходимости, так как семья уже жила в столице. Но опасливый дед настоял, повторяя, что «хозяин в наше лихое время должен быть поближе к бурякам и заводу».
Басанцы отец недолюбливал.
– Страна хохляцких мух, – часто повторял он.
– Мухи на твой сахар летят! – смеялась матушка.
Мух там и впрямь было предостаточно. Жара стояла все лето. Но зима была чудесной – мягкой и снежной.
Имение в Васкелово отец приобрел попозже, когда уже стал по-настоящему богатым человеком. Это был строгий старинный дом с колоннами и двумя флигелями. Именно в нем мне суждено было появиться на свет. Роды случились преждевременно, матушка недоносила меня две недели. По ее словам, причина тому – удивительная погода, стоявшая в тот день. Несмотря на безоблачное небо и безветрие, вдруг раздались раскаты далекого грома. Гром этот был необычный: мама не только услыхала его, но и почувствовала плодом, то бишь мною.
– Гром тебя словно подтолкнул, – рассказывала она. – Ты родился легко и весил как доношенный ребенок.
В последующую ночь на 1 июля северная часть неба оказалась необычно и сильно подсвечена, поэтому ночи как таковой вовсе не было: вечернюю зарю сразу сменила утренняя. Это было очень странно – белые ночи к концу июня иссякают. Матушка моя шутила:
– Небо светилось в твою честь.
Родила меня она на жестком и всегда прохладном кожаном диване в кабинете отца: схватки застали ее за «дурацким разговором о старой клумбе и новом садовнике». Прямо напротив этого дивана во всю стену тянулись дубовые полки с сахарными головками. Каждая отливалась из сахара своего урожая и весила пуд. На каждой стоял оттиск ее года. Массивные белые конусы из крепчайшего рафинада, вероятно, были первым, что я увидел на этом свете. Во всяком случае, они вошли в мою детскую память наравне с образами матери и отца.
Меня окрестили Александром в честь русского святого и полководца Александра Невского и в память моего прадеда Александра Саввича, зачинателя купеческого дела Снегиревых. Звали меня все по-разному: отец – Александром, мама – Шурой, тетушки – Сашенькой, сестры – Шуренком, старший брат Василий – Алексом, брат Ваня – Саней, гувернантка Madam Panaget – Саша́, объездчик Фрол – Ляксандром Дмитричем, конюх Гаврила – малым барином.
В семье было семеро детей: четверо сыновей и три дочери, одна из которых, Настя, была горбуньей. Еще один мальчик умер от полиомиелита в пятилетнем возрасте.
Я оказался поздним ребенком – самый взрослый из братьев, Василий, был старше меня на семнадцать лет.
Мой отец был высоким, лысоватым и мрачноватым человеком с длинными и сильными руками. В характере его переплетались энергичность, обстоятельность, мрачноватая задумчивость, грубость и властолюбие. Иногда он мне напоминал машину, которая периодически ломалась, чинила себя и снова исправно работала. Он боготворил прогресс и посылал управляющих четырех своих заводов учиться в Англию. Но сам заграницу не любил, повторяя, что «у них там надо по струне ходить». Он был совершенно не способен к языкам и по-французски знал три десятка заученных фраз. Мать рассказывала, что за границей он терялся и чувствовал себя не в своей тарелке. Отец происходил из старого купеческого рода саратовских зерноторговцев, постепенно сделавшихся фабрикантами. Большой семье Снегиревых принадлежали четыре сахарных завода, кондитерская фабрика и пароходство. В молодости отец учился в Саратовском университете на политехническом факультете, но с третьего курса ушел по непонятным причинам. И сразу впрягся в семейное дело. Раз в два месяца он впадал в мрачный запой (к счастью, не более чем на трое суток), нередко громил мебель и ругал мать последними словами, но ни разу не поднял на нее руку. Протрезвев, просил у нее прощения, ехал в баню, потом в церковь – каяться. Но сильно верующим он не был.
Детьми же он вовсе не занимался. Мы были на попечении матушки, нянек, гувернанток и бесчисленных родственников, кишевших в обоих имениях.
Моя мать являла собой образец жертвенной русской женщины, забывшей себя ради детей и семейного благополучия. Наделенная замечательной красотою (она была наполовину осетинкой, наполовину теркской казачкой), горячим сердцем и широкой душой, она отдала свою бескорыстную любовь сначала отцу, который влюбился в нее до беспамятства на Нижегородской ярмарке, потом нам, детям. К тому же мать была гостеприимна до безумия: уехать от нас случайно заглянувшему гостю было решительно невозможно.
Хоть я и рос самым младшим в семье, самым любимым я не был: отец привечал смышленого и послушного Илью, проча его в преемники, мать обожала красивого и нежного Ванюшу, любителя книг про королей и вареников с вишнями. Силач и балагур Василий у отца слыл повесой, у которого «в голове черти горох молотят», а я – шалопаем. Три сестрицы мои характерами почти не различались: энергичные, жизнелюбивые, в меру эгоцентричные и впечатлительные, они легко и надолго впадали как в слезы, так и в хохот. Все трое яростно музицировали, и в этом горбатая Настенька преуспевала, всерьез готовясь к карьере пианистки. Разнились сестры только отношением к отцу. Старшая, Ариша, его боготворила, средняя, Василиса, боялась, Настя ненавидела.
Семья жила в четырех местах: Василий в Москве, где мучительно и бесконечно учился на адвоката, Василиса и Ариша – в Петербурге, Ваня с Ильей – в Васкелово, а мы с Настей – в Басанцах.
До девяти лет я прожил и получил воспитание в усадьбе. Помимо гувернантки француженки, занимавшейся со мной иностранными языками и музыкой, у меня был домашний учитель Диденко – молодой человек с невзрачной внешностью и провинциальными манерами, тихим и вкрадчивым голосом учивший меня всему, что знал. Более всего ему нравилось рассказывать о великих завоевателях и небесных телах. Говоря о походах Ганнибала и солнечном затмении, он преображался, и в его мутных глазах появлялся блеск. К моменту поступления в гимназию я знал, чем отличается Аттила от Александра Македонского, а Юпитер от Сатурна. Хуже дело обстояло с русским языком и арифметикой.
Догимназическое детство мое было вполне счастливым. Теплая и благодатная природа Украины качала меня, как колыбель: я ловил птиц и рыбу с сыновьями управляющего, катался с отцом на английском катере по Днепру, собирал гербарий с француженкой, дурачился и музицировал с Настей, ездил на свекловичные поля и на покос с объездчиком, ходил в церковь с матушкой и тетками, учился верховой езде с конюхом, а по вечерам наблюдал в телескоп за светилами с Диденко.
В августе вся семья встречалась в Васкелово.
Южная украинская природа уступала место русскому северу, и вместо каштанов и тополей наш белый дом с колоннами обступали строгие и сумрачные ели, меж вековыми стволами которых проблескивало озеро. Длинная каменная лестница вела к нему от дома. Сидя на ее замшелой гранитной ступени и свесив ноги над водой, я любил кидать в озеро камни, глядя, как рождается круг на воде и, стремительно расширяясь, скользит по стеклу озера, несясь к каменистым берегам.
Озеро было всегда холодным и спокойным. А наша многочисленная семья – шумной и многоголосой, как стая весенних птиц. Лишь мрачноватый и малоразговорчивый отец казался в этой стае грозным вороном. Мне было хорошо в кругу родных, который, как и круги на воде, расширялся с каждым днем, пополняя оба имения новообретенными родственниками и родственниками этих родственников. Богатство отца, гостеприимство и сердобольность матери, домашний уют и достаток притягивали людей как мед. Приживалы и приживалки, странствующие монахи и спивающиеся актеры, купеческие вдовы и проигравшиеся майоры гудели по гостиным и флигелям пчелиным роем. В будни, когда садились обедать, стол накрывался человек на двадцать. В дни праздников и именин в столовой северного имения сдвигались три стола, а в Басанцах столы выносили в сад, под яблони.
Отец этому не препятствовал. Наверно, он любил такой стиль жизни. Но особого восторга на его лице во время семейных пиршеств я не замечал. Хохотал и плакал он только сильно пьяный. И я никогда не слышал от отца слово «счастье». Был ли он счастлив? Не знаю.
Матушка же безусловно была счастлива. Ее светлый дух человеколюбия и созидания парил и реял над нами. Хотя она частенько повторяла, что «счастье – это когда хлопот невпроворот и некогда задумываться».
В этом человеческом улье я рос здоровым и счастливым.
Я, как и матушка, особенно не задумывался, спрыгивая в июльский полдень с пыльной двуколки объездчика и несясь через анфиладу прохладных комнат на звуки «Баркаролы» с букетиком земляники, собранной мной на дальних лугах и перевязанной травинкой, чтобы вручить его музицирующей Настеньке, одновременно положив на ее горб улитку или жука, что вызывало вскрик, плескание в меня недопитым молоком, битье «Временами года», примирение и совместное поедание ягод на нагретом солнцем подоконнике.
Лишь одна странность в детстве пугала и притягивала меня.
Мне часто снился один и тот же сон: я видел себя у подножия громадной горы, такой высокой и беспредельной, что у меня вяли ноги. Гора была ужасно большая. Такая большая, что я начинал мокнуть и хлебно крошиться . Вершина ее уходила в синее небо. До вершины было очень высоко. Так высоко, что я весь гнулся и разваливался, как булка в молоке. И ничего не мог поделать с горой. Она стояла. И ждала, когда я посмотрю на ее вершину. Это все, чего она хотела от меня. А я никак не мог поднять свою голову. Как я мог это сделать, если весь гнулся и крошился? Но гора очень хотела, чтобы я посмотрел. Я понимал, что если не посмотрю, то весь раскрошусь. И навсегда стану хлебной тюрей. Я брал голову руками и начинал поднимать ее. Она поднималась, поднималась, поднималась. И я смотрел, смотрел и смотрел на гору. Но все не видел, не видел и не видел вершины. Потому что она была высоко, высоко, высоко. И страшно убегала от меня. Я начинал рыдать сквозь зубы и задыхаться. И все поднимал и поднимал свою тяжелую голову. Вдруг спина моя переламывалась, я весь разваливался на мокрые куски и падал навзничь. И видел вершину. Она сияла СВЕТОМ. Таким, что я исчезал в нем. И это было так ужасно хорошо, что я просыпался.
Утром я подробно помнил этот сон и за завтраком пересказывал его родным. Но на них это не производило должного впечатления.
Отец со свойственной ему грубоватой прямотой советовал «поменьше фантазировать, побольше дышать кислородом». Мать же просто крестила меня на ночь, кропила святой водой и клала под подушку образок Целителя Пантелеймона. Сестры не находили в моем сне ничего удивительного. Братья меня попросту не слушали.
В течение дня загадочная гора иногда всплывала для меня одного то тут, то там – сугробом возле крыльца, клином торта в тарелке сестры, можжевеловым кустом, подстригаемым садовником в виде пирамиды, метрономом Настеньки, горой сахарного песка на отцовском заводе, углом моей подушки.
Но к обычным горам я тем не менее был равнодушен. Показанный Диденко красивый атлас с надписью «Les plus grands fleuves et montagnes du Monde» не поразил меня узнаванием: среди Джомолунгмы, Юнгфрау и Арарата моей горы не было. Это были просто какие-то обычные горы. Мне же снилась Гора.
Постепенно мое райское детство стало давать трещины. И в них просачивалась русская жизнь. Сперва в виде слова «война». Мне было шесть лет, когда я услышал его на террасе нашей украинской усадьбы. Мы сильно заждались отца с завода к обеду и по команде матушки принялись уже за трапезу, как вдруг прогремели дрожки и он вошел как-то медленней обычного. Серьезный, грозно торжественный, в нанковой тройке с белой шляпой и газетой в руках.
Бросил газету на стол:
– Война!
Вытащил из кармана платок, отер им крепкую длинную шею:
– Сперва австрийская сволочь, потом пруссаки. Хочется им Сербию сожрать.
Сидящие за столом мужчины повставали с мест, обступили отца и загалдели. Настя с Аришей растерянно посмотрели на мать. Она выглядела испуганной. Я же, прожевывая слишком большой кусок пирога с яйцом, уставился на газету. Она лежала рядом со мной между графином с малиновым морсом и блюдом с бужениной. Большое черное слово ВОЙНА было сложено пополам. Под ним виднелось слово поменьше – СЕРБИЯ. Оно заставило меня вспомнить серп, которым бабы жали пшеницу и гречиху на наших приусадебных полях. Прусаками у нас звали рыжих тараканов. Представив, как они рыжей тучей набросятся на железный СЕРП и сожрут его, к ужасу жницы, я содрогнулся и шумно выплюнул на газету непрожеванный кусок.
На меня никто не обратил внимания. Мужчины сдержанно галдели вокруг отца, стоявшего, как обычно, слишком прямо и, выставив сильный подбородок, что-то говорящего им об ультиматуме Австро-Венгрии. Женщины притихли.
Я же смотрел на непрожеванный кусок пирога, лежащий на черном слове ВОЙНА. Не знаю почему, но на всю жизнь для меня это стало символом войны.
Потом война вошла в обиход.
За завтраком вслух зачитывались вести с фронта. Имена генералов стали почти родными. Мне почему-то больше всех нравился генерал Куропаткин. Я представлял его дядькой Черномором из «Руслана и Людмилы». Еще мне нравилось слово «контрнаступление». Мы перебрались в Васкелово, ездили на вокзал провожать наши войска, мама и сестры шили белье для раненых, резали бинты, делали ватные тампоны, посещали лазареты и однажды снялись на фотографии вместе с государыней и ранеными. Василий, несмотря на протест отца и слезы матери, пошел вольноопределяющимся.
Вскоре после начала войны я познакомился еще с двумя верными спутниками человечества – насилием и любовью.
Весной отец поехал в Басанцы, прихватив нас с Настей. Было Вербное воскресенье, и мы на трех дрожках с тетушками и приживалами отправились в церковь. Красивая, бело-голубая, обновленная отцом, она стояла на краю села Кочаново – соседнего с Басанцами. В церкви мне всегда было уютно и спокойно. Мне нравилось, что все крестятся, кланяются и поют. В этом было что-то загадочное. Во время службы я старался все делать как взрослые. Когда батюшка стал брызгать святой водой на вербные ветки и капли попали мне на лицо, я не засмеялся, но стоял спокойно, как все. Однако к концу я всегда начинал скучать и не понимал, почему все это должно длиться так долго.
Когда служба кончилась, мы с толпой народа стали выходить из храма. Прямо за нами возникла толчея и несколько голосов заспорили:
– Хохлы завсегда первыми лезут!
– Поприихалы москали товкатыся!
Погода стояла весенняя, светило солнце, остатки снега хрустели под ногами. Отец и тетушки стали одаривать нищих, а мы с Настей сели в бричку и смотрели на площадь перед церковью. Она вся была запружена народом. Некоторые были уже пьяны. Здесь толкались селяне хохлы и заводские, которые работали на заводе отца. Завод стоял в версте от села, а прямо за широким оврагом начинался заводской поселок, выстроенный еще моим дедушкой. Хохлы лузгали тыквенные семечки и галдели, заводские курили и пересмеивались. Вдруг в толпе кто-то вскрикнул, послышался звук оплеухи, чей-то картуз покатился, возникло оживление, и мужчины побежали к оврагу. Женщины завизжали и побежали следом. Вмиг площадь опустела, на ней остались только нищие, калеки, два урядника с большими шашками да мои родные.
– А куда это они? – спросил я Настю, которая была старше меня на четыре года.
Жуя просфорку, Настя шлепнула ладошкой по ватной спине извозчика:
– Микола, куда они побежали?
Смуглолицый хохол с вислыми усами обернулся, заулыбался:
– То, барыня, побиглы бисови диты морды быты.
– Кому? – насторожилась Настя.
– А сами соби.
– За что?
– Та нэ знаю…
Мы привстали на дрожках. В овраге мужчины выстроились в две шеренги – в одной заводские, в основном приезжие русские, в другой – местные селяне-украинцы. Женщины, старики и дети стояли на краю оврага и смотрели сверху. Снова махнули шапкой, и началась драка. Она сопровождалась женским визгом и подбадривающими криками. Впервые в жизни я видел, как люди сознательно избивают друг друга. В нашей семье, кроме отцовских подзатыльников, маминых шлепков и постановки провинившегося ребенка в угол, наказаний не было. Отец часто орал на маму до посинения, топал ногами на прислугу, грозил кулаком управляющим, но никогда никого не бил.
Я смотрел на драку как завороженный, не понимая смысла происходящего. Люди в овраге делали что-то очень важное. Делали тяжело. Но очень старались. Так старались, что чуть не плакали. Они кряхтели, ругались и вскрикивали. И словно что-то отдавали друг другу кулаками. Мне стало интересно и страшно. Я стал дрожать. Настя заметила и обняла меня:
– Не бойся, Шуренок. Это же мужики. Папа говорит, что они только пьют и дерутся.
Я взял Настину руку. Настя смотрела на драку как-то непонятно. Она словно перестала быть сестрой. И стала далекой и взрослой. А я остался один. Драка продолжалась. Кто-то падал на снег, кого-то таскали за волосы, кто-то отходил, плюясь красным. Настина рука была горячей и чужой.
Наконец засвистели урядники, закричали старики и женщины.
Драка прекратилась. Драчуны с руганью двинулись восвояси – хохлы в Кочаново, фабричные – в поселок. Моя сердобольная мама не удержалась и выкрикнула им вслед:
– Бесстыдники! Православные с немцем воюют, а вы в праздник друг другу морды бьете!
Отец усмехался краем тонкогубого рта:
– Ничего, пусть попотешат жилку. Покойнее будут.
Он опасался стачек и забастовок, сотрясших русские заводы в 1905 году. Но все же был доволен: демобилизация его рабочих не коснулась, так как сахар в военное время был приравнен к стратегическим продуктам. Война сулила отцу большой барыш.
Мама села к нам, кучер дернул поводья, чмокнул, дрожки тронулись. Я отпустил руку Насти. Мимо шли двое заводских парней в распахнутых зипунах. Глаз одного был подбит, но радостно поблескивал. Другой парень трогал разбитый нос. Матушка негодующе отвернулась.
– Во как, барин, хохлов поучили! – Парень с подбитым глазом вытащил что-то из костяшки левого кулака, показал мне, подмигнул и засмеялся. – Зуб хохляцкий в колотуху влип!
Его приятель быстро наклонился и сильно высморкался. Красные брызги окрасили снег. Парни были счастливы. У обоих был какой-то невидимый подарок. Получили они его в драке. И шли с ним домой.
Но я так и не понял, что это за подарок. А Настя и другие взрослые – понимали. Но не говорили. Мне вообще многое не говорили.
Тайны мира я открывал сам.
В конце июля мы перебрались в Васкелово. В полдень после двухчасового занятия с madam Panaget я пил топленое молоко с гонобобелем и отправлялся в сад погулять до обеда. Обустроенный полтора века назад, сад сохранил лишь остатки былой роскоши – прежний владелец совсем не заботился о нем. Я любил пускать бумажные кораблики в пруду, лазить по пригнувшейся к земле раките или, спрятавшись за можжевеловыми кустами, бросаться еловыми шишками в старого мраморного фавна. Но в тот день не хотелось ничего. Настя в доме музицировала, мама с няней варили варенье, отец, прихватив Илью и Ивана, уехал в Выборг покупать какую-то машину, Ариша и Василиса дремали с книжками в шезлонгах. Я побрел по саду, достиг его самого заросшего угла и вдруг увидел нашу горничную Марфушу. Протиснувшись меж двух раздвинутых железных прутьев в ограде, она скрылась в лесу, начинающемся прямо за садом. В ее торопливых движениях было что-то совсем не похожее на нее – пухло-спокойную, неспешно-улыбчивую, с глуповатым выкатом карих глаз. Я почувствовал в этом тайну, пролез в ограду и осторожно побежал за Марфушей. Ее строгое синее платье с белым передником необычно выделялось на фоне дикого леса. Девушка быстро шла по тропинке, не оборачиваясь. Я шел следом по мягкой от хвойных иголок земле. Густой старый ельник стоял вокруг. В нем было сумрачно и перекликались редкие птицы. Через полверсты он оборвался: здесь начиналось небольшое болото. На опушке леса были устроены три шалаша из еловых веток. Каждую весну отец с друзьями охотился здесь на тетеревов, токующих на болоте. Из шалаша раздался свист. Марфуша остановилась. Я спрятался за толстую ель. Марфуша оглянулась и вошла в шалаш.
– Я уж думал – не придешь… – раздался мужской голос, и по нему я узнал Клима, молодого слугу.
– Скоро обедать сядут, барыня варенье варит, господи, хоть бы не хватилась… – быстро заговорила Марфуша.
– Не боись, не хватится… – пробормотал Клим, и они стихли.
Я, крадучись, пошел к шалашу, чтобы вскрикнуть и испугать их. Дойдя до края шалаша, я уже было открыл рот, но замер, увидя сквозь высохшие еловые ветки Клима и Марфушу. На земле в шалаше была постелена мешковина. Они стояли на ней на коленях и, обнявшись, сосали друг другу рты. Я никогда не видел, чтобы люди так делали. Клим сжимал рукой грудь Марфуши, и она постанывала. Это длилось и длилось. Руки Марфуши бессильно висели. Щеки ее горели румянцем. Наконец рты их разошлись, и кудрявый худощавый Клим стал расстегивать Марфушино платье. Это было совсем непонятно. Я знал, что снимать платье с женщин может только доктор.
– Погоди, передник сниму… – она сняла передник, аккуратно сложила и повесила на ветку.
Клим расстегнул ей платье, обнажил ее молодую и крепкую грудь с маленькими сосками и стал жадно целовать, бормоча:
– Люба моя… люба моя…
«Он что – ребенок?» – подумал я.
Марфуша вздрагивала и прерывисто дышала:
– Климушка… светик мой… а ты меня правда любишь?
Он пробормотал что-то, стал дальше расстегивать синее шуршащее платье.
– Не надо так… – Она отстранила его руки, подняла подол платья.
Под платьем была белая нательная рубашка. Марфуша подняла ее. И я увидел женские бедра и темный треугольничек паха. Марфуша быстро легла на спину:
– Господи, грех-то какой… Климушка…
Клим приспустил штаны, повалился на Марфушу и беспокойно заворочался.
– Ох, не надобно этого… Климушка…
– Молчи… – пробормотал Клим, ворочаясь.
Он стал быстро двигаться и рычать как зверь. Марфуша же стонала и вскрикивала, бормоча:
– Господи… ой, грех-то… господи…
Тела их дрожали, щеки налились кровью. Я остро понял, что они делают что-то очень постыдное и тайное, за что их накажут. К тому же им было очень тяжело и, наверно, больно. Но им очень-очень хотелось это делать.
Вскоре Клим крякнул, как крякают мужики, когда раскалывают колуном полено, и замер. Он словно заснул, лежа на Марфуше, как на перине. Она же тихо стонала и гладила его кудрявую голову. Наконец он заворочался, приподнялся, вытер рот рукавом.
– Господи… а ежели ребеночек будет? – подняла голову Марфуша.
Клим смотрел на нее так, словно впервые видел.
– Ввечеру придешь? – хрипло спросил он.
– Господи, кто ж меня пустит? – Она стала застегиваться.
– Приходи, как стемнеет… – Клим шмыгнул носом.
– Климушка, касатик, что ж таперича будет? – Она вдруг прижалась к нему.
– А ничаво не будет… – пробормотал он.
– Ой, побегу я… – вздохнула она.
– Ступай, я опосля… – Клим сумрачно покусывал веточку.
– Сзади не мокро на подоле?
– Не-а…
Я стал пятиться от шалаша, повернулся и побежал к дому.
Увиденное в шалаше потрясло меня так же, как и драка в овраге. Я понял всем своим маленьким существом, что и то и другое – очень важно для людей. Иначе бы они не делали это с такой страстью и силой.
Про деторождение вскоре я узнал от брата Вани. После чего сцена в шалаше обрела еще одно измерение: я понял, что дети рождаются от тайного кряхтения, которое тщательно скрывается ото всех. Ваня поведал мне, что детей делают только ночью. Я стал прислушиваться по ночам. И однажды, проходя мимо родительской спальни, услышал те же стоны и кряхтение. Вернувшись к себе в постель, я лежал и думал: какое это все-таки странное занятие – делать детей. Одно было непонятно – почему это скрывается?
Утром за завтраком, когда Марфуша, Клим и старый папин слуга Тимофей обслуживали нас, а сидящие за столом, как обычно, обсуждали фронтовые сводки, я вдруг спросил:
– А у Марфуши будет ребенок?
Разговор стих. Все посмотрели на Марфушу. Она в этот момент держала фарфоровую чашу, из которой седовласый и мясистоносый Тимофей с неизменным страдальчески-озабоченным выражением лица раскладывал уполовником по тарелкам манную кашу. Клим, стоя в углу столовой у самоваров, наполнял чаем стаканы. Марфуша покраснела сильнее, чем тогда в шалаше. Чаша в ее руках задрожала. Клим косо глянул на меня и побелел.
Спасла всех матушка. Вероятно, она догадывалась о связи горничной и слуги.
– У Марфуши, Шурочка, будет пятеро детей, – произнесла матушка.
И добавила:
– Трое мальчиков и две девочки.
– Правильно… – хмуро согласился отец, обильно поливая свою кашу вареньем. – А потом – еще пять. Чтоб было кому на войну идти.
Все одобрительно засмеялись. Марфуша попыталась улыбнуться.
У нее это получилось плохо.
С каждым месяцем война вторгалась в нашу жизнь все сильнее. С фронта вернулся Василий. Вернее – его привезли с вокзала в отцовском автомобиле. Автомобиль дал три гудка, мы побежали встречать героя войны, писавшего короткие, но сильные письма. Василий вылез из автомобиля и, опираясь на шофера и Тимофея, стал подниматься к нам по лестнице. Он был в шинели, фуражке и с сильно желтым лицом. Тимофей осторожно держал его деревянную палку. Василий как-то виновато улыбался. Мы кинулись его целовать. Мама рыдала. Отец подошел и стоял, напряженно глядя на Василия и моргая. Сильный подбородок его подрагивал.
В Польше под Ловичем Василий попал под газовую атаку немцев. Хотя брата отравили хлором, змеиное слово «иприт» вползло в меня.
Сидя в гостиной у растопленного камина, Василий пил чай с пирожными и рассказывал о том, как бежал от облака хлора, как убил восемь немцев из пулемета, как одним снарядом разорвало на куски двух его фронтовых друзей – прапорщика Николаева и вольноопределяющегося Гвишиани, как бесшумно снимают часовых волосяной веревкой «цыганская невеста», как бороться со вшами и с танками, какие у немцев капитальные огнеметы и какое множество русских трупов лежало в огромном пшеничном поле после Брусиловского прорыва.
– Лежат ровными рядами, словно нарочно подравняли. Шли на пулеметные гнезда. Их и косили, как пшеницу.
Мы слушали, затаив дыхание. Стакан с чаем дрожал в желтой руке Василия. Он постоянно коротко подкашливал, глаза его слезились и были теперь всегда красные, словно он только что поплакал. При ходьбе Василий задыхался и, чтобы отдышаться, стоял, опершись на палку.
Отец отправил его в Пятигорск на воды.
А через год в Москве мой старший брат покончил собой, выстрелив одновременно из нагана в висок, а из дамского браунинга – в сердце. Ваня сказал, что Василий застрелился из-за замужней женщины, которую безнадежно любил еще до войны.
Отец стремительно богател и все более зависел от войны. Дела его шли в гору. У него появилось множество новых знакомых, в основном – военных. Он стал больше и чаще пить и редко бывал дома, повторяя, что теперь «живет на колесах». Вокруг него шныряли какие-то тонкоусые и энергичные молодые люди, которых он называл комиссионерами. Он занимался уже не только сахаром, но и многим другим. Когда он кричал в телефон, до моего уха долетали диковинные фразы: «американская резина еще возьмет нас за горло», «эшелон с сухарями преступно забыт в пакгаузах», «мерзавцы из Земгора Юго-Западного фронта режут меня без ножа», «шесть вагонов мыльной стружки застряли на узловой» и так далее.
Моя бабушка, безвыездно и тихо доживающая свой век в доме на Остоженке, как-то на Пасху сказала:
– С этой войною наш Димуленька совсем голову потерял: за семерыми зайцами гонится.
И отец в то время действительно напоминал мне человека, мучительно и безнадежно гонящегося за чем-то вертким и ускользающим. Причем сам он от этой гонки не становился живее, наоборот, как-то окостеневал, а его малоподвижное лицо хмурилось все сильнее. Похоже, он вообще перестал спать. Глаза его лихорадочно блестели и бегали, даже когда он пил с нами чай.
Минул еще год.
И война вообще полезла во все щели. Она выползла на улицы. В городах маршировали колонны солдат, на вокзалах в поезда грузили пушки и лошадей. Мы с мамой перестали бывать в Басанцах – там было «неспокойно». Вся наша семья поселилась в Петербурге. Родственников оставили в имениях. Столица военного времени открыла мне три новых слова: безработица, стачка и бойкот. Для меня они воплощались в темных толпах людей на улицах Петербурга, которые мрачновато брели куда-то и мимо которых мы старались побыстрее проехать на лихаче или на автомобиле.
Петербург стали называть Петроградом.
В газетах про немцев писали злые стихи и рисовали карикатуры. Ваня с Ильей любили зачитывать их вслух. Все немцы для меня делились тогда на два типа: один – пузатый, с мясисто-хохочущей мордой, в рогатой каске, с саблей в руке; другой – худой, как палка, в фуражке, с моноклем, стеком и с кисло-презрительным выражением узкого лица.
Старшая сестра Ариша принесла из гимназии патриотическую песню. Оказывается, на уроке пения они всем классом сочинили музыку к стихам некоего провинциального учителя:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С германской силой темною,
С тевтонскою ордой!
Настя с Аришей аккомпанировали в четыре руки, а я с удовольствием пел, стоя на стуле.
Переехав в большой город, я заметил, что в нем все происходит быстрее, чем в Басанцах или Васкелово: люди двигались и говорили быстрее, извозчики мчались и кричали, автомобили гудели и тарахтели, гимназисты спешили в гимназии, газетчики орали про «наши потери», отец входил в квартиру, сбрасывая шубу, торопливо ел, запирался в кабинете со своим помощником, потом уносился на автомобиле с комиссионерами и исчезал на неделю. Мама тоже двигалась гораздо быстрее, куда-то ездила и что-то покупала. Мы часто и быстро ходили в гости. У меня появилось много новых друзей – мальчиков и девочек.
Меня усиленно готовили в гимназию: я занимался с Диденко русским языком и арифметикой, а с Madam Panaget – французским и немецким. И занятия шли гораздо быстрее, чем прежде.
Даже оба наших мопса, Кайзер и Шустрик, теперь быстрей бегали, громче лаяли и чаще какали на ковер.
Рождество 1917 года мы праздновали в большом доме новых папиных друзей. Отец к тому времени вдруг резко прекратил все поездки и целиком отдался новому грозному слову, которое, как могучая метла, вымела из нашего дома «эшелоны колотого рафинада» и «вагоны с мыльной стружкой». Слово это было «Дума». Оно, словно толстый Пацюк из рождественской сказки Гоголя, вошло в нашу гостиную и надолго расселось там. Вместе с ним стали приходить и допоздна рассиживаться новые папины друзья. Почти все они внешне были одинаковые и сильно отличались от высокого и сухопарого папы: малорослые, подвижные, крепкотелые, с широкими бритыми затылками, подстриженными бородами и подвитыми усами, они много курили и непрерывно спорили. Потом, наспорившись и накурившись до хрипоты, они что-то писали, одновременно диктуя сами себе, затем пили с папой вино и ехали ужинать к Эрнесту или к новому Донону. Отец теперь был занят только политикой, ходил на заседания могучей и неведомой мне Думы и в разговорах с матушкой часто говорил о каком-то нарыве, который «вот-вот прорвется» и что «надо не упустить момент».
После начала войны самым близким папиным другом в Петрограде стал банкир Рябов. Он тоже был в Думе.
У него была одиннадцатилетняя дочь Ника, в которую я впервые в жизни влюбился. На том рождественском утреннике мы, дети, разыграли вертеп. Старший сын Рябовых Рюрик был Иродом, Настя – ангелом благой вести, Ваня, Илья и Ариша – волхвами, Василиса – Богородицей, какой-то гимназист-переросток – Иосифом. Малознакомые дети играли ангелов, чертей и избиваемых младенцев. Мы же с Никой исполняли по две роли: сперва солдат Ирода, ищущих младенца, а потом – ослика и вола, согревающих в яслях младенца Христа своим дыханием. Христом-младенцем был младший сын Рябовых, пятилетний Ванюша. Когда во втором действии он благополучно родился и мы с Никой, нацепив коровью и ослиную морды из папье-маше, с готовностью сунулись согревать его дыханием, Ванюша разрыдался. Мы переглянулись сквозь свои картонные глаза и тихо прыснули. Черный, весело блестящий глаз Ники в обрамлении огромных ослиных ресниц, ее тихий смех и запах каких-то приторных духов вызвали у меня неожиданный прилив нежности. Я взял ее влажную руку и не отпускал до конца лицедейства.
За обедом я сел рядом с ней, оттеснив какую-то девочку. Чувство мое к Нике нарастало с каждым подаваемым блюдом. Я болтал с ней, неся чепуху. На блинах с икрой я нервно-весело ущипнул ее за локоть, на чаем с бисквитами взял ее палец и ткнул в свою розеточку с абрикосовым вареньем.
Ника смеялась.
И в этом смехе было понимание меня. Видимо, я ей тоже понравился. После обеда был устроен детский маскарад с танцами вокруг елки. А когда мужчины отправились наверх курить и играть в карты, а дамы – обмениваться новостями на веранде в зимнем саду, детям было предложено сыграть в шарады. Две милые гувернантки-англичанки помогали нам.
– Чтоу телать этому фанту? – старательно выговаривала русские слова рыжеволосая и ужасно веснушчатая гувернантка, вынимая из оклеенной звездами коробки бумажки с нашими именами.
– Лаять на Нику! – кричал я громче других.
На нее лаяли, прыскали водой, ее возили на себе вокруг елки…
Ника смеялась мне черными глазами. Мне ужасно захотелось сделать с ней что-то такое, чтобы все вокруг исчезло. Но сцена, подсмотренная мною в шалаше, к этому не имела никакого отношения. Как более старшая, Ника поняла меня. Она вдруг пожелала сменить маску волка на маску Бабы-яги.
– Саша, пойдем, ты поможешь мне. – Она побежала по лестнице наверх, в свою комнату.
Там, не обращая на меня внимания, но пылая лицом от волнения, она кинулась на колени перед звездно-фиолетовым мешком с масками и стала в нем яростно рыться:
– Где же она… Oh… mon Dieu! Вот же!
Я опустился на колени рядом с ней, сильно обнял за шею, притянул и поцеловал в щеку.
– Саша, ты такой смешной… – пробормотала она, глядя на носатую маску.
Я снова поцеловал ее. Сердце мое трепетало. Она повернулась ко мне, закрыла глаза и прижалась своим лицом к моему. Мы замерли. И я впервые почувствовал, что время может стоять на месте.
– Это кто здесь прячется? – раздался притворный голос и громкий шелест платьев.
И ненавистное время пошло. А вместе с ним в комнату – хозяйка дома и какая-то дама с зеленым веером. Я не успел разжать объятия.
– Они амурничают! – восторженно ахнула дама и навела на нас лорнетку. – Нина Павловна, ты только посмотри! Какая прелесть!
Но некрасивая и неразговорчивая мать Ники была явно недовольна. Она внимательно посмотрела на нас – раскрасневшихся и прижавшихся друг к дружке.
– Надевайте маски. И ступайте вниз, – произнесла она.
И мы, нацепив маски тигра и Бабы-яги, побежали вниз.
Нина Павловна ничего не сказала моим родителям. Но сделала все, чтобы мы с Никой больше не виделись. Мои просьбы «непременно поехать к Нике» кончались ничем: Ника то «неважно себя чувствовала», то «гостила у родственников», то (несмотря на рождественские каникулы!!) «усиленно занималась арифметикой».
Полтора месяца неосуществленного желания видеть мою черноокую любовь свалили меня в горячку. Трое суток с высокой температурой я лежал и бредил, проваливаясь в грозные цветные сны и выныривая из них в прохладные руки матери, кладущие мне на лоб влажное полотенце, пропитанное водой и уксусом, и подносящие чашку с клюквенным морсом. В тех снах я ни разу не увидел моей Горы. Мне мерещилось человеческое море, безбрежный океан голосов, лиц, платьев и фраков, кативший на меня мощные волны. Я тонул в них, барахтался, силясь выплыть, но меня снова и снова накрывало с головой. Я знал, что где-то рядом здесь же барахтается Ника. Но чем сильнее я искал ее в водоворотах шуршащих платьями взрослых, тем яростней меня мотало и отбрасывало в бесконечные анфилады комнат, в прокуренные гостиные, в душные спальни. Голова моя лопалась от голосов. Наконец я прорывался к ней и видел мою любовь в ее белом платьице с маской Бабы-яги на лице. Я подбегал к ней, хватался за бесконечно длинный, бугристый нос маски, срывал. Но под картонной маской оказывалась Ника с живой ослиной головой. Она жевала что-то и в упор смотрела на меня ослиными глазами. И я пробуждался с криком.
Очнулся я на четвертые сутки.
Ни мамы, ни няньки не было рядом. Я поднял голову: шторы глухо сдвинуты, но в щели виден дневной свет. Я встал с кровати. Кружилась голова от слабости. Пошатываясь, в ночной рубашке до пят, я подошел к двери, открыл и зажмурился: наша огромная квартира была залита солнечным светом. Он проистекал из гостиной. Я направился туда, шлепая босыми ступнями по прохладному паркету. В гостиной, спинами ко мне, стояла наша семья. Окна были распахнуты, из них ослепительно било весеннее солнце. И все стоящие смотрели в окна. Я подошел к маме. Она схватила меня, поцеловала, как-то истерично обняла и подняла на руки. В окне была видна наша Миллионная улица. По обыкновению тихая и почти пустая, она вся была затоплена людьми. Толпа колыхалась, шумела и ползла куда-то. В толпе мелькали красные лоскуты.
– Что это, мама? – спросил я.
– Это революция, сынок, – ответила мать.
Потом в семье шутили: Саша проспал русскую революцию.
Революция
О ней говорили давно. Для меня же она случилась не в тот солнечный февральский день, а раньше, зимним вечером. Мы с Madam Panaget раскрашивали контурные картинки, потом я немного побренчал на рояле и выпил молока с любимым печеньем «Сiу». После чего нужно было прочитать маме молитву на сон грядущий и пойти спать. Но тут возник отец и, не раздеваясь, подошел к маме.
– Все, Думы больше нет, – угрюмо сказал он.
Мама молча встала.
– Милюков и Родзянко своего добились, – отец сбросил шубу на руки горничной и устало опустился в кресло, – угробили Думу. Мерзавцы. Угробили-таки. Похоронили.
Он стукнул кулаком по подлокотнику.
Я похолодел: Дума, этот невидимый и могучий Пацюк, два года проживший с нами, убита и закопана.
– Что же будет, Дима? – спросила мама.
– Революция! – мрачно, но с какой-то злой гордостью тряхнул головой отец.
И я, восьмилетний, вдруг представил ее, эту таинственно-грозную Революцию в образе Снежной королевы, держащей в руках почему-то все тот же «съедаемый тараканами» серп.
Если до революции в Петрограде все двигалось и жило быстрей обычного, то теперь все просто замелькало. И людей сразу прибавилось. Улицы были почти всегда полны. По ним стало трудно проехать не только на автомобиле, но и на извозчике. Я узнал новые слова: «совдеп», «революционные массы», «временное правительство» и «хвост». Неведомый «совдеп», со слов отца, засел в Таврическом и первым делом выпил все вино и украл серебряные ложки из ресторана. Революционные массы часто проплывали под нашими окнами, о временном правительстве непрерывно говорили все, даже кухарки, а хвосты за хлебом росли и росли. Я не мог понять: почему люди стоят за хлебом в очереди? Объяснение взрослых, что хлеба не хватает на всех, меня не удовлетворяло: ведь пшеницы всегда так много, хлебные поля на Украине такие бескрайние! Я был уверен, что хлеб бесконечен, как и вода, как и небо. У нас за обедом хлеб всегда оставался.
И мне странно было слышать на улицах: «Подайте на хлеб!»
Лето 1917 года мы провели в Васкелово. Оно было каким-то удивительно красивым, спокойным и долгим. Никогда прежде летом мне не было так хорошо и вольготно. Я словно прощался с прежней, благополучной и беззаботной жизнью. И эта жизнь, уходя навсегда, прощалась со мной огромными темными елями, неподвижным озером, лесными ягодами, послеобеденным сном на веранде, невинным смехом сестер, стеклянными звуками рояля, радугой после дождя.
В конце лета я пошел в гимназию. Вернее – меня отвез туда шофер со смешной фамилией Кудлач на синем автомобиле. И возил каждый день. В той гимназии на Крюковом канале в основном учились дети богатых. Многих подвозили на автомобилях. Но не до самой гимназии – это считалось неуместным. Машины тормозили неподалеку от гимназии, мы выходили и шли пешком. Так было принято.
Мне было интересно на уроках. В гимназии преподавали люди, не похожие на невзрачного Диденко и тихую Madam Panaget. Они умели хорошо и долго говорить. Особенно мне нравились неизменно веселый математик Терентий Валентинович, маленький, но невероятно активный физкультурник мсье Жакоб, прозванный Карманным Бонапартом, и громкая, всегда сильно пахнущая розовым маслом француженка Екатерина Самуиловна Бабицкая. Директор гимназии Казимир Ефимович Кребс, мужчина огромного роста, с громадной головой, густой бородой, трехпалой левой рукой и глухим рокочущим басом, прозванный гимназистами Навуходоносором, вызывал у меня чувство восторженного страха.
Но не прошло и трех месяцев моей гимназической жизни, как грянула еще одна революция. Отец назвал ее «большевистская смута». И пообещал, что «долго эта сволочь не продержится».
В этом он сильно ошибся.
Во вторую революцию все было по-другому: по улицам бегали, скакали на лошадях и проезжали на грузовиках только солдаты в шинелях и матросы. И все они были с винтовками. Горожане перемещались осторожно, стараясь держаться поближе к домам. Ночью были слышны выстрелы.
Затем время как-то сжалось. И полетело так быстро, что все вообще перепуталось и замелькало: люди, события, времена года.
Несмотря на «большевистскую смуту», занятия в гимназии шли до весны 1918 года. И прекратились по весьма простой причине: большая часть учеников побежала вместе со своими богатыми родителями из Петербурга. И из России.
Семья наша созрела для бегства к июлю. В ней произошли изменения: Илья, увлекшийся марксизмом еще в гимназии, сделался красным и ушел к большевикам. С отцом он порвал. Маме же передал с кем-то пару писем, в которых писал, что воюет за свободную Россию. Затем Илья исчез навсегда. Василиса стремительно вышла замуж за молчаливого и горбоносого поручика, демобилизовавшегося по ранению (в левое колено), и так же стремительно уехала с ним в Крым к его матери.
Отец, потерявший в России все, сперва намеревался вывезти нас в Варшаву. Там у него «было что-то небольшое», я так и не понял что – дом или дело. Затем он собирался отправиться дальше – в Цюрих, где «что-то лежало». В Швейцарию с семьей перебрался и банкир Рябов, еще до обеих революций приобретший там дом. Летом 1918 года путь в Европу лежал через Киев. Человек с маленькими усами по фамилии Дымбинский взялся переправить в Варшаву сначала маму с сестрами, потом отца со мною и Ваней. Отцу понадобилось еще пару недель, чтобы «утрясти делишки в Питере». Эти две недели стали для семьи роковыми. Едва мама с Настей и Аришей уехали, заболел брюшным тифом брат Ваня. Месяц он пролежал, но, к счастью, поправился, хотя сильно исхудал и пожелтел. Потом отца забрали в ЧК. Три месяца от него не было вестей. Набожная тетя Флора, мамина сестра, взявшая нас с Иваном к себе на Мойку, каждый день молилась за нашего арестованного отца. И чудо свершилось – его выпустили. Из ЧК он вернулся сильно поседевшим и ссутулившимся. Но сказал, что в тюрьме за три месяца его никто ни разу не ударил по лицу.
Так что в Киеве мы оказались только зимой. Поселились в Липках, богатом и ухоженном районе, в большой квартире папиного брата. Дядя Юрий, абсолютный антипод отца, увлекающийся, взбалмошный и громкоголосый, никуда не собиравшийся уезжать из родного Киева, принял нас так, словно никакой революции и войны не было вовсе. Стол у него дома ломился от жирной украинской еды, чисто одетая прислуга подавала шампанское, а дядя, слегка поседевший и похудевший, что-то бурно рассказывал и пил за здоровье неведомого мне Гетмана. После сурового Петербурга с его хлебными хвостами изобильный стол дяди казался невероятным. Но самым невероятным оказалось то, что мама и сестры, погостив у дяди Юрия, в начале ноября отправились в Варшаву. Но доехали ли они туда – никто не знал. Зато все знали, что в Варшаве тоже революция и Пилсудский объявил независимость. Отец был взбешен: он кричал на дядю, называя его «мокрым пентюхом», и топал ногами. Дядя Юрий успокаивал его как мог. Он давал обе руки на отсечение, что мама и сестры живы и в безопасности. Дядя Юрий был любимцем нас, детей. Своих у него не было, он жил неисправимым холостяком. Нас он обожал до слез. Мы же по-детски любили его как сверстника-переростка. Еще давно Ваня с Ильей придумали ему сложное прозвище. Оно выскакивало у дяди изо рта каждый раз, когда он оказывался у нас в Петербурге. Любитель рестораций и кафе-шантанов, дядя в первый же вечер неизменно требовал отца отправиться с ним «куда-нибудь». Отец же, знавший чем кончаются эти походы «куда-нибудь», неизменно цедил, что «теперь и пойти-то некуда». На что дядя, откинув назад красивую голову, укоризненно разводил длинными, как и у отца, руками и начинал загибать пальцы:
– Помилуй, Дима! У вас тут Эрнест, Кюба и два Донона!
Это были названия четырех самых роскошных ресторанов. После чего отец и дядя исчезали до утра. Так дядя Юрий для нас стал Эрнесткюбаидвадонон. Когда его коляска въезжала в ворота северного имения, мы с Настенькой неслись по комнатам с криком:
– Эрнесткюбаидвадонон приехал!
Угощая нас, дядя уверял, что мы на днях отправимся в Варшаву. Дымбинский шнырял по городу, добывая какие-то «чертовски важные бумаги». Это тянулось несколько недель: дядя ждал помощи от его друзей немцев. Но немцы вдруг покинули Киев, даже не уведомив дядю. И как-то очень быстро к Киеву подошел Петлюра со своей «дикой первобытной ордой». О нем заговорили с ужасом. Петлюра входил в город, чтобы «перевешать офицеров, жидов и москалей». Он был украинец. И как поговаривали, в живых оставлял только украинцев. Его я представлял колдуном из «Страшной мести» Гоголя, самой жуткой сказки на свете. Как только немцы убежали, исчез Дымбинский. А веселый и самоуверенный дядя впал в панику. Он тряс отца за плечи и кричал, что «надобно бежать из Липок что есть мочи». Он был уверен, что петлюровцы придут грабить именно сюда, в самый богатый район. Отец стал ответно кричать, что он умеет стрелять. Но вскоре махнул на дядю длинной рукой и стал паковать вещи. Поутру мы выехали из Липок на двух колясках. В первой сидели мы с отцом, во второй – Эрнесткюбаидвадонон с грудой вещей и своим старым слугой Савелием. Было слегка морозно. И несмотря на декабрь, снега выпало совсем мало. Но после бессонной ночи сборов и криков меня сильно знобило и ужасно хотелось спать. Я дремал в коляске, привалившись к отцу и сжимая в руках жестяную коробку из-под печенья «Сiу». В ней хранилось все мое богатство, россыпь любимых вещей – от набора карандашей и швейцарского перочинного ножичка до оловянного пугача с коробкой пистонов. Дважды мы останавливались, и я просыпался: первый раз к дяде подсела маленькая, полненькая и сильно взволнованная дама с двумя саквояжами, второй раз на какой-то ужасно горбатой улице к нам в коляску втиснулся Дымбинский с забинтованной рукой, с портфелем, в сером летнем пальто и мохнатой бараньей шапке. Он отдал отцу портфель и что-то сипло и обстоятельно забормотал про какую-то Пуще-Водицу и какие-то казармы. Его глаза были красные, а мохнатая шапка дохнула на меня глубоким сном. Я снова задремал. И открыл глаза от звука близкого грома. Обе подводы стояли на улице с одноэтажными домиками, окруженными слегка заснеженными садами. Толстая рыжеволосая баба в ночной сорочке с полураспущенной косой торопливо закрывала ставни. Снова громыхнуло, поближе.
– Шесть дюймов. Не меньше, – сказал Дымбинский и стукнул извозчика по спине. – Сворачивай!
В его руке вдруг появился большой черный маузер. Извозчик, чертыхаясь, свернул в проулок. Вдали по проулку убегали трое в шинелях. Где-то за домами затрещали выстрелы. И ударил пулемет. Дама во второй коляске вскрикнула и стала часто, как-то по-мышиному креститься. Дымбинский выругался по-польски. Отец прикрикнул на извозчика. Меня сильно зазнобило, я зевнул со стоном, во весь рот. И вдруг грохнуло совсем рядом. И зазвенели стекла в домах. И лошадь всхрапнула и дернула. И моя жестяная коробка с дорогим выскользнула из рук. И покатилась по дорожной наледи.
Обе коляски встали. Отец, дядя и Дымбинский закричали на извозчиков. Те, не понимая, куда ехать, натягивали поводья. Лошади храпели и пятились. А я смотрел, как катится моя жестянка. Лимонно-желтым колесиком она катилась, катилась и катилась, вниз, вниз, вниз – по горбатому переулку. Катилась, катилась, катилась до слез, до рези в глазах. И в ней, как в жестяном барабане, кувыркался оловянный пугач. И вдруг как по команде и совершенно неожиданно для себя я выпрыгнул из колышущейся коляски и кинулся за жестянкой.
– Александр, назад! Сейчас же вер… – закричал отец.
И его голос навсегда потонул в ужасном грохоте. Этот грохот проглотил все голоса в колясках. Грохотом меня толкнуло в спину так, словно я ковер. И грохот, как великан, выбил из меня пыль одним ударом. И я провалился.
Потом я открыл глаза. И увидел совсем близко лед, испачканный конским навозом. Лед был прямо возле моего носа. Я хотел приподняться, но не мог. Непонятно, что мешало мне. И я ничего не слышал. Я оперся руками о лед. И с огромным трудом приподнял голову. Впереди был пустой проулок. И посреди обледенелой дороги лежала моя желтая жестянка. Я сразу понял, что главное — сзади. И стал поворачивать одеревеневшую шею. Она очень плохо поворачивалась. Но все же повернулась.
И я увидел: дым, перевернутые коляски, лежащих людей, бьющуюся на боку лошадь с вылезшими кишками. И черную землю на льду. И еще что-то черное, что лежало совсем рядом со мной. Я скосил на это глаза. Это была нога в черном ботинке. И с полосатым серо-сине-белым шерстяным носком. С модным американским носком. Носком Эрнесткюбаидвадонона. Из носка торчала розовая нога. И из ноги торчало. Что-то.
У меня теплое протекло по губам. Я потрогал их. И посмотрел на руку. Рука была в крови. Я понял, что надо вставать и идти к папе. Потому что он звал меня. С трудом я подтянул под себя ноги и встал на колени. И тут же вокруг меня запустили карусель. И все – дым, дом, баба в окне, земля, нога, лошадь с кишками, дым, дом, баба в окне, – поехало, поехало, поехало. Слева-направо. Слева-направо. Слева-направо.
И я упал на лед.
Дорога
12 декабря 1918 года в Киеве кончилось мое детство. Его выбил из меня разорвавшийся шестидюймовый снаряд, унесший жизни отца, брата Вани, дяди Юрия. Так же погиб один из извозчиков. Слугу Савелия и другого извозчика ранило, но они выжили. Дымбинский исчез. Любовница дяди, вдова штабс-капитана царской армии Лидия Васильевна Белкина, так же, как и я, была сильно контужена. Нас с ней подобрала и оттащила к себе в дом та самая толстая рыжая баба, что закрывала ставни. Три месяца я ничего не слышал. И не мог ходить: голова кружилась, и я сразу садился на пол и закрывал глаза. Удобнее всего мне было сидеть на полу и смотреть в него. За эти три месяца я досконально изучил три пола: глинобитный, устеленный домоткаными пестрыми ковриками, паркетный, покрытый огромным персидским ковром, и вагонный, заплеванный, усыпанный окурками. Вагонный пол качался.
Белкина сказала мне, что моих родных похоронили на Байковском кладбище. Она же помогла отправить меня с ее кузиной в Москву. Но туда я не доехал. Поезд остановили вооруженные люди на лошадях. И он пошел совсем в другом направлении. Я оказался сначала в Полтаве, потом в Харькове. Потом в Курске. Потом в Рыльске. Потом были: станция Красное, Моршанск, деревня Голубино, Серпухов, село Пехтерево, Подольск.
До Москвы я добрался только 2 августа 1922 года. За это время я вырос. Взрыв выбил из меня не только детство. Но и что-то еще. Он словно отрезал от меня прошлое. А вместе с прошлым – любовь к нему. За четыре года скитаний я ни разу не плакал о моем погибшем отце. Мать я вспоминал часто, думал о ней. Но у меня и в мыслях не было стремиться к ней, искать ее. Она стала недосягаемой не только в окружающем мире. Но и во мне самом. Лишь горбатая Настенька, моя любимая сестра, дотягивалась из отрезанного взрывом прошлого, являлась по ночам, подолгу застревая в мучительных снах о родном и потерянном. И я просыпался в слезах.
Все четыре года я куда-то постоянно ехал, ехал и ехал. Одна большая и бесконечная дорога стелилась под ноги и тянула, вырывая из очередного уюта, обещая и угрожая, пугая и успокаивая. Я не понимал, куда я еду и зачем. Но меня везли. Ни разу я не был один, ни разу не страдал от голода, ни разу не ночевал под забором или в стогу сена. Меня ни разу не ограбили, не ударили кулаком в лицо, не пырнули ножом. Обо мне заботились. Меня передавали с рук на руки, словно дорогую вещь, навсегда потерянную хозяином. Которую почему-то непременно нужно сохранить. Во всем этом было какое-то чудо. Мамины приживалы, безнадежно дальние родственники, шапочные и деловые знакомые отца, сослуживцы покойного Василия, учителя сестер и, наконец, просто посторонние люди удивительнейшим образом оказывались в нужном месте в нужное время, чтобы помочь «сыну Снегирева». Одни ссаживали меня с переполненного поезда, другие случайно встречали на перроне, третьи окликали на улице, четвертые устраивали на ночлег. Совпадения стали нормой. И я перестал им удивляться. Я просто ехал. Но не знал, куда я еду и зачем. Оказываясь в очередном городе, городишке или поселке, я сразу понимал, что не останусь здесь навсегда. Хотя чувство родного дома взрыв также выбил из меня. У меня не было больше дома. Мне некуда было стремиться. И Васкелово и Басанцы остались только в памяти. И я понимал это.
Пожив месяц или два на новом месте, у новых людей, я чувствовал, что пора ехать дальше. И произносил:
– Мне пора.
Удивительно, но слова мои действовали на очередных хозяев. Не спрашивая, куда я направляюсь, они тут же озадачивались, приходили в движение, что-то предпринимали, кому-то посылали записки, с кем-то договаривались, и через сутки-другие я уже катил в поезде или тащился с обозом туда, где меня ждали.
Дорога вела меня.
Четыре года я добирался до Москвы.
За это время многое произошло. Большевики окончательно победили. Война окончилась.
Россия стала красной.
Петроград
Оказавшись в Москве, я отправился на Остоженку, в уютный деревянный дом бабушки. Но бабушки там уже не было. В доме проживали девять семей рабочих. Женщина, стирающая белье во дворе, сказала мне, что «старушка умерла, как только дом уплотнили». Случилось это год назад.
В Москве я никого не знал.
В Петрограде осталась тетя Флора. На товарном поезде я добрался до Питера и нашел квартиру тети на Мойке. Тетя Флора была жива. Хотя и резко постарела. Она не сразу узнала меня. И сильно испугалась, когда я вошел. Ей показалось, что перед ней мой покойный брат Василий. Потом она плакала и пыталась целовать меня в макушку, как в детстве. Но я вырос. И у нее не очень получалось. Я рассказал ей все. Она крестилась и плакала. И снова пыталась целовать меня в макушку. Я наклонялся.
Тетушка рассказала мне, что двоих наших родственников расстреляли, один уехал в Париж, а ее родная сестра пропала без вести во время Гражданской войны. Имение в Васкелово стало школой-интернатом для беспризорных детей. Про имение в Басанцах она слышала, что его сожгли. Я тоже слышал это в Харькове. Нашу квартиру на Миллионной занял райжилотдел.
Четырехкомнатную квартиру тетушки тоже уплотнили, подселив четыре семьи. Одинокая тетя как вдова буржуя занимала бывшую кладовую. В этой полутемной комнатушке стояли железная кровать, комод красного дерева, швейная машина «Зингер» да несколько икон. Тетушка вытащила из-под кровати сложенный персидский ковер, лежавший раньше в гостиной, водрузила на него одну из своих больших, расшитых подушек и произнесла:
– В тесноте, Сашуленька, да не в обиде. Обживайся!
На этом сложенном ковре, у двери я и обосновался.
Тетушка Флора люто ненавидела большевиков, считая их слугами Антихриста. Жизнь ее была тесно связана с церковью. Бездетная, рано овдовевшая, тетушка проводила в ней большую часть своего времени. Но постричься в монахини, как сделали многие ее набожные подруги после победы большевиков, она не хотела. На пропитание она зарабатывала пошивом одежды да изредка продавала то немногое, что осталось от прежней благополучной жизни. Главные фамильные драгоценности у нее конфисковали при обыске.
Первым делом тетушка сшила мне рубашку и брюки. Во время работы она прочла мне наставление на будущее: я должен окончить гимназию, поступить в университет и получить высшее образование.
– Пока молод – заполняй голову! – повторяла она, качая маленькой, но сильной ногой педаль швейной машины.
Придя в свою гимназию на Крюковом канале, я обнаружил, что она переименована в школу имени Герцена. Из прежних учителей в ней осталась только немка Виолетта Николаевна Кнорре. А из моего класса продолжали учебу лишь двое – толстый увалень Штюрмер да насмешливый и вертлявый коротышка Яновский. Директором стал Борис Иванович Дьяков, типичный русский интеллигент, навсегда полюбивший революцию. Пройдя с ним собеседование, я был зачислен в пятый класс. Восьмого сентября начались занятия, и директор, преподававший историю, рассказал нам, торжественно поблескивая пенсне, как он дважды разговаривал с Лениным.
В этой школе я проучился три года. Поначалу мне нравилось узнавать новое, и я быстро наверстывал упущенное. Школа была прогрессивной: мы не писали классных и домашних работ. Учителя, приглашенные Дьяковым, были настоящими энтузиастами своего дела, они жили только школой, возили нас на экскурсии, играли с нами в лапту и в хэндбол, устраивали диспуты, а зимой, когда школу не отапливали, делились одеждой. Почти все они поддерживали большевиков. Только хмурый и задумчивый учитель рисования был убежденным анархистом и частенько повторял, что Ленин и Троцкий реставрируют государственную машину подавления личности.
В школе имени Герцена я выбрал себе профессию. Вернее – она выбрала меня. Дело в том, что после того рокового взрыва во мне открылась одна способность. Лежа контуженным в кровати и ничего не слыша, я развлекал себя тем, что считал окружающие предметы. Сначала я просто пересчитал их. Затем стал считать их углы. И вдруг обнаружил, что это очень легко. Обсчитывая японскую этажерку покойного Эрнесткюбаидвадонона, наполовину заслоненную шторой, я легко представил ее всю в пространстве и сосчитал число углов: 46. Потом я обсчитал дядин письменный стол: 28. Потом выглядывающую из гостиной люстру с восьмигранными хрустальными подвесками: 226. Так постепенно я обсчитал все углы в дядиной квартире. Их оказалось 822. На этом я успокоился. И, поправившись, совершенно забыл свое необычное занятие.
Но когда нам стали преподавать геометрию, я вспомнил его. С геометрией у меня все было хорошо. Даже не хорошо, а, по словам учителя Георгия Владимировича, «просто исключительно». Я легко решал все задачи, с ходу строил сечения, видел и понимал то, что с трудом давалось другим. К тому же я очень быстро считал. Математика после взрыва стала для меня понятной стихией. Но не могу сказать, что и геометрия, и математика волновали и притягивали меня. Впрочем, другие предметы тоже: я был равнодушен к истории, зоологии, литературе. Рисование и пение мне казалось бессмысленным занятием. Русский язык я постигал с трудом. А французский – просто знал с детства. Меня смутно волновала только астрономия. Даже не астрономия, а сами небесные тела, висящие в пространстве. Представляя Вселенную, я словно терял себя. И сердце мое начинало тяжело биться. Но астрономию нам не преподавали. А математика с геометрией мне просто легко давались. Это и определило цель.
– Снегирев, только в точные науки! О другом не помышляйте! – категорически тряс козлиной бородой Георгий Владимирович.
Я стал готовиться к поступлению в университет. Директор помог мне пройти экстерном четыре класса, и в семнадцать лет я получил диплом о среднем образовании. И поступил довольно легко на физико-математический факультет. Но уже на первом курсе, сидя на лекции по высшей математике, я понял, что мир чисел, теорем и уравнений совершенно не интересует меня. Впрочем, как и физика. Начертательная геометрия была мне понятна еще в десятом классе, в ней, как и в математике, не было никаких притягательных тайн. Я откровенно скучал на занятиях, погружаясь в свои мысли. Но мысли эти не были продуктивными. На меня нападало некое внутреннее оцепенение , и я погружался в него, как в теплую приятную ванну. Надо сказать, что взрыв не только отделил от меня прошлое. Он как бы остановил меня. До него я был живым, общительным, смешливым и непоседливым мальчиком. Я обожал болтать со всеми. И обожал движение. Усидеть минуту спокойно мне было трудно. И при этом я совершенно не задумывался. После взрыва все изменилось: я стал молчаливым, замкнутым, малоподвижным, задумчивым и необщительным. В школе у меня практически не было друзей. Девочки, севшие с нами за парты после отмены раздельного обучения, также не волновали меня. Рядом со мною сидела чернокудрая и черноглазая Рита Резникова, любившая подтрунить над моей замкнутостью и неразговорчивостью.
– Скучный ты, Снегирев, как манная каша, – говорила она.
Я лишь криво ухмылялся в ответ. Шутить и дурачиться на переменах мне было скучно. Я бродил по школьному двору, обходя шумящих и резвящихся однокашников.
В университете общительнее я не стал. Университетская жизнь меня не интересовала. Аудитории бурлили дискуссиями, лекции перерастали в диспуты. Шла борьба между «красной» профессурой и старыми, «буржуазными» профессорами. Комитет комсомола играл в этой борьбе не последнюю роль. Комсомольцы могли прервать лекцию профессора обвинением в «скрытой контрреволюции» или «богоискательском мракобесии». В университет приглашались известные большевики для открытых диспутов. Луначарский спорил с митрополитом Введенским о существовании Бога, Зиновьев выступил с лекцией о роли комсомола в строительстве нового общества, Крупская провела диспут по женскому вопросу.
Я был далек от всего этого. После занятий я уходил бродить по городу. Домой меня не очень тянуло: там стрекотала тетушкина швейная машина да ругались соседки на коммунальной кухне. Бродя по Питеру, я трогал камни. Мне нравилось класть руки на прохладный гранит. От камней шел покой, которого не было в людях. Я прикасался к рубленым цоколям домов, гладил гладкие колонны Исаакия, трогал гривы гранитных львов, полированные пальцы ног атлантов, груди мраморных нимф и крылья мраморных ангелов. Каменные изваяния успокаивали меня.
Придя домой, я съедал скудный обед, оставленный тетушкой, и погружался в чтение книг, взятых мною в университетской библиотеке. В основном это были книги по астрономии и истории Вселенной. Меня волновали планеты и бесконечность звездного мира, окружающего Землю. Иногда я брал книги по минералогии, но не читал, а подолгу разглядывал цветные изображения камней. Я мог это делать часами, лежа на своем ковре. Книг по математике и физике я не читал вообще, довольствуясь только тем, что слышал на лекциях. Художественная литература меня также не интересовала: мир людей, их страсти и устремления – все это казалось мелким, суетливым и недолговечным. На это нельзя было опереться как на камень. Мир Наташи Ростовой и Андрея Болконского по сути ничем не отличался от мира моих соседей, каждый вечер бранящихся на кухне из-за примусов или помойного ведра. Мир планет и камней был богаче и интересней. Он был вечен. Из астрономического атласа я вырвал лист с изображением Сатурна и повесил на стену. Когда тетушка садилась шить, голова ее оказывалась на одном уровне с Сатурном. Но разве можно было сравнить с Сатурном голову тети Флоры, бормочущую что-то про большевиков, про обновленцев и про цены на драп и крепдешин?
В университете астрономию читали только на третьем курсе. Я стал сбегать с занятий по физике и математике и посещать лекции профессора Карлова, известного астронома, специалиста по спектральному анализу планет. Слушая его глуховатый голос, рассказывающий про звездный параллакс, спутники Марса, солнечные пятна, орбиты комет и метеоритные потоки, я закрывал глаза и забывал про все. Я проваливался и повисал в звездном пространстве. И это чувство оказалось сильнее всех других. Это было ужасно приятно. Я переставал слышать и самого Карлова. И забывал про астрономию. Я просто висел среди планет и звезд. Так продолжалось из месяца в месяц. На другие лекции я ходил все реже. С трудом я сдал сессию и перешел на второй курс. Летом все студенты подрабатывали. Я тоже решил помочь тетушке деньгами. Сперва меня устроили на «Красный Путиловец» подсобным рабочим, но на второй день я почувствовал сильное раздражение и угнетение от работающих станков и механизмов. Люди же, обслуживающие эти громоздкие машины, раздражали меня еще больше: в них было что-то обреченно-угрожающее. В самом заводе я чувствовал невыносимое уродство. Я ушел с «Красного Путиловца» и устроился мыть посуду в ресторан при игорном доме на Владимирском проспекте. Заведение содержал типичный нэпман, словно сошедший с плакатов Маяковского – толстый и с неизменной сигарой. Моя посуду, я думал о планетах и звездах. Они всегда были со мной: я следил за орбитами, наслаждался плавным вращением небесных тел.
В сентябре я снова отправился на лекцию Карлова. Курс астрономии длился один учебный год. В сентябре Карлов каждый раз начинал читать свой курс очередному потоку третьекурсников. Я снова с удовольствием погрузился во вводную лекцию. Закрыл глаза. И повис, представив громадную звезду Бетельгейзе. Аудитория № 8 стала моим вторым домом. На другие лекции я совсем перестал ходить.
И однажды, когда я висел, меня тронули за плечо.
– С тобой все в порядке? – спросил женский голос.
Я открыл глаза. Аудитория была уже пуста. Рядом со мной сидела девушка. Она была черненькая, с короткой стрижкой и слегка раскосыми глазами. Которые смотрели насмешливо.
– Ты что, по ночам работаешь? Не высыпаешься?
– Нет… – Я с неудовольствием расстался с моим оцепенением.
– Каждый раз смотрю на тебя, как ты дремлешь на лекциях! – усмехнулась она.
– Я не дремлю, – ответил я, глядя ей в глаза.
Она перестала усмехаться:
– Ты… с какого потока?
– Я второкурсник, – ответил я.
– А почему ходишь к нам?
– Я очень люблю Вселенную, – откровенно признался я.
Она с интересом смотрела на меня. Мы познакомились. Ее звали Маша Дормидонтова. Она наблюдала за мной целый месяц. Студент, всегда сидящий на лекциях с закрытыми глазами и отрешенным лицом, заинтересовал ее. Выйдя из физико-математического корпуса, мы пошли по набережной. Маша задавала мне вопросы. Я сбивчиво отвечал. Она была бойкая, с быстрой реакцией и живым умом. Ее отец служил на флоте. Она же, учась на физика, была увлечена модной наукой – метеоритологией. Пройдясь с ней по городу и послушав ее быструю и эмоциональную речь, я сначала поверил, что ее единственная страсть – метеориты. Блестя раскосыми глазами, она воодушевленно рассказывала мне о метеоритном дожде, зодиакальном свете, железных метеоритах с видманштеттеновыми фигурами и каменных – хондритах и ахондритах. Но довольно быстро выяснилось, что за метеоритологией стоит определенный человек, «смелый, умный и решительный», который ищет теперь в Сибири самый большой метеорит. Говорила об этом человеке она с явным волнением. Его звали Леонид Кулик. Он был старшим научным сотрудником в Горном институте. Маша явно неровно к нему дышала. Я спросил о метеорите, который искал Кулик. Она сказала, что это громадный болид, упавший лет десять назад и наделавший много шума по всей Сибири. Переговариваясь, мы дошли до ее дома на Лиговке, возле Московского вокзала. Маша приветливо со мной простилась, сказав:
– До завтра!
И я побрел к себе домой на Мойку. Встреча с Машей ничего не изменила во мне. Я так же продолжал посещать лекции Карлова, проваливаться и зависать. Машу это интриговало. Она садилась всегда рядом со мной. Сначала она пыталась шепотом задавать мне смешные вопросы. Но я не отвечал. И она перестала. Зато после последнего слова Карлова она толкала меня в плечо, произнося:
– Finita!
И я открывал глаза.
Лекция Карлова всегда была последней. Если Маша не оставалась на факультете по комсомольским делам или не отправлялась к Кулику в Горный, я провожал ее домой. Мы шли пешком или ехали на трамвае. Я всегда провожал ее до дома. Она принимала это как должное. Ожидать от меня мужского внимания она перестала, решив, вероятно, что я «немного не в себе». Назначив меня на роль доверительного уха мужского пола, она изливала мне душу по дороге, рассказывая о сокровенном. Ей это нравилось. Но про Кулика говорила очень осторожно, всегда с волнением. Кулик на три месяца отправился в экспедицию за таинственным метеоритом. Маша «до ужаса» просилась с ним, но в экспедиции был железный закон: женщин не брать. Экспедиция метеорита не нашла. Но точно определила место и время его падения. Когда Маша показала мне вырезку из газеты со статьей Кулика «Тунгусский метеорит», я сразу увидел дату падения: 30 июня 1908 года. И вдруг вспомнил про необычный гром, услышанный матушкой во время родов. Я закрыл глаза. И неожиданно рассмеялся.
– Что с тобой? – спросила Маша.
– Я родился в тот самый день. 30 июня 1908 года, – ответил я.
Она была потрясена таким совпадением. И пообещала рассказать об этом Кулику. А я забыл про Тунгусский метеорит (ведь он уже упал!) и снова погрузился в свой родной мир Вселенной.
Зимнюю сессию я сдал с двумя «хвостами». Но меня, чудесным образом, не отчислили, а обязали пересдать физику и логику в летнюю сессию. Я смутно следил за происходящим не только в университете, но и в стране. Студенты обсуждали ссылку Троцкого в Алма-Ату, борьбу в партийном руководстве, саботаж крестьянами хлебозаготовок, а я проходил мимо или сидел с отрешенным видом. Мне было хорошо. У меня была точка опоры – планеты и звезды. Они были всегда со мной. И я совершенно не задумывался о будущем. Я никуда не стремился. Куда стремиться, если все уже есть ? Я прижимался лбом к мраморному льву. И плыл по орбите Ганимеда, между Ио и Каллисто.
Но вскоре реальность напомнила о себе.
В мае, придя из университета домой, я обнаружил там чекистов. Они производили обыск в нашей коморке. Тетушки не было. Оказывается, в храме, где она прислуживала, провели изъятие церковных ценностей, во время которого тетушка выхватила у чекиста тяжелый крестильный крест и ударила его по голове. Ее арестовали. Меня отвезли в ГПУ на Гороховую и допросили. Но отпустили. Я пытался выяснить судьбу тетушки, но лишь узнал, что она в Крестах и ожидает суда. Прошел месяц. Тетушку осудили на пять лет и отправили на Соловки. Больше я ее никогда не видел.
А через пару недель после суда меня отчислили из университета. Причин было предостаточно: непролетарское происхождение, антисоветчица-тетя, неуспеваемость. И я не был комсомольцем. Секретарь комсомола нашего факультета давно уже окрестил меня «чуждым элементом».
Отчисление я воспринял спокойно. Ведь посещать лекции Карлова я мог и без студенческого билета. А две книги по астрономии я успел украсть из библиотеки. Зато Маша была сильно огорчена. Дважды она ходила к декану и в комитет комсомола, прося за меня, но безрезультатно. Мы продолжали встречаться на лекциях и гулять по городу.
Вскоре я понял, что мне нечего есть: тетушкин запас перловой крупы и льняного масла иссяк. Тогда я продал ее швейную машину. Накупив крупы, сухарей, сала, подсолнечного масла, моркови и чеснока, я наелся и спрятал провизию в комод. Наутро я отправился в университет. Но там меня ожидало то, что я упустил из виду: курс лекций по астрономии завершился. Начинались экзамены. Разочарованный, я поплелся домой. Там тоже ждала новость: в комнате сидел домоуправ. Он сказал мне, что если я не прекращу антисоветскую пропаганду, жильцы похлопочут о моем выселении. Я выслушал его молча. Он вышел, хлопнув дверью. Я понял, что, воспользовавшись моим беспомощным положением, домоуправ просто хочет отнять у меня комнату. Я взял свои две книги по астрономии и вышел на улицу. Стоял теплый и солнечный июнь. Я бесцельно побрел по городу. И почувствовал, что этот город выталкивает меня. Мне не оставалось в нем места. И меня ничего уже не связывало с ним. Я дошел до Невского, свернул и побрел в сторону Исаакия. Мне захотелось положить руки на его колонны. И прижаться лицом к холодному гладкому камню. Я сделал несколько шагов и столкнулся с Машей. Мы столкнулись так сильно, что книги мои упали на мостовую. А ее портфель раскрылся, и из него полезли бумаги.
– Господи… – пробормотала Маша, отпрянув и прижимая ладонь ко лбу: она ударила меня лбом в подбородок.
Я ошалело смотрел на нее. Опомнившись, она расхохоталась. Я помог ей собрать бумаги и поднял свои книги.
– С ума сойти! – она качала головой, смеясь. – Знаешь, я полчаса тому говорила о тебе.
– С кем? – спросил я.
– С Куликом. Хочешь поехать в экспедицию? У них как раз двое заболели дизентерией. А послезавтра они уже отправляются.
Я молча смотрел на нее, потирая подбородок. И вдруг в одну секунду, как тогда, после взрыва, после головокружения, после Киева и сосчитанных углов, я почувствовал, что я в дороге. Я снова в дороге. Нужно было двигаться. Дальше.
И я ответил:
– Хочу.
Экспедиция
Назавтра в 9.00 мы с Машей вошли в здание Горного института. Недолго шли по полутемному коридору и остановились возле двери с новой медной табличкой «Метеоритный отдел». Табличка выглядела необычно. Маша постучала в дверь. Никто не отозвался. Она приложила к двери ухо:
– Господи, неужели он уже на заседании!
– Пока нет, но скоро непременно направится туда, – раздался за нашими спинами высокий и слегка надменный голос.
Мы обернулись. Перед нами стоял худощавый мужчина в очках и с густыми светло-русыми усами а la Ницше. Одет он был подчеркнуто небрежно.
– Леонид Андреич! – пролепетала Маша, и я понял, что она сильно влюблена в Кулика.
– Это ваш protégé? – Кулик глянул на меня своими умными, пристальными и слегка насмешливыми глазами. – Это он родился 30 июня 1908 года?
– Да… это тот самый Снегирев. Его отчислили из университета, но он… – забормотала Маша, но Кулик перебил ее:
– Это меня не интересует. Бывали прежде в экспедициях?
– Нет.
– Так… – Кулик сверлил меня взглядом. – Копать умеете?
– Ну… – замялся я.
– Таскать тяжести?
– В принципе… да.
– В принципе! В общем, так… – Кулик достал часы со стершейся позолотой, глянул, убрал. – В принципе, если что, я выгоню вас с полдороги. А теперь – ступайте за мной.
Он круто развернулся на худых ногах и размашисто пошел, почти побежал по коридору. Мы с Машей поспешили за ним. Кулик свернул раз, другой, взбежал по лестнице и исчез в распахнутой двери одной из аудиторий. Мы вбежали следом.
– Дверь на крюк! – крикнул он нам с кафедры.
Маша привычным движением замкнула дверь. Я сел с краю и вполоборота осмотрелся: в просторной аудитории сидели шестнадцать человек.
Кулик достал скомканный платок и протер очки. Надел их, крепко взялся за кафедру длинными жилистыми пальцами и заговорил:
– Здравствуйте, товарищи. Итак, сегодня мы знакомимся с новоиспеченными метеоритологами в лице новичков и корректируем вектор нашего движения к месту падения Тунгусского метеорита. Учитывая, что от состава прошлогодней экспедиции осталось всего лишь трое, остальных мне пришлось турнуть к свиньям собачьим, вначале я представлю каждого из вас.
Он раскрыл толстую, замусоленную тетрадь и представил собравшихся, называя фамилию и профессию каждого. Меня он не упомянул. Захлопнув тетрадь, Кулик продолжил:
– Теперь я позволю себе сделать краткое сообщение о так называемом Тунгусском метеорите, из-за которого сломано столько копий и пройдено столько километров. Итак, 30 июня 1908 года в Восточной Сибири упал громадный болид. Падение его видели и слышали сибиряки, оно наделало много шума и оставило потрясающие следы: мощнейшая звуковая волна, пронесшаяся по всей Сибири, вывал леса на площади в сотни квадратных километров, световая вспышка и землетрясение, зафиксированное нелицеприятным сейсмографом в подвале Иркутской обсерватории. Метеорит видели не только тысячи безграмотных и суеверных обитателей Восточной Сибири, но и вполне цивилизованные люди из окон поезда под Канском, с которыми я имел длительные беседы. Суммируя свидетельства очевидцев, можно было смело констатировать: в Сибири упал громадный метеорит, вероятно, один из крупнейших, какие валились на землю. Но метеоритика двадцать лет тому назад еще не завоевала неоспоримых прав гражданства как самостоятельная наука. Метеоритами занимались не только ученые, но и откровенные проходимцы от науки, внесшие в историю Тунгусского метеорита много лжи и путаницы. К стыду отечественной науки, никто даже не попытался организовать экспедицию по горячим, в буквальном смысле слова, следам метеорита: дело кончилось десятком газетных и псевдонаучных публикаций. И лишь при советской власти ваш покорный слуга в непростом 1921 году, благодаря личной поддержке наркома Луначарского, сумел организовать первую метеоритную экспедицию. Товарищ Луначарский провел через Наркомпрос необходимую сумму денег, от НКПС направил для экспедиции вагон, а также обеспечил нас необходимым оборудованием. Присутствующий здесь Николай Савельевич Трифонов – предпоследний из могикан той легендарной экспедиции – в пути расскажет вам подробно о первом походе за тунгусским дивом. Первая экспедиция не нашла метеорит, но точно определила район его падения: бассейн Подкаменной Тунгуски, или Катанги, как называют ее эвенки. Систематизировав свидетельские показания очевидцев падения, я сделал вывод в своей статье для журнала «Мироведение»: в 1908 году в Восточной Сибири упал метеорит колоссальных размеров. К сожалению, по ряду объективных и субъективных причин, одна из которых – НЭП, следующая экспедиция смогла выехать в Сибирь из Ленинграда только в прошлом году. На этот раз нам помогли академик Вернадский и лично товарищ Бухарин. Экспедиция № 2 почти дошла до места падения метеорита. Но «почти», товарищи метеорологи, в науке не считается. Ошибка второй экспедиции была в выборе времени. Чтобы пройти по таежным болотам, мы решили отправиться на Катангу в феврале, когда лед наведет естественные переправы через топь. С одной стороны – это помогло, с другой – помешало. Лошади не смогли пройти от Ванавары до места вывала леса по оленьей тропе: снег оказался слишком велик. Договорившись с эвенками, мы вдвоем с Трифоновым поехали на оленях, отправив нытиков и паникеров назад, в Тайшет. Увы, не каждый ученый готов к испытаниям во имя науки! Через трое суток тяжелейшего пути по заснеженной тайге наш неутомимый проводник эвенк Василий Охчен вывел нас к границе вывала леса. Когда мы с Николаем Савельевичем поднялись на сопку и увидели поваленный, переломанный лес, тянущийся до самого горизонта, нам стало по-настоящему жутко и радостно: такое феноменальное разрушение тайги могло произойти только по воле огромного болида! Невероятное зрелище! Столетние лиственницы и сосны были поломаны, как карандаши! Вот какова сила падающего на землю посланца из космоса! Немудрено, что эвенки отказались идти дальше – шаманы запретили им входить в «проклятое место». У некоторых из них во время падения метеорита там погибли олени и сгорели чумы. Охчен на всю жизнь запомнил страшный грохот и огонь с неба. Да! Лес не только был повален, но и горел, опаленный сильнейшей вспышкой от взрыва. Итак, товарищи, вторая экспедиция повернула назад. Экспедиция № 3 находится сейчас в этой аудитории. И мне оч-ч-чень хочется надеяться, что ее не постигнет печальная участь второй экспедиции! Я буду и впредь беспощаден к нытикам и паникерам. Уверен, что среди вас их нет. Итак! За это время нас стало больше. Здесь присутствуют люди разных профессий: астрономы, геофизики, метеоритологи, буровики и даже кинооператор. Студенты-энтузиасты, возжелавшие идти с нами, надеюсь, в полной мере утолят свою жажду к открытиям и приключениям. Мы берем с собой солидное оборудование: аппаратуру для метеоритологических, гидрологических, геологических и фотографических работ, комплекты буров, помпу для откачки воды и различные инструменты. Теперь о маршруте….
Кулик сошел с кафедры, развернул лежащую на столе карту, повесил ее на доску и взял деревянную указку.
– Мы отправляемся завтра с Московского вокзала. Едем на поезде до Тайшета. Там нас встречают тридцать подвод, которые везут нас и оборудование по конному тракту 400 километров до поселка Кежма на реке Ангара, где мы меняем лошадей, садимся верхом и едем по таежной тропе еще километров 200 до поселка Ванавара на самой Подкаменной Тунгуске. В этом поселке – фактория Госторга, снабжающая эвенков продовольствием, порохом и дробью в обмен на пушнину. Последний, так сказать, форпост цивилизации. Место падения метеорита находится в восьмидесяти километрах к северу от Ванавары. Туда мы и пойдем по оленьей тропе. Пройдя в зону вывала леса и определив точное место падения метеорита, мы построим там барак из леса, заблаговременно поваленного для нас метеоритом, справим новоселье и начнем свою научную деятельность. Вопросы?
Полноватый астроном Ихилевич поднял руку:
– Как долго может продлиться экспедиция?
– Коллега, не задавайте метафизических вопросов, – парировал Кулик. – Пока не найдем!
– Пока хватит продовольствия, – заулыбался невзрачный Трифонов.
– Пока мороз не ударит! – подхватил маленький и вертлявый буровик Гридюха.
Студент-энтузиаст с еле различимой бородкой сутуло приподнялся:
– Товарищ Кулик, а правда, что курящих… того… вы не берете?
– Истинная правда, молодой человек! Табачный дым не переношу. И считаю курение вреднейшей привычкой старого мира. Мы с вами строим новый мир. Так что выбирайте – табак или Тунгусский метеорит!
Все засмеялись. Студент поскреб подбородок:
– Ну, того… Метеорит.
– Прекрасный выбор, юноша! – воскликнул Кулик.
Все засмеялись еще громче.
– Ах, Боже мой… – качала головой Маша. – Как ужасно, что он не берет в экспедицию женщин. Это такая ошибка! Я бы дневник вела…
– И еще, товарищи! – посерьезнел Кулик. – Местное население, с которым нам предстоит работать, – эвенки и ангарцы, деньгам предпочитают продовольствие, а более всего – порох, дробь и спирт. Боеприпасов у нас с избытком, а вот спирта нам много не дают. Так что если каждый из вас прихватит с собой фляжку спирта, это заметно ускорит наше продвижение по тайге. Вопросы? Нет? Тогда – за дело, товарищи! Николай Савельевич проинформирует вас.
– Попрошу всех проследовать на паковку багажа, – привстал Трифонов.
Собравшиеся повставали, заговорили. Кулик снял очки и, близоруко щурясь, протирал их:
– Да! Вот еще…
Все тут же смолкли. Кулик надел очки и посмотрел на меня:
– Среди нас будет человек, родившийся в момент падения Тунгусского метеорита.
И я понял, что Кулик взял меня в экспедицию только из-за этого. Все с любопытством повернулись ко мне.
– В каком месте вы родились? – спросил Трифонов.
– В тридцати верстах к северу от Питера, – ответил я.
– Километрах, километрах, юноша! – поправил Кулик. – Гром ваша мамаша слышала при родах?
– Слышала. И не она одна, – ответил я.
– Его в тот день слыхали по всей Руси, – произнес сумрачный геолог Янковский.
– А что еще вам рассказывали про день вашего рождения? Было ли еще что-нибудь необычное? – пристально смотрел на меня Кулик.
– Необычное… – Я задумался и вдруг вспомнил: – Конечно. Было. Родные говорили, что тогда совсем не было ночи. И небо сильно светилось.
– Совершенно верно! – поднял длинный палец Кулик. – Это явление было отмечено на всем побережье Балтийского моря, в северной части Европы и России – от Копенгагена до Енисейска! Аномальное свечение атмосферы!
– О чем писали Торвальд Кооль и Герман Зайдель, – закивал головой Ихилевич. – Яркие зори, массовое развитие серебристых облаков…
– Массовое развитие серебристых облаков… – громко повторил Кулик, задумался и вдруг резко ударил кулаком по кафедре. – В этот раз мы обязаны найти метеорит!
– Найдем! Никуда не денется! Для того и едем! – загалдели все.
– Саша, Саша, как это прекрасно! – Маша повернула ко мне свое раскрасневшееся лицо. – Найди, найди Тунгусский метеорит!
– Постараюсь, – пробормотал я без особого энтузиазма.
Мне просто хотелось куда-то ехать. Ехать и ехать, как тогда.
На следующий день мы отбыли поездом Ленинград – Москва – Иркутск, в котором для нас был выделен целый вагон. Четверо суток до Тайшета прошли в разговорах и спорах, в которых я был пассивным слушателем. В нашем вагоне № 12 спорили на актуальные темы: о коммунизме, о свободной любви, об индустриализации, о мировой революции, о строении атома и, конечно же, о Тунгусском метеорите. Все это сопровождалось отличным по тем временам питанием и бесконечным питьем чая с неограниченным сахаром, что мне, после полуголодной жизни, было особенно приятно. Наевшись конской колбасы, балтийской селедки, вареных яиц, хлеба с коровьим маслом и напившись крепкого чая, я залезал на верхнюю полку и в полудреме смотрел в окно, где проплывали бесконечные вологодские и вятские леса. После уральских невысоких гор их сменил ни с чем не сравнимый сибирский ландшафт, а от Челябинска до самого Новосибирска раскинулось беспредельной ширью дно древнего, по словам Кулика, моря, поросшее сосной и лиственницей. И глядя на этот простор, я засыпал.
Отношения в экспедиции сложились хорошие, все были дружны и благожелательны. Загадочный метеорит, о котором благодаря Кулику уже стали писать в советских газетах, притягивал и будоражил воображение. Мне было приятно думать о нем, лежа на верхней полке. Но я всегда представлял его еще парящим во Вселенной. Так мне было еще приятней . Споры о его составе, скорости и размерах шли бесконечно. Кулик заражал всех своим энтузиазмом, переходящим в фанатизм. За это ему прощались диктаторские замашки, бытовой терроризм и нетерпимость в дискуссиях. В экспедиции он принципиально говорил всем «товарищ», игнорируя имена и отчества. После победы советской власти в России его «научный марксизм» еще более укрепился. Кулик боготворил «железную последовательность Сталина» и верил в грядущий советский экономический рывок, способный «доказать всему миру диалектическую объективность нашего пути».
В Тайшет мы приехали утром.
Нас встретили мужики на добротных сибирских подводах, жаркая солнечная погода и тучи комаров. Такого количества кровососущих насекомых в воздухе я не видел прежде никогда. Всем были розданы панамы с марлевыми забралами, изготовленные по эскизу Кулика, имевшего большой опыт общения с местными комарами. В этих одинаковых серых панамах мы были похожи на китайских крестьян. Погрузившись на подводы, мы тронулись в неблизкий путь по тракту, именуемому нашими ямщиками «шоссе», – широкой, но неровной насыпной дороге. Рытвины и колдобины испещряли ее. К нашему счастью, июнь 1928 года в Восточной Сибири выдался сухим, и грязевые лужи на дороге оказались вполне преодолимыми. Зато мосты через неширокие речки почти все находились в плачевном состоянии и требовали ремонта. Некоторые из них были почти полностью разрушены весенними паводками. Приходилось объезжать их и переправляться вброд. Когда в очередной раз мы, спешившись, толкали свои подводы через шатающийся мост, Кулик цитировал какого-то французского путешественника: «…и по пути нам попадались сооружения, которые приходилось объезжать стороной и которые по-русски назывались ле мост».
Дорога пролегала через холмистую тайгу, поросшую смешанным лесом. Но вершины этих плавных холмов, называемых здесь сопками, были сплошь покрыты густым сосняком. Эти потрясающие девственные массивы напоминали мне гривы спящих чудовищ. Стройные корабельные сосны росли невероятно густо, и когда ветер начинал качать их, они оживали, а вместе с ними и вся сопка словно просыпалась, и казалось – спящий монстр сейчас приподнимется, распрямится и огласит таежный простор могучим ревом.
Но настоящие звери, несмотря на девственность этого края, попадались нам довольно редко: кто-то видел куницу и лося.
Ехали мы крайне медленно, почти неделю, ночуя в небольших деревнях, похожих на северные русские хутора. Вокруг пяти-шести изб, рубленных из столетних сосен и обнесенных внушительным частоколом от зверей, расстилалась бесконечная тайга. Местные жители были нам всегда рады: прямодушные, закаленные суровой Сибирью, они жили в основном охотой, рыбалкой и проезжающими по «шоссе», для которых всегда стоял отдельный сруб с печкой и нарами. Мы платили им порохом и спиртом. Советские деньги здесь были еще редкостью, а сталинская программа всеобщей коллективизации пока не дотянулась до этих диких мест. Хуторяне угощали нас свежепойманной рыбой, жареными грибами, вяленой дичью и неизменной мучной похлебкой, заправленной черемшой, диким луком, сушеной морковью, чесноком и солониной из оленины или лосятины. Ночевали мы вповалку в срубах, банях, овинах и сенных сараях. А наши неприхотливые ямщики ставили на ночь телеги в круг, внутрь круга заводили лошадей, разжигали снаружи круга костры и спали на телегах, накрывшись, несмотря на лето, неизменными тулупами.
На шестые сутки наш обоз прибыл в Кежму.
Крупный поселок в сотню домов стоял на высоком красивом берегу Ангары – широкой и сильной реки. Круто обрываясь, берег переходил в небольшую песчаную отмель, за которой текла эта могучая река. Вода в ней, как и во всех сибирских реках, была холодной и невероятно чистой. Противоположный лесистый берег обрывисто тянулся вдали.
В поселке в основном жили русские, прозванные ангарцами, и редкие обрусевшие эвенки. Те и другие занимались охотой и рыбалкой. Добытая пушнина сдавалась государству за очень небольшие деньги, а рыба, лосятина и оленина надежно кормили круглый год. Домашних животных ангарцы не держали.
В Кежме для нашей экспедиции начал действовать кредит Госторга: мы получили восемь мешков вяленых щук, муксунов и пеляди, три бочки соленой нельмы, бочонок сала и пару мешков рыбной муки. Помывшись и попарившись в сибирской бане, мы отдались гостеприимству тамошнего начальника, бывшего по совместительству председателем сельсовета и хозяином Госторга. С Куликом он держался как со старым приятелем, показывал вырезку из тайшетской газеты о прошлогодней экспедиции. Больше всего начальника радовало, что мы «доперли сюда из самого Питера, где Ильич устроил буржуям карусель». Бывший красный партизан, воевавший на Урале, после победы большевиков он был командирован ими в далекую Кежму «провести линию партии». Прибыв сюда с конным отрядом, он за три дня «окончательно и бесповоротно решил вопрос советской власти в Кежме»: расстрелял двенадцать человек.
– Теперь понимаю – надо было больше… – чистосердечно признавался он за стаканом спирта, разведенного студеной ангарской водой.
В Кежме у него было две жены – старая и новая, которые прекрасно ладили между собой и устроили для нас настоящее пиршество: длинный грубый стол в избе начальника ломился от яств. Здесь я впервые в жизни попробовал пельмени с медвежьим салом и шаньги – маленькие пшеничные лепешки, зажаренные на сковороде и политые сметаной. Про метеорит начальник знал лишь одно: «что-то там грохнуло и повалило лес». В своих напутствиях он был категоричен, советовал с эвенками не церемониться и в случае чего «бить промеж косых глаз прикладом». Неудачу прошлогодней экспедиции он списывал целиком на саботаж коренного населения и «гнилое мягкосердечие» Кулика. Эвенков он звал тунгусами и считал скрытыми врагами советской власти:
– Я поначалу-то думал, раз в тайге в чумах живут, просто едят, просто одеваются, срут на ветру – значит, за советскую власть. А оказалось – кулаки кулаками! Только и считают – у кого оленей больше. Среди них свою революцию надо делать! Своего тунгусского Ленина искать!
Кулик пытался возражать ему, говоря, что главная проблема всех отсталых народов в СССР – поголовная безграмотность, выгодная царскому режиму для эксплуатации, и что партия этим уже занялась, организуя избы-читальни и школы для туземцев, что эвенков, как и всех крестьян и животноводов, скоро начнут коллективизировать, но начальник был непреклонен:
– Андреич, была б моя воля, я бы их по-своему коллективизировал: в вагон да в город на земляные работы. Лопата перевоспитает! А оленей забил бы да голодающим Поволжья отправил.
– Голод в Поволжье победили два года назад, – с гордостью сообщил Кулик.
– Правда? – красномордо улыбался захмелевший начальник. – Ну тогда оленей сами съедим.
Наутро, переложив только необходимую провизию в рюкзаки, мы надели их, сели верхом на местных лошадей и тронулись по более узкому тракту, протоптанному оленями. До Подкаменной Тунгуски от Кежмы предстояло проехать еще 200 километров на север. Обоз с основным багажом тронулся следом.
Тракт шел через сопки. В гору мы ехали шагом, с горы – изо всех сил подгоняли наших тихоходных широкогрудых лошадей. Они тяжело трусили по долгому склону. Потом – снова подъем, и так до бесконечности.
Тайга на сопках изменилась: сосна довольно быстро уступила место лиственнице, смешанный лес сполз в долины, земля постепенно покрывалась мхом и лишайником. Стали часто попадаться звери. Их приветствовали вскриками. В чащобе взлетали дикие птицы, хлопая тяжелыми крыльями. Я видел несколько раз колонков и горностаев. Спугнутые нами, они молниеносно взбирались на лиственницы и исчезали в хвое. Среди нас было два заядлых охотника: буровик Петренко и геолог Молик. На первой же стоянке они отправились за дичью и довольно быстро вернулись с убитой глухаркой. Большую и красивую птицу ощипали, выпотрошили, разрезали на куски и сварили вместе с пшенной кашей. Но мясо ее оказалось жестким и отдавало хвоей. В первую экспедицию Кулик сделал большую ставку на местную дичь, надеясь ею подкормиться. Но ему не повезло: за все время они подстрелили только несъедобную лису и несколько уток. Первая наша ночевка в тайге была непростой: нарубив соснового лапника, мы соорудили себе постели, легли вокруг костра и попытались заснуть, накрывшись верхней одеждой. Но несмотря на теплую летнюю погоду, от каменистой и мшистой земли тянуло вечным холодом, который забирался под одежду. Сверху же нас донимали комары, не унимающиеся даже ночью. Среди комариного племени появились мелкие, проворные и неистовые особи, именуемые гнусом. Тонко, противно пища, они забирались в рукава, лезли в глаза и ноздри. Бороться с ними было невозможно. По совету Кулика мы мазали запястья и шею керосином. Вскоре экспедиция стала вонять как керосиновая лавка. Следующие три ночевки дались так же трудно: люди не высыпались, чертыхаясь и прячась от ночного холода и комаров, а днем тряслись полусонные в седлах. Но Кулик был несгибаем. Он будил нас ровно в шесть часов своим футбольным свистком, который носил в нагрудном кармане, поддерживая в экспедиции железный режим. Этим же свистком он командовал начало движения и остановку. Его главным лозунгом было: ради великой цели можно стерпеть все. В людях он превыше всего ценил волю и целеустремленность, а в материальном мире – книги. Сидя с нами у костра, он рассказал, как в ссылке ему помогла бросить курить книга Шопенгауэра «Мир как воля и представление»:
– Сутки я читал, а наутро вышел из своей лачуги, подошел к проруби и высыпал туда весь годовой запас табака со словами: «Пускай теперь рыбы курят. А я – человек воли!»
Как и многие социал-демократы, ставшие большевиками, он жил будущим, свято веря в новую советскую Россию.
– Наука должна помочь революции, – повторял он.
Ленинский план ГОЭЛРО он считал гениальным и провидческим, а сталинскую программу индустриализации и коллективизации – велением времени. Но его главной страстью все-таки был Тунгусский метеорит. Заговаривая о нем, Кулик забывал про Сталина и ГОЭЛРО.
– Вы представьте себе, товарищи, кусок, отколовшийся от другой планеты, отделенной от нас миллионами километров, лежит где-то здесь, неподалеку. – Кулик делал паузу, поправлял очки, в которых отблескивало пламя костра, и слегка поднимал голову к неярким сибирским звездам. – И в нем – материя иных миров!
От этой фразы у меня мурашки пробегали по коже: родной мир планет всплывал в памяти. Засыпая на куче сосновых веток, накрывшись с головой от гнуса, я представлял этот загадочный кусок иных миров, в черном безвоздушном пространстве подлетающий к Земле и переливающийся всеми цветами радуги. Он кружился в моей голове. И проваливаясь в сон, я считал его углы…
Наконец к вечеру четвертого дня, опухшие от гнуса и разбитые от тряской езды по сопкам, мы подъехали к Ванаваре.
Десяток новых деревянных домов лепились на самом берегу Подкаменной Тунгуски: пару лет назад факторию отстроили заново. На самом солидным срубе виднелась крупная белая надпись ГОСТОРГ и висел полинялый красный флаг. Вокруг поселка расстилался потрясающий по красоте ландшафт: очень высокий, круто-скалистый берег реки, приютивший факторию, со всех сторон окружала густая тайга. Противоположный южный берег, наоборот, был довольно низким, и за ним далеко-далеко, до самого горизонта зелено-голубыми волнами разбегались бесконечные сопки, залитые лучами заходящего солнца. В вечернем розовато-голубом небе с проступившей луной парили орлы. Их короткие переклики были единственными звуками, нарушающими абсолютную тишину.
Но завидя нас, залаяли собаки и вышли люди. Кулика и Трифонова встретили как родных. Для заброшенной в тайге фактории наше появление стало событием. Была срочно устроена баня, стоящая внизу на реке. Дров для нее не жалели, в парной клубился густой пар. Когда мы, напарившись до помутнения в глазах, выбежали на деревянный мосток и кинулись в холодную Тунгуску, уже стемнело. Белые северные ночи миновали, и густо-синее небо с россыпью звезд повисло над нашими головами. Перевернувшись на спину и чувствуя сильное течение реки, я смотрел на звезды. В Сибири они были выше и казались совсем далекими.
Нас накормили ухой и шаньгами, уложили спать. Наутро я осмотрел факторию. В ней жили двадцать восемь русских, шестнадцать эвенков, три китайца и двое чеченцев, сосланных сюда еще при царе за кровную месть. Здесь они занимались кузнечным делом. Госторг же, как и везде в Сибири, скупал за бесценок пушнину у эвенков и местных охотников, торгуя тем, что завозилось обозом. Зимой пушнину возили в Кежму на оленьих санях.
Через пару дней приполз и наш обоз. В пути не обошлось без приключений: лошадь сломала ногу, и ее пришлось пристрелить, а двое ямщиков сбежали, прихватив три ружья и рюкзак боеприпасов. Но Кулика это не очень огорчило: он был рад, что довезли оборудование и съестные продукты. Вообще по прибытии в Ванавару он стал нервничать и часто выходил из себя даже по пустякам. На меня он накричал, когда я уронил барометр, а двум буровикам пригрозил изгнанием за небрежное обращение с багажом. В экспедиции был один тридцатилетний астроном, Яков Ихилевич, непрерывно ведущий профессиональные «метеоритные» разговоры с Куликом. Почти всегда они заканчивались спорами на повышенных тонах, причем первым срывался Кулик, упрекая Ихилевича в «узколобости и метафизическом мышлении». Математик по образованию, Ихилевич, делая расчет падения метеоритов, вывел собственную универсальную формулу, по которой метеорит крупнее 248,17 тонны не может упасть на землю, не расколовшись на очень мелкие части. Он был абсолютно уверен, что от Тунгусского метеорита почти ничего не осталось, и оказался в экспедиции только для подтверждения своей теории. Кулик же, жаждущий найти упавшую с неба «материю иных миров» в виде огромной глыбы или многотонных кусков, взял с собой «зануду Ихилевича, дабы посмеяться в его лице над всеми кабинетными учеными червями». Засыпая у костра, я нередко слышал сквозь сон глухое, до тошноты обстоятельное бормотание Ихилевича и резкий, высокий голос Кулика.
Но в Ванаваре бесконечным дискуссиям с Ихилевичем пришел конец. Едва низкорослый, похожий в своем пенсне на сову Яков Иосифович заикнулся о «распылении гиперметеоритной массы при ударе», Кулик оборвал его:
– Коллега, если вы пошли с нами, чтобы мешать, я вас отправлю назад.
Это было слишком. Ихилевич обиделся и перестал разговаривать с Куликом. Ссора усилила всеобщее возбуждение. До зоны вывала леса оставалось всего 80 километров. Молодежь рвалась вперед, но наученный прошлым опытом Кулик на этот раз хотел все просчитать и подготовить. Двигаться дальше суждено было по узкой оленьей тропе. Обозы по ней пройти не могли. Вся поклажа навьючивалась на лошадей. Решено было продвигаться двумя группами: первая с легкой поклажей выезжает на лошадях, через двадцать верст разбивает лагерь, готовит еду и ночлег; вторая группа ведет тяжело навьюченных лошадей шагом и к вечеру приходит в лагерь; там все ночуют, наутро группы меняются местами: кто прежде вел лошадей, едут на них верхом вперед, чтобы разбить новый лагерь. Кулик планировал преодолеть «тропу Охчена» за четверо суток. Треть провизии оставалась на фактории и должна быть подвезена нам уже силами ванаварцев.
Сам Василий Охчен, прошлогодний проводник Кулика, появился в Ванаваре на следующий день после нашего прибытия. Пятидесятилетний эвенк пришел со своего становья, что в двух днях хода, вместе со своим племянником. Как он выразился: «Охчен почуял, что бае приехал». Бае Кулик был рад ему, хотя отчасти из-за страха Охчена перед «проклятым местом» экспедиция № 2 повернула назад. Охчен был немногословен. Но наш спирт развязал ему язык. Спрашивали его, конечно же, про «огненный шар».
– Моя тогда там с оленями на Чамба стоял. А брат моя на Хушма с жена ушел, там рыба ловил. Вдруг Он напал. Шибко шумел, лес ломал, землю ворочал, оленей кончал. Брат руку ломал, жену терял. Мы бежать сюда на Катангу. Там теперь никто нету – ни человек, ни олень, – цедил он слова, посасывая свою узкую костяную трубку.
Охчен был уверен, что с неба ничего не падало, а просто грозный зверь Холи (мамонт), живущий в подземном мире Хергуи, куда раньше спускались шаманы, чтобы глотать его дыхание и набираться сил, разгневался на людей и потряс землю. А небесные птицы агды с пышущим из клювов пламенем вместе со своим братом учиром (смерчем) помогли ему – валили лес и поджигали его. Произошло это, потому что шаманы стали часто пить огненную воду (спирт) и забыли Холи. Совершенно опьянев, Охчен рассказал, как однажды мальчиком слышал голос Холи:
– Зима был очень крепкий, кедр трещал, олень не шел. Когда Сохатый (Большая медведица) на дыбы встал (в полночь), земля на Хушма открылся, пар пошел, и Холи оттуда кричал: «О-о-о-о!» А моя упал и лежал. Моя очень Холи боялся.
Вместо себя Охчен предложил в качестве проводника своего восемнадцатилетнего племянника Федора:
– Он тайга хорошо знает.
Федор молчал, кивал и улыбался. Охчен дал ему берданку и два ножа.
Рано утром первая группа выехала во главе с Куликом и Федором. Я был во второй. Мы тронулись в полдень. Нас вел Трифонов. Навьюченные лошади шли шагом. Мы вели их под уздцы по оленьей тропе. Каждую зиму олени протаптывали ее, ломая кустарник и молоденькие деревца, поэтому тропа не успевала за лето зарасти. Местами, впрочем, и она зарастала, но шедшие впереди с топорами двое ванаварцев лихо прорубали дорогу. Тайга здесь была гуще ангарской. Белый, серый и зеленый мох стелился под ногами. Здесь я впервые заметил, что в тайге нет полян и травяных просветов: свободное место моментально зарастает кустарником и подростом. Не зарастают лишь водоемы и болота. Быстро идти можно только по звериным тропам. Но не успели мы пройти и половины пути до лагеря, как хлынул сильный ливень. Пришлось надеть бушлаты и продвигаться гусиным шагом. К лагерю мы пришли сильно за полночь. Первая группа тоже попала под ливень и потеряла патронташ. Промокший и сердитый Кулик кричал на всех. Поев пшенной каши с салом и напившись чая, мы завалились спать в мокрые палатки. А уже в шесть Кулик разбудил нас.
Тем не менее до границы вывала леса мы добрались за четверо суток, как и планировалось.
Но по дороге со мной стало что-то происходить. Во время третьей ночевки я вдруг увидел мой навязчивый детский сон, который не снился мне уже лет десять. Я снова стоял у моей великой Горы, мучительно поднимая взгляд по ее бесконечному склону к вершине. И снова я разваливался, как булка в молоке. Снова трепетал перед большим и непонятным. Снова поднимал руками свою голову. Но свет, пролившийся на меня с вершины, был слабым и каким-то робким, словно Гора потухала, как вулкан. Я не исчез в Свете, как в детстве, не растворился в нем, не умер от его необъятной мощи. Во всем сне была какая-то печальная обреченность. Что-то умирало и уходило навсегда. Это потрясло меня: моя Гора умирала. Рыдая, я стоял перед ней, держа свою голову. Я смотрел на вершину. И со мной ничего не происходило! Я видел, как гаснет Свет. Но я не мог допустить этого. Надо было помочь Горе, спасти ее. Надо было напрячься изо всех сил, что-то делать, делать, делать, делать в себе. Как в детских снах, когда машешь, машешь, машешь руками и вдруг летишь. Я весь напрягся. Но свет Горы затухал. Я махал руками, рычал, подпрыгивал. Но почувствовал, что мои мышцы, кости, мозг и голос не связаны с Горой. Они никак не влияют на нее. Но во мне есть что-то , что связано с ней напрямую. Но что?! Свет исчезал! Он таял, уходил. Я понял, что он уходит НАВСЕГДА! Рыдая от бессилия, я плясал, вопил, бил ногами в землю. Не помогало. Я вцепился в свое тело, стал ломать и рвать его, ища то, что связано с Горой. Я искал в своем теле, как в земле ищут клад. Пальцы разрывали мышцы, протыкали кожу. Стало больно. Очень больно. Это не остановило меня. Гора умирала. «Не умирай!!» – рыдал я, кромсая свое тело. И вдруг палец, пройдя между ребрами, тронул сердце. И в сердце что-то стронулось , сдвинулось с места. Словно что-то спящее в нем вздрогнуло. Но не проснулось. В сердце жило что-то другое , что-то помимо самого сердца. И именно это было связано с Горой. Надо разбудить это ! Но – как?! Я стал бить кулаками в грудь, кричать на свое сердце. Но это не помогало. Свет уходил! Я вонзил пальцы себе в грудь, вцепился в ребра и потянул. Ребра затрещали. Ломая ребра и крича от боли, я засунул себе в грудь руку и нащупал сердце. Теплое и упругое, оно равнодушно билось под моими пальцами. Я сильно сжал его. Сердцу стало нестерпимо больно. Но боль не помогла разбудить то , что дремало в сердце! Оно жило само по себе! Я сжал сердце изо всех сил. Закричал и проснулся.
– Что, кошмар? – спросонья спросил невозмутимый кинооператор Чистяков, с которым мы спали в одной палатке.
– Да, да… – пробормотал я.
– Пейте йод на ночь, юноша…
Мне было жарко и душно. Руки мои тряслись в темноте, рот пересох. Я потрогал грудь: цела. Кое-как выбравшись из спального мешка, вылез из палатки. В тайге светало. Я сел на влажный мягкий мох возле палатки. Его прохлада успокаивала. Дрожащие пальцы залезли в него. Лицо мое было в поту. Успокоившись, я напился воды и потрогал грудь. Она болела, словно я действительно пытался разломать грудную клетку.
Когда мы тронулись в путь, я почувствовал тревогу и возбуждение. Они нарастали с каждым шагом лошади. Последний переход все преодолевали вместе. Кулик торопил, проводник Федор что-то напевал на своем языке, Чистяков снимал, Ихилевич рассказывал студентам о комете Галлея. Тайга поредела, появились небольшие болотца, поросшие кочками. На привалах с них собирали чернику и голубику. Тропа наша расширилась, идти стало легче. Все ждали встречи с неизведанным и оживленно переговаривались. Я же шел молча, ведя под уздцы свою неказистую пегую лошадь. Возбуждение мое нарастало, сердце часто билось. Это заставило вспомнить кружку со спиртом и кокаином, поднесенную мне, тринадцатилетнему, мешочником Самсоном на станции Красное. Тогда я не спал всю ночь, что-то бессмысленно долго и энергично обсуждая с полуграмотными мешочниками, подсмеивающимися надо мной. Сейчас же мне совершенно не хотелось ни с кем разговаривать. Я шел и шел по мшистой тропе, обходя деревья, прислушиваясь к ударам своего сердца.
Вечером мы вошли в зону вывала леса.
Это произошло неожиданно для меня. Экспедиция наша сильно растянулась: нетерпеливый Кулик с Федором вырвались вперед, молодежь догоняла их. Я со своей лошадью брел последним, хмуро глядя под ноги и вспоминая странный сон. Вдруг солнце ударило мне в глаза. Это было странно и неожиданно: обычно вековая тайга скрывала солнце, лучи его застревали в густой хвое. На миг мне показалось, что сейчас раннее утро:
сказывался недосып последних ночей. Но вспомнив, что мы идем на северо-запад, я опомнился и поднял голову.
Вокруг не было векового леса! Он весь лежал на земле. А вместо него рос невысокий молодой и довольно редкий подлесок. Впереди словно раздвинули занавес. И стало далеко видно: сопки, между которыми заходило солнце, до самого горизонта тоже стояли голыми, без тайги, слегка подернутые зеленью. И я увидел нашу экспедицию, сильно ушедшую вперед. Маленькая фигурка Кулика сняла с плеча ружье и выстрелила вверх. Остальные победоносно закричали. Тропа пересекалась с первым лежащим деревом. Я подошел к нему, опустился на корточки. Могучая лиственница лежала во всю тридцатиметровую длину с вывороченным корневищем. Ствол ее местами был тронут прелью, кора почти везде облупилась, ветки отломились. Рядом, почти параллельно лиственнице, лежала такая же толстая и длинная ангарская сосна. Сломанный в середине ствол ее порос мхом и грибами. Дальше начинался поваленный лес. Все деревья лежали вершинами ко мне, корневищами – к заходящему солнцу. То тут, то там торчали из земли стволы переломанных великанов, удержавшихся корнями за землю, но не спасших своих вершин от страшного удара воздушной волны. Погибший лес впечатлял размахом и силой внезапно налетевшей смерти. Я положил руку на посеревшую и потрескавшуюся лиственницу, испещренную древоточцами. Сердце мое затрепетало, в глазах помутнело. И вдруг мне стало ужасно приятно. Так приятно и хорошо, как бывает только в детстве. Когда вокруг все большое и громкое, а ты совсем маленький, но есть теплая и навеки родная ладонь, которая согреет и защитит, в которой ты лежишь, как в ракушке. Глаза мои наполнились слезами. И непроизвольная струя моей мочи тепло и нежно потекла по ногам. Я разрыдался. Лошадь покосилась на меня, протянула равнодушную морду и ухватила кустик зверобоя, выросший на трухлявом боку сосны. Я рыдал и мочился, совершенно забыв, кто я и где. Моча иссякла, я всхлипнул и встал. Ноги мои дрожали. Я вытер слезы и посмотрел на свои черные шерстяные штаны. Моча сочилась из них. Я расстегнул штаны и как мог отжал их. В голове было пусто, сердце часто билось. Лошадь жевала. Я взял ее под уздцы и повел меж двух поверженных деревьев. Вывороченные грозные корневища их почти смыкались. Навьюченная жующая лошадь всхрапнула, когда мы протиснулись между ними.
Подойдя к другим, я встал со своей лошадью неподалеку. Все шумно радовались и не уставали удивляться фантастическому ландшафту. Кулик был так возбужден, что готов был идти дальше. Но солнце село. Разбили лагерь, развели большой костер из сухих веток поваленных деревьев. По случаю выхода к месту Кулик разрешил выпить спирта. Все быстро повеселели, галдели, стали петь песни. Захмелевший Кулик спел старинную песню каторжан, услышанную им в ссылке. Я держался поодаль и молчал. Мне совершенно не хотелось разговаривать. Сидя у костра, я смотрел в огонь. Мне протягивали фляжку со спиртом, совали еду. Я мотал головой: есть я тоже не хотел. Мне было хорошо. Приятное оцепенение охватило тело. На меня не обращали внимания. Сердце мое стучало, я прислушивался к нему. Вскоре я залез в палатку и заснул глубоким сном без сновидений.
Встал я отдохнувший, но по-прежнему неспокойный. Глядя на вставшее солнце, я вдруг понял, что не случайно попал в это странное место. Что-то крепко связывало меня с этим безжизненным пейзажем. И что-то ждало впереди.
Разложили огонь, согрели чая. Но за быстрым походным завтраком мне опять не захотелось разговаривать. Да и аппетита не было. Я взял сухарь и, макая в чай, стал сосать.
– Как ты думаешь, Снегирев, он железный или каменный? – спросил студент Аникин.
Я пожал плечом.
– Я почему-то уверен, что каменный, – блестел очками заросший редкой щетиной Аникин.
Я снова пожал плечом.
Мы двинулись вперед.
Кулик определил маршрут по направлению лежащих деревьев. Мы должны двигаться от вершин к корням, то есть в ту сторону, откуда пришла воздушная волна. Пройдя километров пять по мертвой тайге, я вдруг заметил, что исчезли тучи гнуса, постоянно преследующие нас. И совсем перестали петь птицы. Молодые деревца робко росли между полегших исполинов. Кругом стояла абсолютная тишина. В ней робко звучали наши шаги, голоса, всхрапывание лошадей. Тишина была гораздо больше нас. Постепенно голоса смолкли, люди шли молча, завороженные и подавленные. Иногда попадались оленьи черепа и кости, пару раз я видел лосиные рога, торчащие из мха. Ни одного звериного шороха не нарушало тишину. Только мертвый лес проплывал мимо.
Постепенно сопки сгладились, болот стало больше. Мы обходили их. Вечером, как обычно, остановились на ночлег. Но прежнего веселья не было. У костра все выглядели усталыми, ели почти молча. Даже Кулик как-то притих. Худой и остроносый, с густыми, топорщащимися усами, в своих больших круглых очках, он напоминал вспугнутого зверька.
Я же у костра опять почувствовал нарастающее возбуждение. Но оно больше не сопровождалось страхом и беспокойством. Мне было спокойно. И я совершенно не устал, хотя прошел со своей лошадью пятнадцать километров, обходя болота, пробираясь через бурелом, переступая через замшелые стволы.
Спали мы на этот раз в палатке с Аникиным. Он долго ворочался и теребил меня разговорами. Я же мычал что-то в ответ, лежа в темноте с открытыми глазами. Спать мне не хотелось.
– Вообще страшновато здесь, а, Снегирев? Вакуум какой-то… – бормотал засыпающий Аникин. – Недаром эвенки сюда не ходят. Хотя, конечно, предрассудки… о-о-о-э-э… все-таки, черт побери, какова сила энергии космоса! Вот что надо покорить человеку… о-о-э-э…
Он заснул.
Я лежал, отдавшись своему чувству. Что-то приятно-мучительно просыпалось внутри меня. Я не понимал – что, но оно было связано с местом, где я оказался. Это я чувствовал точно. Сердце мое как-то по-новому билось.
И замирало, останавливаясь. И в этом была радость предчувствия чего-то огромного и как-то по-новому родного. Оно росло, как тяжелая волна. И неумолимо надвигалось. Я трогал себя и старался дышать осторожно. В ту ночь я так и не заснул. Она пролетела быстро. Я встал раньше других, разложил погасший за ночь костер, сходил с нашим большим чайником на болото за водой и, подвесив его над огнем, сел рядом. Глядя на языки пламени, ползущие по сухим сучьям, я вспомнил свое прошлое. Оно показалось мне призрачным и зыбким. И стояло передо мной застывшей картиной под стеклом, словно гербарий в музее. И эта картина не вызывала никаких чувств. Благополучное детство, налетевшая как смерч революция, потеря семьи, скитания, учеба, одиночество и сиротство – все навсегда застыло под стеклом. Все стало прошлым . И отделилось от меня. Настоящим была только новая радость моего сердца. Она была сильнее всего.
Чайник закипел и пустил струю пара. Вид его был грозным и глупым. И я расхохотался.
– Над чем смеетесь, товарищ Снегирев? – раздался сзади голос Кулика.
Я даже не обернулся. Кулик тоже стал прошлым, как и вся экспедиция. За эту ночь я потерял интерес к нему. Он стал маленьким и беспомощно-грозным. Как чайник. Посмеиваясь, я кинул в огонь сучок.
– Ступайте, разбудите остальных, – сказал Кулик, протягивая мне свой футбольный свисток.
Я молча встал, взял свисток и оглушительно засвистел. Я свистел долго. Кулик внимательно посмотрел на меня.
– С вами все в порядке? – спросил он, когда я перестал.
Я не ответил. Мне ужасно не хотелось говорить. Каждое слово возвращало меня в прошлое. Ответить Кулику «спасибо, со мной все в порядке» означало вернуться назад, за стекло . За завтраком я снова молчал. Мне протянули сухарь и вяленую пелядь. Они выглядели убого. Я не притронулся к ним, положил на клеенку. Из берестяного туеска насыпал себе в ладонь голубики, съел и запил чаем. Кулик провел короткую летучку, сказав, что «до тайны осталось совсем немного». И мы тронулись в путь.
Я снова шел сзади. Окружающий ландшафт не изменился. Экспедиция продвигалась через поваленный лес. И чем дальше углублялась в него, тем восторженней и сильнее внутри себя я становился. Я вел свою лошадь без устали, помогая ей перешагивать через лежащие на земле стволы, пробираясь через завалы, вытягивая из болотной жижи. Болотистая местность дала о себе знать: к обеду все были грязными – люди и лошади. В отличие от меня все стали быстро уставать и раздражаться. При этом нарастала всеобщая угнетенность: мертвая зона настораживала. Вспыхивали ссоры. Янковский обвинил ванаварца Урнова в воровстве сахара. Ванаварец крестился и божился, что не брал. Ихилевич, молчащий последние дни, вдруг в дороге разразился полуистерической лекцией о теории звездных взрывов, в конце которой он почти закричал, что «наука не позволит дуракам шутить с собой». Кулик зло подсмеивался над ним. Два студента постоянно до хрипоты спорили, кому вести какую лошадь и что на ней везти. Их прозвали «братья Гракхи». Охотники Петренко и Молик четырежды за день поднимали с болота уток, но убили только одну. У Чистякова что-то сломалось в кинокамере, он постоянно чинил ее и грязно ругался. Трифонов делал ему замечания.
Вскоре мое нежелание разговаривать было замечено. Так же заметили, что я практически перестал есть. За моей спиной переглядывались и перешептывались. Кулик и Трифонов пытались разговорить меня, спрашивали о самочувствии. Я только пожимал плечами и улыбался. Во время походного обеда, когда все с жадностью набрасывались на пшенную кашу с салом и вяленую рыбу, я ел ягоды и пил чай. Обычно во время обеда еда выкладывалась на большую клеенку, вокруг которой все рассаживались. На клеенке лежали: сухари, вяленая рыба, сало, лук, кусковой сахар. В центр клеенки на дощечку ставился котел с пшенной кашей, заправленной салом и сушеной морковью. Из него все черпали деревянными ложками. Мисок в экспедиции не было, Кулик говорил, что они только гремят в пути и требуют времени на помывку. После каши в жестяные кружки разливался густой чай. Его пили с сахаром вприкуску, чай внакладку Кулик пить запретил. Сидя в кругу, я пил чай из кружки и смотрел на едящих людей. Пища их казалась мне уродливой. Впервые за всю свою недолгую жизнь я вдруг разглядел, что едят люди. Они ели либо мертвое, либо переработанное, измельченное, перемолотое, высушенное. Вяленая сморщенная рыба и сухие сухари вызывали у меня одинаковую неприязнь. Из всего, что во время обеда выкладывалось на клеенку, только луковицы и ягоды не вызывали у меня отвращения. Они были нормальной едой. Иногда я брал луковицу и съедал, запивая чаем. На меня косились. Аникин, с которым я спал в палатке, стал со мной немногословен. Он больше не рассуждал о метеоритах и кометах. Лежа вечером в палатке, я услышал разговор Кулика и Трифонова:
– Снегирев, похоже, чокнулся. Надо что-то с ним делать.
– Что? Изолировать от общества? И куда же?
– М-да… некуда. Присматривайте за ним. Все-таки он наш талисман.
– Вы стали суеверны?
– На время экспедиции. Осуждаете?
– Нисколько. Я же диалектик.
– Ну, батенька, я тоже не метафизик!
Они рассмеялись в темноте.
Вторую ночь я провел в полусне. Мое состояние было прекрасным. Бодрость и энергия переполняли меня. И я жил только настоящим: прошлое было забыто. Мне хотелось одного: чтобы радость моего тела не кончалась. Ради этого я готов был на все.
Утренняя летучка прошла нервозно. В экспедиции начался ропот: пройдено тридцать километров по зоне вывала леса, а следов падения метеорита нет. Ихилевич и Потресов старались убедить всех, что метеорит взорвался в воздухе. Кулик грубо одернул их, назвав «малодушными ренегатами». Геологи предлагали пройти еще немного и развернуть строительство барака. Буровики, которые почему-то устали больше всех, поддержали их, советуя начать строить прямо здесь. Студенты, завороженные странным местом и измотанные дорогой, были готовы на все. Но Кулик и Трифонов настаивали на движении вперед. Я же слушал перебранки и споры, радуясь, что я не такой, как они, что мне дано что-то , что заставляет петь мое тело. В отличие от остальных я был счастлив. И мне было все равно – идти дальше или остановиться здесь.
Наконец Кулик не выдержал и засвистел в свисток: знак начала марша. Спорить с ним было бесполезно – начальником экспедиции был он. Навьючив поклажу на лошадей, экспедиция тронулась в путь. Сами лошади чувствовали себя неплохо: на болотцах было достаточно сочной травы, они паслись там ночами и во время стоянок.
Километров через шесть поваленный лес изменился: почти все стволы были переломаны пополам, вывороченных с корнями практически не стало. Лес как бы воскрес, но в виде высоких пней. Эти пни стали расти вверх с каждым километром. А еще через шесть километров старый лес восстал: деревья стояли целые, но были смертельно обожжены. Все они засохли и умерли. Этот стоящий мертвый лес выглядел еще необычнее поваленного. Здесь практически не было молодого подроста.
Экспедиция остановилась. Кулик дал команду разбить лагерь. Пока мы ставили палатки и готовили еду, они с Трифоновым и Чистяковым сели на лошадей и отправились вперед. Вернулись к вечеру. Кулик велел всем собраться и сделал важное сообщение: впереди большое болото. Вокруг него – выжженный лес. Судя по всему, метеорит взорвался высоко над болотом. Если бы он упал на землю, лес был бы полностью повален. Но лес, находящийся непосредственно под взрывом, лишь обгорел от вспышки, но устоял, так как направление ударной волны было строго вертикально, она шла с неба. Кулик предлагал переночевать, а завтра выйти к болоту, разбить там постоянный лагерь, построить барак и начать поиски осколков метеорита. В завершение своей речи он поздравил экспедицию с выходом к месту падения. Все, кроме меня, зааплодировали и радостно закричали. Буровики предложили выпить по этому поводу, но Кулик осадил их:
– Никакой выпивки! Праздновать будем, когда найдем осколки.
Больше остальных радовался Ихилевич: его гипотеза взрыва гиперметеорита оказалась верной. Но Кулик не выглядел разочарованным. Он был уверен, что вокруг болота разбросаны большие осколки. Все опять заспорили, теперь уже об осколках. Спор затянулся. Я же в темноте бродил вокруг лагеря. Мертвый лес стоял кругом. Луна освещала голые обугленные стволы. Мне было очень хорошо: радость причастности к этому удивительному месту переполняла меня. Каждое мое движение, каждый поворот тела, каждый вздох, каждое прикосновение пальцев к траве или к стволам вызывало сердечный восторженный всплеск. Сердце трепетало и пело. Кровь, нагнетаемая им, стучала в моих висках, играла радугами в глазах, звенела в ушных раковинах. Бродя меж стволов, я чувствовал, что где-то здесь, совсем рядом меня ждет что-то огромное и родное . Это оно заставляет сердце петь. Ради него я пришел сюда. И оно ждет меня. Одного меня. ТОЛЬКО меня!
Ночью я опять не спал.
С утра пораньше тронулись в путь. Кулик сказал, что до болота километров восемь. Это приободрило экспедицию. Все шли радостные, оживленно переговаривались, нарушая мертвую тишину. Впрочем, она была не совсем мертвой. Опаленный лес таил в себе реальную опасность: деревья за двадцать лет успели подгнить. При сильном порыве ветра некоторые из них рушились на землю. Звук падающего дерева далеко разносился эхом. Все замирали, слушая, как валится очередной великан. Потом продолжали движение, оглядываясь. Погода стояла чудесная: было по-летнему тепло, грело солнце.
К трем часам пополудни мы вышли к болоту. Оно простиралось вперед на несколько километров. За ним сквозь легкий болотный туман виднелись далекие сопки. Вокруг болота стоял опаленный лес. Чистяков, отошедший по нужде, нашел родник, бьющий из каменистой почвы и извилистым ручьем впадающий в болото. Вода в нем была удивительно чистой и вкусной. После кипяченой болотной воды все впервые за последние дни напились родниковой. Роднику сразу присвоили имя Чистякова. Кулик подошел к обгоревшей сосне с отломанной макушкой, вытащил из-за пояса свой самодельный кельтский топорик и вонзил в ствол:
– Тут будет лагерь заложен!
Путешественники закричали «Ура!», сняли свои «китайские» шапки и подбросили вверх. Был объявлен праздничный банкет. Все яства, которые только были в экспедиции, оказались на клеенке. На костре сварили гречневую кашу, заправили ее салом, луком и соленой нельмой. Фляжки со спиртом пошли по рукам. Я сидел, ел ягоды и пил воду. На меня уже не обращали внимания. Все быстро захмелели. Говорились тосты, хвалили Кулика за прозорливость и за правильно выбранный маршрут, пили за «шибко смелого» проводника Федора, за неутомимого Трифонова, фанатичного Ихилевича, несгибаемого Чистякова, храбрых Молика и Петренко, мужественных Янковского и Потресова. Студенты пили за буровиков, буровики за геологов, геологи за астрономов. Племянник Охчена быстро и сильно опьянел, пел тунгусские песни, щелкал языком и глупо хохотал. Буровик Гридюха подпевал ему по-украински, вызывая всеобщий хохот. В конце концов двум студентам стало плохо. Не пили только я, Ихилевич, не переносящий алкоголя, да чопорный геолог Воронин. Кончилось все сильно за полночь.
Когда лагерь захрапел, я снова стал ходить вокруг. Звезды и луна скрылись за облаками. Но северное небо даже ночью было светлым. Я бродил меж обугленных деревьев, трогал их стволы, садился на мшистую землю, потом вставал, брел к болоту, к ручью, трогал воду. Огромное и родное было где-то совсем рядом. Оно ждало меня. Оно прогнало сон из моего тела, оставив только восторг ожидания. Оно заставляло трепетать мое сердце.
Я встретил рассвет среди мертвых деревьев.
Наутро Кулик объявил всем распорядок дня: они с Трифоновым, Федором и Чистяковым отправляются на поиски осколков и составляют карту местности, все остальные под руководством строителя Мартынова возводят барак.
После завтрака началось строительство. Коренастый и конопатый молчун Мартынов наконец почувствовал, что пришло его время: лицо его покраснело от крика. Он зычно командовал всеми до самого ужина. Под его началом ученые мужи и видавшие виды геологи выглядели жалкими подмастерьями. Сначала мы рыли ямы под столбы для барака, потом валили обугленные стволы, обрезали их и катили к месту стройки. Из деревьев мы выбирали лиственницы, так как сосны почти все были трухлявые. Лиственницы же прекрасно сохранились за двадцать лет и при падении звенели, как железо. У них сгнили и ломались только макушки. Пилить их было тяжело: засохшие на корню, они стали тверже пил, которыми их резали. В ямы забили толстые комли, на них положили первый обугленный венец, и барак стал быстро расти. Венцы, естественно, не обтесывали – никакой топор не брал твердое сухое дерево. Кулик дал указание Мартынову: строить проще и не на века. Но дотошный Мартынов забыл наставление: он кричал и требовал от нас высшего качества. В конце концов буровик Мишин сказал Мартынову, что если тот не перестанет «брать на бас», то будет строить сам. Мартынов приутих, но ненадолго. К ужину пять венцов были сложены. Барак получался просторный.
После захода солнца вернулись радостные разведчики. В четырех километрах на юго-запад они обнаружили три большие воронки.
Назавтра трое буровиков и мы с Аникиным в качестве землекопов отправились туда с Куликом. Воронки были приблизительно одинаковы – метров по двадцать диаметром и глубиной метра три. На дне их стояла вода от подтаявшего льда вечной мерзлоты. Сначала вычерпали ее ведрами из крупнейшей воронки. Затем буровики стали бурить илистое дно воронки ручным буром. Не пробурив и метра, бур уперся во что-то. Кулик ликовал. Все взялись за лопаты и ведра: одни копали, другие вычерпывали жижу ведрами. Кулик копал вместе с нами. Я копал, стоя по колено в болотистой почве. Все, о чем меня просили, я исполнял не задумываясь. Мне было все равно: никакая работа не отвлекала меня от внутреннего восторга. Сердце мое продолжало петь, пока я, забрызганный грязью, вычерпывал торфяную жижу. Часа через три в черной жиже показалось что-то большое и бесформенное. Кулик постучал по нему лопатой. Звук был глухой, явно не камень и не железо. Кулик ударил сильнее, и лопата вошла в трухлявое дерево: в воронке оказался громадный пень лиственницы. Проверили буром другую воронку – бур так же уперся в дерево. Кулик был подавлен, но старался держать себя в руках.
– Первый блин – комом, – сказал он, вытирая платком забрызганное грязью лицо.
На вечерней летучке устроили научный совет по поводу найденных пней. Геологи утверждали, что воронки и погрузившиеся в них пни – эффект подтаивания вечной мерзлоты. Кулик с ними не спорил. Его интересовал метеорит.
Прошла еще одна ночь. Я провел ее в палатке в полудреме. Восторг сердца не позволял мне заснуть глубоко. Я молился об одном – чтобы мой восторг не кончался. Обо мне в экспедиции старались не говорить, меня не замечали, но брали на все работы. Однажды я услышал фразу Кулика:
– Слава природе, этот Снегирев – тихий сумасшедший…
Утром Кулик с Федором и Моликом отправились в разведку, остальные продолжали строительство барака.
К вечеру все десять венцов были сложены. Сруб из обугленных бревен выглядел зловеще. Между венцами просвечивали большие щели. Зато барак получался просторным. Решено было пологую односкатную крышу сложить из тонких деревьев, проложить привезенной клеенкой, а сверху покрыть все мшистым дерном и придавить камнями.
Сидя вечером у костра и глядя в огонь, пока другие ели, я вдруг испытал необыкновенное чувство. Я словно потерял свое тело. От него осталось только сердце, которое повисло в пустоте. Я почувствовал свое сердце. Оно напоминало зародыша. В нем равномерно пульсировала жизнь. Но оно спало, еще не рожденное. И самое поразительное – я почувствовал сердца сидящих вокруг костра. Они были точно такими, как и мое. Они так же пульсировали. И так же спали. Наши сердца еще не родились ! Это открытие поразило меня как молния.
После этого я впал в транс. Я перестал не только говорить, но и реагировать на вопросы и просьбы. Я просто сидел, обняв колени, и смотрел в огонь невидящими глазами. Они видели только неродившиеся сердца. Меня отнесли в палатку, влили в рот опия. И я заснул глубоким сном.
Проснулся я через трое суток от криков и выстрелов. Мне было спокойно. Но радость ушла из меня. Выбравшись из палатки, я увидел всю экспедицию, стоящую вокруг готового барака. Они радостно кричали и палили вверх из ружей. Я подошел к ним. Ко мне подбежали, стали обнимать. Оказывается, радости было три: построен барак, совсем неподалеку найдена большая воронка, из Ванавары утром пришел вьючный обоз с продуктами. Я слушал, с трудом понимая. Я был опустошен и равнодушен. Ко мне подошел Кулик:
– Ну что, Снегирев, поправились?
Он внимательно посмотрел мне в глаза. Я ответил ему своим взглядом.
– Значит так, молодой человек, – заговорил Кулик, – питаться с сегодняшнего дня будете хорошо и под моим присмотром. Нам постники не нужны. Ясно?
Я молча смотрел ему в глаза. Кулик принял мой взгляд за согласие. Они уже пообедали, так что время насильного кормления меня перенесли на вечер. Обоз, разгрузившись и передохнув, забрал половину наших лошадей, двух больных – геолога Воронина (у него был сильный понос и поднялась температура) и студента Береловича (повредившего глаз на строительстве), почту и ушел назад в Ванавару. Меня с обозом назад не отправили, посчитав, что я, несмотря на тихое помешательство, способен приносить пользу. А может быть, Кулик и впрямь верил в меня как в талисман.
Вскоре он собрал всех и произнес вдохновенную речь. Он говорил, что все идет по плану, все складывается наилучшим образом; найденная пятидесятиметровая воронка – явно метеоритного происхождения, буры никаких пней на ее дне не нашли, значит – отыщется что-то более важное; геологи промыли в ручье Чистякова местную почву и обнаружили в ней микроскопические металлические шарики, каждый размером не более двух миллиметров; эти шарики рассеяны практически везде и свидетельствуют о металлической природе Тунгусского метеорита; барак построен, он оборудуется под жилье, в него переносится вся провизия; трое человек остаются в лагере и занимаются обустройством барака, остальные перемещаются к воронке, находящейся всего в трех километрах, и до вечера занимаются раскопками.
В лагере оставили Мартынова, Аникина и меня. Барак был разделен на складскую и жилую половины: одна для хранения провизии и вещей, другая для сна. Сперва мы перенесли все наши вещи и сгрудили их в складской, потом стали мастерить нары из молодых деревцов и конопатить мхом щели в стенах. В бараке были прорезаны два небольших окошка. По-прежнему стояла теплая и сухая погода. Мартынов с Аникиным отправились по краю болота искать молоденькие деревца. Забивая белый мох в щель между обугленных, изъеденных древоточцами бревен, я машинально следил сквозь эту щель за двумя удаляющимися фигурками. Топор в руке Мартынова сверкнул на солнце. И эта вспышка света вдруг разбудила меня. Сердце мое затрепетало, мозг заработал. И я наконец понял всем своим существом, ДЛЯ ЧЕГО пришли сюда люди! Они пришли, чтобы найти огромное и родное . И навсегда отобрать его у меня! Я затрепетал в ужасе, комок мха и молоток вывалились из рук. Для чего они так долго шли сюда? Для чего терпели трудности? Для чего построен этот барак?! Чтобы найти мою радость ! Чтобы НАВЕК лишить меня встречи с ней!
Холодный пот выступил у меня на губах. Я слизнул его. Надо было действовать. Я огляделся: барак. Он построен людьми, чтобы помочь им найти огромное и родное. Без него они беспомощны в тайге. Я выбежал из барака. Поодаль стояла бочка с керосином. Кулик запретил хранить ее в бараке. Я подкатил бочку к бараку, втащил внутрь. Выбил пробку и наклонил бочку над ведром. Керосин потек в ведро. Я схватил ведро и плеснул на груду вещей, коробов и мешков. Потом наполнил второе ведро и вылил на стены. Третье и четвертое ведро расплескал на стены снаружи. Взял спички, вышел из барака. Чиркнул спичкой и бросил ее на черную стену. Барак загорелся.
Я повернулся и пошел в тайгу. Выбрав направление, противоположное тому, куда направились люди, я шел между почерневших деревьев. Сердце снова затрепетало, сильнее и настойчивей, чем прежде. Оно билось в груди так, словно хотело разломать решетку ребер и выпрыгнуть наружу. Я понял, что надо спешить, и побежал. Время остановилось, черный лес прыгал перед глазами, пот заливал мне лицо. Я бежал, бежал и бежал. Это длилось бесконечно. Солнце клонилось к закату, мертвая тайга погружалась в сумерки. Звезды сверкнули над обугленными макушками. Ноги мои подкашивались. Дыхание рвалось из пересохших губ. Вдруг впереди возникло поваленное дерево – единственное на весь умерший стоя лес. Старая толстая лиственница, переломившаяся пополам, лежала во всю свою длину на земле. Громадный не вывороченный до конца корень замер, приподнявшись над землей. На последнем издыхании я упал на землю, заполз под нависающий корень и потерял сознание.
Лед
Я открыл глаза.
Было темно и остро пахло землей. Я пошевелился, протянул в темноте руку. Она нащупала землю и корни. Холодная земля посыпалась. Я сразу вспомнил, кто я и где. И стал выбираться из своей норы. Выполз из-под нависающей над землей корневой «крыши» старой лиственницы, послужившей мне убежищем, и замер: все вокруг было залито ярким лунным светом. Я поднял голову: огромная полная луна висела в черно-синем небе в окружении звездной россыпи. Свет ее был так ярок, что я отвел глаза и осмотрелся: все до самого горизонта было залито этим невероятным светом. Фантастический пейзаж предстал передо мною. Освещенные сопки напоминали застывшие волны невиданного океана. Перетекая, наплывая и сталкиваясь, они уходили вдаль, к подсвеченному на востоке небу. Мертвый лес стоял вокруг в абсолютной тишине: ни звука, ни шороха. И посреди этого стоял я. Один.
Но страха не было. Наоборот, глубокий сон под корнем древнего дерева придал силы и успокоил. Лихорадка, постоянно сотрясающая меня, покинула тело, словно утекла в землю. Я поднял руки к луне, с наслаждением потянулся.
И застонал.
Я был свободен!
Никого не было рядом. Никто не смеялся надо мной, не приказывал, не просил, не понукал, не давал идиотских советов, не рассуждал о марксизме и астрономии. Ненавистный рой слов, словно гнус, преследовавший меня весь этот месяц, рассеялся, уплыл вместе с людьми. Абсолютная тишина мира потрясала. Земной мир замер передо мной в величайшем покое. И я впервые в жизни остро ощутил тварность этого мира. Наш мир не появился сам по себе. Он – не результат случайной комбинации слепых сил. Он был создан. Волевым усилием. И в одно мгновение.
Открытие это потрясло меня. Я осторожно втянул в себя прохладный ночной воздух. И замер, боясь выдохнуть. Книги по философии и религии, споры о бытии, времени и метафизике не дали мне ровным счетом ничего в понимании мира, в котором я оказался. А эта минута посреди мертвой, залитой лунным светом тайги открыла мне великую тайну.
Я выдохнул.
И сделал шаг.
Сердце мое знакомо встрепенулось. И я вспомнил огромное и родное . То, что заставляло дрожать в немом восторге, не спать по ночам, идти без устали и молчать, сжав зубы. Оно было рядом. Я снова почувствовал его сердцем. Но уже – спокойно, без слез и содроганий. Огромное и родное звало меня. И я двинулся на его зов.
Я шел между почерневших стволов. Луна двигалась за мной, подробно освещая мой путь. Я видел каждый камень под моими ногами, каждый сломанный сук. Луна играла на обугленных стволах. Они поблескивали и переливались, как антрацит. Густой мох мягко прогибался под моими сапогами. Идти было легко: у меня больше ничего не было за плечами. Ни консервов, ни сала, ни сухарей. Ничего, что связывало с людьми. Но это не пугало меня – я совершенно не испытывал голода. Весь мой внутренний восторг последнего месяца теперь превратился в одно ровное и стойкое желание: идти к огромному и родному. И найти его.
Я шел.
Ноги легко преодолевали дикий безжизненный ландшафт. Я шел час, другой, третий. Сопки медленно проплывали мимо. Наконец они сгладились, расступились. И лунный свет сверкнул в полосе воды.
Болото!
Я приблизился к нему.
Легкий туман из испарений по-прежнему стоял над ним. Сердце сильно забилось. Меня тянуло туда непреодолимою силой. Родное было там. И я шагнул вперед. Мох под ногами сгустился, полностью скрыв почву. Выросли болотные кочки, и вскоре вязкая жижа захлюпала под ногами. С каждым шагом сердце мое билось сильнее. Но это не были привычные частые удары волнения и возбуждения. Сердце билось редко, но все сильнее и увесистей – каждый удар отдавался в груди, волны от него расходились по телу. Сердце словно начало жить своей жизнью, отдельной от жизни тела. Его равномерные и тяжелые удары сладко потрясали меня. Тело резонировало в такт эти ударам. Сапоги вязли все глубже, идти стало трудно. Болотная жижа поднималась. Вскоре я провалился по пояс. Холодная вода хлынула в сапоги, объяла ноги. Это был холод вечной мерзлоты. Луна ярко и бесстрастно светила мне. Гулкие удары сердца не оставляли места страху. Я ужасно хотел идти вперед. И рванулся изо всех сил. Ледяное болото обхватило меня за ноги. Но я был сильнее. Цепляясь руками за кочки, я пробивался вперед. Шаг, другой. Десять труднейших шагов.
Двадцать.
Сто.
Кочки кончались: впереди лежала ровная, подернутая ряской мочажина. Я сделал сто первый шаг. И провалился по грудь. Но сердце билось уже совсем оглушительно, каждый удар крови толкал меня вперед. Я ухватился за гнилой ствол старого сломанного дерева, торчащий из ряски. И понял, что впереди внизу – глубина и трясина. Но над этой трясиной есть полоса воды. И по этой воде можно плыть. Надо просто снять с себя все – поплыть вперед. Схватившись за ствол, яростным движением я вырвал ноги из трясины, подтянулся и сел на обломок. Снял с себя мокрую, облепившую тело одежду. Стянул полные водой сапоги. И, голый, оттолкнулся от ствола, кинулся вперед, как лягушка, разгребая воду руками и толкая ногами. Это было невероятно – я плыл по болот у, как по озеру. Вода наверху, под ряской была чистой и холодной. Надо было только плыть вперед, не останавливаться. Если остановиться – смерть, трясина засосет меня. Она щекотала мне живот гнилой тиной, цеплялась корягами. Но страх остался позади, в мире людей. Я проплыл немного и вдруг понял: огромное и родное совсем рядом. Еще немного – и до него можно дотронуться.
Сердце забилось так, что в глазах вспыхнули розово-оранжевые радуги. Мне стремительно стало тепло. Потом – жарко.
Восторг охватил меня.
Рыдания рвались из сжатого рта, забывшего язык людей. Я понял, что если не коснусь огромного и родного , то умру, утоплю себя. Мне незачем жить без него. У меня нет ничего, кроме него. Никогда в жизни я так сильно не желал чего-то.
Вода, разгребаемая мною, переливалась в лунном свете. Зеленая ряска играла на ней.
Божественная тишина стояла кругом.
Гребок рук, скольжение тела вперед.
Еще гребок.
Еще.
Еще!
Еще!!
Еще!!!
Мои руки коснулись Льда.
И я понял, почему я пришел сюда.
И разрыдался от счастья.
Я нашел огромное и родное ! Пальцы трогали гладкую поверхность. Сердце оглушительно билось. Я почувствовал, что теряю сознание. Голова моя вмиг очистилась. В ней зазвенела божественная пустота. А пальцы лихорадочно все трогали и трогали Лед под водой. Рыдая, я стал захлебываться. Край Льда плавно тянулся кверху. Я отчаянно оттолкнулся от воды. И вполз на Лед, словно ящерица. Над ним воды было совсем немного. Трясясь и рыдая, я полз и полз дальше, по линзе Льда. Вокруг до дальних сопок раскинулась ровная мочажина, затянутая ряской. Громадная глыба Льда спала под ней, погрузившись в болото. Эта родная глыба тихо лежала двадцать лет и ждала меня. Двадцать лет понадобилось мне, чтобы найти Лед! Рыдания гнули мое тело. Оно пылало от жара. Удары сердца потрясали. Я задыхался, глотая сырой воздух болота. Впереди зеленая ряска немного расступалась. Там в лунном свете сверкнул Лед! Маленький пятачок чистого Льда! Я приподнялся и побежал к нему, разбрызгивая воду, разгоняя сонную тысячелетнюю ряску. Лед! Лед сверкал белым и голубым! Какой чистый! Какой могучий! Какой родной!
Мой, мой навеки!
Подбежав, я поскользнулся.
И упал, со всего маха ударившись грудью о сияющий Лед.
Сознание покинуло меня. На мгновенье.
Затем мое сердце словно зазвенело от удара об Лед. И я почувствовал сердцем сразу всю глыбу Льда. Она была громадной. И вся она вибрировала и резонировала вместе с моим сердцем. И только для меня одного. Сердце, спавшее все эти двадцать лет в грудной клетке, проснулось. Оно не забилось сильнее, но как-то торкнулось – сперва больно, потом сладко. И, трепеща, заговорило :
– Бро-бро-бро… Бро-бро-бро… Бро-бро-бро…
Я понял. Это было мое настоящее имя. Меня звали Бро. Я понял это всем своим существом. Руки мои обняли Лед.
– Бро! Бро! Бро! – трепетало сердце.
И глыба Льда отвечала моему сердцу. Ее божественные вибрации вливались в мое сердце. Лед вибрировал. Он был старше всего живого на земле. В нем пела Музыка Вечной Гармонии. И ее нельзя было сравнить ни с чем. Она звучала Началом Всех Начал. Прижавшись грудью ко Льду, я замер, слушая Музыку Вечной Гармонии. В это мгновенье весь земной мир побледнел, стал прозрачным. И исчез. А мы со Льдом повисли одни во Вселенной. Среди звезд и безмолвия.
И пробудившееся сердце мое стало вслушиваться в Музыку Вечной Гармонии:
Сначала был только Свет Изначальный. И свет сиял в Абсолютной Пустоте. И Свет сиял для Себя Самого. Свет состоял из двадцати трех тысяч светоносных лучей. И одним из этих лучей был ты, Бро. Времени не существовало. Была только Вечность. И в этой Вечной Пустоте сияли мы, двадцать три тысячи светоносных лучей. И мы порождали миры. И миры заполняли Пустоту. Каждый раз, когда мы, лучи Света, хотели создать новый мир, то образовывали Божественный Круг Света из двадцати трех светоносных лучей. Все лучи устремлялись внутрь Круга, и после двадцати трех импульсов в центре Круга рождался новый мир. Мы порождали небесные тела: звезды и планеты, метеориты и кометы, туманности и галактики. Число их росло. И они радовали нас своей Гармонией. Вечная Музыка Света пела в них. Мы сотворяли Вселенную. И она была прекрасна. И однажды мы сотворили новый мир. И одна из его девяти планет была вся покрыта водой. Это была планета Земля. Раньше мы никогда не сотворяли таких планет. И никогда не сотворяли воду. Ибо вода – непостоянна и дисгармонична. Она сама способна порождать миры – непостоянные и дисгармоничные. Это была великая ошибка Света. Вода на планете Земля образовала шарообразное зеркало. Как только мы отразились в нем, то перестали быть лучами Света и воплотились в живые существа. Мы стали примитивными амебами, обитателями бескрайнего океана. Наши крохотные тела носила вода. Но в нас по-прежнему был Свет Изначальный, потухший в дисгармоничной, миропорождающей воде. И нас по-прежнему было двадцать три тысячи. Мы рассеялись по просторам океана Земли. Дисгармоничная вода породила не только живых существ, но и время. Мы стали пленниками воды и времени. Потекли миллиарды земных лет. Мы эволюционировали вместе с другими существами, населяющими Землю. Наш верхний позвонок развился в громадную опухоль, именуемую мозгом. Мозг помог нам лучше других животных ориентироваться в мире. Так мы стали людьми. Люди размножились и покрыли Землю. Зависящие от плоти и времени, люди стали жить по законам мозга. Им казалось, что мозг помогает им подчинять пространство и время. На самом деле он лишь закабалял их в дисгармоничной зависимости от окружающего мира. Людей с хорошо развитым мозгом называли умными. Умные люди считались элитой человечества. Они жили по законам ума и учили этому других. Люди стали жить умом, закабалив себя в плоти и времени. Развитый ум породил язык ума. И человечество заговорило на нем. И язык этот, как пленка, покрыл весь видимый мир. Люди перестали видеть и ощущать вещи. Они стали их мыслить. Слепые и бессердечные, они становились все более жестокими. Они создали оружие и машины. У людей за всю их историю было три основных занятия: рожать людей, убивать людей и использовать окружающий мир. Люди, предлагающие что-то другое, распинались и уничтожались. Порожденные непостоянной и дисгармоничной водой, люди рожали и убивали, убивали и рожали. Потому что человек был величайшей ошибкой. Как и все живое на Земле. И Земля превратилась в самое уродливое место Вселенной. Маленькая планета стала настоящим адом. И в этом аду жили мы. Мы умирали в стариках и воплощались в новорожденных, не в силах оторваться от Земли, которую сами же и создали. И нас по-прежнему оставалось двадцать три тысячи. Свет Изначальный жил в наших сердцах. Но мы не знали этого. Сердца наши спали, как и другие миллиарды человеческих сердец. Что могло разбудить нас, чтобы мы поняли – кто мы и что нам делать? Все миры, созданные нами, были гармоничными и постоянными, мертвыми по земным понятиям. Они висели в пустоте, радуя нас гармонией покоя. В них пела радость Света Изначального. Только Земля нарушала гармонию Космоса. Ибо она была живой и развивалась сама по себе. Земля стала уродливой опухолью, раком Вселенной. Божественное равновесие Вселенной было нарушено. Миры сдвинулись, лишась Божественной Симметрии. И Вселенная, созданная нами, стала постепенно рассеиваться в Пустоте. Но на Землю упал кусок мира Гармонии, созданного нами прежде. Это был один из самых больших метеоритов, когда-либо падавших на Землю. Громадный кусок Небесного Льда, в котором пела гармония Света Изначального, миллиарды лет странствующий по Вселенной. Это был Лед Небесный, созданный по законам Гармонии твердым и прозрачным. По природе своей он отличался от убогого земного льда, образующегося из непостоянной воды, хотя внешне они абсолютно похожи. Пыль Космоса осела на нем, сковала в толстую железную броню. Броня помогла ему преодолеть атмосферу Земли и раскололась при падении. Это произошло 30 июня 1908 года здесь, в Сибири. Лед упал на Землю, вошел в ее почву. Вода сибирских болот скрыла его от людей. Вечная мерзлота помогла сохраниться. Двадцать лет Лед ждал тебя. Он лежит под тобой. Он твой. Он послан сюда гибнущей Вселенной. В нем спасение. Он поможет тебе и остальным пленникам Земли снова стать лучами Света Изначального. Он оживит ваши сердца. Они проснутся после долгой спячки. Они произнесут свои сокровенные имена. И заговорят на языке Света. И двадцать три тысячи братьев и сестер вновь обретут друг друга. И когда найдется последний из двадцати трех тысяч, вы встанете в кольцо, соедините руки и двадцать три раза ваши сердца произнесут двадцать три слова на языке Света. И Свет Изначальный проснется в вас и устремится к центру круга. И вспыхнет. И Земля, эта единственная ошибка Света, растворится в Свете Изначальном. И исчезнет навсегда. И земные тела ваши исчезнут. И вы снова станете лучами Света Изначального. И Свет по-прежнему будет сиять в Пустоте для Себя Самого. И породит Новую Вселенную – Прекрасную и Вечную.
Я открыл глаза.
И увидел утреннее небо. Звезды померкли. Луна побледнела. Лицо мое до самых глаз было погружено в теплую воду. Я пошевелился и приподнял голову. Тело мое лежало в углублении, образовавшемся во Льду и повторяющем контуры моего тела. Эта естественно получившаяся ванна была наполнена теплой водой. Жар оставил мое тело. Мне было удивительно спокойно и хорошо. Так спокойно и хорошо, как никогда ранее.
Я сел. В теле не было усталости от минувшей ночи. Только слегка болела грудь. Я посмотрел на нее: большой синяк выделялся посередине грудины. Этим местом я ударился о Лед. Я улыбнулся. Потрогал грудь. Потом встал.
Сопки на востоке подсветило восходящее солнце: наступал сибирский день. Новый день на планете Земля. Первый осмысленный день моего существования. Я понял, для чего я рожден и что мне надо делать.
Мозг мой заработал.
Углубление, в котором находилось всю ночь мое тело, напоминало букву Ф: руки мои лежали вокруг тела полукольцами. В центре этих полуколец за ночь образовались два продолговатых ледяных выступа, окруженные водой: мои горячие руки растопили Лед вокруг них. Изо всех сил я ударил ногой по левому выступу. Он треснул в основании. Я схватил его руками и отломил от основания. Отломив, поднял и прижал к груди. Лед вибрировал. Сердце мое резонировало с ним в такт. Сила Льда наполнила мое сердце. Я легко поднял массивный кусок, показал его бледному утреннему небу.
И закричал.
Крик мой разнесся над болотом, отразился от дальних сопок и вернулся ко мне голосами моих братьев и сестер, затерянных среди людей. Первый солнечный луч ударил мне в глаза. Божественный Лед засверкал на солнце. Надо было возвращаться в мир людей. И искать.
Я положил кусок Льда на плечо и пошел по линзе в направлении, подсказанном моим ожившим сердцем: на запад. Сглаживаясь, линза плавно уходила вниз, под воду. Я погружался вместе с ней, раздвигая зеленую ряску. Погрузившись до рта, я поплыл, крепко сжимая Лед в руках. И вскоре ноги коснулись ила. Здесь он был не такой вязкий, как ранее: под ним чувствовался другой лед – вечной мерзлоты. И оперевшись ногами о земной лед, я спокойно выбрался из болота. Оглянувшись, я посмотрел назад. Ряска мочажины сомкнулась, скрыв глыбу, как будто никто так и не нарушил ее покоя. Я закрыл глаза. Сердце мое почувствовало всю глыбу. Она была огромной. Восьмая часть влипла в вечную мерзлоту, под водой был лишь сглаженный, обтаявший в форме линзы край.
Сердце знало: Лед будет ждать столько, сколько понадобится.
Я повернулся и с куском Льда на плече тронулся в путь. Голый, измазанный илом, я шел через мертвую тайгу, залитую солнцем. Сердце мое пело, перекликаясь со Льдом и вспоминая мое истинное имя:
– Бро, Бро, Бро…
Я потерял чувство времени и совсем не ощущал ни тяжести увесистого куска на плече, ни острых камней и сучьев под ногами. Обугленный стоячий лес уступил место поваленному. Усеянные лесовалом сопки проплывали мимо. Лед слабо таял на плече, превращаясь в воду. И непостоянные капли ее подгоняли меня. Я шел, твердо зная, куда иду. В голове было ясно: за ночь ее словно вычистили от всего мелкого, тревожного, никчемного. Мысль моя работала удивительно быстро и четко. С каждым шагом я заново открывал мир, в котором прожил двадцать лет. И это наполняло меня новой силой.
Вдруг, спускаясь в лощину, я услышал впереди рычание, хрипы и странный хныкающий звук. Я шел не сворачивая. Рычание усилилось, раздались стоны. Передо мною расступился кустарник. И я увидел, как два медведя рвут агонизирующую стельную лосиху. Один держал ее за горло, другой разрывал ей большое брюхо. Изо рта лосихи вырывался хриплый стон, длинные красивые ноги ее бессильно бились по воздуху. Кости лосихи трещали под яростными лапами и клыками медведей. Черное, с белой подпалиной брюхо разошлось, и вместе с розово-желтыми кишками из него вывалился не успевший родиться лосенок. Черноватый, в мокрой шерсти, с большими влажными глазами, он едва успел зевнуть розово-белым нежным ртом, как медвежьи клыки с хрустом сомкнулись вокруг его головы. Алая кровь новорожденного фонтаном брызнула из медвежьей пасти. Поодаль раздалось ворчание: рослый медвежонок спешил присоединиться к родительской трапезе. Подкатившись бурым клубком, он впился в кишки лосихи, урча от нетерпения.
Эта кровавая сцена посреди мертвого леса наглядно демонстрировала мне суть земной жизни: не успевшее родиться существо стало пищей для других существ. Весь абсурд земного бытия был здесь в этой хрипящей лосихе, в судорожно перекошенных губах лосенка, так и не успевших втянуть в себя воздух Земли, в яростном урчании медвежонка, в неизменно добродушных медвежьих мордах, вымазанных свежей кровью, бьющей ключом из прорванной шейной аорты.
Но хаос земного бытия уже был не страшен мне, познавшему Гармонию Света Изначального. Не дрогнув, я двинулся на зверей. Они повернули ко мне окровавленные морды. Клыки их сверкнули.
Я приближался, неся Лед.
Звери злобно зарычали. Пасти их раскрылись, бурая шерсть зашевелилась от ярости.
Я сделал шаг. Другой. Третий.
Медведи рыкнули и бросились прочь. И я почувствовал: мое проснувшееся сердце испугало их. Я ощутил свою мощь. С проснувшимся сердцем в груди я мог все. Мне нечего было бояться.
Я подошел к лосихе. Тело ее слабо подрагивало. В больших черно-синих глазах стояла влага. Кровь, исходящая паром в утреннем воздухе, толчками вырывалась из аорты. Я поставил босую ногу на плечо животного. Оно было гладким и теплым. Бессмысленная и мучительная жизнь уходила из тела лосихи. Труп лосенка лежал рядом. Она погибла, рожая его, он погубил мать, рождаясь, позволив медведям легко одолеть ее. А медведи просто хотели есть. Закон земной жизни. И это продолжалось сотни миллионов лет. И может продлиться еще миллиарды.
Я сжал Лед. В нем – разрушение дисгармонии.
В нем Сила Вечности.
Пора нанести удар.
Пора исправить ошибку.
Это сделаю я.
Переступив через лосиху, я продолжил путь. Я шел долго. Лед таял на моем плече. Но сердце спокойно вело меня. Наконец, когда солнце стало клониться к закату, я увидел впереди стойбище эвенков: два чума и пустой загон. Олени были на пастбище. Посреди поляны горел костер и варилась оленина в большом котле. Здесь ждали возвращения стада и оленеводов. Возле костра дремали три собаки. Завидя меня, они вскочили и радостно побежали навстречу: в этих диких местах собаки оленеводов и охотников лаяли только на зверей. Но подбежав, они отпрянули, поджав хвосты и рыча. Я шел прямо на левый чум. Туда вело меня сердце. Откинул засаленную полосу из выделанной оленьей кожи и вошел в него. Внутри было сумрачно: свет проникал сквозь дыру в вершине конуса чума и сквозь щели. Посредине, под дырой, стояла тренога с медной чашей. В чаше курилась смола кедра, отпугивая насекомых. Голубоватый дымок поднимался кверху и исчезал в дыре. На шкурах спала девушка. Она была не эвенка, с русыми волосами, заплетенными в две косы, и широкоскулым веснушчатым лицом. Девушка лежала на спине, раскинув руки. Сердцем я понял, что она очень устала и глубоко спала. На ней было простое, но добротное крестьянское платье с запачканным землей подолом. Рядом лежали меховая душегрейка, косынка, кожаный пояс с большим ножом, резной дубовый посох, заплечный, плетенный из лыка кузовок, полный земляники. Поодаль стояли совершенно грязные сапоги с висящими на них портянками.
Я понял сердцем, что шел сюда целый день ради этой девушки. Она была такой же, как и я. Сердце ее так же спало. Надо было разбудить его. Опустившись на колени, я снял Лед с плеча и только сейчас заметил, насколько маленьким он стал. Лед почти помещался в моих ладонях! Большая часть его растаяла в дороге. Надо было торопиться, пока Лед еще со мной. Девушка безмятежно спала. Губы ее раскрылись, уставшее тело с наслаждением отдавалось сну. Я занес руки со Льдом над девушкой. Но остановился: нет, не так. Силы рук моих сейчас не хватит. Я огляделся: поодаль лежала аккуратно сложенная меховая одежда оленеводов. Там же стояли парами кожаные чуни – самодельные полусапожки, перетянутые кожаными шнурками. Я вытащил один шнурок, взял посох девушки и накрепко привязал кусок Льда к посоху. Встав на коленях в ногах спящей, я размахнулся и изо всех сил ударил девушку Льдом в грудь. Лед раскололся о ее грудину, и куски его разлетелись по чуму.
Она же лишь слегка вздрогнула: так глубок был ее сон. Потом вдруг дернулась вся, голубые глаза ее широко раскрылись. Конвульсии охватили ее молодое тело, она забилась, словно в падучей, глаза остекленели, рот стал беззвучно раскрываться. И мое сердце почувствовало ее пробуждающееся сердце. Лед разбудил его. Это было как волна. Она пошла от девушки, из ее груди, из ее сердца. И с силой хлынула в мое сердце. И затопила его. И застыла, замерла во времени, соединив наши сердца, как мост соединяет два берега. Это было так ново, так сильно и необыкновенно приятно, что я вскрикнул. Сердца наши соединились. И я окончательно понял , кто я. Я начал жить, соединившись с другим сердцем. И я перестал быть сам по себе. Перестал быть двуногой песчинкой. Я стал мы ! И это было НАШЕ СЧАСТЬЕ!
Отбросив посох, я обхватил конвульсирующую девушку за плечи, поднял и прижал к своей груди. Она билась, голова тряслась, на губах показалась пена. Я сильней прижал ее. И вдруг услышал ухом и сердцем голос пробуждающегося сердца:
– Фер! Фер! Фер!
Мое сердце ответно заговорило:
– Бро! Бро! Бро!
Сердца наши стали говорить между собой. Это был язык сердец. Он соединял их. Это было блаженство . Никакая земная любовь, прежде испытанная мною, не могла сравниться с этим чувством. Сердца наши говорили неведомыми, им одним понятными словами. Сила Света пела в каждом слове. Радость Вечности звучала в них. Они звенели, текли, переливались, затопляли сердца. И сердца говорили сами. Без нашей воли и нашего опыта. А нам оставалось лишь впасть в забытье, обнявшись. И слушать, слушать, слушать разговор наших сердец. Время остановилось. Мы исчезали в этом разговоре.
И висели в пространстве, забыв, кто мы и где.Сестра Фер
Я открыл правый глаз. И увидел огромное ухо с серебряной сережкой в форме рыбы. Прямо за ухом виднелись маленькие лица эвенков. Они испуганно смотрели на меня. Некоторые курили трубки. Левый глаз не открывался. Ему мешало что-то мягкое и горячее. Я захотел пошевелить руками. Но не смог: я не чувствовал рук. Я пошевелил головой. Эвенки, заметив это, оживленно заговорили между собой. Возле моего лица зашевелилась чужая голова. Раздался жадный вздох и стон. Голова отстранилась от моего лица. Чужой нос перестал давить на левый глаз. Я открыл его. И увидел лицо девушки. Она смотрела на меня. Взгляд ее голубых глаз был ужасен.
Это была Фер. Сердце мое все вспомнило. Я нашел Фер. Фер – моя сестра .
Обнявшись, мы стояли посреди чума на коленях: я – голый, Фер – в своем крестьянском платье. Вокруг сидели эвенки. Они оживленно переговаривались и жестикулировали.
Я попытался разжать руки. Но не смог: они онемели и я не чувствовал их. Фер застонала. Дрожь прошла по ее телу, руки зашевелились, вцепились в меня. Она заскулила. Прижалась ко мне, впилась ногтями мне в спину. Ее сердце тронуло мое. И снова пошла волна . И ударила в мое сердце. И наполнила его. И потекли слова сердец. И земля качнулась под ногами. И Вечность проснулась в нас. И время остановилось.
Эвенки загалдели. Кто-то из них тронул мое плечо. И заглянул мне в глаза.
– Как твой памилий? – спросил эвенк.
Сердце его было мертво. А морщинистое, обветренное и узкоглазое лицо я принял за камень. Фер подвывала и вскрикивала. Дрожь охватила ее. Сердца наши говорили. Слова неведомые бились и рвались . Свет пел и сиял в сердцах. Фер зарычала, оттолкнула меня, содрала с себя исподницу. Грудину у нее рассекал небольшой шрам от моего удара. Вокруг шрама запеклась кровь. Фер обхватила меня руками. Я ответно обхватил ее. Груди наши тесно прижались. Мы вскрикнули и застонали. Сердце Фер трогало мое. Мое сердце трогало ее. Вселенная распахнулась вокруг нас. Моча Фер потекла по ее и моим ногам.
Эвенки вскочили и с криками выбежали из чума. Нам стало очень хорошо. Потому что мы нашли друг друга.
Очнулись мы вечером следующего дня.
Разжав затекшие, посиневшие руки, мы повалились на застеленный шкурами земляной пол. И погрузились в сон.
Нас разбудила пожилая эвенка. Она толкала меня и Фер медвежьей берцовой костью. Когда мы зашевелились, старуха залепетала на своем языке и стала показывать нам костью на выход. Полог был откинут, в нем виднелась все та же мертвая тайга, залитая лучами восходящего солнца.
Фер застонала. И заплакала. Она смотрела на меня и плакала. Потому что наши сердца молчали. Я ударил Фер в грудь. Она вскрикнула и замолчала. Я схватил Фер и прижал к себе. Нам не надо было что-то говорить: мы знали друг друга очень давно. Ближе Фер у меня не было никого. Сердца наши изнемогли. Они требовали отдыха.
Я взял Фер за плечи. Разжал свои губы. И впервые за последние дни произнес на языке людей:
– Нам надо идти.
Она разжала свои побелевшие губы:
– Куда?
– Искать других братьев и сестер.
– Зачем?
– Чтобы снова стать Светом.
Фер смотрела мне в глаза. Она пока не понимала. Но поверила сердцем.
Я помог Фер встать, и мы вышли из чума. В загоне стояли олени. Возле лежали две собаки и копошились четверо эвенков. Завидя нас, голых, эвенки засмеялись и отвернулись. Собаки понюхали воздух и осторожно отошли. Возле чума на воткнутом в землю колу висела одежда Фер и кузовок. Он по-прежнему был полон ягод. Мы схватили кузовок и быстро съели все ягоды. Поверх одежды лежали пучок зверобоя и какой-то корень. Это положила старуха. Фер сбросила их и принялась одеваться. Я стал помогать ей. Старуха, не выходя из чума, что-то выкрикивала. Потом быстро высунулась и погрозила нам костью. Фер оделась, глянула на меня, потом быстро сняла свой кожаный пояс с ножом, взяла кузовок и пошла к эвенкам. Это было страшно : Фер отдалялась от меня! Сердце мое встрепенулось. Я понял, что не смогу жить без Фер. Если она уйдет – я погибну. Я перестал дышать. Замер. И ждал ее возле кола. Она быстро говорила с эвенками на их языке. Она торговалась. Мне казалось это бесконечным. Я ждал, боясь пошевелиться. Вдруг она вернулась бегом. Без пояса, кузовка и ножа. Обхватила меня руками, радостно закричала и заплакала. Я тоже держал ее в руках. И зарыдал от радости, что она вернулась и что она СНОВА СО МНОЙ! Я словно обрел мою сестру заново – минуту назад ее не было, я слышал только ее голос, говорящий на непонятном языке, и вот теперь Фер здесь, передо мною! Это было чудо. Фер разрыдалась тоже. Обнявшись и рыдая, мы повалились на землю. Рыдания обрушились на нас, как снежная лавина: никогда в жизни я так не плакал. Тело мое тряслось и корчилось, слезы лились ручьями, мне не хватало воздуха, я задыхался, давясь рыданиями, словно свинцовыми шарами. Я раскрывал рот и словно глотал самого себя, терял сознание и тут же пробуждался в корчах, рыдая снова и снова. Уже не было сил, уже опухшие глаза не открывались, уже из груди вырывался лишь хрип, а тело все билось и билось, все корчилось и корчилось. Меня словно рвало слезами. С Фер происходило то же самое. Я слышал и чувствовал , как она рыдает, и от этого заходился еще сильнее. Наконец мы потеряли сознание.
Очнулись мы опять в том же чуме. Фер лежала рядом. Я был одет в чуни, штаны из оленьей кожи и в старую, прорванную на локтях холщовую рубаху – на это обменяла Фер кузовок, пояс и нож. В чуме было сумрачно и спали эвенки. Я пошевелил рукой, сел. Тело устало от плача и плохо слушалось. Но в сердце было очень спокойно. Оно очистилось. Я осторожно разбудил Фер. Она посмотрела на меня, словно впервые увидела. Потом ее сердце вспомнило меня. А мое откликнулось . Свет качнулся в них. И тихо просиял. Он не покидал наши сердца. Нам даже не надо было обниматься и прижиматься грудью. Мы просто смотрели в глаза. Полежав еще немного, мы осторожно встали. И, поддерживая друг друга, вышли из чума.
В тайге опять был восход солнца. Словно специально для нас он длился бесконечно. Олени и собаки смотрели на нас.
Сердца наши успокоились. Я понял, что Фер никогда не покинет меня. Она же поняла, что я никогда ее не оставлю. Я разлепил губы:
– Надо идти.
– Куда? – спросила Фер.
– Куда сердце тянет.
Сердце тянуло меня на запад, к людям. И мы медленно пошли на запад.
Солнце встало и ярко светило. Мертвая тайга обступила нас. Здесь, в этом месте, было больше поваленного леса, чем сожженного. Над гниющими замшелыми стволами виднелись молодые лиственницы и сосны. В этой зелени перекликались редкие птицы.
Мы долго шли молча, не разбирая дороги. Потом мои губы заговорили с Фер.
– Ты местная? – спросил я Фер.
– Ага. С Катанги, – кивнула она.
– Почему ты здесь, у эвенков?
– Сбежала.
– От кого?
– От отца.
Я с трудом вспомнил, что такое отец. Потом вспомнил, что такое мать. И мне стало очень странно, что у меня они были. Это все было не со мной. Я вспоминал язык людей. Потом я рассказал Фер свою жизнь. И рассказал про Лед. Когда я говорил про Лед, сердце мое тоже стало говорить про него. Новые слова текли и светились. И сердце Фер внимало. И наполнялось. И отвечало. И пело. И слова сердца были сильнее слов человеческих. Губы запинались, язык деревенел. Убогие человеческие слова звучали глухо. А в сердцах сиял Свет Изначальный. Лицо Фер плыло рядом на фоне мертвого ландшафта. И светилось счастьем. В голубых глазах ее лучилось солнце.
Фер на ходу стала рассказывать свою историю. Она выросла на Ангаре в рыбачьем поселке, в большой работящей семье. Они жили в достатке, мужчины промышляли охотой и рыбалкой. Потом отец, разругавшись с братьями, увел семью на Катангу. Там в десяти верстах от Ванавары отстроились своим хутором и стали жить. Вскоре мать умерла. Отец привел в дом эвенку. Фер тогда было десять лет. Ее воспитала эвенка. Отец стал пить. Напиваясь, он бил всех, кто попадался под руку. Три дня назад пьяный отец избил Фер за то, что она закричала во сне. Ей приснился очень странный сон: будто покойная мать посылает ее по воду; Фер берет коромысло, два ведра и идет на Ангару; кругом жаркое лето, она бежит к реке; вдруг видит – Ангара замерзла, да не просто как зимой, а вся, до самого дна; вся Ангара стала ледяной; Фер спускается с обрыва к реке, подходит и ступает босыми ногами на лед, идет по нему; ей очень приятно, так приятно, как никогда; она чувствует, что ледяная Ангара тоже движется, что у нее есть свое течение, и оно совсем другое ; ледяная Ангара течет вспять и совсем в другую страну, эта страна огромная и белая , она манит и пугает Фер; Фер стоит на движущемся льду и не знает, что делать; страх побеждает, она сходит со льда на берег, смотрит, как утекает лед в огромную и белую страну, и плачет от досады.
Когда отец заснул, Фер поняла, что не может больше жить с ним. Она села на лошадь и ускакала. Проехав день, она повстречала эвенков. Они были пришлые, с Вилюя, иначе бы никогда не встали в мертвом лесу. Она продала им лошадь, чтобы добраться до Ангары и с пароходом уплыть в Красноярск. Там Фер хотела поступить на кирпичный завод. В мае ей исполнилось шестнадцать.
Она была неграмотной – читала по слогам, писать не умела вовсе. Зато хорошо говорила по-эвенкийски. Фер сказала мне, что может делать все, если захочет – охотиться, рыбалить, нянчить детей. Язык ее заплетался от нового счастья. Нашего счастья. Я крепко держал ее за руку. Мы шли и шли, не разбирая дороги. Потом снова обнялись и упали на колени. И сердца наши опять заговорили. И снова вспыхнул Свет. И распахнулась Вселенная. И остановилось время.
Так повторялось много раз. Говоря на своем языке, наши сердца учились новым словам. Сердца крепли. Они мужали и росли. И становились все свободнее и сильнее. Каждый сердечный разговор потрясал нас, вырывая из времени и земной жизни. Но после него мы тоже крепчали, как и наши сердца. Мы становились спокойнее и сосредоточеннее. Радостное безумие умножало силу и уверенность. Мы начинали понимать, что вдвоем можем все. И стремительно менялись. Мы шли, собирали ягоды и ели их, потом спали, обнявшись, на мшистой земле, потом говорили сердцем, потом снова спали и снова шли. Холод сибирской земли, пробуждающийся по ночам, мы не замечали. Гнус сторонился нас. Четверо суток понадобилось, чтобы добраться до Катанги. Там нас ждало охотничье зимовье, выстроенное на берегу реки между Ванаварой и хутором отца Фер. Зимовьем пользовались только во время зимней охоты. Фер была уверена, что там никого нет. И она не ошиблась. В маленьком бревенчатом домике мы отоспались и окончательно пришли в себя. И я снова сердцем рассказал Фер про Лед. Лицо ее засияло от восторга, сердце затрепетало, губы шептали:
– Я хочу его видеть.
– Ты увидишь его, – шептали мои губы.
Фер яростно схватила меня за плечи:
– Я хочу его видеть!
– Ты увидишь! – Я встряхнул ее.
Наш сердечный восторг быстро сменился желанием искать. Оно было таким сильным, что буквально толкало нас в спины. Мы должны были искать сестер и братьев. И это было сильнее восторга от сердечного разговора про Лед. Мы стали мудрыми за эти дни. Сердца наши поняли , что Лед – всего лишь мост к другим сердцам. Лед – это помощь. Но нам нужны братья и сестры.
Поутру мы вымылись в реке, наелись земляники, густо растущей по небольшим травяным полянам вдоль обрывистого речного берега, и отправились на хутор отца Фер. Для того чтобы искать в мире людей, нам нужно было быть как все . Это значит – иметь деньги, одежду, еду, оружие. Все это было у отца Фер. Мы осторожно подошли к хутору и затаились в лесу. Фер знала, что отец ищет ее и пропавшую лошадь. Она рассчитывала на то, что его не окажется дома, а мачеха-эвенка не будет препятствовать нам. Но сердце подсказало Фер: отец дома. Мы сидели в лесу и ждали, пока он покинет хутор. По словам Фер, после обеда он может пойти за спиртом в Ванавару. Но отец все не выходил из дома. Наконец он вышел. И сразу раздался женский плач. Отец был уже пьян. Он двинулся вдоль берега в сторону Ванавары. Мы подождали немного и вошли в избу. Мачеха кинулась на Фер с бранью, но я замахнулся на нее посохом, и она с криком залезла под стол. Из-под него вскоре раздалась все та же брань. Мачеха робко выглянула. И вдруг я, увидя ее красивое узкоглазое лицо и грозящий нам маленький кулак, почувствовал сердцем, что разницы между столом и этой женщиной нет никакой. На меня бранился СТОЛ! Я рассмеялся. Фер тоже внимательно взглянула на свою мачеху. И мы впервые увидели вместе, сердцами. Под столом сидел человек БЕЗ СЕРДЦА! Вместо сердца в груди женщины работал насос для перекачки крови. Кроме мачехи-эвенки в избе были двое младших сестер Фер. Белокурые и голубоглазые, как и Фер, они с интересом смотрели на нас. Их маленькие кровяные насосы прилежно качали молодую кровь. Мы с Фер переглянулись. И расхохотались. Мачеха перестала браниться и испуганно уставилась на нас из-под стола.
– Анфиска, ты не бойсь, я батяне не скажу, – произнесла младшая из сестер и улыбнулась.
– Батяня тебя таперича до смерти запорет, – произнесла старшая. – Ты пошто лошадь увела?
Фер перестала смеяться и внимательно посмотрела на своих сестер. Она смотрела на них не только глазами. И сердце Фер не увидело в них сестер. Они были тоже частью избы, как печка или лавка. Фер отвернулась от них и повернулась ко мне. Я был ее настоящим братом. А она – моей сестрой. Мы обнялись. Потом стали забирать из этого дома все, что нам надо. Мы взяли охотничий нож, топорик, острогу, одежду, ружье, патроны, метрику Фер, песцовую шкуру, а из еды – только лук и морковь. Другая еда нам не показалась съедобной. Денег в доме не было. И я снял с мачехи серебряный браслет, яшмовые бусы и вырвал из ее ушей серебряные серьги с бирюзой. Ее крики меня не остановили. Бывшие сестры Фер плакали. Спустившись по тропинке к реке, мы отвязали самую большую лодку и поплыли вниз по Катанге. Фер села с веслом на носу, я с другим – на корме. Мы подгребали, помогая течению. Река плавно несла нас. Скалистые берега, поросшие тайгой, тянулись вдоль. Жаркое солнце сибирского лета грело нам спины: мы плыли на запад. Наши губы, говорящие на языке людей, не спрашивали друг друга: куда мы плывем? Сердца ведали маршрут. Берега Подкаменной Тунгуски были совершенно безлюдны. Ничто не напоминало о людях. Только птицы кружились над отмелями да играла рыба в воде. Лишь к вечеру на обрыве показались два одиноких сруба. Из трубы одного из них шел дым.
– Беглый поселок, – произнесла Фер.
Река стала плавно поворачивать вправо. И на берегу среди таежной темной зелени появились избы. Беглый поселок, со слов Фер, состоял из бывших каторжников, бежавших и навсегда поселившихся здесь. Они обросли семьями, промышляли охотой и рыбалкой. У мостков стояли лодки и трое женщин полоскали белье. Они крикнули нам. Мы не откликнулись и проплыли мимо. Они смотрели на нас, прикрыв глаза руками от заходящего солнца. Мы миновали еще один поворот и увидели впереди три большие лодки, вставшие у отмели. На берегу горел костер и сидели люди.
– Гоны? – удивленно произнесла Фер.
Неожиданно для себя мы, не сговариваясь, стали выруливать к отмели. Нам не надо было миновать этих людей. Пока мы подплывали и причаливали, Фер быстро рассказала, кто такие гоны. Каждое лето девять ангарцев приходят на Катангу, берут три лодки и гонят вниз по течению до Енисея. По пути они скупают у местных пушнину. Платят всегда золотым песком и подороже, чем Госторг. Поэтому местные лучшую пушнину придерживают до гонов. Доплыв до Енисея, гоны бросают лодки, грузятся на пароход, который идет в Красноярск, там сбывают товар и живут до весны; весной покупают лошадей, едут на золотой ручей, известный только им, моют золото, затем добираются до Катанги, где в обмен на лошадей местные строят им три большие лодки. Фер сказала, что гоны – люди лихие, суровые. Местные с ними держатся настороженно, только продают товар и харч. Эвенки их боятся. В поселках гоны никогда не останавливаются.
Мы причалили. И подошли к костру. Вокруг сидели девять бородатых мужчин и ели из котла варенную с луком лосятину. Мы поздоровались. Они молча кивнули и продолжали есть, поглядывая на нас. В их манере не было угрозы, но не было и приветливости. Потом один из них узнал Фер:
– Ты никак того пьяницы дочь?
Фер кивнула.
– Совсем спился твой батяня. Всего три шкурки нам сдал.
Фер снова кивнула.
– Все, стало быть, пропил?
Фер опять кивнула.
Она смотрела не на этого гона, а на другого – голубоглазого и белобрысого, с густой рыжей бородой. Я тоже смотрел на него. Сердце мое торкнулось. Сердце Фер тоже. Рыжебородый держал в левой руке кусок дымящегося мяса, в правой – нож. Крепкими белыми зубами он хватал кусок, ножом срезал мясо, жевал и проглатывал. Вдруг он замер, перестав жевать. Посмотрел на меня, потом на Фер. И побледнел.
– Чего, понравился парень? – спросил Фер седобородый и горбоносый гон с переломанной ключицей. – Он у нас внове. Стало быть, ему до Енисея – никак нельзя. А вот ужо опосля – завсёгда пожалста!
Два гона нехотя усмехнулись, остальные продолжали есть мясо. Видимо, седобородый давно наскучил им своими шутками.
– Жрать хотите? – сумрачно спросил нас коренастый крепкорукий гон.
Но котел с дымящимся мясом не будил в нас никаких желаний. Мы смотрели на рыжебородого парня. И видели его. Он тяжело вздохнул, распрямляя широкие крепкие плечи, кинул недоеденный кусок в котел, дернул ворот рубахи:
– О-х-ха…
– Чего ты, паря? – спросил седобородый.
– Муторно как-то… – Парень встал, шагнул в сторону.
Его вырвало мясом.
– Фу ты, блядская зараза… – Он сплюнул, подошел к реке, зачерпнул воды большими сильными ладонями и жадно выпил.
– Ишь, меченый, мясом блюется! – злобно усмехнулся маленький плосколицый гон.
– Не твово ума дела, Хорь, – буркнул на него коренастый. – Он тебе не загораживает. Жри, сколько влезет.
Мы знали, что рыжебородый наш, но не знали, что делать. Сердца были напряжены и молчали. Я видел этого здорового парня впервые, но сердце мое знало его давно. Самое удивительное, что он двигался и вел себя как все, даже не подозревая, что дремлет в его груди! Он отплевывался, мыл лицо, бормотал какие-то слова, словно КУКЛА! А сердце у него было живым. Это было так странно и комично, что мы с Фер расхохотались. Парень хмуро глянул на нас и пошел к лодкам. Явно ему было не по себе от нашего присутствия: его сердце забеспокоилось.
– Ишь, смехачи, – прищурился гон со вставными железными зубами. – Весело? Живете хорошо? Не достала вас ышшо савецка власть?
Он вынул из-за пазухи объемистый кисет с махрой, раскрыл, протянул всем. В кисет полезли грубые руки.
– Вы чего приплыли? – спросил нас молчаливый гон с худым и умным лицом.
– У нас песец, – ответила Фер.
– Сколько?
– Да один.
– Ради того плыли?
Фер пожала плечом.
– Она от отца ушла, – заговорил я. – Она жена моя. Плывем на новое место.
Гоны не выказали особого удивления.
– Ну, давай песца свово, – почесал заросшую щеку умнолицый гон.
Я достал из лодки песцовую шкуру, протянул гону. Он встряхнул ее, понюхал, потом перевернул, оглядывая.
– Ложка, – сказал он быстро.
Нам было все равно. Я кивнул. Гон развязал свою суму, достал чайную ложку и мешочек с золотым песком. Он быстро отмерил чайную ложку песка, ссыпал золотой песок в бумажный фунтик, ловко сложил его, чтобы песок не просыпался, и протянул мне. Песца он запихал в мешок, набитый шкурами.
Гоны, завершив трапезу, стали готовить лодки к отплытию. Это было странно – солнце уже заходило.
– Вы ночью поплывете? – спросил я.
– А как же? – Умный гон завязывал свою суму. – Река пока ровная. А до Енисея – тыщу верст. Ночевать некогда, паря.
– А спите когда?
– Днем на стойке подремем. И хорош.
– В гробах ужо отоспимси! – усмехнулся горбоносый.
– А поселок проплыть не боитесь?
– Поселок! Таперича два дни никаких тебе поселков.
Я разговаривал с ними, сердцем следя за рыжебородым. Я чувствовал каждое его движение. По сравнению с ним все остальные гоны были просто лодками на берегу. Они ничем не отличались от мачехи Фер, выглядывающей из-под стола. Гоны сели в свои лодки.
Надо было принимать решение.
– Можно мы с вами поплывем? – спросил я.
– Гони. Нам не жалко, – буркнул коренастый, веслом отталкиваясь от берега.
– Однако с Богом, – громко произнес умнолицый гон, и они перекрестились.
Длинные лодки их тронулись. Я подсадил Фер в нашу лодку, столкнул ее с отмели, вспрыгнул. Чайки, сидящие на лиственницах, сразу спланировали на отмель к дымящемуся костру и стали клевать блевотину, оставленную рыжебородым.
Мы с Фер взялись за весла.
Гоны редко, но умело подгребали, помогая течению. Лодки их шли караваном, одна за другой. Рыжебородый парень сидел в последней. Наша лодка пристроилась сзади. Правя лодкой, мы поглядывали в белобрысый затылок парня. Он был напряжен и вел себя беспокойно: часто курил, плевал в реку, раздраженно бормоча что-то. Железнозубый гон затянул протяжную песню, ее неспешно подхватили остальные. Они пели о покинутом родном доме, о могиле матери, о горькой доли скитальца. Нестройные голоса их разносились над речной гладью.
Солнце скрылось. И на первой лодке зажгли смоляной факел. Река погружалась в нетемную сибирскую ночь. Песня кончилась. И с берега послышался звук валящегося дерева. Он словно подстегнул нас. Сердца наши встрепенулись. Мы по-прежнему не знали, что делать , но сердцами поняли – как. Я навалился на весло, сидящая ближе к носу Фер навалилась на свое. Лодка наша поравнялась с последней лодкой гонов. Мы приблизились к рыжебородому. Он поглядывал в нашу сторону. Я стал думать, что сказать ему. Но Фер опередила меня:
– Поучи меня гресть?
Рыжебородый, не поняв, что она обращается к нему, оглянулся. Но Фер смотрела ему в глаза. Двое гонов, сидящих с ним в лодке, усмехнулись, дымя махоркой. Парень злобно усмехнулся, сплюнул:
– Гресть… чего уж…
Казалось, что он обругает Фер. Но рыжебородый, отложив свое весло, схватил крепкими руками борт нашей лодки, подтянул ее и перемахнул к нам. Оставшиеся в лодке усмехнулись:
– Гля, колыванец наш загулял.
– Ну, паря, ты за жаной следи.
Рыжебородый сел посереди лодки, спиной ко мне, лицом к Фер. Она протянула ему весло. Он взял, оглянулся на меня, опустил весло за борт и стал грести. Он волновался и греб слишком старательно и сильно. Мы стали обгонять лодку его напарников.
– Не торопись, – произнес я.
Он снова оглянулся. В сумерках его взгляд показался растерянным. И я понял – ему никуда не деться от наших сердец. Фер тоже поняла это.
– Тебя как звать? – спросила она.
– Николой, – ответил он.
– Куды ты рвешься, Никола? – спросила Фер так, что у меня от восторга выступили слезы.
Я обожал Фер.
– Как куды? Туды! С ними! – усмехнулся парень, стараясь взять себя в руки.
– Тебе не надо с ними, – произнес я.
– Эт отчаво ж? – Он зябко повел могучими плечами.
– Тебе не надо с ними, – произнесла Фер.
И наши сердца заговорили. Спящее сердце Николы оказалось между нами. Оно заволновалось. Он замер с веслом в руках. Я тоже перестал грести. Лодка наша стала отставать от каравана гонов.
– Тебе надо с нами, – произнес я.
– Тебе надо с нами, – произнесла Фер.
Парень замер в оцепенении. Мы тоже замерли. Лодку несло течение. Караван уплывал, огонек факела уменьшался, теряясь в сумраке. Река стала поворачивать вправо. Лодку сносило к берегу. Днище зашуршало об отмель, нос ткнулся в темный берег. Лодка остановилась.
– Нико-ла-а-а-а! – раздался вдали слабый крик.
Парень вздрогнул.
Я положил руку ему на плечо:
– Они не поплывут против течения.
– А ну, не балуй… – пробормотал он, не шевелясь.
Фер взяла его за запястья.
– Вы… кто такие? – спросил Никола.
– Я твой брат, – ответил я.
– А я твоя сестра, – промолвила Фер.
– Мы пришли за тобой, – добавил я.
Минуту он сидел оцепенело. Потом всхлипнул и заплакал. Мы обняли его. Он рыдал, широкие плечи дрожали. В его рыданиях было много детского. Сердце мое чувствовало, что он устал ждать . И просто устал. Когда он успокоился и вытер рукавом лицо, мы помогли ему выбраться из лодки на берег, втянули ее на отмель, разложили костер и сели у огня. Никола перекрестился и сбивчиво заговорил. Он не спал уже четвертые сутки, после того как ему было видение. Когда гоны пришли на Катангу в поселок Нерюнду, их ждали три новые лодки, построенные местными. Гоны, как всегда, расплатились за лодки девятью лошадями и стали готовиться к плаванию. Осталось только просмолить лодки. Смолу растопили в трех ведрах. Одно из ведер взял Никола. Он пошел с ведром и веником к лодке, глянул в ведро и в горячей смоле увидел свое отражение. Это был он, но шестилетний. Он был с отцом, матерью и дядьями на покосе, они сидели за скатертью, постеленной прямо на траве, и трапезничали после косьбы. И вдруг по небу пролетел огонь. А потом загремело так, что лес заколыхался. И все взрослые со страха повалились на землю. А Николе не было страшно, наоборот – было очень хорошо в груди . Он сидел и смотрел на небо, где остался широкий след от огня. Когда все стихло, взрослые подняли головы. И Никола не узнал их. Отец, мать, дядья навсегда перестали быть для него родными. Их словно отодвинуло. Шестилетний Никола понял, что он один. Это так напугало его, что он перестал говорить и мгновенно забыл все, что случилось. Заговорил он только через два года. Горячая смола напомнила ему обо всем. Он выронил ведро. И вдруг почувствовал, что он по-прежнему один среди людей. Это так потрясло его, что он перестал спать. Ни ночью в пути, ни днем на стоянках, когда гоны дремали, он не мог забыться. Люди пугали его и вызывали недоумение: он не понимал, кто они. Гоны заметили, что он странно держится, и стали подсмеиваться над ним. Но коренастый земляк не давал его в обиду. С каждым днем гона Никола чувствовал себя все хуже. Жизнь среди чужих людей казалась ему ужасной. Он стал подумывать о самоубийстве. Появление нас с Фер потрясло его: он почувствовал, что мы другие. Все происходящее казалось ему сном: он не знал, что делать. Но понимал, что мы пришли не случайно.
Выслушав его сбивчивый рассказ, мы с Фер взяли его за грубые, натруженные веслом руки. Мы были счастливы.
– Когда ты родился? – спросил я.
– Три дни после Пасхи в тыща девятьсот втором, – ответил Никола.
– Где ты жил, когда увидел огонь на небе?
– В Усть-Куте, – ответил он.
Это было в семистах километрах от места падения Льда. Я уже знал сердцем, что Лед летел с юго-востока на северо-запад. Он пролетал над Усть-Кутом. Сердцем я позавидовал Николе: он видел Лед в небе. Я же только слышал его.
– А чево это было? – спросил Никола.
– Наша радость и наше спасение, – ответил я.
Он задумался.
– А чего тебя колыванцем кличут, коли ты с Усть-Кута? – спросила Фер.
– Я в Колывани в тюрьму попал. Потому и прозвали…
– За что?
– Да за конокрадство. Два года присудили, а я с этапу-то и убёг. К гонам и прибился.
Он уставился в костер. Пламя играло в его голубых глазах. Я сжал его руку:
– Никола, то, что ты видел, прилетело для нас. Оно упало на землю. И лежит здесь, за Катангой. Нам надо пойти туда.
Никола молча смотрел в огонь. Он оцепенел. Зато Фер заволновалась. Сердце ее почувствовало Лед.
– Господи, сердце рвется… – Она положила руки себе на грудь. – Ведь недалеча, а?
– Дня четыре хода, – прикинул я. – Но – быстрого хода.
– А чего будет? – спросил Никола.
– Будет всё, – ответил я, помогая сердцем.
И он понял , хотя сердце его спало.
Путь назад, ко Льду, стал счастьем для меня, радостью для Фер и испытанием для Николы. Мы с Фер без устали шли день и ночь по тайге, словно нас подталкивали в спину. Никола переживал почти то, что и я в экспедиции Кулика. Он перестал разговаривать, впадал в ярость, потом плакал. Мы вели его под руки. Есть он так же не мог. Мы с Фер питались ягодами, и голод совсем не мучил нас. После того, как мое сердце заговорило, я навсегда забыл про голод.
Пройдя по руслу Чамбы, мы нашли следы стоянки нашей экспедиции и двинулись по старому следу. Четверо суток для меня пролетели как единый миг. Последние километры мы несли Николу на себе: горячка охватила его тело, он бормотал, не приходя в сознание. Мы же пьянели от восторга: Лед приближался с каждым шагом. Мертвая тайга расступалась, пропуская нас к чуду. Сердца наши предвкушали. Фер пела и рычала от радости, глаза ее сияли как звезды.
Когда мы вышли к болоту, солнце стояло в зените. Мы опустили Николу на нагретый солнцем мох и стали срывать с себя одежду. Затем, взявшись за руки, вошли в болото. Ледяная вода казалась нам парным молоком. Мы смеялись и плакали: Лед ждал нас!
Трясина хватала нас за ноги, ветки гниющих в болоте деревьев царапали и не пускали, но что могло помешать нам?! Преодолев болотную топь, мы поплыли в полосе воды. И вскоре коснулись Льда. Фер протяжно закричала. Я вытолкнул ее на линзу Льда. И выбрался сам. Глыба невидимо завибрировала под нами. Наши сердца зазвенели ответно. Обнявшись, мы рухнули на Лед…
Очнулись мы ночью. Мы лежали в ложбине, протаявшей под нами во Льду по контуру наших тел. Теплая вода наполняла ложбину. Мы разжали объятия и выбрались на поверхность глыбы. Скрывшаяся за неплотными облаками луна слабо освещала водную гладь болота. Мы стояли на Льду по щиколотку в воде. Я прошелся по линзе и обнаружил мою впадину, напоминающую букву Ф. Она полностью сохранилась, словно я минуту назад покинул ее. Выступ льда по-прежнему торчал, слегка обтаяв. Другой я отломал и унес с собой, к людям. Фер подошла ко мне. Я взял ее руку и положил на место отломанного ледяного выступа. Она поняла , что именно этот Лед разбудил ее сердце. Плача и смеясь, она стала трогать Лед.
Но надо было думать о Николе. Сердце его ждало на берегу. Я ударил ногой по второму выступу. Он не поддался. Я ударил еще, изо всех сил. Он треснул и отвалился. Я поднял кусок Льда и пошел назад. Фер двинулась за мной. Сердце мое запомнило короткий путь до берега. Выбравшись, мы подошли к Николе. Он лежал на спине, раскинув руки. Глаза его были закрыты, губы шептали, бледное лицо выступало в темноте. Я опустился на колени, поднял кусок Льда в руках, размахнулся. И замер. И сердце снова подсказало: я делаю неправильно. Не руками! Для пробуждения сердца нужен молот. ЛЕДЯНОЙ МОЛОТ! Вот что поможет будить сердца во имя Света! Вот что нужно нам! Поискав глазами, я увидел неподалеку высохший сосновый сук. Схватив его, я нашел неподалеку свои чуни, вытянул кожаные шнурки. Вдвоем мы привязали Лед к палке. Маленькие, но сильные руки Фер разорвали рубаху на груди Николы. Я размахнулся и изо всех моих сил ударил его в грудь ледяным молотом. От сокрушительного удара Лед разлетелся на куски, палка переломилась. Грудина Николы ёкнула. Мы припали к ней. В груди послышалось еканье, тело Николы затрепетало, зубы заскрежетали. Наши уши и сердца услышали голос пробуждающегося сердца:
– Эп, Эп, Эп…
Тело нашего рыжебородого брата билось, как в падучей. Кровь хлынула у него из носа.
– Эп! Эп! Эп! – пульсировало его сердце.
Оно было большим. И сильным.
И мы обняли брата Эп.
Братья
Мы пришли в себя утром.
Эп был слаб, разбитая грудь его болела. Но сердце уже робко говорило с нашими сердцами. Усталость и потрясение обездвижили его сильное тело: он еле шевелился. Из глаз его постоянно сочились слезы. Мы с Фер соорудили шалаш из кустов и молодых деревьев и положили в него брата Эп. Когда он снова заснул, мы с Фер опустились на колени и долго говорили сердцами. В зеленом и грубом шалаше сердца наши учились друг у друга и у великого Льда, лежащего совсем близко. Его огромная глыба резонировала с нашими крохотными сердцами. Они же словно были созданы друг для друга. Сердца притягивались, как разные полюса магнитов. Порознь им было сложнее. А вместе они могли очень многое. Ощущая пробуждающуюся мощь наших сердец, мы трепетали. Резонируя со Льдом, сердца подсказали нам решение. Когда мы очнулись и поели ягод, губы наши озвучили Мудрость Света. Мы заговорили на скупом языке ума, помогая языком сердца.
Надо было идти и искать братьев и сестер. Но Лед должен быть всегда с нами. Так будет удобнее, так будет легче. Он не должен лежать здесь и ждать, пока мы подведем к нему новообретенного брата. Он должен быть всегда под рукой, среди людей. Мы изготовим из Льда ледяные молоты. Десятки, сотни ледяных молотов. Они обрушатся на груди братьев и сестер. И их сердца заговорят.
Три дня понадобилось Эп, чтобы встать на ноги. Проснувшееся сердце помогло его телу. Из подавленного, смертельно уставшего Эп преобразился в неистового и смелого. Он целовал наши ноги от радости, мы же учили его неопытное сердце первым словам.
Так нас стало трое. Мы были молодые, сильные и готовые на все ради Света. В шалаше мы решили, как действовать дальше: дождавшись холодной осени, нужно вырубить из Льда несколько больших кусков, перетащить их волоком к Хушме, изготовить плот, погрузить на него Лед и плыть сперва по Хушме, затем по Чамбе до Катанги. Там, на берегу, нужно вырыть яму, положить Лед в навечно промерзшую землю, засыпать. Из этого хранилища брать небольшие куски Льда и отправляться с ними на поиски.
Мы так и сделали.
Два месяца я, Фер и Эп провели в мертвой тайге возле Льда. Мы прожили все это время в шалаше. И были абсолютно счастливы. Лед был с нами, сердца наши мужали и мудрели, тела наполнялись новой силой. Она была не только физическая, хотя мышцы наши стали сильнее, чем прежде. Новая сила навсегда победила в нас страх, голод и болезнь. Три великих врага пали поверженными, чтобы никогда больше не воскреснуть в наших телах. Мы питались ягодами и корнями болотных трав. Мы спали на мху, обнявшись и не боясь холода вечной мерзлоты, пробуждающегося в тунгусской земле каждую ночь. По ночам в тайге подвывали волки и рычали медведи, но нас это не страшило: мы сладко засыпали под волчий вой. Звери обходили наш шалаш. Люди также не тревожили нас: после учиненного мною пожара экспедиция покинула местные пределы. Эвенки же по-прежнему опасались «проклятого» места. Всласть наговорившись сердцами, мы жгли костер. Обнявшись, молча смотрели в огонь. Земной, недолговечный, он был слабым отблеском небесного Огня – ослепительного, нетленного, порождающего миры Гармонии.
Сибирское лето кончилось к середине августа: листья кустарника и корявых берез вокруг болота пожелтели. Подул холодный северный ветер. И как-то поутру над нашим шалашом закружились редкие снежинки – провозвестницы долгой сибирской зимы. Первый снег подсказал: пришла пора действовать. Два месяца мы не только говорили сердцем, а нашли самый короткий проход ко Льду и проложили по болоту восемнадцать поваленных бревен. Их засосала топь, но на них можно было опереться. Раздевшись, взяв топор и ножи, мы прошли по этой гати ко Льду. Вырубив восемь больших кусков Льда, мы перенесли их на берег. Каждый кусок весил приблизительно столько, сколько человек. На берегу мы соорудили из молодых деревьев волокушу и в три захода перетащили Лед к Хушме, протекавшей в километре от болота. Эта река была раза в два уже Катанги и не столь высока берегами. Плот мы также собрали загодя из сухих сосновых стволов, связали лыком, содранным с молодых деревьев. Погрузив Лед на плот, мы притянули его к бревнам вымоченным в воде лыком, взяли в руки длинные весла, выструганные Эп, и оттолкнулись от берега.
Водное путешествие заняло трое суток. Наш плот благополучно проплыл по двум рекам и достиг Катанги. Мы очень старались доставить Лед в целости. И в пути не позволяли себе сердечного разговора. Студеная вода вынесла нас к тому месту, где мы ночью сидели с Эп у костра, слушая его сбивчивый рассказ. Причалив, мы развязали Лед и перенесли его на берег. Куски слегка обтаяли в пути. Недалеко от берега мы вырыли яму. Долго копать ее не пришлось – уже через полтора метра топор стукнул в скованную вечной мерзлотой почву. Выдолбив в ней впадину, мы уложили семь кусков Льда, укутали мхом и листьями и засыпали землей. Сверху на хранилище Льда мы с Эп навалили увесистый камень. Восьмой кусок зарыли прямо на берегу. Спрятав драгоценный Лед, мы обнялись. Наступила ночь, проглянули звезды. Разложив костер, мы дали волю своим сердцам. Они говорили всю ночь.
Поутру, спустив на воду спрятанную в кустах лодку, мы вырыли восьмой кусок Льда, обернули мхом, положили в лодку и тронулись в путь. Сердца подсказывали нам – надо плыть на запад. Туда и несли нашу лодку воды Катанги. Никто из нас не знал, где мы встретим братьев, но сердца помогали искать. Проплыв двое суток по реке, мы увидели большой поселок.
– Это Лакура, – сообщила Фер. – Здесь живут крещеные тунгусы.
Причалив, мы быстро закопали Лед в прибрежный песок и пошли в поселок. Сердца наши были спокойны. Нас встретили эвенки, Фер заговорила с ними. Они рассказали последние новости: русы ходили к «проклятому» месту искать упавшее с неба золото, но бог огня Агды спалил их чум, и они повернули назад. Об этом знали уже все эвенки в округе. Несмотря на православное вероисповедание и старенькую деревянную церковь посреди поселка, эвенки по-прежнему оставались язычниками. Также они сообщили, что гоны, недавно посетившие их поселок, потеряли по дороге одного парня – его унесла дева Воды. Общаться с людьми нам поначалу было непросто: я с трудом сдерживал смех, Эп смотрел на обыкновенных людей с недоумением, Фер старательно выговаривала забытые слова. Но сердца и здесь помогали нам, ни на секунду не отпуская нас. Мы стали мудрыми сердцем. И знали, как вести себя с людьми. Сердца и Лед учили нас многое предвидеть заранее.
Местный батюшка отец Варфоломей был рад встрече с нами. Каждый русский, оказывающийся проездом в Лакуре, становился для него родственником. Первым делом он велел истопить баню. Мы с удовольствием вымыли и пропарили наши тела. Затем попадья-эвенка накрыла стол. Здесь нас ждала неожиданность: обычная пища людей стала для нас, братьев Света, несъедобной. С неприязнью смотрели мы на пироги с рыбой, пельмени с олениной, яичницу на сале, свежеиспеченный хлеб и соленые грибы. Во всем этом чувствовалось уродство человеческой жизни, ее несвобода. Людям надо было предварительно что-то делать с пищей, прежде чем есть ее: жарить, варить, измельчать, заквашивать, молоть, вялить. При этом они всегда сильно переедали, уродуя излишком пищи свои тела и волю. Но самое чудовищное – люди с удовольствием пожирали живых существ, отнимая у них жизни только для того, чтобы набить их мясом свой желудок. Мясо переваривалось в нем и вываливалось из человека омерзительно пахнущим калом. Воля человека превращала живую птицу в кучу кала – и это было вполне нормально для homo sapiens. Деля эту планету с другими живыми существами, люди пожирали их. Это величайшее уродство называлось законом жизни.
Мы же могли есть лишь свежие плоды и ягоды. Только они не вызывали у нас отторжения. Вообще, после того как наши сердца проснулись, мы стали есть гораздо меньше. Горсти свежих ягод нам хватало на несколько дней. При этом мы не уставали, не теряли силы, как обычные голодающие. Сердце давало нам великую энергию. С ней был не страшен никакой голод. Сев за стол, я извинился перед хозяевами и сообщил, что вчера мы сильно отравились рыбой, а следовательно, можем есть сегодня только сырые овощи и ягоды. Поохав, попадья принесла нам репы и брусники. От водки мы тоже отказались. Поп же с попадьей не отказали себе в «удовольствии» выпить за здравие путешествующих. Глядя, как они вливают в себя разведенный водою спирт, чтобы временно потерять контроль над своим телом и чувствами, мы замирали от омерзения. Дикая популярность алкоголя у людей, их зависимость от него лишний раз доказывали неспособность человека быть счастливым. Люди пили водку и вино для того, чтобы «забыться», «развеселиться», «расслабиться», то есть чтобы хотя бы на миг забыть себя, свою жизнь. Напившись пьяными, они чувствовали себя счастливыми.
– Куды ж вы плывете, отроцы? Зима уж на носу! – спрашивал пьянеющий отец Варфоломей.
Мы отвечали, что ищем большую стройку, где можно подработать.
– Оставайтесь у меня новый храм строить. А то в старом уж куницы ночуют! Я вам заплачу больше, чем советская власть, – уговаривал он.
Но мы не хотели оставаться в поселке: сердца наши не видели тут своих. Надо было плыть дальше. Переночевав у отца Варфоломея и прикупив у него моркови и репы, мы вырыли лед, погрузились и поплыли. Подкаменная Тунгуска несла русло на запад, к Енисею. Мы проплыли еще три поселка, останавливаясь в каждом. И не нашли никого из наших. К счастью, похолодало, по ночам стояли заморозки и наш Лед почти не таял. Мы старались не трогать его, что было тяжело, плывя с ним в одной лодке. Прикосновение ко Льду остро напоминало нам про Свет Изначальный. Сердцам это было очень приятно.
Тайга пожелтела и покраснела, готовясь к долгой зиме. Пошел первый снег и накрыл все. Вслед за ним пришел первый холод. Река стала замерзать по краям. Мы плыли посередине, в полосе воды. Над Тунгуской стоял пар. Минуло еще два дня, и река впала в другую реку – широкую и могучую. Это был Енисей. Он нес свои свинцовые воды на север, к Ледовитому океану. Течение его было таким бурным, что лед не успевал накрыть реку – его сносило. Плыть стало труднее – лодку кидало, водовороты крутили ее. Руки наши не выпускали весла. Но сердца вели нас. Они говорили нам, что 23 000 человек – крохотная капля в океане людей, но Лед, лежащий здесь, в Сибири, за эти двадцать лет притянул к себе многих наших. Они интуитивно направляются к нему, видят мучительно-сладкие сны о нем, ищут его. Спящие сердца их жаждут удара ледяного молота. И мы терпеливо плыли, борясь с сильным Енисеем, грея друг другу стынущие на ветру руки.
Не успели мы проплыть и полдня, как впереди показалась небольшая пристань. Рядом с ней лепились избы рыбачьего поселка. У пристани стоял маленький пароходик-буксир, дымя трубой. Мы решили причалить к берегу и посмотреть поселок. Не доплыв немного до пристани, мы вплыли в камыш, вытащили лодку на берег, передохнули, поев моркови и ягод. Затем посреди ивовых кустов стали закапывать Лед в песок. Но не успели мы завершить свое дело, как из кустов вышли трое вооруженных людей бандитского вида.
– А ну, не дыши! – осипшим голосом приказал один из них, черноусый, наводя на нас маузер. – Руки в небо!
Мы подняли руки. Двое других подошли и обыскали нас. Они отобрали у нас золотой песок, деньги, забрали из лодки ружье и патроны.
– Чего зарыли? – спросил черноусый.
Мы молчали. Это было важное мгновенье. Надо было что-то ответить людям. Мозг мой, как обычно в таких случаях, стал подсказывать, как обмануть этих людей, опутав их искусной ложью для спасения Льда и нас. Но сердце разрубило паутину мозга приказом: говори правду! И это был самый верный ход.
– Мы зарыли Лед, – спокойно ответил я.
Фер и Эп поняли меня.
– Какой еще лед? – просипел черноусый. – А ну выкапывай!
Мы с Эп вырыли неглубоко закопанный, завернутый в мох Лед. Черноусый подошел, стволом маузера скинул со Льда мох. Глянул, потрогал.
– А ну копай еще.
Он думал, что главные сокровища мы зарыли глубже. Топором и ножом мы прокопали глубже. Черноусый подождал, сплюнул в яму:
– И на хрена вам лед?
Я ответил:
– Чтобы оживить сердца наших братьев и сестер.
Бандиты переглянулись. Усатый усмехнулся:
– И как ты их будешь оживлять?
– Мы изготовим из Льда молот, стукнем в грудь нашего брата. Сердце его проснется и заговорит на языке Света.
Бандиты снова переглянулись.
– Они чокнутые, – сказал один из них усатому. – Вали их к ебеням.
Раздался пароходный гудок. Бандиты зашевелились:
– Гробани их, Семен, и – айда.
– Погоди, Кочура. Они не местные. Тащи их сперва к Адмиралу. А ну, бери свой лед. И топай с нами.
Я с тихой радостью поднял Лед: он с нами! Бандиты повели нас на пристань. Там было пусто и лежали двое убитых матросов. В поселке слышен был женский плач. Пароходик дал еще гудок. Бандиты быстро втолкнули нас по трапу на палубу. Я заметил имя буксира: «Комсомол». Трап убрали. И пароходик сразу тронулся.
Как только мы с Фер вошли на палубу этого убогого буксира с гнутыми ржавыми бортами и закопченной трубой, сердца наши торкнулись. На корабле кто-то был! Горячий пот радости прошиб меня. Сам по себе я не знал, что совсем рядом кто-то из наших. Будучи одной, Фер тоже не ведала , кто есть кто. Но вместе с Фер мы составляли уникальный сердечный магнит, безошибочно определяющий брата. С Эп такого магнита не получалось.
Нас отвели в кубрик. Там толпились восемь человек. Все они были вооружены. На полу валялись охотничьи ружья, винтовки, звериные шкуры, одежда и нехитрая домовая утварь. Бандиты только что ограбили поселок и разбирали добычу. Главным среди них был человек маленького роста в кожаной куртке, кожаных штанах и высоких ботинках на шнуровке. На груди у него висел большой бинокль, у бедра болталась кобура с маузером. Из-под кожаной фуражки с красной звездочкой выбивались жидкие русые волосы, темно-синие маленькие глазки в обрамлении белесых ресниц холодно посверкивали из-под белесых бровей. Широкое лицо главаря отличалось крайне суровым выражением.
И мы с Фер увидели его.
– Козлов, гнида! Расстреляю! – закричал он на усатого. – Где ты шляешься, гад?! Смерти нашей хочешь, провокатор?!
Главарь был явным психопатом. Но хитрым и злым.
– Адмирал, мы тут троих задержали, – засипел усатый. – В кусты пошли оправиться, а они в землю что-то закапывают.
Главарь перевел злобный взгляд на нас. Первой перед ним стояла Фер. Я со Льдом в руках стоял за ней.
– Чего? – отрывисто спросил главарь.
– Лед какой-то… – ответил усатый.
– Чего-чего? – переспросил Адмирал, злобно щурясь.
– Лед, – внятно произнес я и вышел из-за Фер с куском Льда в руках.
Адмирал замер. Узкие лиловые губы его побледнели. Маленькие глазки уставились на Лед. Потом глянул на нас.
– Кто… такие? – с трудом произнес он.
– Я – Бро, он – Эп, а она – Фер, – ответил я. – Мы пришли за тобой.
Он оцепенел.
Гомон бандитов смолк. Все замерли и смотрели на нас. Мы же смотрели на Адмирала. Наш сердечный магнит работал. Я вспомнил гонов и Николу, сидевшего в лодке между мной и Фер. Ситуация повторялась. Но Адмирал был другим человеком. Стряхнув оцепенение, он расстегнул кобуру маузера и навел на нас вороненый ствол:
– А ну, бойцы, вяжите их.
Нас связали. Лед упал на пол.
– А теперь – посадите их в угол. А сами – на палубу, – приказал Адмирал. – Я с ними быстро потолкую.
Бандиты нехотя полезли наверх: в трюме было теплее.
Адмирал стоял с маузером и смотрел на нас. Сердце его вздрагивало. Но он изо всех сил боролся с ним.
– Еще раз: за кем вы пришли?
– За тобой, – произнес я.
Фер не успела помочь мне. Адмирал зло рассмеялся. Сердце его успокоилось.
– Адмирал, а куда плывем? – свесилась в люк чубатая голова.
– В Колмоторово.
– Так хотели ж в Ярцево наведаться?
– Там ГПУ. Колмоторово, я сказал! – выкрикнул он. – Самый полный! Встречным судам приветствие: три гудка! Пулемет с палубы убрать! Винтовки спрятать!
– Есть… – скрылась голова.
Пароход стал разворачиваться. Чубарый принес пулемет и поставил у ног Адмирала.
– Адмирал, я чего хотел, – забормотал чубарый, – в Ярцеве-то у меня два кореша и еще…
– Задраить люк!! – закричал Адмирал, белея.
Чубарый со вздохом поднялся по лестнице наверх и захлопнул люк. Адмирал подошел ко мне, опустился на корточки. Портупея на нем скрипнула. Он приставил дуло маузера мне ко лбу. И я почувствовал, что он захочет выстрелить. Сердце мое замерло.
– Так за кем вы пришли? – спросил он второй раз.
И Фер помогла мне.
– Мы пришли за тобой, – сказали мы одновременно.
Сердце его встрепенулось. Маузер задрожал в руке. Он выдохнул, опустил маузер и уперся им в качающийся пол кубрика.
– Кто вы? – неуверенно спросил он.
– Твои братья, – ответил я.
– Я сестра твоя, – сказала Фер.
Магнит наш заработал . И Эп тоже помог:
– Я брат твой.
Широкоскулое и мускулистое лицо Адмирала исказилось: мозг его яростно сопротивлялся. Я понял, что Адмирал страдал последнее время. Так же, как и Никола. Так же, как и я в экспедиции. Сейчас ему стало очень страшно. Тонкие губы его побелели. Пот выступил на бледном лбу. Адмирал задрожал.
– Бляд…ские… – прошептал он и стал поднимать маузер.
Ствол плясал в дрожащей, побелевшей руке. Он громко выпустил газы. И навел маузер на Фер:
– Бля… бляд…ские… гады…
Сердца наши замерли . И я понял , что мы ВСЕГДА готовы к смерти. Дрожащий палец уже давил на курок. Сердца наши вздрогнули. И Лед ответил им.
Адмирал в ужасе глянул на Лед. И выстрелил в него. Куски Льда разлетелись по трюму. Мы вскрикнули. Адмирал резко встал. Глаза его закатились. Он пошатнулся и повалился на пол.
Мы стали освобождаться от пут. Богатырь Эп разорвал свою веревку и развязал нас. Фер кинулась ко Льду. Эп – к потерявшему сознание Адмиралу. Я же моментально принял решение: пулемет! Новый, с новым диском, он маслянисто поблескивал возле лежащего Адмирала. Точно такой же лежал в сундуке у мешочника Самсона, приютившего меня, подростка, на станции Красное зимой 1920 года. Я схватил его, снял с предохранителя и оттянул затвор, как тогда это сделал Самсон, чтобы напугать приставших к нам в то утро оборванцев.
Эп раздвинул кожанку на груди Адмирала, разорвал гимнастерку и тельняшку. На безволосой груди главаря был вытатуирован орел, несущий в когтях дракона. Фер схватила большой кусок Льда.
– Нет! – шепнул я. – Свяжите его.
Они не поняли. Я показал глазами наверх:
– Нам помешают.
Они все поняли. И моментально стянули руки и ноги Адмирала нашими веревками. Эп взял маузер Адмирала. Фер – винтовку. Мы поднялись по железной лестнице, и я постучал в люк. Едва его откинули, я навел толстое дуло пулемета на бандита. Жуя что-то, он попятился. Мы стали подниматься на палубу. Бандиты заметили нас.
– Назад! – скомандовал я.
Они стали пятиться к корме. Большинство из них что-то дожевывали. Я краем глаза заметил на лавке у кормы какое-то мясо в бумаге, хлеб и бутыль с самогоном. После своей работы они решили закусить.
– Стоять! – скомандовал я.
Они осторожно переглянулись. Мозги их заработали .
– Погоди, браток, договоримся, – просипел усатый. – Вам чего надо?
– Разбудить сердце брата.
Я бы очень хотел с ними договориться. Сказать им: «Не мешайте нам. За это мы отдадим вам все, что у нас есть». Но сердце подсказывало: они не исполнят договора.
– Все за борт! – скомандовал я.
– Да чего ты кипятишься, браток, – улыбнулся желтыми зубами усатый и пошел ко мне. – Мы тебе золотишка нысыпем, скольки надо…
Рука его лезла в карман.
Я навел на него дуло и нажал гашетку. Пулемет загрохотал и затрясся в моих руках. Пули впились в тело усатого и вылетели с клочьями одежды и мяса.
Я впервые в жизни убил человека. И понял: с людьми мы НИКОГДА не договоримся. Бандиты кинулись за борт. Но в нас выстрелили из корабельной рубки. Эп стал неумело стрелять из маузера, Фер умело выстрелила из винтовки. Я навел на рубку дымящийся ствол и нажал гашетку. Пулемет снова загрохотал и заходил ходуном в моих руках. Пули вспороли жесть рубки, старая белая краска посыпалась во все стороны. Вместе с ней посыпалась странная надпись суриком ЛОМ О СМОКИНГИ ГНИ, КОМСОМОЛ! с красной звездочкой. Прошив рубку, я отпустил гашетку, но ее заклинило: пулемет продолжал стрелять. Его повело влево, я опустил дуло вниз, пули вспороли палубу, полетели щепки, пулемет грохотал, его вело и вело влево. Задыхаясь от порохового дыма, я задрал дуло вверх. Пулемет строчил и вырывался из моих рук. В эту доли секунды я понял сердцем, что такое машина и почему она создана людьми: человек не может обойтись без машины, потому что он СЛАБ, он рожден вечным инвалидом и нуждается в костылях, в подпорках, помогающих ему жить. Машина уничтожения, созданная мозгом человека, вырывалась из моих рук. Она жила. Пули летели в небо, гильзы дождем сыпались на палубу. Не в силах справиться с ней, я попятился к бортику и отчаянным движением выкинул пулемет за борт. Падая, он продолжал стрелять. Но Енисей поглотил машину уничтожения.
Пороховой дым стелился над палубой. «Комсомол» плыл. Мы ворвались в рубку. Там корчился раненый рулевой в матросской форме. И лежал с открытым ртом мертвый чубарый. Эп встал за штурвал.
– Кто еще на корабле? – спросил я рулевого.
– Кочегары… двое. Они их заперли… Не стреляйте, – простонал он.
– Как туда пройти?
– За камбузом люк…
Мы нашли люк. Он был закрыт на штык. Кочегары работали в котельной, как части паровой машины. Мы вернулись в рубку.
– Держи руль, – сказал я Эп.
– Я никогда не правил кораблем, – промолвил он, щурясь на Енисей.
– А я никогда не стрелял из пулемета, – ответил я.
Мы с Фер спустились в кубрик. Связанный Адмирал очнулся и яростно катался по полу, стараясь освободиться. Мы схватили его, прижали к полу. Он рычал и кусался. От него пахло калом: он обмарался, когда почувствовал Лед своим неразбуженным сердцем. Мы привязали его к перилам лестницы. Фер схватила кусок льда. Я искал глазами: палки для молота нигде не было. Рядом с ворохом звериных шкур лежало оружие. Я выхватил из груды ружей и винтовок обрез, сорвал с Адмирала портупею. Узким ремнем мы прикрутили Лед к обрезу. Фер прижала голову рычащего и воющего Адмирала к перилам. Я разорвал его тельняшку еще больше, размахнулся и изо всей мочи ударил ледяным молотом по его татуированной груди. Раздался треск грудины. Лед брызнул в стороны. Адмирал дернулся и бессильно повис на веревках. Мы замерли: ничего. Его сердце молчало. Но такого не могло быть. Мы припали к нему. Стали трясти, тормошить. Его сердце молчало. Только за перегородкой глухо стучало железное сердце паровика.
– Бей еще! Оно не может пробудиться! – закричала Фер.
Но молот был разрушен. Я глянул на пол: он качался, куски Льда скользили в лужах. Фер схватила наибольший. Мы стали привязывать его к обрезу. Вдруг Адмирал дернулся. Мы снова припали к его покрасневшей от удара груди.
– Рубу… Рубу… Рубу… – ожило его сердце.
Мы закричали от радости. Сердца наши подхватили только что родившееся сердце. Адмирал застонал и открыл глаза. Мы развязали его. И положили на древний кожаный диван. Рубу снова впал в забытье. Сердце его было маленьким и слабым. По сравнению с ним сердце Фер казалось могучим великаном.
Я поднялся на палубу. Стоящий у руля Эп кричал. Сердце его знало , что случилось в кубрике. Я вбежал в рубку, выхватил у него штурвал. Трясясь и всхлипывая, он кинулся вниз. И из кубрика раздался его радостный вопль.
Рубу был с нами.
Он оказался бывшим моряком и красным командиром. В свои 37 лет Рубу, а в мире людей – Казимир Скобло, имел крайне цветистую биографию. До революции он мальчиком сбежал из зажиточной семьи на флот, прошел морскую службу на Балтике от юнги до боцмана, затем стал подпольщиком, вступил в РСДРП, вел агитационную работу в Одессе, женился на бомбистке Марине Евзович, был арестован и сослан в Сибирь, жена погибла в Киеве во время теракта, бежал из ссылки в Санкт-Петербург, там жил нелегально и бросил две бомбы, во время Октябрьского переворота был комиссаром матросского полка, работал в ЧК, в Гражданскую войну воевал на Украине, был комиссаром дивизии «Пролетарский меч», в споре застрелил командира дивизии, за что был приговорен Троцким к расстрелу, бежал к анархистам, командовал пулеметным взводом у Махно, был тяжело контужен в голову, три месяца пролежал в хате на чердаке, под другим именем вернулся к красным, оказался за Уралом, примкнул к красным партизанам, был политруком в отряде, после войны возглавил речное пароходство на Тоболе, потом на Иртыше, обзавелся семьей; три месяца назад бывший дивизионный сослуживец узнал его; не дожидаясь ареста, Казимир Скобло бежал, прихватив деньги пароходства, оружие и документы; скрываясь, организовал небольшую банду, добрался до Енисея, угнал буксир «Комсомол», успел ограбить пять сел и два сухогруза.
Месяца два назад Казимиру Скобло приснился сон: он, семнадцатилетний матрос, в увольнении в Выборге, в маленькой комнате проститутки; они сидят на кровати, перед которой небольшой столик; на нем стоят бутылка пива «Новая Бавария», бутылка сладкой воды «Фруктовый мед», лежат фунтик конфект «Раковые шейки», фунтик французского печенья и пачка папирос «Важныя» – все, на что у него хватило денег; у него еще ни разу не было женщины; проститутку зовут Ляля, она уже спала с его друзьями – матросами Наумовым, Сохненко и Грачем; Казимир волнуется, старается вести себя развязно, ему неловко, что член его давно торчит, как палка, топорща черные клеша, проститутка заметила это и подсмеивается над ним; она толкает его пухлым плечом и пускает папиросный дым ему в ухо; он краснеет, глупо смеется, разливает пиво в стаканы, они пьют и курят; проститутка просит налить ей в пиво «Фруктового меда»; Казимир нервно наливает, торопится; стакан проститутки наполнен с мениском; она хохочет и ставит перед Казимиром условие – если он поднесет стакан к ее губам и не разольет – она даст ему, если разольет – выгонит; Казимир не знает – шутит она или говорит правду; он бережно поднимает стакан, несет его к красным смеющимся губам Ляли; вдруг за окном гремит дальний, но очень сильный гром; Казимир замирает со стаканом в руке; он смотрит в мениск переполненного стакана и видит, как по мениску разбегаются еле различимые волны, и он чувствует, что они от того далекого, но сильного грома; он не может оторвать взгляда от этих крохотных, но стремительных волн и все смотрит и смотрит в стакан; и вдруг в мениске он видит слепую странницу, которая заходила в их дом испить воды, когда ему было восемь лет; она родилась слепой, глаз у нее не было вообще; она лечила болезни и предсказывала судьбу; маленькому Казимиру она сказала: «Когда ты вырастешь и совсем запутаешься в себе и в жизни, к тебе придут два брата и сестра и покажут что-то, что навсегда изменит тебя»; она ушла, и Казимир забыл ее пророчество; вспомнилось оно только сейчас, во время дальнего грома; он роняет стакан, проститутка хохочет, он смотрит на нее – у нее нет глаз; и он просыпается.
Проснувшись, Казимир вспомнил: этот сон-то, что было с ним наяву, когда он семнадцатилетним матросом в Выборге сошел на берег с минного крейсера «Стерегущий». Тогда он уронил стакан. Но проститутка все равно дала ему. И он сразу забыл о своем видении.
Сон стал сниться ему часто. Ночами он мучительно боролся с этим сном, хотел увидеть что-то другое, но тщетно. Днем же он ощущал нарастающее беспокойство, словно что-то огромное неумолимо приближалось к нему.
Заговорив сердцем, Рубу понял смысл пророчества и рыдал. Прошлая жизнь казалась ему кошмаром. Как и всем нам.
Мы проплыли по Енисею двое суток. На третьи запертые в котельной кочегары сообщили: уголь кончился. Недотянув до Красноярска километров двенадцать, мы посадили «Комсомол» на прибрежную мель и сошли на лесистый берег. С пароходика мы взяли сумку с деньгами, золотым песком и револьверы. Так же мы переоделись: у бандитов, ограбивших пять сел, было достаточно добротной одежды. Рубу был слаб, мы вели его под руки. Но долго идти не пришлось: вдоль Енисея по берегу тянулся тракт. Первому же обозу было приказано доставить больного красного командира в Красноярск. Въехав в город, мы сразу сняли отдельный домик на окраине и затаились: Рубу нужно было время, чтобы поправиться, его разбитая грудина болела. Но новое сердце помогало телу: раны у нас затягивались быстрее, чем у людей. Через четыре дня брат Рубу уже встал на ноги. Мы обняли его. Стоя вчетвером на небольшой веранде, мы молча радовались друг другу. Нам не нужны были человеческие слова, легковесные и недолговечные. У нас был свой язык. Я распахнул окно веранды: в Красноярске еще стояла золотая осень, первый снег не удержался на земле. Мы молча смотрели на улицу с деревянными заборами, березами и одноэтажными домиками. Был вечер. Перелаивались сторожевые псы, где-то пиликала тальянка. По улице поехал пьяный ломовик на пустой телеге. Старая лошадь нехотя плелась. Ломовик стегнул ее вожжами, выругался и, заметив нас, пьяно усмехнулся, кивнув на лошадь:
– Во бессердечная кляча, блядский род!
Рубу вздрогнул . И мы вздрогнули тоже. Бессердечный ломовик упрекал лошадь в бессердечности, избивая ее и эксплуатируя. Это была живая картина земной жизни, наглядный пример «гармонии» бытия. Рубу всхлипнул и схватился за грудь. Дрожь пробежала по его телу, слезы хлынули из глаз. Мы поняли : для него наступило время сердечного плача. Разрыдавшись, он повалился на наши руки. Рыдания сотрясали его неделю. Очнулся он уже окончательно другим.
Мы не знали, что делать в Красноярске: Лед был далеко, сердца наши молчали, Рубу следовало опасаться – ГПУ искало его. Но помощь Света пребывала с нами. И через пару дней мы поняли, что не случайно оказались в Красноярске.
В то утро мы решили посмотреть город. Я был уверен, что наш с Фер сердечный магнит поможет найти своих, если притяжение Льда забросило их в этот старый сибирский город. Мы наняли извозчика, сели в коляску и поехали как можно медленнее. Колеся по улицам, мы продвигались к центру. Сердца наши молчали. Наконец мы свернули на главную улицу, Воскресенскую, и поехали по ней. Возле большого дома, напоминающего театр, толпился народ и висели траурные флаги. Ехать дальше было невозможно: впереди стояли конники, топтался духовой оркестр. Кого-то хоронили. Я приказал извозчику разворачиваться. И вдруг из толпы к нам выбежал очкастый молодой человек в чекистской форме, с траурной повязкой на руке.
– Вы с Ачинска? Товарищ Кудрин? – озабоченно спросил он Рубу.
– Да, – неожиданно ответил Рубу.
– Ну что ж вы, товарищи? – укоризненно развел руками очкарик. – Уже скоро вынос, а вас все нет! Идемте, идемте…
Мы сошли с коляски и двинулись за ним сквозь толпу. Стоящие на входе часовые с черными бантами на штыках пропустили нас в здание. В просторном зале было тихо и спокойно. Стоял гроб, убранный цветами и венками. В гробу лежал лысоватый усатый мужчина средних лет в форме чекиста, с орденом. Вокруг стоял почетный караул из местного начальства. Поодаль толпились собравшиеся. Почти все они были военные или чекисты в кожаных пальто и куртках. Женщины, как в православной церкви, стояли отдельно от мужчин. Фер встала с женщинами, я, Эп и Рубу – с мужчинами. Ко гробу вереницей шли прощающиеся – сначала мужчины, потом женщины. Затем прозвучала негромкая команда, гроб подхватили и понесли из зала. Венки стали разбирать.
– Товарищ Кудрин! Этот – ваш… – Тот самый молодой человек протянул Рубу венок.
Рубу взял венок, кивнул мне. Я подошел к нему, и мы понесли венок. На черной ленте золотом было написано: «СПИ СПОКОЙНО, БОЕВОЙ ДРУГ! Чекисты г. Ачинска». Самое поразительное – никто, кроме нас, не претендовал на этот венок. Остальные разобрали свои венки. На улице, едва мы вышли, грянул духовой оркестр. Гроб понесли по Воскресенской. За ним несли венки, неторопливо следовало начальство, шел оркестр, ехала конница со знаменем и валила толпа. В толпе в первых рядах оказались Фер и Эп. Идя в ногу с Рубу, я вдруг испытал легкое возбуждение сердца. Оглянувшись, я встретился взглядом с Фер. Но она пожала плечами. Я же почувствовал, что мы не случайно попали на эти похороны. Судя по всему, хоронили главного чекиста Красноярска.
Дойдя до кладбища под траурный марш, мы встали вокруг свежевырытой могилы. Гроб поставили на деревянный подиум, обитый красным сатином и черным крепом. Рядом с гробом поставили фанерный куб, крашенный суриком. Толпа расступилась, и на куб взошел чекист средних лет в форме, с двумя орденами. Я не видел его в зале во время прощания. Вероятно, он приехал только что. Его волевое, умное и грубоватое лицо обрамляла небольшая светло-каштановая борода, такие же волосы были не очень гладко зачесаны назад. Серо-голубые глаза смотрели сурово. Он окинул ими толпу, качнул покатыми плечами, привычно вцепился левой рукою в ремень, правую сжал в кулак. И заговорил:
– Товарищи! Смерть вырвала из наших рядов боевого друга, соратника по борьбе, неутомимого борца за пролетарское дело и мировую революцию товарища Валуева. Не выдержало горячее сердце верного солдата революции. Сгорел в борьбе и партийной работе яркий коммунист, железный чекист, человек широкой души и ленинско-сталинского характера. Перестало биться горячее сердце чекиста…
Он резко замолчал. А мое сердце встрепенулось.
Он сделал паузу, набрал побольше воздуха и продолжил:
– Всем нам горько сегодня зарывать тебя, коммунист Петр Валуев, в сырую землю. Но мне, твоему старому товарищу, особенно горько. При кровавом царизме встретились мы с тобой, Петр Фролович. Сослал нас царь в один и тот же городишко, в Обдорск, за нашу подпольную революционную работу. Чтобы мы с тобой, значитца, сидели там тихо, не агитировали, не буравили угнетенный народ. А мы с тобой тогда взяли, да и показали этим гадам – во! – Он резко и яростно выбросил вперед кулак.
Впалые щеки его моментально налились кровью.
Мое сердце почувствовало, как встрепенулось сердце Фер. Наш магнит заработал: мы узнали брата! Слаще этого мгновенья для наших сердец не было ничего. Я закрыл глаза. Этот решительный чекист был наш. Вот почему мы оказались в Красноярске.
Я открыл глаза. Чекист страстно говорил, помогая себе кулаком. Лицо его горело негодованием. Он очень не хотел верить в смерть. Я перевел взгляд на Рубу. Его неопытное сердце еще не знало. Но мозг его узнал выступающего.
– Кто это? – спросил я.
– Дерибас. Начальник ОГПУ Дальнего Востока.
Я сжал пальцы Рубу, держащие венок. Он посмотрел мне в глаза. Лицо мое светилось радостью.
– Да! – шепнул я.
И сердце Рубу поняло. Рубу задрожал, и слезы потекли из его глаз. Мы перевели свои восторженные взгляды на нового брата. Который ни о чем не догадывался.
– Не в бою пал ты, дорогой товарищ, не под Херсоном от белогвардейской сабли, не в Павлодаре от пули контры. На другом фронте довелось помереть тебе, Петр Фролович. На фронте архитяжелой и архинужной борьбы с контрреволюцией, с недобитками, с попрятавшимися гадами и врагами народа. За наше светлое будущее, за великие идеи Ленина-Сталина. Наша партия, наш народ, наши чекисты не забудут тебя, коммунист и чекист Петр Валуев. Спи спокойно, дорогой товарищ!
Он сошел с красного куба.
Потом выступали секретарь обкома и сослуживцы покойного.
Гроб закрыли крышкой, забили. Опустили в могилу. И стали быстро засыпать. Какой-то чекист махнул рукой, и спешившиеся конники дали залп из винтовок. Махнул еще раз – и оркестр заиграл «Интернационал». Стоящие вокруг могилы запели.
В свежий холм воткнули красную звезду и обложили венками. Мы с Фер, не сговариваясь, пошли через толпу к Дерибасу. Он стоял с секретарем обкома и курил. Вокруг них толпились чекисты.
– Товарищ Дерибас! – громко обратился я к нему.
Чекисты обернулись к нам. И охрана сразу встала у нас на пути. Дерибас поднял на нас суровые серо-голубые глаза.
– У нас к вам очень важное дело, – сказал я.
– Ты кто? – отрывисто спросил Дерибас.
– Твой брат.
Он внимательно посмотрел на меня. Сердце его было абсолютно спокойно.
– Как тебя зовут?
– Бро.
И тут сердце его вздрогнуло. И мы с Фер почувствовали его.
– Как? – переспросил он, хмуря брови.
– Бро! – громко повторил я и взял Фер за плечи. – А это твоя сестра Фер.
Впалые щеки Дерибаса побледнели. Сердце его вспыхнуло. Но очень сильная воля боролась с сердцем. Сдерживала. И сердце отступило. Стараясь не показать внутренней борьбы , он докурил. Кинул окурок, наступил на него:
– Михальчук, арестовать.
Чекисты наставили револьверы. Нас обыскали, отобрали мой вальтер и браунинг Фер.
– На паровоз их, – скомандовал Дерибас. – В дороге потолкуем.
Нас повели через толпу. Я мельком увидел Эп и Рубу. Замерев, они смотрели на нас. Но мы спокойно шли, не подавая никаких знаков: как обычно, мы не знали , что делать, но верили своим сердцам. Чекисты доставили нас на вокзал. Там стоял оцепленный охраной паровоз с двумя вагонами. Нас провели во второй вагон и заперли в купе. Мы радостно обнялись: еще один брат найден! Сердца наши заговорили. Они уже хорошо знали друг друга и умели набираться силы от сердечного разговора. Мы не заметили, как поезд тронулся. Прошло какое-то время, и наш сердечный разговор был прерван: дверь открыл часовой. Рядом с ним стоял чекист.
– На выход! – скомандовал он.
Мы вышли из купе и двинулись по коридору. Вагон был полупуст. В купе сидели немногочисленные солдаты охраны. Мы прошли через тамбур и оказались в вагоне первого класса, переоборудованном для поездок высокого начальства. Большая часть перегородок была снесена, вдоль зашторенных окон стояли диваны, на полу лежали ковры, в углу возле окна стоял пулемет и дремал пулеметчик. За большим столом восседал Дерибас в окружении четырех чекистов в форме и двух партийцев в типичных кителях. Они только что пообедали: солдат и женщина в белом переднике убирали грязную посуду. На столе стояли две пустые бутылки из-под шустовского дореволюционного коньяка. Дерибас распечатал пачку папирос «Пушки» и положил на центр стола. Он выглядел усталым. Сердце его не остерегалось сильных переживаний. Но мозг подавлял их. Судя по осунувшемуся, хотя и порозовевшему от алкоголя лицу, он похоронил сегодня близкого друга.
Сидящие закурили.
– Вот познакомьтесь, товарищи, – заговорил он, сильно затягиваясь папиросой, – перед вами мой брат и моя сестра.
Сидящие за столом посмотрели на нас. Он продолжал:
– Такая вот наша чекистская жизнь – хороним друзей, находим родню. И у этой родни в кармане по пистолету. Неплохо?
Партийцы усмехнулись. Чекисты спокойно курили.
– Ты кто? – спросил меня Дерибас.
– Я Бро, – честно ответил я.
– А ты? – он кольнул взглядом Фер.
– А я Фер.
– Кто вас подослал?
Фер молчала: она не знала, как выразить на языке людей нашу правду.
Ответил я:
– Свет Изначальный. Который есть в тебе, во мне и в ней. Свет. Он живет в твоем сердце, он хочет проснуться. Всю свою жизнь ты спал и жил как все. Мы пришли, чтобы разбудить твое сердце. Оно проснется и заговорит на языке Света. И ты станешь счастливым. И поймешь, кто ты и для чего пришел в этот мир. Сердце твое жаждет пробуждения. Но разум боится этого и мешает сердцу. Прошлая бессмысленная жизнь не отпускает тебя. Она хочет, чтобы ты по-прежнему спал, а сердце спало вместе с тобой. Она висит на сердце, как мешок с камнями. Сбрось ее. Доверься нам. И сердце твое проснется.
Я замолчал.
Дерибас переглянулся с сидящими. Подмигнул им:
– Вот такие пироги! Я скоро проснусь, товарищи коммунисты.
Партийцы рассмеялись. Чекисты сердито глядели на меня. Но наш магнит работал: Фер сильно помогала мне. Сердце Дерибаса затрепетало. Но он боролся до последнего: смертельно побледнев, продолжал шутить:
– И как же вы его разбудите? Пулей?
– Нет. Ледяным молотом. Мы сделаем его изо Льда, посланного на землю, чтобы разбудить наше братство. Это Лед Вечной Гармонии, Лед, который создали мы с тобой, когда были лучами Света. Мы совершили Великую Ошибку и попали в ловушку. Лед вернулся к нам, чтобы спасти нас. Чтобы мы снова стали Светом, чтобы исчезла навсегда эта уродливая планета. Ледяной молот ударит тебе в грудь. И сердце назовет твое истинное имя.
Он слушал, оцепенев. Его нервы были на пределе. Мы почувствовали его сердце, как загнанного в угол зверька.
– М-да… – Дерибас разжал побледневшие губы, неловко усмехнулся. – И вот таких психов у нас, в Сибири… это самое… таперича много, очень много…
У него уже не получалась шутка.
– Нет, нас очень мало, – произнесла Фер.
– Нас всего двадцать три тысячи. И ты – один из них, – добавил я.
Он яростно глянул на меня, рванул ворот гимнастерки и стал приподниматься. Рука его тряслась, борода задрожала.
– Ты… ты… враг… – прошипел он.
Глаза его закатились, и он повалился в обморок. Чекисты подхватили его. Партийцы вскочили.
– Устал… с сердцем плохо, – пробормотал один.
– Врач есть? – засуетился другой.
– Врач не нужен, – ответил я.
Партиец кивнул чекистам:
– Убрать этих…
И нас увели в наше купе. Но ненадолго. Через час меня снова повели к Дерибасу. Он лежал на диване у себя в просторном купе. Рядом сидели партийцы и чекист. Окно открыли, ветер трепал шторы. Громко стучали колеса. Дерибас был бледен. Он сделал знак мне. Я сел.
– Выйдите-ка, я с ним поговорю… – произнес Дерибас.
– Терентий Дмитрич, тебе отдохнуть бы надо, – возразил партиец.
– Выйди, выйди, Петр…
Они вышли. Я остался сидеть. Дерибас долго смотрел на меня. Но уже без страха и ярости.
– Ты знал моего деда? – наконец спросил он.
– Нет, – ответил я.
– А кто тебе сказал про лед?
– Лед.
Он выдержал паузу:
– Это кличка?
– Нет. Это Лед, прилетевший из космоса и упавший возле Подкаменной Тунгуски.
– И он умеет разговаривать? У него рот есть?
– У него нет рта. Но есть память о Свете Изначальном. Я слышу ее моим сердцем.
Дерибас внимательно смотрел на меня. Фер не было рядом, и наш сердечный магнит не работал. Разум вновь заковал сердце Дерибаса в броню.
– У тебя есть трое суток до Хабаровска. Если не скажешь, кто вас подослал и где ты услышал про лед, на землю с поезда сам не сойдешь. Тебя на нее скинут. Понял?
– Я уже сказал правду, – ответил я.
Он позвал охрану, и меня увели к Фер.
Мы ехали до Хабаровска почти четверо суток. За это время никто нас больше ни о чем не спрашивал. Когда охрана принесла нам еду – вареный картофель, мы отказались. Тут же пришел молодой чекист, спросил, почему мы не едим. Мы рассказали о своих предпочтениях. Нам принесли четыре морковки. Мы съели их. И говорили сердцем в полутемном купе с зарешеченным окном. И купе раздвигалось . И мы повисали в бездне. Среди звезд и Вечности. Свет сиял в наших сердцах. Они становились сильнее. Мы узнавали все новые и новые слова Света, мы совершенствовались. И забывали про тяжелый мир людей. Сразу по прибытии в Хабаровск он напомнил о себе.
Едва поезд остановился, нас повели к Дерибасу.
Он стоял в своем купе, одетый в кожаное пальто.
– Ну что? – спросил он, закуривая. – У вас два пути: на землю и под землю. Если вы говорите, кто вас подослал и кто рассказал вам про лед, вы идете по первому. Если не говорите – идете по второму. Tertium non datur, – добавил с чудовищным выговором.
Мы молчали. Но наш магнит заговорил.
– Надумали? – продолжил он и почувствовал нас.
Его броня дала трещину.
– Мы пойдем по первому пути, – сказал я. – И ты пойдешь с нами. После того, как Лед разбудит твое сердце. Лед, который ждет тебя.
Он побледнел. Разум его снова стал бороться с сердцем. И уцепился за смех.
Дерибас нервно рассмеялся.
– Сережа! – позвал он.
В купе вошел молодой чекист.
– Слушай, что мне делать с этими петрушками? – спросил он с усмешкой, стараясь не смотреть на нас.
– Товарищ Дерибас, давайте я их допрошу. У меня и глухонемой заговорит.
– Может, они и впрямь чекалдыкнутые? Лед, едрена вошь… Где этот ваш лед?
– В четырех днях хода от Подкаменной Тунгуски. А часть его закопана на берегу.
Сердце его трепетало . Разум отступал, но медленно. Дерибас кинул недокуренную папиросу на ковер:
– Черт бы всех подрал! У меня друг умер, контрики шевелятся, а тут – лед, блядь! Сережа, в подвал их. И допроси, чтоб заговорили.
Он раздраженно и с облегчением вышел из купе. Молодой чекист был в недоумении: с его железным шефом что-то происходило. Каток воли, которым Дерибас умело давил и сокрушал людей, против нас не работал.
С вокзала нас отправили в здание ОГПУ, расположенное на Волочаевской улице, и поместили в разные камеры. Они находились в подвале и были переполнены. В моей камере в основном сидели бывшие состоятельные люди, потерявшие все после революции. В камере Фер – их жены. Теперь беспощадная советская власть забирала у этих людей последнее – свободу и жизнь. Их обвиняли в контрреволюционных заговорах, сокрытии золота и антисоветской агитации. Мужчины были измотаны допросами и теснотою мрачной камеры, некоторые – сильно избиты. Страх парализовал этих людей, они разговаривали вполголоса, молились и тайком плакали. За стеной моей камеры сидели уголовники, которые громко перебранивались и часто пели: новая власть относилась к ним мягче, чем старая, считая их социально близкими пролетариату, но заблудшими.
Оказавшись в подвале ГПУ, я вслушался в негромкие разговоры арестованных. Из них выяснилось, что в городе и во всем Дальневосточном крае два всевластных человека – председатель ГПУ Дерибас и секретарь крайкома партии Картвелишвили. Они полновластные хозяева Дальнего Востока. Но последнее время они не очень ладят между собой. Дерибас, по словам арестантов, оказался сущим злом, свалившимся на Хабаровск из Москвы. Он был суров и беспощаден ко всем «бывшим», аресты шли непрерывно. Один из заключенных, воевавший в Гражданскую на стороне белых, сказал, что у Дерибаса есть стойкое убеждение, ставшее руководством к действию: все «бывшие» должны либо копать землю на сталинских стройках, либо кормить червей. Озвучивая эту максиму на допросах и очных ставках, Дерибас обычно добавлял свое неуклюже произносимое tertium non datur. Соответственно, арестованные «враги народа» приговаривались к длительным срокам лагерей или к расстрелу.
Ночь я провел в полудреме, стараясь дотянуться до сердца Фер. И на рассвете мне удалось это. Сердца наши коснулись друг друга через кирпичные стены подземелья. Это был чудо, подаренное Светом. Теперь нам стало гораздо легче: я мог в любой момент заговорить с сердцем Фер, она тоже чувствовала меня. Мы могли помогать друг другу, используя сердечный магнит. На следующее утро я его впервые использовал.
Едва арестанты позавтракали мучной баландой и сухарями, как меня повели на допрос к тому молодому чекисту из поезда Дерибаса. Восседая за столом, он представился следователем Смирновым и потребовал, чтобы я назвал «соучастников по контрреволюционному заговору». В случае отказа он пообещал «отбить мне потрох».
Сердце подсказало: пора действовать. Я ответил, что готов назвать пославших нас, но только лично Дерибасу и на очной ставке с Фер. Через час меня и Фер привели в кабинет Дерибаса. Он был один, сидел за столом и что-то писал. Над ним висели два портрета – Сталина и Карла Маркса. Пока он писал, мы с Фер настроили наш магнит. Дерибас поднял на нас глаза. И сразу отвел их в сторону. И я почувствовал, что мы стали первыми людьми в его жизни, которых он не понимал. А значит – не знал, как обойтись с нами. Просто расстрелять он нас не мог: что-то мучительно мешало ему это сделать. Служа в карательных органах, он сталкивался с разными арестантами. Ему попадались мужественные белогвардейцы, готовые на смерть и плевавшие ему в лицо, непримиримые священники, видящие в коммунистах демонов ада, яростные заговорщики-монархисты, молящиеся убиенному царю, фанатичные эсеры, считающие большевиков предателями революции, анархисты, не ценящие свою жизнь, и просто сильные духом люди. Всех их перемолола машина ОГПУ, к каждому из них у Дерибаса был свой подход. Каждого из них он понимал, для каждого в его сознании была своя полка. Нас он понимать отказывался. Потому что был такой же, как и мы.
И я рассказал ему все, что я знал про Лед.
Он слушал с каменным лицом, не поднимая глаз.
– Вот что я решил, – проговорил он, подрагивающими пальцами доставая папиросу. – Сегодня же я отправлю людей на Подкаменную Тунгуску, к тому месту, где вы зарыли куски вашего льда. Чтобы его доставили сюда в целости и сохранности. Если льда там нет – я лично расстреляю вас.
Нас увели.
В камере я стонал и рычал от восторга, пугая «бывших». Мы пробили железный панцирь Дерибаса! Его приказ об экспедиции на Катангу по логике ОГПУ выглядел чистым безумием. Любой другой чекист его ранга давно бы приказал подвергнуть нас пыткам, а потом расстрелять. На следующий день он бы забыл про двух безумцев, говорящих о Льде, прилетевшем из космоса. А наши простреленные сердца благополучно бы впустили в себя могильных червей.
Но не на радость могильным червям проснулись наши сердца. А чтобы будить спящих. Сердечный магнит медленно, но верно притягивал «железного» Дерибаса. Чекистская экспедиция вернулась через две недели. И чекисты привезли Лед! Сердца в наших телах, запертых в подземелье, забились.
Мы увидели наш Лед в кабинете у Дерибаса. Один из семи кусков лежал на серебряном подносе. Дерибас сидел за своим столом. За две недели он осунулся и похудел. В его светло-каштановых волосах и бороде проступила седина. Рядом с ним стояли двое охранников: он боялся.
– Ты сказал правду. – Он закурил, выпустив дым так, словно стараясь заслониться им от нас. – Зарытый вами лед нашли. Семь кусков.
Мы подошли ко Льду и положили на него руки.
Дерибас не препятствовал. Он сидел, закрыв глаза. Он окончательно потерял себя. Мы же блаженствовали, говоря со Льдом.
– И что… теперь? – пробормотал Дерибас, словно спрашивая себя.
– Теперь прикажи принести сюда простую палку и кожаный ремешок, – сказал я.
Дерибас поднял телефонную трубку:
– Поспелов, принеси мне простую палку и кожаный ремешок.
Когда приказание было исполнено, я попросил Дерибаса удалить охрану и запереть дверь на ключ. Охранники не смотрели на нас и на него как на сумасшедших: кабинет главного чекиста Дальнего Востока видал и не такое.
Дерибас приказал охране выйти. Затем тяжело встал и пошел к двери. До нее от стола было метров восемь. Для него они стали восемью километрами. Я никогда не забуду, как шел этот сломленный нами человек. Ссутулившись, он еле перетаскивал ноги в скрипучих сапогах. Голова его подрагивала, рот полуоткрылся, сильные руки потомственного крестьянина висели как плети. Он словно тащил себя к двери. Чтобы навсегда запереть ее. И оставить за ней страшный мир людей.
Дойдя до двери, Дерибас повернул торчащий ключ в замке и уперся лбом в дверь.
– Я вас… застрелю… – прошептал он.
Но безвольная рука даже не смогла подняться к кобуре. Лишь оцепеневшие пальцы сжались. И разжались. Я резко повернул его спиной к двери, расстегнул гимнастерку на груди и разорвал нательную рубаху. Креста не было на его шее.
Мы с Фер подняли Лед и бросили на пол. Он раскололся. Мы схватили подходящий кусок, привязали ремешком к палке. И приблизились к Дерибасу. Он оцепенел и ждал. Ждало его сердце.
Я размахнулся и ударил его ледяным молотом в грудь. Он коротко вскрикнул и, потеряв сознание, стал падать на нас. Мы подхватили его и положили навзничь на пол. Удар был силен: из рассеченной грудины потекла кровь. Глаза Дерибаса закатились, тело затрепетало и задергалось, как при эпилептическом припадке.
Мы ждали пробуждения сердца.
Оно затрепетало. И вдруг остановилось.
Дерибас перестал дергаться. Мы замерли. Лицо его смертельно побледнело. Сердце не билось.
В дверь постучали. И голос секретаря спросил:
– Товарищ Дерибас?
Он почувствовал, что в кабинете что-то произошло. И сразу зазвонил телефон на столе.
Дерибас лежал перед нами бездыханный.
– Товарищ Дерибас! – громче спросил секретарь и стукнул в дверь.
Но Дерибас не отвечал ни нам, ни людям.
– Ломайте дверь! – закричал секретарь.
Охранники навалились на дверь. Я замер. Потому что не знал, что надо делать. Сердце Дерибаса не выдержало удара. И вдруг Фер вцепилась в его плечи, встряхнула:
– Братик, говори сердцем! Братик, милый, родной, говори сердцем!
Сердце молчало.
Трещала дверь.
Фер легла на Дерибаса, обняла его, сжала. Изо рта ее вырвался пронзительный крик. И я почувствовал , как ее сердце встряхнуло остановившееся сердце нашего брата.
И оно ожило.
– Иг, Иг, Иг, – заговорило оно.
Мы закричали от радости.
Дверь распахнулась, в кабинет ворвались чекисты. Но мы не заметили: лица наши припали к окровавленной груди, сердца ловили голос пробудившегося сердца, губы повторяли имя брата:
– Иг! Иг! Иг!
Меня ударили рукояткой нагана по голове, и я потерял сознание.
Очнулся я в карцере.
Было почти темно: свет пробивался из-под железного «намордника» на маленьком подвальном окне. Я лежал на мокром полу. Он пах человеческой мочой. Я приподнял голову и потрогал ее: на затылке большая шишка, волосы склеились от запекшейся крови. Я осторожно встал, держась за стену. Голова слегка кружилась. Но сердце билось ровно: оно отдохнуло, пока я лежал без сознания. Я осмотрелся: в карцере не было ничего. Я осторожно прошелся. Голова болела. Я приложил ее к прохладному «наморднику». И вспомнил все.
Сердце радостно затрепетало: у меня есть брат Иг!
Я застонал от радости, закрыл глаза и улыбнулся в темноте.
Сердце мое стало искать Фер. Толстые кирпичные стены не помешали: Фер была рядом, в камере. Мы заговорили. И нам стало очень хорошо…Прошли несколько суток.
Я очнулся от скрежета засова. Дверь распахнулась, тюремщик мотнул головой:
– На выход.
Я вышел из камеры. И вскоре стоял в кабинете начальника следственной части Кагана. Маленький, смуглый, с жестоким и умным лицом, он стал задавать мне вопросы о происшедшем. Я понял, что ему не надо говорить правду. Поэтому я сказал, что Дерибас допрашивал нас, потом у него случился эпилептический припадок, он упал и ударился грудью о стол. А мы старались помочь ему. Этот ответ, как ни странно, удовлетворил Кагана. Повертев в руках остро отточенный карандаш, он нажал кнопку звонка.
Меня отправили в общую камеру.
А еще через пару дней нас с Фер отвезли в больницу, где лежал Иг. У входа в отдельную палату сидел охранник в наброшенном на гимнастерку белом халате. Он открыл дверь и впустил нас в просторную и светлую палату. На единственной кровати лежал Иг. Он почти полностью поседел. Лицо его сияло невыразимой радостью. Мы бросились к нему, обняли. И он зарыдал от счастья. Сердца наши стали трогать его проснувшееся сердце. Оно было таким юным ! Иг вздрагивал и плакал.
Мы учили проснувшееся сердце первым словам.
Вошла полная и румяная докторша.
Завидя нас, обнимающих плачущего Иг, она расплылась в улыбке:
– Так это и есть ваши родные, товарищ Дерибас?
Иг кивнул.
Она поставила на тумбочку мензурку с лекарством, вздохнула, колыхнув своей большой грудью:
– Какое это счастье – найти на земле родного.
Мы были полностью согласны с ней.
В этот же день нас освободили, и заместитель Иг чекист Западный поздравил нас: в управлении уже все знали, что Дерибас, потерявший свою семью в Гражданскую войну, нашел сестру и брата. Свидетелям наших рассуждений о Льде и тайной миссии было сказано, что мы, добираясь до Красноярска, почти ничего не ели (что было правдой!), вследствие чего слегка «тронулись умом». Поздравляя нас, широколицый здоровяк Западный извинился за «рукоприкладство» и «вынужденное негостеприимство».
– Все-таки вы, ребята, здорово похожи на нашего Терентия Дмитрича! – искренне признался он.
«А как же – голубые глаза!» – тайно и радостно подумал я.
Нас поселили в общежитии ОГПУ.
Иг выписался из больницы через трое суток. Врачи поставили ему диагноз: «сильнейшее переутомление, поведшее за собой глубокий обморок с квазиэпилептическим припадком». Из Москвы от Ягоды пришло распоряжение – отправить Дерибаса в отпуск для поправки здоровья. Председатель ОГПУ СССР любил и ценил «неистового Дерибаса, железной рукой наведшего порядок на Дальнем Востоке».
В Хабаровске Иг занимал красивый особняк на Амурском бульваре. Бывшая жена и сын остались в Москве, здесь же он сожительствовал с актрисой драматического театра. В особняке Иг мы снова встретились втроем. Иг пришел в себя, грудь залечивалась, сердце начинало жить. В небольшом, но уютном каминном зале мы разожгли огонь, опустили шторы, сбросили с себя убогие человеческие одежды, опустились на ковер и замерли, обнявшись.
Время остановилось для нас.
Очнувшись, мы с Фер впервые после нашей встречи вдоволь наелись фруктов, которых в доме Иг было предостаточно. Начальнику краевого ОГПУ доставляли крымский виноград и персики, астраханские арбузы и сливы, кавказские груши и мандарины. Глядя, как мы, голые, озаряемые сполохами каминного пламени, с наслаждением едим фрукты, Иг любовался нами. Он был похож на малыша, учащегося ходить. Жестокий и непримиримый, воспринимающий жизнь как непрерывную беспощадную борьбу, он словно вылез из старого стального панциря, утыканного окровавленными шипами, и, мягкий, беззащитный, сделал свой первый шаг.
Наши сердца бережно трогали его.
Наши губы говорили с ним.
Я и Фер рассказали обретенному брату свою жизнь. А он рассказал свою. Жизненный путь сорокапятилетнего Терентия Дерибаса прошел под знаком Вечной Борьбы: крестьянское детство в захолустье, затем город, реальное училище, заводская рабочая среда, нелегальный кружок РСДРП, романтика революционного подполья, вера в светлое будущее, листовки и агитация, русский марксизм, арест, ссылка, побег, опять арест, опять ссылка, революция, рабочие дружины, врожденное умение командовать людьми, заражать своей яростью и гнуть под себя, Гражданская война, путь комиссара полка, дивизии и армии, победа над белыми, опыт и авторитет, пост в ВЧК, беспощадность к оставшимся врагам, личная благодарность Ленина, непоколебимость и жестокость, абсолютная преданность партии и – должность начальника секретного отдела ОГПУ, члена коллегии ОГПУ, а затем – полпреда ОГПУ по Дальневосточному краю.
Десятки людей Дерибас во время войны и после расстрелял лично; тысячи были расстреляны по его приказу. Для большевиков он был идеальной машиной подавления и уничтожения.
Когда же ледяной молот ударил ему в грудь, Дерибас умер.
А Иг появился на свет. И стал нашим братом.
Он рассказал нам удивительную историю. В 1908 году он жил в очередной ссылке в Западной Сибири, в деревушке на берегу могучего Иртыша. Он ждал зимы, когда Иртыш встанет и можно будет договориться с ямщиком и на санях по льду совершить побег до Омска, а там сесть на поезд и уехать из холодной Сибири. В конце июня он увидел сон: ему приснился его дед, Ерофей Дерибас. Дед был ледяной. Все тело его было изо льда – и голова, и кривые ноги кавалериста, и обрубок правой руки, потерянной им на войне с турками. Дед сидит за новым, пахнущим свежеструганым деревом столом в новой, только что поставленной хате Дерибасов в том самом селе Успенском, где родился и вырос Терентий. Вокруг деда восседает вся семья Дерибасов. Посреди стола лежит зажаренная свиная голова. Семилетний Тереша сидит напротив деда. Дед отрезает куски горячей, дымящейся свинины своей единственной и ловкой левой рукою и протягивает каждому члену семьи, сопровождая кусок прибауткой. Все смеются и с аппетитом едят свинину. Терентий чувствует, как вкусно пахнет мясо, он очень голоден; слюна течет у него изо рта, он не в силах больше терпеть – ему ужасно хочется есть. Но дед не торопится: ледяная рука, орудуя ножом, срезает очередной ломоть, протягивает, но – опять не Терентию. Пока дед говорит прибаутку, он держит теплую свинину в руке; жир сочится из ломтя, капает крупными каплями. Наконец все, кроме маленького Терентия, получают свои куски и смачно, с аппетитом едят теплую свинину. Ест и сам дед.
– Деда, а мне? – спрашивает Терентий.
Дед ест и смотрит на Терентия ледяными глазами.
– Деда, а мне? – спрашивает снова готовый заплакать Терентий.
Быстро проглотив свой кусок, дед вытирает ледяной рукой ледяную бороду, рыгает и говорит:
– А тебе, Терешка, этого не надобно.
Рот Терентия кривится от обиды:
– А чего мне надобно?
– Вот чего! – отвечает дед и вдруг резко и очень больно бьет Терентия ледяным кулаком в грудь.
И от этого удара Терентий понимает всем существом, что ему нужен Лед.
Терентий проснулся на печи, в своей избушке от сильного грома. Избушку качнуло. Грудь его болела так, словно действительно его кто-то ударил. И он тогда почувствовал , что его дед в это мгновение умер. Это было правдой: дед Ерофей скончался утром 30 июня 1908 года.
Услышав от меня в поезде первый рассказ про Лед, он вспомнил своего деда и свой фантастический сон. Тогда же у него возникло чувство, что я знал его деда. Поэтому он так навязчиво спрашивал меня про него.
Сон Иг укрепил нашу веру в силу Льда. Каждый из наших видел сны, связанные со Льдом. И в этом была Великая Мудрость Света.
Отдохнув и выспавшись, мы собрались в дорогу. Чекист Дерибас для поправки здоровья должен был отправиться в санаторий на крымском побережье Черного моря. Мы ехали с ним. Нам выдали новые документы с громкой фамилией Дерибас: я стал Александром Дмитриевичем, Фер – Анфисой Дмитриевной. Необходимо было остановиться в Красноярске, найти Рубу и Эп, чтобы взять их с собой. Мы беспокоились за их жизни – ГПУ разыскивало Рубу. И конечно же надо было сохранить оставшиеся шесть кусков Льда. Четыре куска Иг спрятал у себя в доме на чердаке: там было холодно, а зима в Хабаровске была морозной. Два куска он упаковал в деревянные ящики, опечатал пломбами ОГПУ и распорядился погрузить на поезд. Их разместили в неотапливаемом тамбуре.В конце октября поезд тронулся. В нем ехали мы, охрана, повар, врач и секретарь Дерибаса. В Восточной Сибири уже стояла зима – снег лежал на проплывающих мимо окон сопках, кружился вокруг вагонов. Поезд с красной звездой на носу паровоза мчался на запад. Колеса стучали по промерзлым рельсам Транссиба. Мы втроем сидели в купе Дерибаса и говорили о будущем. Нас ждало очень большое дело. Дело всей нашей жизни. Мы стояли в начале великого пути к Свету. Важно было не ошибиться, не действовать наспех. Но и медлить мы не имели права.
Нас было всего пятеро, проснувшихся сердцем. Оставалось 22 995 братьев и сестер, рассеянных по сложно устроенному миру этой планеты. Они жили в разных странах, говорили на разных языках, не догадываясь о Великом Родстве, ничего не зная о своей истинной природе. Сердца их спали, бессловесными насосами качая кровь в телесной темноте. Потом изнашивались, старели, останавливались. И их закапывали в землю. Но Свет, покинувший умершее сердце, сразу же воплощался в сердце новорожденного человека, делая его нашим братом. И маленькое сердце его начинало снова качать кровь в темноте младенческого тела.
Нам предстояло нарушить этот порочный круг. Ледяным молотом отделить Божественный Свет от мерзкой, недолговечной плоти.
Сердца наши горели страстью.
Но ее одной было мало. Нам предстояло начать долгую и упорную войну против рода человеческого за наших братьев и сестер. На нее нужны были огромные средства. Чтобы просеивать человеческую породу, выискивая золотой песок нашего Братства, нужна была власть над этой породой. Власть над миром людей давали деньги. Но в советской России деньги не играли такой же роли, как в остальном мире. В стране, живущей под красным флагом с серпом и молотом, абсолютной властью обладало только государство. Чтобы добиться успеха в России, нам предстояло стать частью государственной машины, заслониться ею и, надев мундиры чиновников, делать наше дело. Другого пути не было. Любое тайное общество, существующее вне тоталитарного государства, было обречено. Мы не могли позволить себе стать подпольщиками, членами тайного ордена, прячущимися по темным углам внизу иерархической лестницы власти. Такой путь вел в застенки ОГПУ и сталинские лагеря. Нужно было карабкаться наверх по этой лестнице и прочно встать на ней. Тогда сложный и кропотливый процесс поиска наших имел бы нужную защиту. Братству необходимо было идти во власть. Влезть в ее толстую кожу. И искать наших.
Так решили наши головы.
Так подсказывали наши мудрые сердца.
И мы начали поиск. Решено было останавливаться в каждом крупном городе. Так мы и сделали. В Чите поезд остановился. Иг вызвал своего секретаря и на наших глазах легко влез в свой стальной панцирь главного чекиста Дальнего Востока. С чужими он снова стал беспощадным и принципиальным Дерибасом, сторожевым псом революции. Он велел секретарю вызвать начальника местного ОГПУ. Когда озадаченный начальник поднялся в вагон, Дерибас приказал ему предоставить нам машину с водителем и сопровождающим чекистом. Мы с Фер сели в нее и поехали по городу. Наш сердечный магнит заработал. Мы искали. Останавливались на улицах, заходили на рынки и в магазины, в советские учреждения и казармы. Целый день мы перемещались по уютной двухэтажной Чите, окруженной белыми от снега горами. Но сердца наши молчали: в Чите не было наших. Устав от сердечного ожидания и отчаявшись, я приказал ехать на вокзал. На обратном пути я понял, как сильно рассеяны наши среди людей: в сорокатысячном городе не было ни одного! И наши с Фер сердца оценили чудесное и быстрое обретение трех братьев. Свет, живущий в наших сердцах, помогал нам.
Въехав на небольшую привокзальную площадь, усыпанную окурками и шелухой от кедровых орешков, мы стали вылезать из машины. И вдруг сердца наши торкнулись. Где-то неподалеку жалобно звучала флейта. Фер оглянулась. Ее сердце чувствовало наших сильнее моего. Как сомнамбула, она двинулась через площадь, натыкаясь на зевак и пассажиров, ждущих поезда. Я пошел за ней. Чекист, так и не поняв, кого так напряженно искали мы целый день, стоял и курил у машины. Пока я шел, сердце стало трепетать . Все больше и больше. Глаза мои, видящие спину Фер, заволокло слезами. Как я любил мою сестру в такие роковые мгновения! Она вела меня. И сердца наши перекликались.
Фер остановилась. Я чуть не налетел на нее.
Перед ней на деревянном ящике сидел интеллигентного вида человек средних лет в некогда дорогом, но оборванном и грязном пальто с засаленным песцовым воротником и играл на флейте. На длинном, с горбинкой носу его подрагивало треснутое пенсне. Рыжеватые усы были в инее. Светло-голубые глаза смотрели рассеянно-обреченно: этому человеку уже нечего было терять. В старых серых валенках виднелись дырки. Он играл что-то жалобно-заунывное.
Мы замерли, стоя перед ним.
Сердца трепетали : он наш брат!
Спящее сердце его впервые почувствовало мощь Света, пылавшего в наших сердцах. Мелодия оборвалась. Наш брат поднял глаза. Они встретились с нашими. Пенсне его задрожало, глаза расширились от ужаса. Он поднял флейту, заслоняясь от нас, и хрипло закричал, валясь с ящика:
– Не-е-е-ет!!!
Мы подхватили его под руки. Он вопил хриплым, простуженным голосом, слабо вырываясь. Ужас его был неподдельным: тонкое, отощавшее лицо побледнело, рот свело судорогой.
– Не-е-ет!!! Не-еет! Не-е-е-е-ет!!! – вопил он, дергаясь в наших руках.
Народ с любопытством глазел на нас. Подбежал чекист.
– Мы искали его ! – срывающимся от радости голосом сообщил я чекисту.
– Так я ж его знаю, гада! – Чекист схватил вокзального музыканта за воротник. – Недобиток белый! А ну пошли, хватит прикидываться!
Втроем мы поволокли воющего музыканта к платформе, где стоял наш красноносый поезд. По дороге музыкант лишился чувств. Флейта выпала из его окоченевших пальцев. Но мы не подобрали ее: зачем ему теперь флейта?! Радость наша рвалась из сердец. Хотелось хохотать, визжать и рычать от счастья.
– Он, тварь, у беляков в оркестре играл… – бормотал чекист. – Не шлепнули, пожалели гада: музыкант, как-никак… Товарищ Бабич сказал ему – чтоб духу твоего в Чите не было, говно белое. Нет, приполз назад, подлюка… Вы его за старое искали?
– За новое ! – радостно ответил я.
Чекист замолчал.
Мы отнесли бесчувственного флейтиста в главное купе, Дерибас дал команду. И поезд тронулся. Стоящие на перроне местные чекисты отдали честь. Город Чита, подаривший нам брата, уплывал за окном от нас навсегда: наших здесь больше не было. Наступал вечер, в двухэтажных домах тускло загорались окна. Заснеженные горы заслонили город.
Охрана внесла в купе ящик со Льдом. И вышла. Иг запер дверь. Рука его дрожала от нетерпения. Мы открыли ящик. Вынули Лед, положили на пол. И не удержавшись, обхватили его руками. Сердца наши резонировали со Льдом. Стоны и вскрики вырвались из наших уст.
Музыкант зашевелился, открыл глаза. И с ужасом посмотрел на нас.
Пора было будить нашего брата.
– Ничего не бойся, – сказал я ему. – Ты среди самых близких.
Он закричал, как раненый заяц. Иг зажал ему рот, завязал носовым платком. Мы стали раздевать бродячего музыканта. Под пальто оказалась старая женская кофта, прорванная на локтях, под ней – грязная толстовка. Она кишела вшами. Тело его было худым и давно немытым, как у настоящего бездомного. Он извивался в наших руках и слабо стонал. Иг рукоятью револьвера отколол от Льда подходящий кусок. Фер вытянула шнурки из своих ботинок, поискала глазами: в углу купе Дерибаса стоял красный флаг. По советским праздникам его укрепляли на паровозе. Фер схватила флаг, сорвала с древка полинявший кумач. Мы привязали Лед к древку, Иг поднял стонущего музыканта и прижал его спиной к своей груди. Я прицелился в его худую, грязную грудь, размахнулся и ударил в нее ледяным молотом. Удар был столь силен, что Иг вместе с музыкантом попятились, споткнулись о диван и повалились на него. Древко сломалось, куски Льда брызнули во все стороны. Один из них рассек Фер лоб над бровью. Музыкант потерял сознание. Мы бросились к нему, сорвали со рта повязку. Он был бездыханный.
– Ты убил его! – воскликнул Иг.
Но сердце Иг было еще очень молодо по сравнению с нашими. Мы знали , что брат жив. Из носа его потекла кровь. Фер прижалась ухом к груди флейтиста. Сердце молчало.
– Говори сердцем! – яростно прошептала Фер.
– Говори сердцем! – торкнул я.
– Говори сердцем! – прорычал Иг.
И брат наш заговорил сердцем:
– Кта! Кта! Кта!
Мы завопили от радости так, что секретарь Дерибаса постучал в дверь.
– Вольно! – радостно крикнул ему Иг.
Брат Кта зашевелился, застонал. Ему было больно: молот сильно рассек грудину. Но ожившее сердце билось и говорило, билось и говорило:
– Кта! Кта! Кта!
Мы плакали от радости. Кта стонал. Кровь сочилась из раны, текла по его худым ребрам. Иг прижал платок к ране и, брызгая слезами, закричал так, что лицо его мгновенно побагровело:
– Фурман, врача!!!
– Есть! – раздалось за дверью.
Я кинулся собирать драгоценный Лед. Но сердце вдруг подсказало : не надо поднимать эти куски, ледяной молот бьет ТОЛЬКО в одну грудь. В этом была мудрость Света. Я замер на корточках над лежащими на ковре кусками. По одному из них ползла вошь. Она стряхнула с меня оцепенение. Подняв главный кусок, я положил его в ящик, закрыл крышкой, стал забивать ее рукоятью нагана. Иг схватил обломки древка и вместе с кумачом сунул под диван.
В дверь застучали. Иг открыл. Вошел врач, следом секретарь Фурман.
– У него грудь разбита, – показал Иг на Кта. – Сделайте, что надо, Семенов. За жизнь его отвечаете.
Врач потрогал грудину. Кта вскрикнул.
– Трещина… – пробормотал врач. – Нужна мягкая шина.
– Делайте… делай, что надо! Расстреляю!!! – закричал Иг, теряя самообладание.
Врач побелел: Дерибас никогда так не разговаривал с ним.
Я положил ему руку на спину, торкнул сердцем:
– Спокойно.
В отличие от нас с Фер Иг еще не плакал сердцем. И мудрость Света ему пока не открылась.
Врач наложил Кта на грудину мягкую шину, сделал укол морфия. Кта провалился в глубокий сон. Мы накрыли его одеялом, оставили на диване в купе. Охрана вынесла ящик со Льдом в холодный тамбур. Мы сели вокруг спящего Кта. Наступила ночь. Я выключил свет в купе. Вагон качало. За окном тянулся черный, непроглядный лес и промелькивало звездное небо. В темноте мы соединили руки. Сердца наши бились ровно. Они берегли сон новорожденного.
На следующее утро Кта пришел в себя. Страх не покинул его изможденное тело. Но мы сделали все, чтобы он понял , кто мы.
Поезд пошел вдоль берега Байкала, огромного сибирского озера. Вдруг мы встали. Дерибасу доложили: впереди произошло столкновение двух поездов. Починка путей заняла четверо суток. За это время Кта окончательно пришел в себя. Мы увидели в этом промысел Света: поезда столкнулись, чтобы дать отдых проснувшемуся сердцу.
Кта поведал нам о себе. Он, Иосиф Цейтлин, был из среднеобеспеченной еврейской семьи, окончил Московскую консерваторию по классу флейты, играл в оркестре Большого театра, во время Гражданской войны бежал из столицы за Урал, попал к белым, играл в военном оркестре на трубе, оказался в плену у красных, чудом не был расстрелян, четыре года прожил в Чите, давая частные уроки музыки, затем был арестован как «бывший», снова чудом избежал репрессий, был изгнан из города, скитался, играя на вокзалах, потом почему-то вернулся в Читу, хотя начальник тамошнего ОГПУ Артем Бабич пригрозил ему расстрелом.
Цейтлин тоже видел странный сон: 29 июня 1908 года под Москвой на даче пианистки Марии Керзиной состоялся музыкальный вечер по случаю именин ее мужа, известного промышленника, мецената музыкального искусства, председателя московского «Кружка любителей русской музыки»; на вечере играли камерную музыку, Цейтлин тоже выступил, сыграв со струнным квартетом; все завершилось традиционным дачным застольем с последующим шумным ночным купанием в реке Клязьме; в тот вечер Иосиф выпил больше обычного и рано утром проснулся от жажды и головной боли; спустившись с мансарды вниз, дабы не беспокоить спящих, он вышел в приусадебный сад, нашел колодец, открыл его деревянную дверцу; ведро на веревке было уже спущено вниз, оставалось только поднять его; Иосиф схватился за железную рукоять барабана и стал крутить, поднимая полное ведро; колодец оказался глубоким, даже очень глубоким; Иосиф вращал и вращал железную рукоять, поднимая ведро и думая о исцеляющей, холодной до ломоты в зубах колодезной воде; но ведро все не появлялось; мучась от жажды и нетерпения, Цейтлин заглянул в колодец; он оказался невероятно глубоким: дна не было видно! Стены колодца сужались в черную точку, над которой висело маленькое ведро – до него было еще очень далеко; Иосиф стал крутить изо всех сил; веревка наматывалась на барабан, делая его все толще и толще, пока он не превратился в толстенный моток веревки; Иосиф устал, крутил обеими руками, они дрожали от напряжения; наконец ведро показалось, Иосиф глянул: оно было кубической формы; от неожиданности он прекратил вертеть рукоять и вперился в необыкновенное ведро; чистейшая колодезная вода плескалась в нем; в это мгновенье взошло солнце и его лучи коснулись воды в ведре; поверхность воды просияла светом и словно стала светоносной иконой; на этой иконе были изображены голубоглазые и русоволосые юноша и девушка с большим куском льда в руках; от них исходила новая сила, которая потрясла Цейтлина так, что он выпустил рукоять и проснулся; он лежал на кровати в мансарде дачи и очень хотел пить; спустившись по лестнице, он вышел в сад, как в своем сне, нашел колодец на том же месте, открыл его; полное ведро с водой стояло на краю колодезного сруба; он стал жадно пить из ведра; напившись, отстранился и увидел свое отражение в воде и понял , что когда-нибудь юноша и девушка с куском Льда придут за ним.
Когда мы с Фер на привокзальной площади подошли к нему, он узнал нас и закричал от того, что сон его сбылся.
Мы говорили с Кта.
Потом поезд тронулся.
Следующей остановкой был Иркутск. Мы поступили так же, как и в Чите: сели в чекистскую машину и поехали по городу. Он был более цивилизованным, чем Чита, здесь стояли не только одноэтажные и двухэтажные дома, но встречались и довольно красивые здания. И опять мы проездили целый день по городу, заглядывая в людные места. И опять никого не обнаружил наш сердечный магнит. Быстро наступил вечер. Подъехав к вокзалу, мы с Фер вышли из машины. Здание вокзала было больше, чем в Чите. Но привокзальная площадь – меньше. Она тоже была усыпана окурками, шелухой семечек и кедровых орешков. Мы остановились посередине. Но здесь никто не играл на флейте.
Иркутск был пуст.
Мы сели в наш поезд, и он тронулся. После дня просвечивания Иркутска нашими сердцами мы с Фер почувствовали огромную усталость: словно нас, как провинившихся солдат в царской армии, провели сквозь строй. Сердца наши были выжаты и опустошены. Не было сил плакать. Еле добравшись до своих кроватей, мы повалились на них и заснули.
А проснулись уже в Красноярске.
Здесь надо было искать прежде всего Эп и Рубу, а потом уже – новых братьев и сестер. На вокзале нас уже ждали: иркутские чекисты сообщили в Красноярск о поезде Дерибаса, машина доставила меня и Иг в городское управление ОГПУ. Фер осталась в поезде с Кта. Первым делом мы на машине отправились по нашему старому адресу. Но домик, на террасе которого я услышал разговор пьяного ломовика с лошадью, был пуст. Наши братья покинули его. Соседи ничего не знали. Вернувшись в управление, Иг потребовал оперативные сводки за последний месяц. В одной из них сообщалось об угоне грузовой автомашины, принадлежащей городской хлебопекарне. Тремя днями позже эта машина была найдена брошенной в Канске. Там же угонщики сели на поезд, их опознала билетерша на вокзале. Они взяли билеты до Хабаровска. Значит, они уже были там! Эп и Рубу пробирались к нам на помощь, не ведая, что нам уже помогли. Теперь требовалось найти их в Хабаровске. Или уже в другом сибирском городе? Но мы-то ехали в Крым! Возвращаться было невозможно: мы везли Лед на запад, чтобы искать и пробуждать сердца. Эп и Рубу ждали нас где-то на востоке. Огромные российские расстояния угнетали: люди терялись на таких просторах как песчинки. А братья — и подавно. Иг послал телефонограмму в Хабаровск: задержать только живьем двух опасных преступников; каждый, кто осмелится в них стрелять, пойдет под суд. Зловещие маховики ОГПУ завертелись: Эп и Рубу начали искать с новой силой.
А мы начали свой поиск: черный «Форд» выехал из ворот здания ОГПУ на улице Ленина. На заднем сиденье его расположились мы с Фер. Красноярск тоже не обрадовал нас: два дня колесил «черный ворон» по городу, напоминая жителям о ночных арестах, два дня перед нами распахивались двери университета, казармы, трех общежитий, четырех школ и больницы. Лица людей проплывали мимо сердечного магнита бесконечной чередой. Но наших не оказалось среди них.
На третьи сутки мы покинули Красноярск.
Мы с Фер привыкли к нашей работе. И уже не так уставали от сердечного просвечивания городов.
Следующим был Новосибирск.
И там нам повезло. Едва мы просветили рынок, чувствительное сердце Фер встрепенулось : кто-то есть. Сперва я не почувствовал ничего. Потом – почувствовал, но уже вместе с моей удивительной сестрой. Мы кружили вокруг рынка, но не видели нашего, хотя остро чувствовали его. Это продолжалось более часа. Фер стала впадать в отчаяние: она взвизгивала и била себя в грудь, словно заставляя сердце видеть точнее. И вдруг стало ясно, откуда идет источник : чуть вдалеке от рынка стояла небольшая церквушка. Большевики не тронули ее, в ней справляли службу. Дверь ее открывалась и закрывалась, впуская и выпуская верующих. Именно это и сбивало нас. Источник был внутри. Мы вошли в церковь. И закрыли глаза от восторга: он вел службу! Высокий и статный, лет сорока пяти, с гривой густых русых волос, с окладистой русой бородой, мужественно-благородным лицом и голубыми, близко посаженными глазами, он стоял у алтарных врат в золотистом облачении священника и, маша дымящимся кадилом, сильным грудным голосом призывал верующих:
– Миром Господу помолимся!
И они молились, крестясь и кланяясь. Фер схватила мою руку и сжала до хруста. Сердца наши ликовали. Служба длилась слишком долго. Но мы терпели, наслаждаясь ожиданием. Мы понимали, что у нашего брата эта служба – последняя. Изредка он поглядывал на нас, выделяя из толпы. Но сердце его было спокойно. Наконец все закончилось. И к батюшке выстроилась очередь причащающихся. Как только он закончил причащать верующих, его арестовали и доставили к нам на поезд. Он оказался мужественным не только внешне: сопротивлялся, грозил нам адовыми муками и запел псалом. Ледяной молот прервал его пение. Потеряв сознание, он пришел в себя уже другим.
– Оа! Оа! Оа! – говорило его сердце.
Мы плакали от радости, обнимая его.
Оа принес нам счастье: после него в каждом крупном городе нашего следования мы обретали своих братьев. Но только братьев. И ни одной сестры. Так вершилась воля Света.
В Омске мы нашли Кти.
В Челябинске – Эдлап.
В Уфе – Ем.
В Саратове – Аче.
В Ростове-на Дону – Бидуго.
Возможно, в этих городах находились и другие наши братья, но, найдя одного, мы уже не могли искать других: не было сил. Новообретенного сразу везли на вокзал, к поезду. На этом поиск прерывался и начиналась божественная процедура оживления . Она потрясала не только новообретенных, но и тех, кто держал их за дрожащие руки, зажимал им воющие рты, размахивался и со всей силы бил в грудь ледяным молотом, кто жадно вслушивался в трепыхание пробуждающего сердца, а потом, рыдая от восторга, повторял на убогом языке людей священные имена братьев:
– Кти! Эдлап! Ем! Аче! Бидуго!
После всего этого вновь садиться в чекистский воронок и отправляться на поиски еще раз мы уже не могли: сердца наши требовали отдыха. И поезд с красной звездою шел дальше. Новообретенных разместили во втором вагоне, где были отдельные гостевые купе. За ними присматривал врач. Все они оказались голубоглазыми и русоволосыми. Как я, Фер, Иг. Как Рубу и Эп. И мы навсегда поняли, что в этом опознавательный знак Света: черноволосыми и сероглазыми наши быть не могут. Искать надо только среди голубоглазых и светловолосых.
Сердца делали нас мудрыми. Чтобы у помощника и местных чекистов не было вопросов по поводу нашего не совсем обычного поиска, Иг говорил им, что мы ищем тайную шпионскую сеть вдоль Транссиба, организованную некой религиозной сектой. Это снимало любые вопросы. Чекистскому доктору Семенову давно уже было все равно – кого и от чего лечить. Охрана и помощник Дерибаса, слыша из купе начальника вскрики и удары, были уверены, что мы пытаем арестованных.
Мы же будили их от мертвого сна.
Но поняли, что скоро будет нечем это делать: после Саратова резко потеплело, заоконный градусник показывал +10. Лед в ящиках стал активно таять. Надо было что-то делать. И мы с Иг и Фер приняли решение: оставить ящики со Льдом в Ростове-на-Дону, поместив их в холодильник. Большие промышленные холодильники в этом городе в 1928 году имел только колбасный завод. Лед поместили в железные ящики, заперли их на замки и убрали в холодильник. Начальник холодильного цеха по распоряжению Дерибаса нес за них персональную ответственность.
Решено было продолжить поиск, но без льда. Найденных Иг предложил просто арестовывать и содержать в том самом арестанском купе, где везли нас с Фер до Хабаровска.
Но после того как мы расстались со Льдом, удача отвернулась от нас: ни в пыльном и заваленном фруктами Симферополе, ни в приморском Севастополе наш магнит не нашел никого. Опустошенные сердцем и огорченные, мы с Фер провалились в глубокий сон.
Очнулись мы уже в машине: нас везли по горному серпантину. Рядом с нами сидел Иг, переодевшийся в белый китель без знаков различия и белые брюки. Лицо его сияло радостью, он держал нас за руки. Мы подняли головы, осмотрелись: в Крыму стояла солнечная и теплая осень, горы с пожелтевшей и покрасневшей растительностью проплывали вокруг. Я оглянулся. За нами шла еще машина: в ней ехали четверо новообретенных братьев – Оа, Кта, Кти и Бидуго. Остальных Иг приказал разместить в симферопольском военном госпитале. Впереди нас рассекал утренний крымский воздух красный открытый автомобиль с местным начальством: секретарь Крымского обкома партии Вегер решил лично препроводить легендарного Дерибаса в санаторий РККА. Они были хорошо знакомы с Гражданской войны.
Проехав по Ялте, этому самому красивому городу Крыма, мы свернули к утопающему в пожелтевших каштанах и акациях зданию санатория и остановились. С братом Иг здесь случилось давно ожидаемое . Сперва по мраморной лестнице к нам спустился директор санатория – улыбчивый толстяк-грузин со сталинскими усами, в таком же белом кителе, как у Иг, и в широченных светло-серых брюках.
– Здравия желаю, гости дорогие! – вскинул он кверху пухлые руки и тут же с хлопком сложил их на груди, кланяясь прибывшим.
– Здравствуй, Георгий! – протянул ему руку некрасивый, крупнолицый секретарь обкома.
– Здравия желаю, Евгений Ильич! – директор затряс руку секретаря так, словно хотел оторвать.
– Смотри, какого человека я тебе доставил. – Вегер кивнул на выходящего из машины Иг.
– Таварищ Дерибас! – Толстяк засеменил к нашей машине. – Устали ждать вас, клянус-честный-слов, осен уже, панимаешь, тепло уходит, а вы все нэ едите да нэ едите! Пачэму так нэ уважаете свое здоровье, нэ бережете, клянус-честный-слов, пажалуюс на вас таварищу Сталину!
Секретарь рассмеялся. Иг заулыбался, как положено Дерибасу, подал толстяку руку. Они были знакомы.
– Здоров. Ехали-ехали, вот и приехали. Два года не был у тебя, а?
– Плохо это, очень плохо, таварищ Дерибас, клянус-честный-слов!
– Зато теперь – с родней! Как тут у тебя? Отдохнуть можно?
Толстяк прижал пухлые ладони к своей пухлой груди:
– Таварищ Дерибас, я всэгда гаварил, что у нас красные командиры отдыхают сердцем.
Иг побледнел:
– Как… ты сказал?
– Сердцем! Самим сердцем, клянус-честный-слов! – захлопал себя по груди директор.
Сердце Иг вздрогнуло. И мы с Фер поняли, что сейчас будет. Иг со всхлипом втянул воздух, закинул голову и стал падать назад. Мы подхватили его.
– Эпилепсия! – сказал я людям.
На самом деле это заплакало сердце Иг. И сам он тоже.
Засуетились вокруг, прибежал дежурный врач. Иг рыдал и бился. Его отнесли в палату, вкололи морфия. Нас разместили рядом, в соседней палате.
– Вот так, ребята. – Секретарь обкома сочувственно похлопал нас с Фер по плечам. – Врагов на Дальнем Востоке давить – это вам не подсолнух лущить. Устал товарищ Дерибас, перетрудился. Ему покой треба. Берегите сердце брата. Оно партии очень нужно.
– И нам тоже, – ответила Фер.
Сила сердца
Пять дней понадобилось Иг, чтобы прийти в себя. Опустошенный и очищенный сердечным плачем, он лежал на диване в трехместной палате и с осторожностью слабого старика ел крымский виноград. Я сидел в кресле напротив, Фер – на подоконнике распахнутого окна, Кта – на стуле, посередине палаты, Оа стоял, прислонившись к дверному косяку. Несмотря на конец октября, сохранялась теплая погода, ветерок чуть колебал занавеску окна и волосы Фер. Массивные напольные часы только что пробили четыре часа пополудни. Утомленное осеннее солнце припекало Фер, натертый мастикой паркет и пожелтевшие листья акаций за окном.
Мы встретились в палате Иг, чтобы поговорить о будущем. Кти и Бидуго не было с нами: пробуждение сердца потрясло их сильнее других, Иг приказал поместить их в госпитальную палату, пока они приходят в себя.
Нужно было понять – как нам жить дальше среди людей. И не просто жить, а искать наших. Возникало множество вопросов: где жить, кем быть в этой большевистской стране, как и в каких местах искать, где прятать найденных, как доставлять Лед, где его хранить, и самое главное – что сделать, чтобы нас не арестовали как заговорщиков и после пыток не расстреляли в подвалах ОГПУ.
Все, что произошло, было не иначе, как чудом. Мы все поняли: нам очень везло эти два последних месяца. Но надеяться на везение и впредь было крайне опасно. Нужно было рассчитать нашу дальнейшую жизнь. И составить план действий.
В этот тихий час угасающего осеннего дня наши сердца молчали. Но и разговаривать на языке людей тоже не хотелось. Мы замерли, глядя в окно, на угасающее солнце, и не двигались. Лишь Иг неспешно ел виноград. Пальцы его отрывали фиолетовые ягоды и отправляли в рот.
Наконец я прервал молчание:
– Как нам жить?
Все повернули ко мне лица. Лишь сидящая на подоконнике Фер осталась неподвижной. Гибкая и молодая фигура ее была залита солнечным светом. Она словно удерживала свет, не давая ему погаснуть.
– Как нам жить? – снова спросил я.
Иг перестал поглощать виноградины. Братья молчали. Сердца их – тоже. И вдруг впервые с момента пробуждения я почувствовал беспомощность. Как только мое сердце смолкло, я стал обычным человеком. И стал искать защиту у разума. С момента пробуждения, когда я ударился грудью о глыбу Льда, меня словно поставили на колеса. И я катил и катил на них, не останавливаясь и не сомневаясь ни в чем. Сейчас мой «поезд» остановился. Что-то произошло во мне и в нас. Я чувствовал , что братья молчат не случайно. Им нечего было мне ответить. Они тоже остановились. Впереди нас лежал мир людей. И никто не проложил по нему колеи для наших колес. Мир этот был суров и беспощаден.
И первые признаки земного страха шевельнулись в моей голове. Лица братьев побледнели: они чувствовали то же самое. Держащая виноградную гроздь рука Иг конвульсивно сжалась. Розовый сок брызнул сквозь пальцы. Губы Иг побелели.
Мудрость Света покидала наши сердца.
И мы почувствовали одиночество. И нам стало СТРАШНО. Это было ужасно: страх, который я победил, лежа на глыбе Льда, вдруг вернулся. Мне был страшен страх. Но гораздо страшнее была сама возможность страха. Его возвращение пугало и потрясало больше, чем он сам по себе.
Вдруг Фер зашевелилась и с величайшим трудом повернулась к нам. Лицо ее окаменело от ужаса. Я никогда не видел ее такой. Она смотрела на нас как на умирающих. Волосы зашевелились на моей голове. Я в одну секунду осознал, что нам никогда не вырвать из тунгусского болота божественную глыбу Льда, никогда не найти всех наших, никогда не стать Светом. Мы обречены на гибель в этом чужом и беспощадном мире, перемалывающем живых существ. В мире, распахнувшем перед нами свою могильную пасть.
И человеческая Смерть бесшумно вошла в залитую солнечным светом комнату.
Мы застыли. Только пылинки кружились в солнечных лучах.
Но вдруг Фер, оцепеневшая на подоконнике, стала поднимать свои руки. Ей было невероятно тяжело это делать. Смертельный страх мешал ей двигаться. Но она боролась. Руки ее поднимались и тянулись к нам.
И мы поняли .
Сидящий справа от нее Кта стал тянуть к ней свою руку. Я, слева со своего кресла, протянул свою. Иг с кровати потянулся ко мне, стоящий у двери Оа – к Иг. Никогда в жизни мне не было так трудно тянуть свою руку. Она была тяжела и не слушалась. Другим тоже было очень тяжело. Дрожа и напрягаясь, мы тянулись друг к другу. Мы совершали тяжелейшую работу.
На мгновения я почувствовал, что солнечный свет, затопивший палату, – это вязкое вещество, которое мы пытаемся раздвинуть своими руками. Руки тянулись, тянулись, тянулись. Кта упал со стула, я свалился с кресла, Оа и Иг поползли по полу. Мы мучительно ползли к подоконнику, к сидящей на нем Фер. Тела наши обливались ледяным потом. Пот залил мне глаза. Я видел лишь размытый контур руки Фер. В этой руке было спасение. И я дотянулся. Кта дотянулся до правой руки.
Мы вцепились в руки друг друга. И из последних сил образовали круг. Малый Круг Света. Едва мы сделали это, сердца наши вздрогнули. И ожили.
Свет снова заговорил в них. С такой силой, что крики восторга вырвались из наших уст. Фер спасла нас! Ее не покинула Мудрость Света. Наша единственная сестра стала Великой Спасительницей Братства Света Изначального.
Мы подползли к ней, обняли, плача от восторга спасения. А она все еще сидела на подоконнике. Мы любили нашу единственную сестру. И она любила нас. Сжимая наши руки и прикладывая к своей груди, она смотрела на нас сверху. Слезы радости текли из ее глаз, капали на наши лица. Солнечный свет играл в слезах Фер.
Сердца наши заговорили. С новой силой.
Это продолжалось всю ночь.
Утром мы знали , что надо делать. Чужой мир по-прежнему окружал нас со всех сторон. Но по нему уже были проложены дороги и колеи. Сила сердца проложила эти дороги. Она словно раздвинула мир. И мы увидели в нем глубокие щели, которые ждали нас. Нам нужно было без страха и опасений двигаться по этим дорогам, заползать в щели мира, мимикрировать и делать наше великое дело.
Фер произнесла на языке людей:
– Свет всегда пребудет с нами. Он научит нас. И мы сделаем все, что необходимо.
Больше мы никогда не доверялись только своему разуму. Любой замысел, любое начинание, любое дело каждый из нас сверял прежде всего со своим сердцем. Сила сердца подсказывала путь. Разум обеспечивал движение по этому пути. Сила сердца подталкивала разум, стояла за его спиной. И он двигался, преодолевая мир, забирая от него все нужное и отшвыривая лишнее, мешающее. Ложные страхи, неуверенность в будущем, опасения за жизнь братьев – все отлетало прочь.
В этой залитой солнцем палате мы обрели полную свободу. Потому что полностью и навсегда доверились своим сердцам. И ведали их мощь.
Росло число сердечных слов, обретающих в наших сердцах. Язык сердца становился богаче от каждого разговора. Обнявшись, мы учились друг у друга. Сердца наши становились уверенней.
И сила сердца пребывала с нами.
Сестры
Когда Иг окончательно встал на ноги, решено было воспользоваться его отпуском и начать поиск наших в близлежащих городах. Связавшись с местным ОГПУ, Иг достал машину с водителем. Мы с Фер должны были отправиться на этой машине в поисковый вояж. По плану с нами следовал сопровождающий – чекист из оперативного отдела симферопольского ОГПУ. Ему Иг железным голосом Дерибаса сообщил, что отправляет нас с Фер на поиск тайной контрреволюционной организации, на зиму сбежавшей из Сибири в Крым, членов которой мы знаем в лицо. Соответственно, чекист должен всячески содействовать нам в поимке «замаскировавшихся врагов народа». Как только сердечный «магнит» находит нашего , мы должны указать на него чекисту, чтоб тот арестовал его. Решено было не брать с собой новообретенных, а сразу препровождать их в местные тюрьмы. После окончания отпуска Дерибаса новообретенных необходимо было доставить на наш поезд. На обратном пути мы должны забрать ящики со Льдом в Ростове-на-Дону и в долгом пути до Хабаровска простучать наших ледяным молотом.
Ранним крымским утром автомобиль забрал нас с Фер из санатория. Мы отправились в трехдневную поездку: Севастополь – Симферополь – Мелитополь – Бердянск – Ростов-на-Дону. Теперь искать нам стало уже легче: мы знали точно , что братья и сестры Света голубоглазые и светловолосые. Бесконечной чередой проходили перед нами люди, их лица, тела. Мы плыли по морю людей, раздвигали его, погружались с головой и снова всплывали. Мы дышали толпой. Она пахла потом жизни и бормотала о своем. Толпа всегда торопилась. Наш магнит просвечивал ее. И чем глубже погружались мы в процесс поиска в море людском, тем тяжелее нам это давалось. Толпа густела. Сердца наши дрожали от напряжения.
В Севастополе мы нашли двух сестер.
В Мелитополе – одну.
В Симферополе – никого.
И никого в большом Ростове-на Дону. Мы провели в нем сутки. После тяжелых и долгих поисков Фер рвало желчью от напряжения. Она впала в истерику, испугавшую сопровождающего нас чекиста. Я валился с ног от усталости, кровь пошла у меня носом. Автомобиль довез нас до общежития ОГПУ, шофер и чекист помогли Фер подняться по ступенькам крыльца. Я шел следом, стараясь не упасть. Встретившие нас молодые и загорелые ростовские чекисты были обеспокоены.
– Шо случилося, товарищи? – спросил один.
У нас с Фер не было сил ворочать языком. Мы пошли, держась за стену, к нашей комнате. И услышали, как сопровождающий чекист ответил местным:
– Вот, парни, как сибиряки врагов народа ищут. Без продыху. Учитесь!
Мы повалились на кровати. У меня в голове колыхалось людское море. И в нем не было ни одного родного лица! Мы обнялись и разрыдались.
Зато в маленьком и уютном Бердянске наш сердечный магнит нашел шестерых! И все они оказались сестрами! Это подействовало на нас с Фер как вспышка Света. Но физиологически совершенно раздавило: после поисков и арестов найденных мы упали на пыльную мостовую Бердянска и потеряли сознание. Очнулись уже на заднем сиденье машины: нас везли в Ялту. Я с трудом поднял голову, приподнялся на ослабевших руках. За окном мелькали пирамидальные тополя.
– Все найденные арестованы? – спросил я, с огромным трудом вспоминая слова.
– А то как же! – отозвался сидящий впереди чекист. – Будьте покойны.
Я облегченно откинул голову на кожаный подголовник. Голова кружилась. Фер спала.
– Я чего спросить хотел, – закурил чекист, – а чего это они все – бабы?
– Мужей мы уже арестовали, – пробормотал я.
– Понял. – Чекист серьезно качнул смуглой головой, подумал и спросил:
– А много ыщо осталось?
– Много, – ответил я, гладя губы спящей Фер.
– Это точно! – бодро согласился чекист. – Вражин меньше не становится. Ну да ничо. Вычистим наше поле от сорняков.
Вернувшись в санаторий, мы день пролежали, восстанавливая силы. Братья неотступно были с нами, помогая нашим телам и сердцам. Нас кормили с рук фруктами, как малых детей. Все наши были возбуждены: найденные девять сестер не давали им покоя. Братья просили историй , трогали наши руки, прикоснувшиеся к сестрам, стараясь почувствовать их. Но что могли рассказать губы? Разве способен был убогий язык людей передать восторг обретения? Мы говорили сердцем, держа братьев за руки. И они понимали нас.
Прошла неделя.
Кта и Оа прошли очищение плачем. Их содержали в больничном корпусе. Все братья, прибывшие с нами в санаторий, были под покровительством Дерибаса, а значит – ОГПУ.
– Им нужно нервишки подлечить, – говорил Иг главврачу санатория. – Работа у нас сам знаешь какая.
Главврач – ялтинский интеллигентный еврей, переживший ужасы Гражданской войны и чудом уцелевший во время красного террора, понимающе кивал.
Иг полностью оправился после плача и с новыми, учетверенными силами принялся за наше великое дело. Для людей он был все тот же Стальной Дерибас, жесткий и решительный, быстрый и беспощадный, энергичный и прямолинейный. Полустарик, тихо возлежащий в тот памятный солнечный день на диване с виноградной гроздью в руке, исчез навсегда. Голос Иг-Дерибаса звенел по коридорам санатория, сапоги его победоносно скрипели, глаза сверкали. Он источал невиданную энергию преодоления жизни, казавшуюся людям абсолютным проявлением жизнелюбия. Невысокий, быстрый и напористый, он стал «душой» санатория. Его обожали все: военные, с которыми он в столовой фанатично обсуждал «архиважную крутизну партийной линии по преодолению кулацкого саботажа хлебозаготовок», делился боевыми воспоминаниями и мечтал о мировой революции, директор, с которым яростно резался в бильярд и спорил о «местных перегибах в национальном вопросе», женский персонал, хохочущий от его фривольных и грубоватых шуток. Он спал не более трех часов в сутки, подолгу купался в осеннем море, шумно играл в городки, пел громче всех на вечерах боевой песни.
– Вот жизнелюб! – завистливо поправлял пенсне тщедушный главврач, глядя на хохочущего Дерибаса.
Но мы знали истинную природу этого «жизнелюбия». Брат Иг готовил себя для вечной борьбы во имя Света. И не щадил свою человеческую природу, натягивая ее, как лук. Чтобы выпустить разящую стрелу.
Из Хабаровска пришла телеграмма: Эп и Рубу найдены и арестованы. При задержании они застрелили двух чекистов, но сами не пострадали. Мы ликовали.
Отпуск Иг кончался. Пора было продолжать великое дело. За три дня до отъезда мы собрались на рассвете на обломках скал, неподалеку от санаторного пляжа. Солнце еще не встало, слабый прибой накатывал на серо-желтые камни, прохладный воздух бодрил. Иг, Фер, я, Кта, Кти и Оа взобрались на самую массивную скалу, входящую в море, как киль дредноута. Мы сели, образовав круг, и взялись за руки. Сердца наши заговорили. Они говорили о предстоящем. Солнечный луч сверкнул на морском горизонте, дотянулся до нас, осветил неподвижные лица с полуприкрытыми глазами. Но мы его не заметили. Солнце меркло рядом со Светом, сияющим в наших сердцах.
В начале ноября поезд Дерибаса отправился с севастопольского вокзала. Никого из братьев мы не оставили в Крыму, даже тех, которые еще не плакали сердцем. Нас провожало невзрачное местное начальство и загорелые пионеры. Секретарь обкома Вегер прислал три огромные корзины с фруктами, местное ОГПУ – громадную тыкву с надписью «Чекистам Красного Востока от чекистов Красного Юга». Дерибас, переодевшись в форму полпреда ОГПУ с тремя красными ромбами в петлицах и двумя орденами, стоял, как и положено, на вагонной площадке и махал рукой. Когда поезд тронулся, директор санатория двинулся за ним по перрону. Все так же прикладывая руки к пухлой груди, заговорил со своим грузинским акцентом:
– Таварищ Дэрибас, вы там на Дальнем Востоке пастарайтесь пабедить всех врагов зимой, чтоб они, клянус-честный-слов, летом нэ помешали вам к нам приехать!
Дерибас отдал честь, стер с лица улыбку и пошел в купе.
В Ростове-на-Дону мы забрали Лед. И наших девятерых сестер.
Когда солдаты с винтовками подвели их к поезду и скомандовали «Залезай!», женщины заплакали и заголосили: кто-то сказал, что их отправляют в Сибирь. Плача, они лезли в вагон. А у нас сердца горели от радости. Мы с Фер были готовы целовать ноги каждой из них. Светловолосые и голубоглазые, сестры сильно различались по возрасту: от четырнадцати до пятидесяти шести. Трое из них по земным понятиям были просто красавицы.
Сестер заперли в вагоне охраны.
Едва поезд тронулся, мы приступили. Охрана привела первую сестру – красивую полнотелую мелитопольскую еврейку-паспортистку с рыжеватой копной волос и огромными васильковыми глазами. Сильная и громогласная, она то рыдала, призывая маму по-украински, то бормотала на идише:
– Готыню тойрер! О Готыню тойрер!
Завязав ей рот, мы распяли ее на двери, Иг разорвал на ней платье, Фер и Оа отвели в стороны огромные белокожие груди со светло-розовыми сосками, я крепко обхватил толстые колени, а И г, трясясь от сердечного восторга, со всего маха хрястнул ледяным молотом по ее нежной груди.
Ее звали Нир.
Следующей была полноватая, крепкотелая украинка. Торговка с севастопольского базара, с прямыми белесыми волосами и загорелым круглым лицом, она пыталась откупиться, предлагая «девять червонцив з подпола». Когда ее стали раздевать, она помогала нам, бормоча:
– Хлопци, робить шо хочете, тилькы не стреляйтэ…
Ее простукивал я. Понадобилось четыре удара, чтобы сердце назвало имя:
– Ат!
Она залила своей мочой нас – воющих от радости обретения.
Сестра Орти – бердянская комсомольская красавица – яростно отбивалась, грозя пожаловаться «самому Вегеру», племянник которого был ее женихом. Широкоплечий и сильный Оа, впервые взявший ледяной молот в руки, первым же сокрушительным, но не очень точным ударом сломал ей ключицу и выбил из сердца сокровенное имя:
– Орти!
Она потеряла сознание от боли и пробуждения.
С маленькой и хрупкой нищенкой-подростком, взятой на паперти севастопольской церкви, пришлось повозиться. Шесть ударов вынесла ее худая, грязная, усыпанная гнойными прыщами грудь, но сердце лишь вздрагивало и надолго замирало, пугая нас остановкой. Нетерпеливый Бидуго схватил бездыханную девочку, прижал к себе спиной, Иг ударил ее в седьмой раз так, что кусок отлетевшего Льда чуть не выбил глаз Кта. Кровь брызнула из губ нищенки. А сердце ожило:
– Недре!
Белобрысые, угловатые, скромно одетые работницы бердянской кожевенной фабрики Зина Прихненко и Олеся Сорока, казалось, родились сестрами-близнецами. Невероятно, но они даже работали в одном сушильном цеху: так промысел Света свел их вместе. Они безусловно ждали нас. Оцепеневшие, покорно проследовали в купе Дерибаса, послушно встали к двери, дали себя привязать за руки. Стояли, не мигая бледно-голубыми глазами, пока мы расстегивали их одежду, разрывали исподницы на груди, отводили за спины нательные крестики. Но едва ледяной молот был занесен, ноги их подкашивались, они теряли сознание: молот снился им, Лед сверкал в забытых детских снах, где сияющие и могущественные люди сладко теребили их детские сердца, мучительно преследовали, не давая покоя. Молодые сердца их жаждали Льда. И он ударил в них:
– Пило!
– Джу!
Клавдия Бордовская, арестованная в своем модном ателье, сохранившемся во время заката НЭПа благодаря красоте и любвеобильности хозяйки, решила, что ее арестовали за связь с покончившим собой директором райторга, проворовавшимся морфинистом. Как только ее привели к нам, она бросилась на колени перед Иги, обнимая его сапоги, закричала, что «подпишет все». Заметив, что мы с Фер привязываем к палке Лед, она решила, что ее будут «пытать бертолетовой солью», и завопила так, что пришлось сразу завязать ей рот. Мощным и хлестким ударом в холеную грудь я завершил карьеру модистки:
– Хортим!
Солидная дама дворянских кровей, статная вдова белогвардейского капитана с неистово-ультрамариновыми глазами яростно крестила нас, как бесов, и проклинала на чем свет стоит. Пока ее привязывали к двери, злобное шипение и проклятия вырывались из ее тонких губ. Она вся пылала ненавистью, извивалась в наших руках. Но привязанная, застыла и замолчала, готовясь к смерти. Мы для нее оставались «большевистской мразью, погубившей Россию». Ледяной молот сильно рассек ей кожу на груди. Она стояла, побелевшая, словно мраморное изваяние, глядя сквозь нас своими удивительными глазами. Прижав свое ухо к этой окровавленной и гордой груди, я услышал:
– Епоф!
Последней оказалась мать семерых детей, домовитая хлопотунья, простая и добрая, как теплая сдоба, которую так любили есть ее дети, запивая холодным молоком. Детьми и мужем-красноармейцем она заклинала нас отпустить ее. Рожденная для продолжения рода, для воспроизводства жизни, она не могла себе позволить умереть. Для нее это было равносильно великому греху. Брат Эдлап, бывший кузнец, с одного удара пробудил ее сердце, заставив навсегда забыть детей и вспомнить имя свое:
– Уголеп!
Так мы обрели девять сестер.
Об их грудь был полностью разбит весь Лед, что мы взяли с собой. Куски его усыпали ковер в просторном купе Дерибаса. Они таяли, смешиваясь с мочой пробудившихся сестер. Обломки палок ледяных молотов валялись у нас под ногами. Часть Большой Работы была благополучно проделана.
Всего нас стало 21.
Мы ликовали.
И всячески заботились о новообретенных.
Сестер разместили как могли – в гостевых купе, арестантских, в столовой. Они были потрясены: стоная от боли, плакали слезами прощания с жизнью людей, тела их перестраивались, сердца произносили первые слова. Мы помогали. И они плакали уже от радости преодоления старого. Врач наложил шину на сломанную ключицу Орти. Он плохо понимал, что происходит в этом поезде, на всех парах идущем с юга на восток огромной страны, в которой взяли власть эти странные и беспощадные большевики. Ничего не понимал и помощник Дерибаса. Но традиция не задавать лишних вопросов начальству уже вошла в силу: карательный аппарат ОГПУ по всей стране превращался в большую и закрытую от посторонних глаз машину, работающую по своим законам. Если большевистская партия еще дышала жаром дискуссий, ОГПУ все больше и больше немело , закрываясь от постороннего взгляда. Чекисты приучались работать молча. Приказы начальства уже давно не обсуждались. Иг понимал это и использовал в наших целях.
Цели росли, как кусты. Сердца стремительно определяли направления, головы едва успевали просчитывать варианты. Сила Света несла нас. В Саратове поезд остановился. Братство приняло решение: я, Фер, Оа и Бидуго отправлялись в Москву. Остальные продолжали следовать с Иг в Хабаровск. Иг-Дерибас послал телеграмму в столицу: его влиятельные друзья в ОГПУ должны помочь нам, устроить на работу, обеспечить жильем. Чтобы сердечный магнит заработал в самом большом русском городе. И новообретенные братья смогли заговорить сердцем.
Мы сердечно простились с братьями и сестрами. Это было мощное прощание: образовав Круг, мы взялись за руки. И заговорили на языке Света. Купе исчезло. Мы повисли в пустоте, среди звезд. Сердца просияли. Потекли светящиеся слова. Опытные сердца учили слабых, недавно проснувшихся. Время остановилось.
Через несколько часов мы разжали руки.
И сошли с поезда Дерибаса на деревянный перрон. Поволжская метель продувала его, завиваясь в вихри. Укутанные по-зимнему пассажиры в ожидании поезда сидели на своих вещах, сбившись в кучу. В этой зябнущей толпе чувствовался страх затеряться на бескрайних просторах холодной и непредсказуемой страны. Но больше мороза и голода они боялись друг друга. Коченеющие руки их вцепились в баулы, чемоданы и деревянные сундуки с навесными замками. Они ждали поезда. На самом деле им было некуда ехать.
А нам – было куда !
Мы шли мимо них.
С мандатом, выданным Дерибасом, нас посадили на прибывший поезд.
И мы поехали в Москву.
Москва
12 ноября мы прибыли на Курский вокзал. Столица России, в которой я не был почти четыре года, встретила нас морозом, солнцем, серым от копоти снегом и толпами людей. Перрон был затоплен пассажирами: одни рвались на отправляющийся поезд, другие валили валом с прибывшего. Мы тут же оказались в толпе мужиков, приехавших в столицу на заработки. В тулупах, валенках и лохматых шапках они брели стадом, неся под мышками завернутые в мешковину пилы, а на плечах – баулы, из которых торчали топорища. От мужиков пахло деревней. Москва ударила в чувствительное сердце Фер: сотни тысяч людей, наши среди них, здесь!
Фер сразу же торкнула меня сердцем: начали! Но я сжал ее руку: не время. Она выдернула руку, скрипнув зубами, гневно вскрикнула. Я схватил ее за плечи, встряхнул, останавливая. Заглянул в глаза. Они светились яростью.
– Этот город будет наш, – произнес я.
– Братья гибнут каждую минуту! Надо спешить! – яростно отозвалась она.
– Нет. Надо правильно войти в этот город. Тогда мы возьмем его, – ответил я.
– Нет времени! Нет времени, Бро!
– Фер, этот город может уничтожить нас. И мы уже никогда не найдем своих.
И добавил сердцем. Она ответила.
Оа и Бидуго слушали нас. Мудрость Света в этот момент говорила через мое сердце: в Москве необходимо действовать осмотрительно.
Неистовая Фер поняла. И со слезами обняла меня.
Наняв извозчика, мы поехали по Москве. Почти везде пахло едой. Еду носили по улицам на лотках, витрины ломились от булок и колбас. Многие прохожие что-то жевали на ходу. НЭП издыхал, и люди, словно предчувствуя надвигающийся суровый сталинский социализм, наедались впрок.
Приехав на Лубянку, мы вошли в большое здание, где размещалось ОГПУ. Отсюда из серо-желтого многоэтажного особняка тянулись нити этой могущественной организации во все концы СССР. Здесь сидело начальство Дерибаса, здесь работали его близкие друзья. Я показал наш мандат. У нас забрали поклажу, оружие, верхнюю одежду. И вскоре мы с Фер уже шли по скрипучему паркету за сопровождающим. Оа и Бидуго остались ждать нас в приемной. Надраенные сапоги чекиста скрипели громче паркета. Он доставил нас в кабинет заместителя начальника Особого отдела ОГПУ Якова Агранова. Мы вошли в секретарскую комнату с красавцем секретарем и машинисткой. Секретарь доложил по телефону, распахнул обитую кожей дверь, и мы вошли. Черноволосый, густобровый, с совиным носом и живым, хитроватым лицом, Агранов сидел за столом и что-то быстро писал. Секретарь закрыл за нами дверь. Агранов поднял голову, прищурился. И улыбнулся:
– Ааа! Дерибасовские найденыши. Добрались-таки до Белокаменной?
Он проворно выбрался из-за стола и, маленький, узкоплечий, пошел к нам:
– Ну-ка, ну-ка…
Впился в нас черными птичьими глазами:
– А похожи! Ну, давайте знакомиться. Агранов.
Он протянул маленькую, но цепкую руку. Мы пожали ее:
– Александр Дерибас, Анфиса Дерибас.
– Так, так. Прямо с поезда? Голодные?
– Нет, спасибо, товарищ Агранов, мы сыты.
– Как Терентий? Поправил здоровье? Что стряслось с моим боевым другом?
– Врачи говорят – переутомление, – ответил я.
– Да ну! Чертовня… – Агранов резко махнул короткой рукой, круто развернулся, подошел к столу и взял коробку папирос «Пушки». – Дерибас троих таких, как я, поборет. Он звонил мне третьего дня – голос нормальный. Батраков отбил телеграмму – эпилепсия! Какая, к черту, эпилепсия?! Я Терентия с семнадцатого года знаю. Эпилепсия! – Он протянул нам раскрытую пачку, мы отрицательно качнули головами; он быстро закурил, со свистом выпустил дым из большого, тонкогубого рта. – Дураков везде навалом.
Зазвонил телефон. Он схватил трубку:
– Агранов! Ну? А что мне твой Кишкин?! Чертовня опять! Есть приказ Паукера: шестнадцать спецвагонов завтра к четырем утра! Да и не надо много охраны: это нэпманы, куда они побегут? Чай, не двадцатый год. Нет, сам звони. Заладил – Кишкин, Кишкин…
Он бросил трубку на рычажки. Раздраженно затянулся:
– Кишкин! Кишкин…
Пробежал по нам невидящим взглядом, снова схватил трубку:
– Антон, зайди.
Вошел секретарь.
– Слушай, я вспомнил, как звали того поляка, ну… по делу Горбаня. Не Кислевич, а Кишлевский.
– Кишлевский?
– Кишлевский! Точно! – еще больше оживился Агранов. – Давай звони Борисову, пусть освободит тех Кислевичей. Наарестовывал не тех, Пинкертон! Чертовня…
– Поэтому они и молчат.
– Конечно! Стоило Сомову повеситься, как все запуталось! Хорошо, я вспомнил. Кишлевский! Точно! Давай, Антон, пока Ягоде не доложили!
Секретарь кивнул, поворачиваясь, но Агранов не кончил:
– Погоди. И вот с ребятами.
Он снова увидел нас:
– Грамотные?
– Я учился в университете, – ответил я.
– Читаю и пишу, – ответила Фер.
– Значит, пристроим вас в архив. К Генкину веди их… нет, лучше сразу к Цессарскому! И в общежитие пусть устроят, в старое, на Солянку. Понял? Но сперва – Кишлевский! Понял? И никакой чертовни!
– Есть, товарищ Агранов.
– С нами еще двое, – вставил я.
– Антон, разберись… Все, ребята! – Агранов быстро пожал нам руки.
Через некоторое время мы сидели в отделе кадров. Протекция Агранова оказалась весьма весомой. Его секретарь помог с оформлением новых документов для Оа и Бидуго: мы сказали, что наших друзей обокрали в поезде. Оа представился как бывший художник (он действительно прекрасно рисовал, сам писал иконы), Бидуго (столяр из Ростова-на-Дону) не изменил своей профессии, назвавшись столяром-краснодеревщиком. Нас с Фер устроили в архивный отдел ОГПУ: меня – помогать архивариусам оформлять дела, ее – клеить папки и конверты для этих дел. Оа пошел работать в сектор наглядной агитации при Доме культуры ОГПУ, Бидуго – на склад, плотником. Жить нас с Фер определили в общежитие ОГПУ, Оа и Бидуго подселили в огромную коммунальную квартиру, густо заселенную одинокими рабочими.
Так началась наша московская жизнь. В ОГПУ мы получали продуктовые карточки, талоны в столовую и совсем крохотную зарплату. Но Дерибас дал нам немного денег с собой. На них мы покупали яблоки, морковь, капусту и зерно. Этим мы питались. В общежитии нас прозвали «деризайцами»: по вечерам мы жевали овощи. Зерно мы носили в карманах, стараясь жевать его на улице, когда никто не отвлекал разговорами. Вскоре обозначились две наши главные проблемы: питание и близкое общение с людьми. В ОГПУ, как и во всех советских учреждениях, было принято ходить «на обед» в столовую всем вместе, в обеденный перерыв. Нам стоило огромного труда избегать этого. Это было почти невероятно, но сердце подсказывало, что делать и как. Мы благополучно ускользали . Нас с Фер, «кровных родственников» Дерибаса, чекисты старались опекать, зазывали в гости. Мы панически отказывались, ссылаясь на что угодно, вплоть до различных болезней: в гостях надо было пить вино и есть пищу людей. Начальник учетно-архивного отдела Генкин, желая «подкормить» нас, иногда давал талоны в «хорошую» столовую (нам было положено обедать в столовой для рабочего персонала). Мы делали вид, что ходили туда, содрогаясь лишь от одного запаха столовой, где варили и жарили трупы кроликов. Один раз я не смог отказаться и проглотил кусок жареной крольчатины. Меня сразу вырвало. Фер же выпила вина, которое ей буквально влили в рот в день рождения Сталина, отмечаемого архивным отделом. Ей было ужасно плохо. В отделе решили, что у Анфисы Дерибас алкогольная непереносимость. Но табачный дым мы могли спокойно втягивать в свои легкие. Курение помогало нам «быть своими» в советском коллективе. Естественно, у нас не было никакой зависимости от табака, как у настоящих курильщиков. В рабочей столовой кормили кашами, но их мы тоже не могли есть: наши организмы принимали только цельную пищу, не тронутую тленом и огнем, не вареную, не замороженную, не перемолотую и не заквашенную. Трупы живых существ были для нас совершенно неприемлемы, но пожирать еще живые существа мы тоже не могли: сердце не принимало кровь. Ни живую, ни мертвую. Только зерно, фрукты и овощи могли перевариваться в наших желудках и давать нам силу. Мы впускали в себя только то, что было цельным , не разрушенным человеком. Дым был цельным. Как и вода.
Когда архивариус, вернувшись из «хорошей» столовой, ковыряя в зубах, бормотал, что «крольчатинка сегодня смерть как удалась», я кивал и бормотал:
– Конечно.
По будням мы работали, стараясь полностью слиться с массой советских людей, вспоминая их привычки, жизненные ценности, моральные принципы, юмор и страхи. Мы влезали в чужую кожу, чтобы быть своими. Это давалось нам удивительно легко: сила сердца помогала. Свет, горящий в нас, крепил внутренние силы и умножал возможности. После пробуждения сердца каждый из наших стал подлинным Протеем: в нем открылась не только способность к перевоплощению, но и фантастическая пластичность в преодолении жесткого, непредсказуемого мира. Сбросив каменный панцирь прошлой мертвой жизни, разорвав родовые связи, мы словно стали бескостными, легко изгибаясь и проникая в щели мира. Ничто не сдерживало нас, только Свет сиял впереди, вел к заветной цели. Наша способность к мимикрии не имела аналогов в мире людей. Это был высший артистизм, не снившийся профессиональным актерам. Никто не мог оценить его, ибо в этом театре не было зрителей: только сцена, со всех четырех сторон.
К тому же мы отличались удивительной выносливостью, спали не более четырех часов в сутки. К концу рабочего дня мы не чувствовали усталости, «добровольно» брались за новую работу, стараясь казаться «самоотверженными и сознательными». Вскоре нас с Фер прозвали Двужильные Дерибасы. Начальство и сослуживцы были нами довольны. Оа и Бидуго тоже проявляли «трудовой энтузиазм» на своей работе.
По выходным мы вчетвером отправлялись в Сокольники, уединялись в лесу, садились в круг на снег и, взявшись за руки, часами говорили сердцем. Я и Фер учили Оа и Бидуго и учились у них. Росла мудрость сердец.
Мы ждали Льда.
Он прибыл в Москву 2 января 1929 года на Казанский вокзал в багажном отделении поезда Хабаровск – Москва. На этом же поезде приехали братья Эп и Рубу. Мы обнялись посреди затоптанного и заплеванного людьми перрона. Сердца вспыхнули : Эп и Рубу! Братья-первенцы, посланные нам Светом, обретенные на реках суровой Тунгусии, затем потерянные. Мы кричали и выли от восторга, пугая советских пассажиров. Эп был в форме ОГПУ, Рубу – в гражданской одежде. Он изменил внешность, отпустил бороду, надел очки и внешне походил на советского инженера. Братья сопровождали четыре ящика со Льдом, те самые, спрятанные на чердаке у Дерибаса.
Когда сиворылые грузчики вытащили первый ящик из багажного вагона и поставили на сани, у меня помутилось в глазах: Лед! Я подошел, упал на колени и прижался к ящику. Фер, взвизгнув, прижалась к ящику с другой стороны. Сердца наши торкнулись в Лед. И он завибрировал в ответ. Недолговечный мир земной качнулся под нашими ногами. Это было мощно .
Грузчики стояли, непонимающе шмыгая синими носами. Остановился проходящий мимо милиционер:
– Что такое?
Мы с Фер не пошевелились, стоя на коленях перед Льдом.
– Очень важное оборудование, – ответил Рубу.
– Ясно. – Милиционер покосился на ледяные глаза Эп, козырнул и пошел дальше.
В нашем театре не было зрителей.
Два ящика со Льдом по приказу Дерибаса доставили на Лубянку и поместили на складе под навесом. Там Лед мог спокойно сохраниться до весны. Другие два мы спрятали в подвале сгоревшего дома на Солянке, неподалеку от общежития.
Дерибас устроил Эп в транспортный отдел ОГПУ, что позволяло много перемещаться и быть рядом с транспортными средствами. Рубу с новыми документами и под новым именем был определен агентом по снабжению в Торфяной институт, секретарем парткома которого был однополчанин Дерибаса. Еще через пару недель в Москву из Хабаровска подтянулись братья Эдлап, Ем и отрыдавшие сердцем сестры Орти, Пило и Джу. Молодые и энергичные, комсомольцы-активисты по документам, все они, пользуясь пролетарским происхождением и рекомендацией комсомольской организации Дальневосточного ОГПУ, поступили на Рабфак. По замыслу большевиков это новое учебное заведение должно было готовить молодую красную профессуру, преданную делу партии, чтобы постепенно вытеснять из вузов старую «идейно гнилую и мелкобуржуазную» интеллигенцию.
Так в Москве нас стало одиннадцать.
Лед был рядом. Все было готово для начала поиска.
Но сердца удерживали : еще нет последнего звена в цепи. Мы уже ведали , как искать братьев. У нас было чем будить их сердца.
Нужно было раз и навсегда понять, как это единственно правильно делать. Чтобы и все наши правильно делали это.
Ледяной молот
В начале февраля ударил сильный мороз. Москвички закутались в платки, воробьи и голуби попрятались под крыши, извозчики клали на спины лошадям двойные попоны. Только лотошники радовались: пирожки и калачи на лотках быстро промерзали, никто не мог проверить их свежесть. Замерзал водопровод. Люди и животные боялись холода, жались к домам и магазинам.
Но нам мороз был не страшен: огонь сердца согревал и помогал.
Утром в выходной день сталинской пятидневки мы собрались все в Сокольниках на трамвайной остановке. И молча направились в парк. В сорокаградусный мороз он был совершенно пуст: ни лыжников, ни конькобежцев на катке, ни громкоголосых советских физкультурников, ни лотошников с папиросами. Даже вороны скрылись. Лишь деревья в паутине инея неподвижно стояли, изредка потрескивая. Мы шли мимо них по аллее, громко скрипя прессованным снегом. Аллея кончилась, мы шагнули в глубокий снег и шли по нему до тех пор, пока не оказались на большой поляне, окруженной деревьями.
Образовав круг и взявшись за руки, мы сели в снег.
Сердца наши вздрогнули. И заговорили.
Нам нужен был ледяной молот. Мы хотели ведать все про него: какой он, как его делать, как им бить, что говорить при этом губами, а что – сердцем. В нашем Великом Деле все было ясно, как Свет, и прозрачно, как Лед. Кроме инструмента пробуждения сердец. Каким он должен быть? Девятнадцать раз мы стучали в груди наших , и каждый раз молот был разным. Каждый раз его делали наспех, используя то, что есть под рукой. Лед привязывали сыромятными шнурками к посоху, веревкой к обрезу винтовки, ремнем от портупеи к древку советского флага, носовым платком к палке, проволокой к железной трубе. Куски Льда при этом были совершенно произвольные. Мы не изготовляли ледяной молот заранее по единому образу . Это было неправильно. Сердца предупреждали нас.
И подсказывали.
Мы хотели увидеть правильный ледяной молот.
Сердца творили его.
Нам стало жарко. Пар пошел от наших лиц и крепко сжатых рук. Лица покрылись потом.
И наши сердца увидели правильный ледяной молот. Он парил в центре круга, как стрелка циферблата, поворачиваясь против солнца.
Мы поняли , как надо изготовить правильный ледяной молот. Кусок льда должен быть цилиндрической формы с круглым полувырезом сбоку посередине. В вырез вставляется рукоятка молота. Она должна быть суком дерева, умершего своей смертью. Рукоятка привязывается к ледяному цилиндру двумя полосами кожи животного, умершего своей смертью. Размер ледяного цилиндра должен быть таким, чтобы обе ладони двух первообретенных могли скрыть его поверхность. Длина рукоятки молота должна соответствовать длине правых рук двух первообретенных до локтевого сгиба. Толщина рукоятки должна соответствовать толщине средних пальцев двух первообретенных. Ширина каждой полосы кожи для закрепления цилиндра должна соответствовать толщине средних пальцев двух первообретенных.
Образ ледяного молота запечатлился в наших сердцах. Теперь мы ведали , как надо его изготовить.
Ледяной молот парил в центре нашего круга.
Чтобы разбудить сердце брата, необходимо ударить ледяным молотом в центр обнаженной грудины, произнеся на языке людей:
– Говори сердцем!
Параллельно говорить сердцем с сердцем брата так, как умеешь.
Каждый молот предназначен для одного брата. Его можно использовать только единожды. Палка и ремешки, оставшиеся от использованного молота, выбрасываются. Использовать их повторно нельзя.
Это все, что узнали мы о ледяном молоте.
Взошло зимнее солнце.
И вращающийся молот исчез.
Разгоряченные, с пылающими сердцами и лицами, мы сидели в снегу, держась за руки. Радость переполняла нас. Мы громко вскрикнули. Эхо разнесло наши голоса по заснеженному лесу.
В этот же день мы приступили к изготовлению первого правильного ледяного молота. Найдя в Сокольниках засохший клен, мы отломали от него сук. Возле трамвайной остановки в овраге увидели труп околевшей от холода бездомной собаки. Эп ножом вырезал полосу кожи с ее спины.
Вечером мы собрались в подвале сгоревшего дома. Затеплив свечу, достали ящик со Льдом. И осторожно выпилили необходимый кусок Льда. Рашпилями мы придали ему нужную форму, выточили сбоку полуотверстие. Затем я и Фер – первообретенные брат и сестра – обхватили кусок ладонями. Он оказался чуть велик. Братья Ем и Бидуго обточили его рашпилями. Мы снова проверили размер куска. Наши ладони скрыли его полностью. Наконечник ледяного молота был готов. Мы с Фер согнули в локтях и вытянули в линию правые руки. Рубу приставил к ним кленовый сук, отмерил и отпилил вровень. Рукоятку слегка обточили и вставили в ледяное полуотверстие. По нашим с Фер средним пальцам сестры Пило и Джу вырезали из собачьей кожи два ремешка, очистили от шерсти. Брат Оа накрепко привязал Лед к рукояти.
Ледяной молот был готов.
При свете убогого земного огня мы держали ледяной молот на руках, как первенца. Я взял его, приложил к своей груди, заставив сердце встрепенуться. И со стоном передал Фер. Она приложила ледяной наконечник к своей груди, вскрикнула. И передала молот Эп. Он схватил молот, обнял и передал Рубу.
Так молот переходил из рук в руки, пока не вернулся ко мне.
Я сжал его в руках, размахнулся и ударил в темный воздух, окружающий нас в подвале. Молот со свистом рассек его.
Мы замерли .
Оружие борьбы против земного ада было у нас в руках. Но оно было одно. Для победы требовались десятки, сотни, тысячи таких молотов. Нам нужен был АРСЕНАЛ. Нельзя приступать к войне за освобождение наших братьев, не имея мощного арсенала.
И мы начали скрупулезную работу по изготовлению ледяных молотов. Трудиться приходилось по ночам. Безжизненный подвал сгоревшего дома был идеальным местом для этого: даже крысы не мешали нам. Ночи напролет при свете свечи мы обтачивали рашпилями ледяные куски, пилили и подгоняли рукояти, резали ремешки из трупов умерших животных, насаживали ледяные наконечники, прикручивали их. Работали молча. Холод и усталость не мешали нам: Божественный Лед был у нас под руками. Пальцы касались его, сердца трепетали. Своими руками мы творили нашу историю. Историю Братства Света Изначального. Каждый созданный нами молот передавался по кругу. Его прижимали к груди, как младенца. С ним говорили. И благоговейно укладывали в ящики – спать до Главной Битвы.
До конца февраля мы изготовили 64 ледяных молота, используя полностью два куска Льда из четырех, привезенных в Москву.
Мясная машина
Запасшись ледяными молотами, мы стали думать о месте, где можно было бы укрывать новообретенных. Это было крайне важно. Никто из наших не располагал индивидуальным жильем, все мы жили в советском коллективе, не имея возможности уединиться. А новообретенным братьям необходим покой, уход и изоляция. К тому же после простукивания многие из них будут нуждаться в медицинской помощи. Это создавало серьезную проблему. И требовало решения. Мы ехали в Сокольники, садились на снег в круг, говорили сердцем. Сердце подсказывало : загородный дом. Сидя в круге, мы видели его. Дом наплывал на нас из-за густых елей – деревянный, дореволюционный, со старой мансардой и флюгером в виде пегаса.
Сердце не могло обмануть: через два дня мы увидели этот дом глазами. Он принадлежал профессору Московского университета Головину, чей сын, бывший белогвардейский офицер, был арестован по обвинению в «антисоветском заговоре». Подобный арест в то время подразумевал один исход: пулю в затылок в подвалах Лубянки. Вскоре арестовали и старого профессора. Жена его не перенесла двойной утраты и скоропостижно скончалась от инфаркта. Московскую квартиру Головиных и дачу в подмосковном поселке Люберцы конфисковало ОГПУ. В квартиру въехал какой-то чин из 1-го отдела со своей семьей, а дачу приняли на баланс ХОЗУ, чтобы летом передать ее какому-нибудь чекистскому начальнику. До начала лета она стояла опечатанная. Мудрость сердца подсказала Иг нужное решение: звонок из Хабаровска Агранову, начавшийся как бодрый разговор о текущих делах двух старых друзей, завершился тем, что Агранов, рассказав о деле Головиных, сам предложил поселить брата и сестру Дерибаса на даче в Люберцах до лета.
В этом была сила Света: наша воля раздвигала густой окружающий мир, беря от него необходимое.
Мы с Фер въехали на дачу, чтобы «охранять имущество ОГПУ». Дача стояла за забором, лесистый участок скрывал ее от посторонних глаз. Лучшего места для укрытия новообретенных нечего было желать. На сэкономленные деньги мы закупили и завезли на дачу овощи, постельное белье и медикаменты. Сюда же перевезли тридцать ледяных молотов и спрятали в дровяном сарае. На службу в Москву мы добирались на ранних поездах.
Все было готово к началу поиска. Мы с Фер наметили день: 6 марта. Это был выходной, поэтому другие братья могли быть рядом с нашим магнитом. Без них мы оказались бы беспомощны.
Братство готовилось: встречаясь, мы говорили сердцами, намечали пути, страховались. Иг был с нами: из далекого Хабаровска шла помощь его сердца. Листы отрывного советского календаря опадали стремительно, как осенние листья: 2, 3, 4 марта. Мы приготовились.
Но 5 марта со мной случилось нечто очень важное.
В то утро, приехав на работу, я получил неожиданное задание: отправиться в Публичную библиотеку и доставить оттуда на Лубянку собранную информацию по буржуазной прессе. Сотрудник, постоянно занимающийся этим в архивном отделе, заболел. Узнав, что я знаю два иностранных языка, начальник поручил это мне. Добравшись на трамвае до библиотеки, я показал свое удостоверение и прошел в отдел спецхрана. Сотрудник библиотеки, собирающий информацию по западным газетам для ОГПУ, сказал, что ему нужно еще полчаса, чтобы просмотреть только что поступившие газеты. Он предложил мне подождать в читальном зале. Я взял несколько советских газет, вышел в общий зал и сел за свободный стол. Несмотря на утро, зал был почти полон. Опустив головы, все молча читали и писали. На глухой стене зала висели четыре громадных старых портрета: Пушкин, Гоголь, Толстой и Чернышевский, заменивший висевшего ранее Достоевского, уже тогда объявленного «реакционным писателем». Портрет Чернышевского был написан недавно и сильно выделялся живостью красок по сравнению с состарившимися изображениями трех русских классиков. Глядя на портреты писателей, я смутно вспомнил их, присутствовавших в моей прошлой жизни. И подумал, что сейчас для меня нет никакой разницы между Достоевским и Чернышевским. Потом я вдруг почувствовал очень сильную усталость. Последние трое суток я совсем не спал: ночами мы приводили в порядок дачу, разгромленную чекистами во время обыска, готовились к началу поиска и интенсивно говорили сердцем. Опустив глаза, я стал просматривать свежий номер «Правды». Но усталость наваливалась на меня: руки одеревенели, глаза слипались. Давно я не чувствовал себя таким беспомощно усталым. Сердце мое словно онемело. Спертый воздух читального зала, пахнущий старыми книгами и старой мебелью, стремительно усыплял меня, как эфир. Тараща слипающиеся глаза, я начал читать коллективное письмо рабочих завода «Красный выборжец», призывающих начать социалистическое соревнование на всех предприятиях в СССР, и заснул, уронив голову на стол.
Я провалился в яркий и глубокий сон: моя гимназия, урок литературы, я сижу, как обычно, на парте с увальнем Штюрмером; класс залит солнечными лучами, за вымытыми окнами начало лета; в классе полная тишина, только слышно, как поскрипывают наши перья да мерно прохаживается между рядами учитель литературы Викентий Семенович; мы пишем выпускное сочинение; я понимаю, что это сон из моей старой жизни, давно забытой мной, поэтому он смешон и жалок, но я смотрю его, потому что очень устал; все сидят, склонившись к партам; передо мной лист разлинованной бумаги с синей печатью нашей гимназии в углу; моя рука выводит на листе название сочинения «Федор Михайлович Достоевский»; я макаю перо в чернильницу, заношу его над листом и вдруг понимаю, что я совершенно забыл, кто такой Достоевский; я поднимаю голову и вижу большой портрет Достоевского, прислоненный к черной классной доске; я вглядываюсь в него, но чем больше я вглядываюсь, тем яснее понимаю – передо мной изображение совершенно незнакомого мне бородатого мрачноватого человека с массивным лбом; он серьезно смотрит на меня; я оглядываюсь: все пишут сочинение о Достоевском; я пытаюсь вспомнить и понять: что сделал этот мрачноватый господин? почему мы пишем сочинение о нем? кто он? Но память моя молчит; не зная, что делать, я поглядываю на однокашников: все они старательно скрипят перьями, все пишут; я понимаю, что теряю время, толкаю Штюрмера локтем, он нехотя поворачивается; «Кто это?» – спрашиваю я, показывая глазами на портрет; он достает из парты толстую книгу – собрание сочинений Достоевского, протягивает мне; я беру ее в руки, раскрываю и вдруг ясно понимаю, что эта книга, итог жизни бородатого человека с серьезным взглядом, всего лишь бумага, покрытая комбинациями из букв; именно о ней, об этой покрытой буквами бумаге пишем мы наше выпускное сочинение; только о бумаге – и ни о чем другом! Мне становится невероятно смешно, что сейчас мне предстоит описывать эту бумагу в сочинении; я смеюсь и прерываю сон.
Подняв голову, я открыл глаза: я находился в читальном зале. Но на самом деле я спал. И был уже в другом сне. Вокруг все так же сидели люди и тихо шелестели бумагой. Я поднял глаза. Четыре больших портрета висели на своих местах. Но вместо писателей в рамках находились странные машины. Они были созданы для написания книг, то есть для покрытия тысяч листов бумаги комбинациями из букв. Я понял, что это сон, который я хочу видеть. Машины в рамках производили бумагу, покрытую буквами. Это была их работа. Сидящие за столами совершали другую работу: они изо всех сил верили этой бумаге, сверяли по ней свою жизнь, учились жить по этой бумаге – чувствовать, любить, переживать, вычислять, проектировать, строить, чтобы в дальнейшем учить жизни по бумаге других.
Я понял и этот сон. И прервал его. Открыл глаза. Поднял голову. Я сидел на Льду. В той самой ложбине, протаянной моим телом в ночь, когда заговорило мое сердце. Вокруг были только звезды. Земли не было: глыба Льда парила в черном пространстве. Это был уже не сон. Но необходимое мне. Я положил ладони на Лед. И тут же коснулся его сердцем. Глыба тотчас ответила мне. Сильно и резко. Лед содрогнулся . И я сердцем принял этот неожиданный удар. Сердце содрогнулось. И в нем открылось новое. Я увидел сердцем. И Земля появилась вокруг. Я увидел сердцем всю нашу планету. Вся она от камней, воды и растений до животных и людей состояла из атомов – нашего строительного материала, порожденного Светом. Вся она была однородна – не было никакой разницы между камнем и человеком, деревом и птицей. И посреди этой однородной массы ошибочных, громоздких комбинаций атомов сияли двадцать точек Света. Они светились в сердцах моих братьев и сестер. Я видел каждого. Они были совершенны в этом угрюмом мире.
Я очнулся . Открыл глаза. В очередной раз поднял голову. Я сидел в читальном зале за столом. Вокруг сидели люди. На стене висели четыре портрета. Но вместо лиц писателей в них что-то клубилось и дрожало. Так бывает, когда смотришь на предмет заплаканными глазами. Но слез не было в моих глазах. Я протер их. Изображения не появились. Я стал пристально вглядываться в портреты: вместо лиц клубились розовато-коричневые сполохи. Я перевел взгляд на сидящих вокруг людей. В их внешности что-то переменилось. Я перестал видеть их только глазами. Во мне открылось новое видение. И увидел я человека сердцем. Всего. Целокупно.
Я осторожно встал. Подошел к окну. За ним был город людей.
И время остановилось.
И увидел я сердцем историю человечества. Многомиллионный рой голосов окружил меня: миллионы кроватей заскрипели, раздались сладострастные стоны, сперма хлынула в миллионы влагалищ, оплодотворились яйцеклетки, набухли матки, растянулись плодами, раздались крики рожениц, миллионы окровавленных младенцев выдавились на свет и слабо закричали, их обмыли, обрезали пуповину, спеленали, приложили к грудям, они жадно всосали в себя материнское молоко, стали расти, поползли, сели, встали, пошли, потянулись к игрушке, заговорили, побежали, пошли в школу с портфелями и цветами, стали писать буквы на бумаге, читать книги, учиться правилам жизни, стали любить и ненавидеть, играть и петь, восторгаться и издеваться, мучить и боготворить, надеяться и разочаровываться, обнимать и бить до крови, предавать и жертвовать собою, окончили школу, стали взрослыми, пошли на работу, стали зарабатывать деньги, влюбились, обнялись, рухнули на кровати, совершили миллионы половых актов, зачали, родили младенцев, состарились, умерли.
И увидел я: многотысячные армии, наступающие друг на друга под барабанный бой, держащие в руках хорошо сделанные орудия убийства, залпы ружей и пушек, свист горячего свинца, размозженные головы, вышибленные глаза, оторванные конечности, вой и стоны раненых, радостный рев победителей, тех, кто сумел убивать лучше, власть одних людей над другими, чудовищные унижения, фальшивое низкопоклонство, беспощадное подавление чужой воли, переполненные тюрьмы, зверские пытки, сдирание кожи с живых, сжигание на медленном огне, показательные казни под одобрительный рев толпы, продажу рабов, женщин, трудящихся на заводе по изготовлению совершенного оружия для уничтожения людей, нищих, умирающих на улицах, опухших от голода детей.
И увидел я: беспомощных стариков, умирающих в своих кроватях, молодых, тонущих в реках, горящих на пожарах, корчащихся от страшных болезней, сходящих с ума, женщин, кончающих собой от несчастной любви, умирающих во время родов, младенцев, рождающихся мертвыми.
И увидел я: грабителей, убивающих ради денег, насильников, ножом заставляющих женщин разводить ноги, аферистов, умело разоряющих других, гениев лжи, сделавших обман великим искусством, расчетливых отравителей, палачей, спокойно обедающих после своей работы, инквизиторов, посылающих людей на костер во имя блага, массовые убийства за принадлежность к другой нации.
И увидел я: людей, запирающих свои дома на сложные замки, чтобы к ним не вошли другие люди.
И увидел я: охотников, убивающих животных ради удовольствия, изысканные блюда, приготовленные из трупов зверей, рыб и птиц, человеческие рты, пожирающие сочащееся кровью мясо, зверофермы, выращивающие животных, чтобы содрать с них шкуры и сделать из нее красивую одежду людям, женщин, щеголяющих в этой одежде и обольщающих мужчин.
И увидел я: опарыша, пожирающего падаль, жука, поедающего опарыша, птицу, клюющую жука, хорька, отгрызающего голову птице, орла, разрывающего хорька когтями, рысь, хватающую орла, волков, загрызающих рысь, медведя, ломающего волку позвоночник, рухнувшее дерево, убивающее медведя, мух, отклыдывающих яйца в гниющей медвежьей туше, опарыша, вылупившиегося из яйца и пожирающего падаль.
И понял я суть человека.
Человек был МЯСНОЙ МАШИНОЙ.
Я перевел взгляд на портреты: краски клубились, дрожали, смешивались. Лиц не было. Я посмотрел в зал. За ближайшим столом сидел старик с какими-то журналами. Я подошел и уставился на раскрытый журнал. Вместо изображений в нем клубились все те же цветные и серые пятна. Я достал из кармана свое удостоверение, раскрыл. Вместо наклеенной фотографии клубилось серое пятно. Как только мне открылась суть человека, я перестал видеть изображения людей. Я осторожно прошелся по залу, словно боясь расплескать то, что открылось мне. Люди сосредоточенно сидели. Они были мясными машинами. И каждый из них существовал сам по себе. Они сидели, погрузившись в бумагу. Каждого интересовала только эта бумага. И совершенно не интересовал сидящий рядом сосед. Между ними не было и не могло быть братства. Они были нашей ошибкой. Мы создали их миллиарды лет назад, когда были светоносными лучами. Мясные машины состояли из тех же атомов, что и другие миры, созданные нами. Но комбинация этих атомов была ОШИБОЧНОЙ. Поэтому мясные машины были смертны. Они не могли быть в гармонии ни с окружающим миром, ни с собой. Они рождались в страданиях и в страданиях уходили из жизни. Вся жизнь их сводилась к борьбе за комфорт, к продлению существования тел, которые нуждались в пище и одежде. Но тела их, появляющиеся на Земле внезапно, как взрыв, исчезали так же стремительно. Они быстро старились, болели, скрючивались, обездвиживались, гнили и распадались на атомы. Таков был путь мясных машин.
И увидел я Землю. Плыла и кружилась она в космосе, посреди миров Покоя и Гармонии, созданных нами. И лишь Земля была неспокойна и дисгармонична. И была в этом только наша вина.
И только мы могли исправить ошибку.
– Все готово, можете забирать, – раздался голос.
Я оглянулся.
Позади меня стоял мясная машина в серой толстовке с синими нарукавниками и маленькими круглыми очками на неразличимом усатом лице. Он ждал ответа. Я стал вспоминать, готовя ответ на его языке. И вдруг увидел его жизнь: не очень удачные роды, болезненное детство, скупой и черствый отец, тихая, покорная мать, страх высоты, любовь к собаке, сломанный палец, гимназия, смерть сестры, страх заразиться дифтеритом, успешная учеба, неудачный половой акт с проституткой, боязнь женщин, университет, половой акт со старшекурсником, революция, смерть отца, жизнь в коммуне, гибель любовника, война, контузия, неудачная женитьба, неудачная попытка самоубийства, библиотека; он любил: сыр, карманные часы, ВКП(б), приказы молчаливых и сильных мужчин, фантастические романы Уэллса, лозунг Троцкого о ликвидации семьи, велосипеды, шахматы, синематограф, свою работу, чистую посуду, запах спермы, долгие разговоры; он не любил: высоты, болот, пауков, мучной баланды, снов про медленного толстяка, громкоголосых женщин, детей, заусенцев, священников, скрипучих сапог; больше всего на свете он боялся пыток огнем.
– Вы нездоровы? – спросил он.
– Я вполне здоров, – ответил я и, помедлив, спросил: – Где живет ваш медленный толстяк?
Он замер. Не различая выражения его лица, я видел , как он опешил.
– Не… знаю, – ответил он.
– А я знаю. В комнате вашей покойной сестры. У шкафа с трещиной. В мокром углу.
Он стоял неподвижно. Я взял у него пакет, вернулся к своему столу, положил пакет в портфель и покинул зал. Одевшись, я вышел из библиотеки. И оказался в городе мясных машин. Они шли по улицам, ехали на санях и машинах, влезали в трамваи, толпились в магазинах. Одни из них торопились на службу, другие – домой. На работе мясных машин ждали просто машины или бумага, покрытая буквами; дома – другие мясные машины и еда, приготовленная ими. Весь город состоял из маленьких каменных пещер. В каждой пещере жила семья мясных машин. Пещера крепко запиралась от других мясных машин, хотя и те и другие конструктивно ничем не отличались. Но мясные машины боялись друг друга, потому что у одних пещеры были большими, а у других – маленькими. На работе мясные машины зарабатывали деньги, чтобы купить на них еду и одежду. В пещере они ели, спали и производили новые мясные машины. Это происходило ночью: мясные машины ложились друг на друга и двигались. Потом в одной из них начинала расти маленькая мясная машина. Через 9 месяцев она выходила на свет и начинала свою жизнь в пещере. Она росла и постепенно становилась нормальной мясной машиной. Так жили мясные машины в своем городе.
До Лубянки можно было доехать на трамвае, но я пошел пешком. Прохожие проплывали мимо меня. И о каждом из них я мог узнать все. Сердце мое видело их. Лица прохожих сливались в одну единообразную морду. Морду мясной машины. На углу Тверской и Моховой меня кто-то схватил за рукав. Я остановился.
– Слышь, комсомолец, где тут Главпромсбыт?
Передо мной стояла полноватая, тепло одетая мясная машина, приехавшая в Москву из Подольска. Он родился в поезде, рос в мещанской семье с пьющим отцом и работящей матерью, работал перевозчиком на реке, потом грузчиком в городе, служил в кавалерии, попал на войну, зарубил шашкой троих, застрелил в бою одного, расстрелял шестнадцать пленных, служил в ЧК, был уволен за изнасилование, женился, работал на заводе, в порту, на железной дороге, спекулировал, подделывал документы, ушел в торговлю, стал снабженцем, приторговывал сахаром, гречневой крупой и морфием. Он любил: мясные тефтели в томатном соусе, самолеты, начальство, револьвер под подушкой, заставлять жену сопротивляться перед половым актом, запах аптеки, обманывать на деньги, думать, засыпая, о хорошем будущем, велюр и каракульчу, дамские перчатки, конные парады. Он боялся: начальства, змей, смерти во сне, мыслей о бесконечности Вселенной, внезапного артобстрела, сифилиса и ареста.
– Не прячьте морфий. Прячьте лучше сахар, – сказал я и, оставив его стоять в недоумении, пошел дальше.
Мимо меня все шли и шли мясные машины. Каждая несла рой своей личной истории. Он гудел и клубился. Я двигался между этих клубящихся зон. Они были энергетическими дырами. Их энергетика была враждебна энергии Света в моем сердце. Я почувствовал, что каждое проникновение в чужую жизнь забирает энергию сердца. И я быстро устаю. Я шел, стараясь слегка касаться сердцем мясных машин.
Совсем неподалеку от здания ОГПУ по тротуару ползла нищая. Я поравнялся с ней. И не смог удержаться – вошел в ее рой : благополучные роды в бело-голубой спальне, отец, осыпающий мать и новорожденную дочь лепестками роз с золотого блюда, богатая семья, счастливое детство, пение под рояль, прятки, лошади, варенье, крокет, пудель Арто, любовь к сильным рукам отца, кукла Брунгильда, страх перед строгой матерью, смерть брата, подушка с «секретом», гербарий, попугай, говорящий слово «паровоз», бал, мальчик, целующий в щеку, любовь к этому мальчику, слезы, горячка, желание быть всегда с этим мальчиком, с мальчиком по имени Саша, с золотокудрым мальчиком с голубыми глазами, сон про мальчика, снимающего с нее маску Бабы-яги. Которая никак, никак, никак не снимается. Маска Бабы-яги. Бабы-яги с очень длинным носом.
Нищая перестала ползти.
И подняла свое лицо. Оно было смуглым от многолетней грязи. Вместо левого глаза зияла темная впадина. Бровь над ней рассекал глубокий шрам от сабельного удара: жара, пыль, бегство, долгая езда на телеге, солома, арбузы, бриллианты в левом сапожке, ночь, костер, люди, люди, вышедшие из леса, убитая лошадь, смуглые люди, быстрые люди, вонючие люди, рвущие платье, быстрые люди, по очереди ложащиеся на нее и снова ложащиеся на нее и снова ложащиеся на нее, рассвет, удар саблей.
Я узнал Нику Рябову. И тоже остановился.
Она смотрела на меня мутным, слезящимся глазом. Губы ее разошлись, обнажив пожелтевшие зубы.
– Иммер миммер Жан Вольжан… – пробормотала она, выпустила газы, засмеялась и поползла дальше по тротуару.
Я смотрел ей вслед. Ника уползала. И вместе с ней от меня уползало все человеческое. И мне НЕ ХОТЕЛОСЬ ее останавливать.
Она ползла, как машина. Она и была мясной машиной. Одной из сотен миллионов.
Я повернулся. И пошел своим путем.
Я дошел до Лубянки. Миновал проходную. Поднялся на второй этаж. Отдал пакет начальнику. Он был недоволен задержкой. Его морда угрюмо пульсировала. Надо было что-то объяснить этой мясной машине. Я вспоминал слова мясных машин:
– Товарищ начальник, это произошло по вине библиотеки. Они обрабатывали свежие материалы.
– Ладно, Дерибас, иди обедать, – ответил он. – Двадцать минут. И за дело.
Начальник любил: быть начальником, жареных кур, точить рамки из дерева, охоту на уток, худых и истеричных женщин, запах бензина и военные парады.
Я пошел в столовую. Чтобы взять там пару яблок и съесть. Там пахло пищей для мясных машин. Большая столовая была полна мясных машин. Они энергично ели борщ, солонину с перловой кашей, пили чай с сахаром. Я смотрел на них. Морды их клубились. Они потели. Им было хорошо. Они напомнили мне цех на механическом заводе. Мясные машины сидели и поглощали пищу. Ложки стучали, зубы жевали. Это был цех по переработке пищи. Вдруг я заметил сестру Фер. Она вошла в столовую. И угрюмый мир мясных машин раздвинулся. Фер была ДРУГОЙ! Я подошел к ней. Мое сердце заговорило с ней. И я увидел ее всю. Всю ее жизнь. Фер поняла , что я вижу. Она взяла с подноса яблоко и вложила мне в руку. Пальцы наши сжали яблоко. Оно треснуло.
И мы вышли из столовой.
Цирк
Братский Круг Света помог мне понять новое во мне. Ночью я держал ледяной молот в руках и прижимал его к груди. Сердце успокаивалось. Оно сживалось с новым даром Света. Теперь оно видело мир Земли.
В ближайший выходной мы с Фер, Рубу и Эп отправились на поиск. Наш магнит просвечивал московскую толпу. Подъехав на трамвае к «Националю», мы пошли вверх по Тверской. Сердца наши напряглись . Мы заходили в магазины, смотрели очереди, заглядывали в подъезды домов. Мясные машины двигались вокруг. Они были заняты своими делами. Морды их озадаченно клубились. Сердца качали кровь. Мышцы передвигали кости. И вокруг каждой мясной машины гудел рой ее жизни. Я проходил сквозь десятки этих роев, оберегая от них свое сердце. Оно искало. Фер была рядом. Она стонала от напряжения. Мы старались.
Пройдя Тверскую до Лесной, мы остановились. Сердцам стало тяжело. Они сильно бились, пульсировали Светом. Московская толпа была тяжелой. Густой гул висел в ней. Надо было раздвигать его. Мы вязли в этом гуле. Лица наши покрылись потом. Ноги подкашивались. Рубу и Эп взяли нас за спины. Прижались сзади. Мы откинули назад головы, облокотились на наших братьев. Мы смотрели в небо. И тяжело дышали. Мы вспоминали Лед. И ложились на него. И брали новую силу. И лежащая в Сибири глыба откликалась нам.
Отдохнув, мы перешли на противоположную сторону Тверской. И двинулись вниз. Гул мясных машин охватил нас. Мы просвечивали и раздвигали. Эп и Рубу поддерживали нас за спины. Помогали сердцем. Ноги наши передвигались тяжело.
Мы дошли до Страстного бульвара. Остановились. Отдохнули. Повернули. И сердца вспыхнули : наш! Высокий худощавый человек в дорогом пальто садился в автомобиль. С ним были двое. Пока он неторопливо усаживался на сиденье, я увидел его: иностранец, благополучная семья, старый отец, восемнадцать колонн университетского двора, рапира, два шрама, новый дом, война, шрапнель, семь осколков, маленькая грудь жены, кофе на чертеже, дочь и сын, боязнь заражения крови, боязнь булавок, боязнь заблудиться в лесу, подземные работы, бетон, вода и машины, молочный шоколад, бритье женского лобка, большие деньги, гайморит, лабиринт из подстриженного кустарника, порядок в письменном столе, любимая лошадь Нерайде, озеро в горах, аэроплан, цирк. Цирк. Цирк.
Машина громко заурчала и поехала.
– Стоять! – зарычала Фер, бросаясь за машиной.
Ноги ее подкосились, она упала на руки Рубу. Сердце ее изнемогало. Она хватала ртом воздух. Лицо ее побелело. Я опустился на колени. Зачерпнул мокрый снег с тротуара. Стал сосать его. Эп держал меня за плечи.
– Цирк, – произнес я. – Они идут в цирк.
Фер стало рвать. Потом она пришла в себя.
Здание Московского цирка находилось на Цветном бульваре. Мы купили билеты. И вечером сидели в круглом зале. Мы с Фер сразу заметили нашего. Он сидел рядом с сопровождающим, который был с ним в машине. Мы вчетвером сидели спокойно. Зал был полон мясных машин. Духовой оркестр заиграл марш. Занавес открылся, и началось представление. На арену выходили клоуны и акробаты. Мясные машины хлопали им. Клоуны изображали глупых мясных машин. Один клоун бил другого по голове большим молотом, который был из папье-маше. У другого от каждого удара громко звенело в голове и текли струями фальшивые слезы. И сидящие в зале мясные машины радовались, что они не такие глупые, как клоуны. Акробаты рисковали своей жизнью, летая на трапециях под самым куполом. Они за это получали деньги. Мясные машины радовались ловкости акробатов. И боялись, что акробаты упадут. Затем на арену вышли мускулистые мясные машины. Они поднимали гири, разрывали цепи, держали на одной руке трех женщин. Потом они стали бороться. Обычные мясные машины увлеченно следили за борьбой сильных мясных машин. Многие в зале завидовали их силе. После силачей на арену выбежали маленькие мясные машины. Они стали кривляться, танцевать чарльстон и хохотать тоненькими голосами, изображая нэпманов. Вдруг из-за кулис выбежал медведь. Он был в наморднике, в большой фуражке с красной звездой и в переднике дворника. К его лапам была привязана большая красная метла. Медведь побежал на маленьких мясных машин. И они с визгом убежали от него за кулисы. Зал засвистел и захохотал. К медведю подбежал дрессировщик и незаметно всунул ему в рот кусочек мяса. Громкий голос объявил, что «красная метла скоро выметет сор из советской столицы». Зал аплодировал. Наш сидел и с интересом следил за происходящим. Мы спокойно наблюдали за ним. На арену выбежала дрессировщица в ярком платье. И вышел слон. В руках у дрессировщицы был жезл, увитый золотой лентой. На конце жезла был пуховый шарик. Внутри шарика был спрятан острый стальной наконечник. Им дрессировщица колола слона, чтобы тот выполнял ее приказы. Зал же видел, что она касается слона пуховым шариком. Большой слон боялся маленькой дрессировщицы. Он залезал на тумбу и поднимал передние ноги. Потом вставал на передние ноги и поднимал задние. Он хотел, чтобы все это поскорее кончилось и его отвели в клетку, где есть еда. Мясные машины хлопали. Им нравилась дрессировщица. Слона увели. И на арену выбежали три обезьяны. Они были одеты во фраки. И изображали Чемберлена, Керзона и Пуанкаре. Обезьяны забрались на большой барабан с надписью «Империализм» и прыгали. Зал смеялся и хлопал. Советские мясные машины радовались, что обезьяны похожи на иностранных мясных машин, которых критикуют советские газеты. После этого вышел фокусник. Он стал умело обманывать мясных машин. И они восторгались его мастерству. Он обманывал, что достает из шляпы кроликов и цыплят, обманывал, что распиливает женщину, обманывал, что становится невидимым. Мясным машинам нравилось, что фокусник так ловко и незаметно обманывает их. Затем вышел дрессировщик с собакой. Он сказал залу, что собака умеет считать до десяти. Но он тоже обманывал: на самом деле собака не умела считать. Она просто вовремя лаяла, чтобы получить кусочек сахара из руки дрессировщика. Но мясные машины хлопали собаке и верили, что она знает арифметику. Вслед за собакой на арене появилась мясная машина в костюме флибустьера и с ножами за поясом. Напротив него поставили деревянный круг. И пригласили добровольца из зала. Добровольцем оказалась женщина, сидящая в первом ряду. На самом деле она тоже работала в цирке. «Флибустьер» привязал ее к кругу, отошел и стал метать ножи в круг. Ножи воткнулись возле тела женщины. Потом он дал команду, и круг стал вращаться. Ему принесли четыре ножа с рукоятками-факелами. Свет в цирке погас. Раздалась барабанная дробь. «Флибустьер» поджег ножи и метнул их в круг. Они воткнулись тоже возле тела женщины. Свет зажгли. Зал громко зааплодировал. Мясные машины радовались ловкости метателя ножей. Но они не знали, что он большую часть своей жизни метал в цирке ножи. Женщина работала с ним последний год. Он нанес серьезные увечья четырем женщинам. На теле этой женщины было девять шрамов от его ножей. Она получала за это деньги. В конце представления на арену вышли гимнасты с советским флагом, серпом и молотом. Они кувыркались, а потом составили пирамиду, на вершине которой оказался флаг, а по краям – серп и молот. Мясные машины долго аплодировали. Потом встали и пошли к выходу. Мы ждали этого момента. И сразу же протиснулись к нашему. Его сопровождала коренастая мясная машина. Я быстро просмотрел сопровождающего и понял, что он чекист. И приставлен к иностранцу для охраны. Иностранец был важен для советских мясных машин. Мы шли за ним по проходу. Они вышли на улицу. Возле цирка стояли девять колясок с извозчиками и шесть автомобилей. Одна из машин ждала его. Он подошел к машине, достал портсигар с сигаретами. Закурил. Я встал неподалеку и просматривал его. Он был связан с чем-то подземным: бетон, земля, вода, грязь, жижа, робы рабочих, шланги. Он курил. Сопровождающий тоже закурил. Папиросу. Он презирал иностранца. Но выполнял свою работу. Фер, Эп и Рубу стояли поодаль. Я ждал , что делать. Иностранец усмехнулся, докурил, кинул окурок. Сопровождающий открыл ему дверь автомобиля.
– Ньет. Гульят. Дишат, – произнес иностранец на ломаном русском, повернулся и пошел по бульвару.
Сопровождающий двинулся за ним. Автомобиль развернулся и поехал рядом.
Я взял Фер под руку. И мы последовали за ними. Эп и Рубу двигались поодаль. Иностранец пошел по бульварному кольцу в сторону Тверской. По бульвару шли редкие прохожие. Иностранец дошел до Петровки, свернул по направлению к центру. Возле Петровского монастыря он остановился и поежился:
– Сьергей. Холёдно. Домой.
Сопровождающий сделал знак водителю автомобиля.
Тот подъехал. Сопровождающий подошел к машине, открыл заднюю дверь. Я оглянулся: впереди удалялась коляска и шла, пьяно посмеиваясь, пара мясных машин. Редкие фонари освещали ночную Петровку. Лаяла собака. Я торкнул сердца братьев. Они поняли . Братья выхватили оружие. Эп ударил сопровождающего наганом по голове. Тот упал. Я навел пистолет на иностранца:
– Bouge pas! [1]
Рубу приставил наган к ветровому стеклу автомобиля. Водитель замер.
– Montez dans la voiture! [2] – приказал я иностранцу.
Он стал медленно садиться в автомобиль. Я подтолкнул его. Рубу сел на переднее сиденье рядом с водителем. Упавший чекист застонал. Эп и Фер подняли его и впихнули в машину. Фер втиснулась следом.
– Останься, – сказал я Эп. – Вызови Пило и Джу.
И он отошел от машины в темноту.
Иностранец был напуган. Я сидел с ним рядом, уперев пистолет ему в живот. Разбитая голова сопровождающего была у меня на коленях.
– Сидите спокойно, – сказал я ему по-русски.
– Разворачивайся, – приказал Рубу водителю, обыскивая его.
Водитель послушно стал крутить руль. Оружия у него не оказалось.
– Поедешь в Люберцы. – Рубу приставил наган к виску водителя.
– Бензина не хватит, – пробормотал водитель.
Я увидел, что он обманывает. И быстро просмотрел его:
– Хватит бензина. Вспомни погибшую жену. Не бойся пчел. Третий раз тебя не покусают.
Водитель замер.
– Глотни из тещиной фляжки. И поехали.
Водитель непонимающе покосился на меня. Потом дрожащей рукой открыл дверцу рядом с приборной доской, достал фляжку с зубровкой. Сделал большой глоток. Закрыл фляжку, убрал.
И мы тронулись.
По дороге иностранец стал спрашивать меня по-французски, кто мы и что хотим. Я ответил, что мы не причиним ему вреда. Сопровождающий слабо стонал всю дорогу, потом затих: сердце его остановилось. Удар Эп оказался слишком сильным. Прибыв на место, мы въехали на территорию дачи. Связали водителя и заперли в подвале. Иностранца ввели в дом. Едва за ним закрылась дверь, мы набросились на него, дрожа от нетерпения. Рубу схватил его сзади и прижал к себе, Фер разорвала на груди одежду, взвизгивая, обхватила его колени. Он был очень напуган. Потому что не понимал наших действий. Он предлагал нам деньги. Достав с чердака ледяной молот, я ударил его в грудь так сильно, что он сразу потерял сознание, а из носа и из ушей его потекла кровь. Мы припали к нему.
– Ковро, Ковро, Ковро, – откликнулось его сердце.
Мы закричали от радости. Сердца ликовали. Раздев брата Ковро, мы омыли его, обтерли, перевязали грудь и уложили в постель. Ожившее сердце вывело его из обморока. Обессиленный, он лежал при свете керосиновой лампы. И смотрел перед собой широко открытыми зелено-голубыми глазами. Мы сидели рядом. И осторожно трогали его сердце. Мы успокаивали его. У нас уже был опыт обращения с проснувшимися сердцами.
Ковро стал слабо бормотать по-немецки. Он терял сознание и снова приходил в себя. Проснувшееся сердце совсем обессилело его: он не мог пошевелить пальцем. Фер гладила ему руки, лизала и грела дыханием побелевшее лицо. Мы гладили его тело.
Он был немцем. В мире мясных машин его звали Себастиан Вольф. Ему только что исполнилось тридцать пять лет. Он происходил из солидной промышленной династии: его отцу и дяде принадлежали угольные шахты в Бохуме и медеплавильный завод в Дюссельдорфе. Едва окончив гимназию, он добровольцем пошел на фронт, был ранен шрапнелью и демобилизовался. Выучившись в Ганновере и в Оксфорде, он получил два диплома – архитектора и электротехника. Отказавшись от места управляющего на отцовских шахтах, Вольф стал сам делать себе карьеру. Организованное им проектное бюро занялось перспективным делом – подземными коммуникациями. К тридцати годам Себастиан Вольф состоялся в Европе как известный проектировщик. Он строил подземные заводы и цитадели, прокладывал тоннели в горах и шахты для метро. Проектное бюро «S.Wolf und Co.» стало модным в подземном строительстве. Большевики предложили ему огромные деньги за проект подвода коммуникаций для московского метро. Вольф согласился. Приехав полгода назад в Москву, он подписал контракт. Официально в печати его имя не фигурировало: советская пропаганда не могла допустить, чтобы в проектировании московского метро принимал участие буржуазный инженер. Он согласился и на это: ему был важен сам проект и деньги. Проект был почти готов. В Германии Вольфа ждали жена, дочь и сын.
Но его главной страстью было покорение подземелий.
Из развлечений он больше всего любил скачки, фехтование и цирк. С цирком был связан его детский сон. Семья жила в поместье под Дюссельдорфом. Однажды старший брат взял восьмилетнего Себастиана в город, чтобы показать ему приехавший на гастроли французский цирк-шапито. Цирк очень понравился мальчику. Особенно поразила его голубая девочка на розовом слоне. Девочка танцевала на нем, а слон кланялся публике и протягивал шляпу. В шляпу бросали деньги. Себастиан влюбился в голубую девочку. И назавтра потребовал, чтобы его опять повезли в цирк. Но шапито уже покинул Дюссельдорф. С Себастианом случилась истерика. Ночью у него поднялась температура. Ему приснился сон: он в пустом цирке, посередине которого стоит ледяной слон. На слоне сидит голубая девочка. Она приглашает Себастиана покататься на слоне. Он подходит, слон подсаживает его хоботом на спину. Себастиан садится на слона. Девочка обнимает его за плечи. И командует слону: «Olé!» Ледяной слон идет по кругу. И скрипит. Скрип ледяного слона заставляет Себастиана сладко плакать. Потому что слон очень холодный, но очень добрый. И мучительно родной. Голубая девочка обнимает Себастиана сзади теплыми руками и шепчет в ухо:
– Un enfant ne peut pas pleurer! [3]
После этого Себастиан навсегда полюбил цирк, хотя в семье его отца это зрелище считалось вульгарным развлечением толпы. Себастиан ходил в цирк гимназистом, до войны, и студентом – после нее. Он бывал в известных цирках Парижа, Лиссабона, Лондона и Гамбурга. Но никогда больше он не видел голубую девочку на розовом слоне.
А ледяной слон каждый раз приходил к нему в горячечные сны, когда он бредил с высокой температурой. И каждый раз Себастиан плакал во сне сладкими слезами, слыша ледяной скрип.
Мы берегли покой брата Ковро.
Под утро приехали сестры Пило и Джу. Они сменили нас. И сели рядом с постелью новообретенного. Мы же, пока не рассвело, снова посадили шофера за руль и поехали дальше от Москвы. Свернули с шоссе в глухой лес, пристрелили шофера, облили машину и оба трупа оставшимся бензином и подожгли. После чего мы долго шли пешком до железнодорожной станции. Сели на поезд и доехали до Казанского вокзала. Мы с Фер опоздали на службу на сорок четыре минуты. За провинность начальник обязал нас после работы мыть полы на нашем этаже. А также «сигнализировал о разгильдяйстве Дерибасов» комсомольскому секретарю, чтобы нас «проработали с песочком» на комсомольском собрании. Морда начальника властно клубилась:
– Забыли, где работаете? Забыли, чью фамилию носите? Дисциплина – прежде всего. ОГПУ – это вам не цирк!
Поиск
Четверо суток Ковро приходил в себя. Удар ледяного молота повредил ему грудную мышцу, она вспухла и болела. Но проснувшееся сердце помогало. Мы по очереди дежурили на даче, оберегая брата Ковро. Он был потрясен и обеспокоен. Его состояние менялось стремительно: он то восторженно целовал нас, прижимая к разбитой груди, то истерично рыдал, призывая по-немецки мать и всех святых. Тонкие пальцы его дрожали, глаза горели. А сердце трепетало.
Мы с Фер знали , что его сердцу необходимо пройти через плач. Поэтому отпускать Ковро было опасно. Просыпаясь, он кидался к двери. Мы хватали его, прижимали к себе, говорили с его сердцем. Он яростно кричал, бился в наших руках, потом успокаивался.
Мы знали, что ОГПУ ищет его. И старались быть крайне осторожны.
Наконец на пятые сутки Ковро провалился в плач. Он рыдал, погружался в сон, просыпался и снова рыдал. Сестры Пило, Джу и Орти поочередно дежурили возле него. Братья Эдлап и Бидуго охраняли их.
Мы же с Фер снова занялись поиском.
Сперва нам повезло: едва мы вошли на биржу труда, где толпились безработные мясные машины, как наш магнит обнаружил сестру. Но она оказалась грудным ребенком. Безработная мать держала ее на руках, стоя в очереди. Дождавшись, когда она, в очередной раз получив отказ, пошла домой, мы двинулись за ней. Нам стоило большого труда сдержаться и не отнять у нее ребенка. Но мы не смогли бы сохранить жизнь сестре. Пришлось просто проследить, узнав адрес. Таким образом, нам стало известно, что безымянная сестра растет в Кривоколенном переулке, в коммунальной квартире на первом этаже дома № 6. Мясная машина, выдавившая нашу сестру на свет из своего влагалища, кормила ее своим молоком. Нужно было ждать, пока грудь нашей окрепнет и выдержит удар ледяного молота. И необходимо было помочь этой мясной машине. В тот же вечер мы собрали все деньги, которые были у нас, положили их в конверт и подбросили его кормящей мясной машине. Она осталась очень довольна находкой, считая ее помощью свыше . И в этом она была права.
Продолжив поиск, мы быстро поняли : проходы по улицам в час пик слишком тяжелы для нас с Фер. Двигаясь сквозь толпу, мы надрывали наши сердца. Просвечивать магнитом толпу торопящихся мясных машин было неизмеримее труднее, чем сидящих или стоящих. Идущая толпа подавляла нас, она гудела и клубилась , собираясь унести с собой, назад в страшную и беспросветную жизнь. Она жаждала поглощать. Нас сносило толпой, заставляло держаться за братьев. Колени наши дрожали. Начиная просвечивать толпу, мы моментально уставали и через пару минут буквально валились с ног. Потом требовались сутки, чтобы наши сердца и тела пришли в себя.
Мы решили больше не работать с движущейся толпой: это становилось опасно. Решено было просвечивать мясных машин в местах, где они работают, заседают, едят, смотрят зрелища, молятся, слушают ораторов и читают книги. Такими местами были заводы и фабрики, театры и кинотеатры, библиотеки, залы для заседаний, церкви, рестораны и столовые.
Первые два захода результатов не принесли. На вечере пролетарской поэзии в Политехническом институте и на комсомольском собрании ОГПУ наших не оказалось.
Зато нам очень повезло в третий заход: нам удалось раздобыть две контрамарки в Большой театр на оперу «Пиковая дама». Протиснувшись сквозь галдящую толпу в вестибюле, мы сели на галерке, среди студентов и рабфаковцев. Ярко освещенный зал был полон. Постепенно мясные машины успокоились и расселись по своим местам. Свет погас. Заиграл оркестр в оркестровой яме. Началась опера. На сцену вышли мясные машины в костюмах начала прошлого века и запели хором. Все они благодаря врожденным данным и многолетним тренировкам могли горлом издавать продолжительные звуки разной чистоты и высоты. Сидящие в зале мясные машины не умели издавать таких звуков. Поэтому они пришли послушать поющих мясных машин. Те же изображали карточных игроков. Затем появились женщины в кринолинах. Они запели более высокими голосами. Зал зааплодировал, меломаны и студенты на галерке закричали «Браво!». Сюжет оперы сводился к двум главным темам – любви и деньгам, слияние которых, по убеждению мясных машин, гарантирует полное земное счастье. Оркестр подыгрывал певцам. Оркестранты старательно извлекали звуки из деревянных и медных инструментов, стараясь следовать особой гармонии, выработанной за тысячелетия существования мясных машин. В этих убогих звуках, сливающихся с голосами поющих, ощущалась неосознанная тоска по миру Высшей Гармонии, недостижимому для мясных машин.
Мы с Фер стали скрупулезно просматривать зал. Мясные машины, завороженные происходящим на сцене, сидели неподвижно. Они были хорошо видны нам. В партере восседало советское начальство со своими женами, видны были гимнастерки и кители военных, там же сидели иностранцы; чиновники занимали бельэтаж, интеллигенция и меломаны сидели еще выше. Просмотрев партер, мы не обнаружили никого. Но едва магнит коснулся бельэтажа, как сердца наши вздрогнули : есть! Мы содрогнулись: Фер взвизгнула и заскрипела зубами, я издал громкий стон. Сидящие рядом мясные машины зашикали, приняв нас за полусумасшедших меломанов. Но мы радовались не арии Германа, а молодой женщине в вечернем платье и меховой горжетке в третьем ряду бельэтажа. Она смотрела на сцену, часто поднося к глазам перламутровый бинокль на раздвижной ручке. Рядом с ней сидела какая-то мясная машина в морской форме. Я не пытался посмотреть ее жизнь – мы сидели слишком далеко. В антракте мы приблизились к ней. Она была из «бывших»: особняк на Пятницкой, счастливое детство с куклами, собака Рэт, пони Цора, золотые погоны отца, пухлые руки матери, сестры, брат, тяжелые месячные, страх потерять всю кровь, любовь к мичману Антоше, венчание в Елоховском, выкидыш, Италия, снова выкидыш, революция, смерть отца, бегство матери, нищета, голодные обмороки, второе замужество, тяжелый запах мужа.
После антракта мы стали смотреть балконы и галерку. Но тут по залу прошел ропот, все закрутили головами. В бывшей царской ложе появился Сталин с женой. Это было неожиданно для нас . Но не для мясных машин: Сталин часто посещал московские театры. Сразу же в проходах замаячили фигуры охранников. Мы с Фер остановились. Оставили толпу перешептывающихся мясных машин. И перевели наш магнит на нового хозяина России. Он сидел в полутемной ложе. Мы пристально смотрели его. Но он не оказался нашим. Сердце его было простым насосом для перекачивания крови. А сам он – сильной мясной машиной. Издали я смутно видел его тяжело клубящуюся жизнь: в ней не было ничего особенного, что отличало бы его от сидящих в зале и оглядывающихся на него мясных машин. Он был как многие из них. Он сильно любил власть. Но многие в этом зале любили ее так же сильно. Жена его тоже не была нашей . Мясные машины еще долго оглядывались на своего вождя. Сталин спокойно смотрел на сцену. Там полноватая мясная машина пела, что жизнь – всего лишь игра, в которой счастлив тот, кто «ловит миг удачи», а неудачник обречен плакать, кляня свою судьбу. Он закончил арию, вызвав бурю оваций в зале. И тут мы увидели второго нашего : старик во втором ярусе балкона. Он хлопал, кричал «Браво!» и радовался как ребенок. Как истовый меломан, он пришел в оперу с партитурой. Она лежала перед ним на бархатном парапете балкона.
Мы с Фер до хруста сжали руки друг другу, чтобы не вскрикнуть от восторга. В темном зале сидели двое наших !
Успокоившись, мы просмотрели верхние балконы и галерку. Третьего нашего в зале не оказалось. Опера закончилась, на сцену полетели цветы, певцов вызывали на поклоны овациями. Сталин тоже похлопал и исчез вместе с охраной. Мы встали и поняли, что передвигаемся с трудом: мы сильно устали. Держась друг за друга, спустились в гардероб раньше толпы, оделись и стали ждать наших. Вначале появилась дама. Моряк вел ее под руку. Они оделись и стали выходить. Мы пошли за ними, и я посмотрел обоих: моряк был ей дядей и жил с ней как с женой. На выходе дежурили Эп и Рубу. Я показал им на даму с моряком. И они пошли за ними. Мы же дождались старичка. К счастью, он шел не очень быстро и жил не очень далеко. Нам удалось проследить его до самой квартиры в Столешниковом переулке. Я тоже посмотрел его: он всю жизнь проработал официантом в «Славянском базаре», но оставался при этом страстным меломаном; четырежды поступал в консерваторию по классу вокала и четырежды проваливался; он был одинок, обожал кошек и боялся налетчиков, которые однажды ограбили его, проломив голову; он молился покойной матери, придумав свою молитву.
Эп и Рубу проследили даму. Она жила возле Курского вокзала.
Засыпая ночью, мы решали , как лучше похитить даму и старичка и где их простучать. Но новый день смешал наши планы: в Москву из Хабаровска приехал Иг. Мы встретились с ним на Лубянке. Обнимая его, я почувствовал, как окрепло его сердце. А вечером мы все были уже на даче в Люберцах и сидели на полу, взявшись за руки. Керосиновые лампы освещали наши лица. В центре круга сидел брат Ковро. Он прошел через сердечный плач. Мы говорили с сердцем брата. Оно робко отвечало .
Этой ночью мы выработали стратегию поиска: Фер и я ищем наших, братья отслеживают их, затем похищают, привозят на дачу, простукивают и оказывают помощь; если похищение невозможно – простукивание производится на месте. Для перевозки новообретенных Иг нашел машину. Ее владелец, Соломатин, родственник жены Дерибаса, содержавший во время НЭПа авторемонтную мастерскую, разорился, побывал в подвалах ОГПУ и был отпущен благодаря заступничеству Дерибаса. Ему он был обязан жизнью. После краха НЭПа автолюбителю было не на что не только заправлять машину, но и жить: он едва сводил концы с концами в слесарной мастерской, в московские автохозяйства его как бывшего нэпмана и белогвардейца не брали. Ради куска хлеба Соломатин был готов на все. Прежде всего наше братство нуждалось в деньгах, играющих огромную роль в мире мясных машин. И мы решили ограбить несколько богатых москвичей. Чтобы забрать у них ценности, нам даже не пришлось их убивать. Вначале я увидел их в толпе, Рубу и Бидуго проследили. Пользуясь своей возможностью видеть сердцем тайны любой мясной машины, я узнал, где они хранили свои сбережения. Один из них, бывший придворный ювелир, прятал драгоценности в кирпичной кладке, на чердаке соседнего дома. Другой, сын сбежавшего в Париж банкира, закопал шкатулку с золотыми монетами в Нескучном саду. Третий хранил семь крупных бриллиантов в подоконнике.
Как только все это стало нашим, мы решили для себя проблему денег: золотые монеты продавались на черном рынке, золотые изделия мы относили в торгсин, где их скупали по низкой цене. Цена нас не очень интересовала: я мог найти еще много золота, припрятанного мясными машинами. Бриллианты мы берегли: братству Света предстоял долгий путь к своей цели.
Наняв Соломатина с его машиной, мы приступили к делу. Сначала похитили обретенную в Большом театре даму, а на другой день – старичка. Обоих вывезли на дачу в Люберцы и простучали.
Ее звали Атлу.
Его – Пчо.
Брата Ковро отвезли в подмосковный поселок Одинцово, где он, небритый, в грязной одежде, заявился в отделение милиции. Назвав себя, он на своем ломаном русском потребовал, чтобы о нем сообщили в ОГПУ. Чекисты, две недели разыскивающие пропавшего Вольфа, тут же приехали. Ковро рассказал им, что его похитили бандиты, с завязанными глазами вывезли куда-то, держали в чулане, вымогали деньги, затем повезли на новое место. По дороге ему удалось бежать. В ОГПУ были очень довольны, что он нашелся: большевикам Вольф был крайне необходим для строительства метро и они не хотели скандала с немецкими промышленниками в случае «исчезновения известного архитектора в дикой советской России». Брат Ковро вернулся в номер люкс «Метрополя», где и проживал Себастиан Вольф, и через пару дней снова работал над своими чертежами. Сердце его крепло с каждым днем. Для нас Ковро стал первой надеждой поиска в Европе.
Имея автомобиль с шофером, мы стали более свободными в поиске. Соломатину платили приличные деньги. В подробности его не посвящали. Я знал , что он считает нас чекистами-перерожденцами, похищающими людей для грабежа, чтобы не делиться с начальством. Прикрытие Дерибаса успокаивало его. По-настоящему Соломатин боялся только мертвых детей (его старший брат утонул мальчиком) и голода.
На Пасху мы с Фер просмотрели толпу в четырех московских храмах. Но нашли только одного. Братом Цфо оказался большой, грязный и неграмотный крестьянин, сбежавший в Москву из глухой тамбовской деревни. Мужики их деревни, доведенной до отчаяния поборами советской власти, зарубили топорами государственных экспроприаторов, приехавших в очередной раз на подводах за зерном и картофелем. Председателя сельсовета вместе с тремя местными коммунистами заперли в бане и сожгли. Потом крестьяне вместе с семьями и скотиной разбрелись по тамбовским лесам. Карательный отряд ОГПУ ответно сжег их деревню и двинулся следом – ловить и расстреливать бунтовщиков. Брат Цфо, потерявший семью еще в Гражданскую войну, убегая от карателей, добрался до железной дороги и на крыше вагона доехал до Москвы. Здесь он просил милостыню и питался отбросами. Лохматый и сильный, как медведь, он яростно сопротивлялся нам. Эдлап сломал ему четыре ребра, прежде чем его богатырское сердце заговорило.
Вскоре после этого с Фер произошло то же, что и со мной в библиотеке: она перестала видеть изображения и узрела мясных машин сердцем. Преображение застало ее в женской бане, где в раздевалке висел большой плакат: СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ, БОРИТЕСЬ С БУРЖУАЗНЫМИ ПРЕДРАССУДКАМИ! На плакате перечислялись эти предрассудки: маникюр, педикюр, губная помада, румяна для щек, удаление родинок и волос на ногах, бритье подмышек, выщипывание бровей, ношение корсетов. На плакате были изображены две женщины: затянутая в корсет, накрашенная и наманикюренная буржуазная дама и просто одетая советская комсомолка. Фер не смогла различить их: изображения расплывались. Она глянула на себя в зеркало и не увидела своего лица. Зато она узрела сидящую рядом женщину. Восемнадцатилетней та бросила своего новорожденного ребенка. Чтобы проверить себя, Фер напомнила ей, где и как это случилось. Женщина упала в обморок. Фер вскрикнула от восторга:
– Дар Света!
Теперь мы с Фер совсем одинаково видели окружающий мир, братьев и мясных машин. Это видение открыло нам новые возможности. Просматривая вдвоем очередную мясную машину, мы переглядывались сердцами между собой. То, что ускользало от меня, подмечала Фер; то, что не различала она, видел я.
Вдвоем с Фер мы проникали в скрытые миры мясных машин. Их тайны и помыслы стали совсем прозрачны. Нам открывалась суть земной жизни.
Новая Мудрость проснулась в наших сердцах.
И она внесла новые коррективы в процесс поиска.
Ночью мы с Фер поднялись на крышу общежития, сели и взялись за руки.
Мы увидели мир.
И мы увидели его во времени. Мясные машины пришли в движение. Ранее каждая из них жила сама по себе. Теперь они объединялись. Объединяться их заставляла идея всеобщего братства. В прошлом она не имела такой силы среди мясных машин. Теперь же она собирала их в толпы. И заставляла забывать о прежней земной цели: личном комфорте. Эта новая идея заставила мясных машин вдруг ощутить новое родство: родство веры в коллективное счастье. Она сплачивала их. Вытягивала из каменных гробов на площади. Заставляла забывать про семьи и кровных родственников. Требовала жертвовать собой.
Такого объединения мясных машин не было ранее: только войны могли оторвать их от семей, от каменных гробиков, именуемых «домами», от денег и личного имущества. Но войны быстро кончались. И мясные машины, поубивав себе подобных, снова возвращались к былым ценностям: комфорту, семье, деньгам, личному счастью. Теперь же они объявили войну этим ценностям и учились жить только идеей всеобщего равенства и братства. Лишенные гармонии в себе, они яростно искали ее в толпе. Толпа клубилась коллективной жизнью. Каждая мясная машина стремилась как можно скорее раствориться в толпе. И обрести коллективное счастье. Они испытывали это новое счастье. Ради него мясные машины готовы были убивать тех, кто не разделял их идею коллективного счастья. Тех, кто не хотел объединяться и жил прежними интересами. Это была новая война, не похожая на прежние. Она надвигалась. Стремительно.
И мы поняли, почему Лед упал на Землю именно теперь, в век объединения мясных машин. Потому что в толпе легче искать! В этом была Высшая Мудрость Света. Когда мясные машины вместе, мы можем быстро найти среди них наших. Нам не нужно будет ездить по всей Земле: век объединения мясных машин соберет толпы в больших городах. И мы с Фер просмотрим их. И найдем 23 000 братьев и сестер.
Собравшись Малым Кругом в Сокольниках, мы донесли братьям и сестрам то, что осознали сердцем ночью на ржавой крыше общежития ОГПУ.
На следующий день мы продолжили поиск.
За 1929 год мы с Фер просмотрели десятки партийных, комсомольских и профсоюзных собраний. Мы сидели на политзанятиях, стояли на митингах и спортивных праздниках. По многу раз искали почти во всех московских театрах и на ипподроме. Нам не удалось проникнуть на Пятый съезд Советов СССР, но мы в течение недели просматривали 1-й Всесоюзный съезд женщин-колхозниц. Мы смотрели толпу на открытии первого в СССР планетария, на пуске первого электровоза на заводе «Динамо», на Красной площади, во время чествования летчика Громова, осуществившего перелет из Москвы по европейским столицам на самолете «Крылья Советов».
Было найдено 62 брата и 37 сестер. Но не все наши уцелели. Произошло то, к чему мы еще не были готовы. Впервые нам довелось испытать потерю братьев: Аче и Бидуго погибли во время похищения брата Са, партийного функционера; сестра Хортим, больная гемофилией, умерла от потери крови. Сначала это потрясло нас. Хортим умирала на руках у меня и Фер. Когда я увидел, что Свет покидает остановившееся сердце Хортим, а я НИЧЕМ не могу помочь, во мне все сдвинулось вспять. Каждая клетка моего тела потянулась назад, ко Льду. Я перестал дышать. И ослеп. Окружающий мир пропал. Осталась только ТЬМА. И светящиеся в ней сердца. Они висели в темном пространстве и сияли. И из одного сердца уходил Свет. И я понимал, что ни мое сердце, ни сердца братьев и сестер не помогут Свету остаться в сердце Хортим. И самыми тяжкими были эти последние мгновения угасающего сердца.
Оно погасло. Навсегда.
Но мы с Фер сразу почувствовали, что Свет, ушедший от Хортим, воплотился в новорожденное сердце. Где-то во ТЬМЕ, окружающей нас. И сердце это забилось по-новому. Оно перестало быть сердцем мясной машины. Оно стало нашим. Оно ждало нас.
И я снова увидел мир. В котором мы оказались.
Земной смерти не было для нас. Свет, покидавший одно сердце, воплощался в другом. Но тела наши были смертны. Они жили не долго. Надо было искать. И искать БЫСТРО. Чтобы поиск не превратился в мучительный круговорот. Чтобы победить Время.
Чтобы сестра Хортим, братья Аче и Бидуго снова были с нами.
И мы искали.
Среди новообретенных оказались военные, совслужащие, инженеры, партийцы, рабочие, «бывшие», спекулянты, бездомные, домохозяйки, уголовники и один подпольный миллионер. Все они прошли через наши руки, каждого из них мы с Фер смотрели сердцем, в грудь каждого стучал ледяной молот.
Дачу в Люберцах пришлось оставить: ее занял высокопоставленный чекист. Но мы сняли две другие дачи – в меру удаленные от Москвы, с большими лесистыми участками, обнесенные глухими заборами. В них было спокойно простукивать наших. Их крики и стоны не долетали до чужого уха. Никто не мешал уходу за ранеными, никто не тревожил плачущих сердцем. Пробудившись, пройдя через очистительный плач, братья и сестры возвращались к советской жизни, вливались в нее как ни в чем не бывало. Но в сердцах их горел Свет Изначальный. Они были Братством Света. И делали все для достижения нашей цели.
Поиск велся интенсивно.
Многие из наших тоже перестали видеть лица и изображения и узрели сердцем. Тайны мясных машин открылись им. Это помогало обезопасить братство, знать, где нас подстерегает опасность, куда не следует внедряться. Знание тайн городов дало нам возможность быть экономически свободными. Деньги стали нам легко доступны. Потому что мы ведали , где они хранятся.
Но в советском обществе тотального контроля далеко не все решали деньги. Только власть давала абсолютную свободу. И мы продвигались наверх. Но крайне осторожно. Сестра Мород, обретенная нами во время коммунистического субботника, занимала высокий пост в одном из московских райкомов. Брат Са был партийным секретарем ткацкой фабрики. В ОГПУ мы нашли двоих. Но они не занимали высоких постов.
Поиск шел.
Но к концу года мы с Фер обнаружили, что быстро стареем. Не зря мы рано поседели, не зря испытывали страшную усталость после каждого поиска в толпе. Сердечный магнит был только у нас с Фер. Больше никто из братства, ни одна пара не обладала таким безошибочным и точным видением наших. Только мы с Фер, вместе, находясь рядом, обладали этим могучим Даром Света. Только мы могли искать. И видеть наверняка. Мудрость Света подсказывала мне, почему – мы были первообретенными. Мужчина и женщина. Мы первыми прикоснулись ко Льду. И нам далось больше, чем другим. Но и бралось с нас больше: мы стремительно старели.
Наша ранняя седина, морщины, нездоровая бледность сразу стали заметны на службе. У нас стали дрожать руки. Поднимаясь по лестнице, мы отдыхали на лестничных площадках, как старики. Начальник направил нас к врачу. Мы пошли, хотя знали причину. Врач не нашел у нас никаких болезней, кроме «катастрофического старения». Вскоре нам пришлось уйти с работы. Братство хранило нас. Мы поселились в большой квартире брата Лонду, известного московского врача, лечащего советскую номенклатуру. У него дома нам было спокойно и комфортно. Мы берегли себя: днем спали, ели фрукты, пили настой трав, выросших в горах, далеко от мира мясных машин. Ближе к вечеру принимали ванну из теплого коровьего молока. Это восстанавливало силы, заставляло нашу кровь течь быстрее. Вечером братья везли нас на поиск. Очутившись в очередном зале, где кривлялись на сцене накрашенные актеры или мясная машина читала доклад о грядущем коммунизме, мы просматривали зал. Каждый поиск потрясал наши тела. Мы с Фер сидели, сцепившись пальцами, помогая друг другу. Это была тяжелая работа. Природа мясных машин в наших телах сопротивлялась поиску. Наш магнит разрушал ее. За увиденных братьев мы платили своими клетками. Клетки гибли. Тела наши старели и слабели. Но никто, кроме меня и Фер, не мог искать и находить . Это была наша работа. И мы должны были торопиться.
Братство росло с каждым днем.
Оно становилось мощным организмом, живущим по своему закону. По закону Света. Оно проникало в мир мясных машин, внедрялось в их структуры, занимало важные посты.
Брат Ковро, завершив работу в Москве, вернулся в Германию. Его отец умер, завещав ему половину своего состояния. В распоряжении братства оказалась большая вилла в баварских Альпах и дом под Дюссельдорфом.
Но прежде чем двигаться на запад, нужно было укрепиться в России.
Мы с Фер берегли себя. Старались жить осторожно, не тратить силы. Мы копили энергию, закрывали глаза. И дремали в креслах. Ноги наши растирали братья. Свежие фрукты подносили нам. Мы поглощали их. Мы трогали тела друг друга, берегли кости и мышцы. Тела нужны были нам, чтобы переносить сердца к месту поиска. И мы искали.
Мясные машины яростно клубились. Они собирались. Рыли землю, плавили металл, громоздили камни. И строили железные машины. Машины для убийства мясных машин. Тысячи железных машин выстраивались в ряды и цепочки. Они ползли по земле. Копились в каменных пространствах. Их натирали специальным жиром. Из недр Земли высасывали тяжелую кровь. И заливали в железные машины. Машины питались тяжелой кровью Земли. Они рычали и ревели. И готовились давить и убивать.
Другие железные машины могли летать. И сбрасывать на города мясных машин большие железные яйца. Которые яростно взрывались. И разрушали города. Мясные машины гибли в своих каменных пещерах. Города горели.
Эти летающие машины тоже строились в ряды. Их красили в темные и светлые цвета. Они тоже питались тяжелой кровью Земли.
Строились и другие стальные машины для уничтожения мясных машин. Одни из них умели держаться на поверхности воды и плавать. Хотя они были очень тяжелые. Они подплывали к городам и яростно метали в них железные яйца. Которые взрывались. И уничтожали города.
Были машины, умеющие плавать под водой. И топить машин, плавающих на поверхности воды.
Всех этих машин становилось все больше. Мясные машины очень старались. И строили железные машины днем и ночью.
Мясные машины готовились к большой войне. Чтобы убивать мясных машин, которые говорят на других языках. И разрушать их города. А потом занимать эти разрушенные города, восстанавливать их. И жить в них. И рожать новых мясных машин.
Война надвигалась. Она была необходима миллионам мясных машин. Они ждали ее. Во время этой войны должны были погибнуть десятки миллионов мясных машин. И вместе с ними многие наши. Нам нужно было искать быстрее. Пока мясные машины не начали воевать.
Мы продолжали искать среди мясных машин, говорящих по-русски. Мы искали наших в двух главных городах русскоязычных мясных машин. Поиск велся планомерно и осторожно. Меня и Фер одевали в различную форму. И привозили на большие собрания мясных машин. Эти собрания шли несколько дней. Мясные машины сидели в просторных залах. Некоторые из них выходили на трибуны. И говорили о том, что надо сделать, чтобы все мясные машины стали счастливыми. Мы с Фер держались за руки. И просматривали сидящих в зале. И находили наших. Сердца их хранили в себе Свет. Мы видели этот Свет. И вынимали братьев и сестер из толпы мясных машин. Ледяной молот пробуждал их сердца.
Прошли три земных года.
Всего в стране, где лежал Лед, нас стало 186.
Братство укрепилось в этой стране. Братья Рек, Аву, Орже, Тнола, Са, сестры Мород и Фиу вошли в руководящую элиту. Братья Иг, Ха, Зчап, Шорор занимали важные посты в карательных органах. Братья Гба и Дэ командовали крупными военными подразделениями мясных машин. Брат Пеп изобретал новые виды железных машин. Сестра Чэх возглавляла больницу, где лечились высокопоставленные мясные машины.
Теперь можно было двигаться на запад.
7 марта 1931 года при помощи братьев Иг и Шорор мы с Фер пересекли границу страны, где лежал Лед. Нас везли в железной машине, использующей для движения огонь и воду и передвигающейся по железной колее. На нас с Фер была одежда, которую носят важные для государства мясные машины. Рядом были братья Гзем и Ту. Железная машина через двое суток привезла нас в главный город мясных машин, говорящих по-немецки. В этом городе мы стали жить. У нас была просторная каменная пещера в части города, называемой местными мясными машинами Прекрасная Гора. Эта часть города считалась очень красивой. Здесь жили богатые и известные мясные машины. У них было много денег. Их каменные пещеры были уставлены предметами, которые долго и тщательно изготовляли другие мясные машины.
Нам помогал брат Ковро и братья в Москве. Через 3 месяца и 12 дней к брату Ковро приехали 18 братьев и 18 сестер. Они стали жить в его большой каменной пещере, построенной в горах на юге страны немецкоговорящих мясных машин. Еще через 2 месяца и 8 дней к брату Ковро приехали 9 братьев. Он помог им обосноваться в главном городе этой западной страны. Но мы пока не видели наших братьев.
Поиск в западной стране начался постепенно. Зимой нам доставили Лёд. Братья Иг, Зчап и Аву сумели переправить в страну, где мы поселились, полторы тонны Льда. Лед перевезли на юг страны, к брату Ковро. Там братья и сестры стали делать ледяные молоты. Их хранили в холодных местах.
Мы с Фер тщательно искали пути поиска в этой стране. И поняли, куда нужно проникать и с чего начать. В этой стране мясные машины очень любили одно развлечение. Оно было открыто недавно. Но очень быстро стало популярным. Как и большинство развлечений мясных машин, оно было достаточно простым: мясные машины собирались в зале, свет гас, и на белую материю из специального ящика проецировали тени, напоминающие мясных машин. Эти тени совершали на белой материи необычные поступки: дурачились, убивали, грабили, путешествовали по экзотическим странам, женились на королевах, уменьшались в размерах, совершали полет на ближайшую планету, бились с несуществующими зверями, жили во дворцах. Мясные машины, сидящие в зале, пристально следили за тенями и забывали о своей реальной жизни. Жизнь теней волновала их гораздо сильнее. Они мечтали о необычных поступках и приключениях. И получали огромное удовольствие от наблюдения теней. Сидя в темном зале, они то хохотали, то плакали. Некоторые теряли сознание от переживаний. Жизнь теней помогала им забыть о собственной убогой жизни. Большинство из них совершенно не представляли, как получаются эти тени на белом. Их создавали специальные группы мясных машин. Они использовали комбинацию веществ и света. А так же мясных машин, которые кривлялись в театрах. Их лица и фигуры при помощи комбинаций веществ и света превращались в тени. Эти мясные машины были очень известны. Их лица размножали на бумажных листах. Эти листы висели в людных местах. И в каменных пещерах мясных машин. Простые мясные машины хотели во всем быть похожими на эти тени. Они одевались как тени, подражали походке теней, их жестам и манерам. Тени на белом стали быстро вытеснять старые развлечения – театр и цирк. Они стали модными.
Братство решило использовать эту новую моду. При помощи брата Ковро в главном городе немецкоязычных мясных машин была создана организация, ищущая среди мясных машин тех, кто мог бы стать тенями на белом. Многие мясные машины мечтали стать тенями, чтобы на них из темного зала с восторгом смотрели другие мясные машины. К тому же в этом городе было много мясных машин, которые не имели работы. Им не платили деньги, поэтому им не на что было купить еду и одежду. Стать тенью на белом было для них спасением. Потому что мясные машины, ставшие тенями на белом, получали много денег.
Мясные машины называли тени на белом «звездами». Хотя это были всего лишь серые тени на белом. Но Братство решило использовать заблуждение мясных машин. И назвало новую организацию «Восходящие звезды». Чтобы она как можно сильнее притягивала мясных машин. За деньги мясные машины, специализирующиеся на комбинациях букв на бумаге, написали много букв о «Восходящих звездах». Эти буквы были размножены на тысячах бумажных листах. Мясные машины купили бумажные листы и прочитали про «Восходящие звезды». Они поняли, что «Восходящие звезды» ждут их. И каждая из них может стать «восходящей звездой», то есть – серой тенью на белом.
Братство сняло большую каменную пещеру в центре города. Туда должны были приходить мясные машины, возжелавшие стать тенями на белом. В бумажных листах сообщалось, что организация «Восходящие звезды» принимает к рассмотрению только голубоглазых и светловолосых мясных машин. Мясные машины с другим цветом волос и глаз рассматриваться не будут.
В назначенный день у входа в пещеру с вывеской «Восходящие звезды» выстроилась большая очередь из голубоглазых и светловолосых мясных машин. В пещере стояли яркие светильники. И машины, умеющие печатать изображения мясных машин на бумаге. Эти машины обслуживали братья Гзем и Ту. Я и Фер сидели в креслах. Мясные машины заходили по очереди. Рассказывали про себя. И показывали то, что они умеют: одни издавали горлом различные звуки, другие изображали чувства, третьи танцевали. Мы просматривали их. Если мы находили наших, Гзем говорил им, что у них есть возможность стать «новой звездой». И что они очень талантливы. С ними совершался договор. Затем новообретенных доставляли в горы, к брату Ковро. Там ледяной молот будил их сердца.
Это продолжалось 8 месяцев и 12 дней. За это время 10 309 мясных машин побывали в нашей пещере. Среди них оказалась одна горбатая мясная машина, в которой я узнал свою сестру из мира прошлого. Ту самую, с которой мы расстались, когда я был маленькой мясной машинкой. Судьба занесла ее в этот большой город. Как и я, она родилась голубоглазой и светловолосой. И тоже пришла попытать земного счастья. Меня она не узнала. Стоя перед нами с Фер, она щипала пальцами струны на пустотелом деревянном предмете, а горлом издавала высокие звуки. Она изо всех сил старалась нам понравиться. Одежда ее по меркам мясных машин была бедной. Сердце ее было мертво. Она была обычной мясной машиной. Фер поняла, что я вырос вместе с этой горбуньей. И взяла мою руку. Фер была моей сестрой.
Просматривая «восходящих звезд», мы нашли 45 братьев и 57 сестер. Их содержали в нескольких пещерах, принадлежащих Братству. Им залечивали раны. Они плакали сердцем. И вливались в Братство Света. Большинство этих новообретенных не занимали важных положений в государстве мясных машин. Нам нужны были деньги на их благоустройство. И братья ограбили каменную пещеру, где мясные машины хранили деньги и золото. Я и Фер помогали. Нас поселили в соседней пещере. И каждое утро, как слабых стариков, вывозили гулять в колясках. Мы просматривали жизни мясных машин, работающих с деньгами и охраняющих их. Через четыре дня мы знали жизнь каждого. На пятый день братья проникли в пещеру к главному хранителю денег. И забрали у него жену и троих детей. Затем ему предложили обменять деньги и золото на детей и жену. Он очень не хотел этого делать. Потому что деньги и золото были очень важны для него. Но жену и детей он любил немного сильнее денег. Поэтому он вынес из пещеры с деньгами мешок денег и полмешка золота. Детей мы вернули ему, но жену его пришлось убить. Она запомнила лица братьев.
После этого мы легко благоустроили новообретенных братьев и сестер. Братство покупало каменные пещеры в городах и за их пределами, железные машины для перемещения, предметы и вещества, оружие и одежду, которую носят военные мясные машины.
Вскоре в стране немецкоговорящих мясных машин произошли перемены. К власти пришла одна мясная машина, которая умела очень громко и яростно говорить. Она обожала говорить перед толпой мясных машин. Толпа слушала ее и верила ей. Эта мясная машина призывала всех немецкоязычных мясных машин объединиться, чтобы бороться против мясных машин, говорящих на других языках. Она говорила, что немецкоязычные мясные машины самые лучшие в мире. Они самые умные, самые честные и самые ответственные. Поэтому они должны управлять всеми другими мясными машинами. Но у немецкоязычных мясных машин очень мало места для жизни. Поэтому их каменные пещеры тесны, у них мало еды, а их дети растут слабыми и нездоровыми. Мясная машина говорила, что немецкоязычным мясным машинам нужно сделать много военных машин и пойти в другие страны, чтобы отвоевать себе новые места. Там будет много еды. И можно будет строить новые и просторные каменные пещеры. В них дети немецкоговорящих мясных машин будут расти здоровыми и счастливыми.
Большинство немецкоязычных мясных машин поверили призыву этой мясной машины. Им нравилась ее решительность и уверенность в своей правоте. Они прозвали ее вождем. И она стала главной в этой стране. И стала учить всех что делать, когда и как. И мясные машины исполняли ее приказы. А кто не верил ей и не хотел исполнять ее приказов, не мог нормально жить в этой стране. Вождь утвердил новые законы жизни для этой страны. И создал сильную организацию. Она следила, чтобы немецкоязычные мясные машины жили по новым законам.
Мы поняли, что продолжать поиск, не имея поддержки у этой организации, опасно.
И Братство решило подождать. И накапливать силы. Чтобы разными способами добиться поддержки у новой власти.
Братство сравнивало обе страны, где мы начали свой поиск: русскоязычную и немецкоязычную. Они отличались не только размерами и количеством живущих в них мясных машин. Толпы мясных машин в этих странах имели свой определенный внутренний гул. В немецкоязычной толпе внутренний гул ревел о Порядке. Эта толпа жаждала Порядка. Но только в мире мясных машин. Мир Земли этой толпе представлялся Абсолютным Порядком. В русскоязычной толпе стоял совсем другой внутренний гул. Он тоже ревел о Порядке, но не в мире мясных машин, а в окружающем мире. Русскоязычная толпа была смутно обеспокоена отсутствием Абсолютного Порядка в мире. Она хотела многое исправить в этом мире. Природа мясных машин казалась ей совершенством. Но ревя об Абсолютном Порядке для окружающего мира и яростно стремясь к нему, она невольно вносила Беспорядок в жизнь мясных машин. Этот гул русскоязычной толпы разрушал природу мясной машины. Гул же немецкоязычной толпы стремился ее улучшить.
В нашем поиске надо было учитывать оба гула. Эти страны мы именовали по-своему. Большая, хоть и была по внутренней сути страной Беспорядка, именовалась нами страной Льда, потому что лежащий в ней Лед был для нас важнее всего. Меньшую мы называли страной Порядка.
Но самым важным было то, что мы почувствовали, что эти страны мучительно стремятся друг к другу. Их внутренние гулы, по сути такие разные, соединяясь, сливались в некий особенный гул, необходимый им. Но они об этом даже не догадывались. Они считали себя просто врагами. Мы понимали, что скоро между ними начнется большая война.
И Братству нужно было готовиться к ней.
Мы с Фер поселились в горах, в большой каменной пещере, принадлежащей когда-то семье брата Ковро. Теперь она принадлежала Братству. Вокруг пещеры был лес. Он рос на горах. В пещере жили 29 братьев и 44 сестры. Остальные братья и сестры жили в других местах этой страны. Я и Фер говорили сердцем с братьями и сестрами. Мы беспокоились. Потому что очень быстро старели. Из всего Братства только я и Фер могли видеть сердца наших. Мы могли это только вместе. Отдельно ни я, ни Фер не обладали этим Даром Света. Только вместе мы могли искать. И сразу находить. Каждый поиск потрясал наши сердца. И разрушал тела. Мы с трудом могли ходить. Братья возили нас в железных машинах и в колясках. Руки и ноги наши дрожали. Тела слабели и иссыхали. Морщины покрывали наши лица. Большую часть свободного времени мы спали, набираясь сил. Братья кормили нас фруктами, купали в молоке, натирали тела наши маслами. Нас берегли. Мы с Фер не участвовали ни в каких делах Братства, кроме поиска. Ибо это было Самым Главным Делом.
Но мы беспокоились.
Потому что чувствовали быстрое старение наших тел. За старением последует земная смерть. И мы уже не сможем искать. И помогать Братству. Нам необходимо было найти двух преемников, которые могли бы так же видеть вместе, как и мы. Мы испытывали сердца новообретенных. Мы искали себе подобных. Пробовали заменять в нашей паре меня или Фер кем-то из братьев и сестер. Но никто не мог заменить нас. И в этом была скрытая угроза Братству.
Мы спрашивали свои сердца. Но они молчали. Нам оставалось только искать наших. И искать в наших.
Другого пути не было.
Обнявшись с Фер, мы засыпали. Сердца наши искали даже во сне. Они вспоминали сердца остальных. И испытывали их.
Это продолжалось бесконечно.
Два земных года мы готовились к продолжению поиска. Наконец наступил долгожданный день. Летом в южном городе страны Порядка произошло важное событие. Вся страна ждала его с нетерпением. В этом городе собрались десятки тысяч самых сильных, самых преданных вождю мясных машин. Вместе с ними собрались и самые важные для страны мясные машины, которые помогали вождю управлять миллионами мясных машин. За 6 дней все собравшиеся должны были убедиться, насколько они сильны, сплочены, преданы идеям вождя и готовы к войне за новые земли. Вся страна готовилась к этому событию.
Подготовилось к нему и Братство. Для нас такое скопление мясных машин было возможностью найти своих. И не только среди простых мясных машин. Но и среди представителей власти.
По приказу вождя каждая мясная машина в его стране должна была знать все об этом собрании сильнейших мясных машин. Для этого были наняты сотни мясных машин, умеющих писать буквы на бумаге так, чтобы все читающие эти буквы в других городах хорошо представляли бы себе, что происходило на собрании в южном городе. Но помимо мясных машин, быстро пишущих буквы, вождем была нанята одна мясная машина, умеющая при помощи различных веществ и света производить тени на белом. И производить их так, что смотрящие на эти тени мясные машины сразу поняли бы, что происходило на том самом большом собрании. Братство решило использовать эту мясную машину. Мы с Фер узнали ее жизнь. Она обожала не только быть тенью на белом, но и создавать другие тени. Больше всего она боялась умереть во сне. Поэтому она спала очень мало и чутко. Она была очень активной и сильной в своем желании быть самой известной и могущественной в мире теней на белом. Еще она очень любила вождя. Но не как вождя, а как яркую и сильную мясную машину. Он казался ей фонтаном горячей воды, освещенным голубым светом. И она мечтала сделать его тенью на белом. Для воплощения своей мечты она наняла 170 мясных машин, связанных с производством теней на белом.
Братство уже несколько лет работало в мире мясных машин, производящих тени на белом. Поэтому братья приложили все силы, чтобы оказаться в этой группе. 29 мясных машин должны были через специальные железные ящики с разных сторон смотреть на собрание мясных машин. В этих ящиках при помощи веществ и света постепенно накапливались тени на белом. Из 29 работающих с железными ящиками 6 были нашими братьями, а еще 7 мясных машин работали на Братство. Из остальных 141 нашими были 2 брата и 2 сестры, а 12 мясных машин также работали на Братство.
Все началось с прибытия вождя. Он прилетел на железной машине, пересел в другую железную машину и поехал в центр города. Мясные машины стояли на улицах и приветствовали вождя. Но мы с Фер тогда не просматривали толпу. Потому что она двигалась.
Мы с Фер стояли возле большой каменной пещеры, где должен был остановиться вождь. Пещера была украшена красной и черной материей. Вождь подъехал к пещере, вошел в нее и встал в открытом окне. Толпа мясных машин закричала от радости. Вождь поднял правую руку и показал толпе ладонь. В этот момент мы с Фер увидели его. Он был не наш. Мы заглянули в его жизнь. Она клубилась мучительной яростью. Как и правитель страны Льда, вождь обожал власть над миллионами мясных машин. Но еще сильнее он обожал возможность потери этой власти. Он добивался власти, чтобы наиболее мучительным способом потерять ее. В этом заключалась главная страсть его жизни. Хотя сам он не знал об этом.
Правитель же страны Льда хотел власти, чтобы просто властвовать. Он обожал только власть.
За 6 дней мы с Фер побывали на всех собраниях мясных машин. На первом собрании Братство одело нас в одежду, которую носят мясные машины, возделывающие землю и выращивающие на ней злаки. Мы приветствовали вождя вместе с другими земледельцами. Из них мы были самыми пожилыми. На другом собрании братья одели меня в одежду воюющих мясных машин. На грудь мне повесили металлические изделия, которыми награждают мясных машин за умение хорошо убивать. Я был посажен в коляску, Фер стояла сзади. На том собрании было много мясных машин, которые воевали. Перед ними выступал вождь и другие высокопоставленные мясные машины. На собрании мясных машин, строящих дороги и каменные пещеры, нас с Фер посадили в ящик с двумя окошками. Пока вождь приветствовал собравшихся, мы сквозь эти окошки смотрели толпу. И запоминали наших. Следующим было собрание молодых мясных машин. На него нас доставили в двух больших чемоданах. Их поставили рядом. Мы просматривали огромную толпу восторженно кричащих молодых мясных машин. Найдя в ней наших, мы запомнили их. На следующий день мясная машина, производящая тени на белом, со своей группой работала в месте, где временно жили приехавшие на собрание молодые мясные машины. Мы были в этой группе. И легко вспомнили новообретенных. Братья узнали их земные имена. На собрании мясных машин, рожающих мясных машин, Фер сидела в коляске, а я стоял сзади. Она вместе со всеми мясными машинами приветствовала вождя и слушала его речь. Он говорил, что мясные машины должны рожать здоровых и сильных мясных машин. Во время его речи мы просматривали толпу. Были еще собрания не очень больших групп мясных машин. На некоторых из них мы побывали.
На шестой день вождь выступил с краткой речью. После чего мясные машины построились в ровные группы и стали выходить из города. Другие мясные машины кричали им вслед. Мясные машины, умеющие извлекать различные звуки из предметов, сильно дули в них и громко стучали. Эти звуки провожали ровные группы мясных машин, покидающих город.
Вождь улетел на летающей машине. Его помощники уехали на машинах, передвигающихся от воды и огня. И в городе остались только живущие в нем мясные машины.
Поиск закончился. Он был очень важен.
76 братьев и сестер влились в наше Братство. И мы укрепились в стране Порядка. Братья Пот, Ия, Мен и Офка занимали высокие посты среди правящих мясных машин. Братья Зел, Япор, Или и Ан имели власть в охранной стае вождя. Брат Ниэг и сестра Вафу имели много денег, каменных пещер и дорогостоящих предметов. В Братстве оказалось много сильной и здоровой молодежи, готовой на все ради Света Изначального.
Но этот поиск в южном городе оказался непростым для нас с Фер.
Тела наши сильно похудели, мышцы ослабли, руки бессильно висели. Мы перестали принимать пищу и лишь пили воду. Воду, упавшую с неба. И дышали. Сердца наши бились редко. Сестры грели нас своими телами, держали на руках, помещали в парное коровье молоко. Затем обертывали плотной материей и клали на солнце. Мы спали.
Так продолжалось долго. Земля кружилась вокруг Солнца. Планеты и звезды, созданные нами, плыли по своим орбитам.
Жизнь не покинула наши тела. Они снова стали принимать пищу и двигаться.
Когда мы с Фер окрепли, сестры научили нас ходить. Поддерживая друг друга, мы ходили возле каменной пещеры в горах. Потом сидели на траве. Трогали тела друг друга. И сердца. Которые были способны заметить и вызволить из толпы мясных машин тысячи родных сердец.
В стране Порядка произошло новое собрание мясных машин. На этот раз они собрались не для того, чтобы слушать речи вождя и готовить себя к покорению соседних стран. Мясные машины устроили соревнование сильных и ловких тел. Мясные машины с самыми сильными и ловкими телами из разных стран приехали в главный город страны Порядка, чтобы соревноваться между собой. Показывая силу и ловкость, они бегали, прыгали в длину и в высоту, метали куски железа, поднимали тяжелые предметы, плавали, гоняли ногами кожаные шары, боролись, сражались на железных прутьях, били друг друга кожаными рукавицами, плевали из железных трубок металлом в бумажные листы. Это происходило на виду у десятков тысяч простых мясных машин, которые не были столь сильны и ловки. Они следили за сильными мясными машинами и радостно хлопали им руками. Сильные тела вызывали у них восторг и зависть.
Мясная машина, умеющая создавать тени на белом, также была на этом собрании. Вместе со своей группой помощников она следила за соревнованием сильных и ловких мясных машин сквозь железные ящики, в которые накапливались тени на белом. Потом эти тени должна была увидеть вся страна. И Братство снова воспользовалось этим. Мы проникли в толпу мясных машин, следящих за соревнованием, и просматривали ее. За 12 дней мы нашли 87 братьев и 101 сестру.
И снова целый год мы с Фер восполняли свои силы в горах.
Нас купали в парном молоке, оборачивали в ткань, сотканную из горных трав, и надолго клали в корзины, подвешенные между деревьями. Качаемые горным ветром, мы спали, наблюдая сердца новообретенных. Это радовало и успокаивало нас.
Братья стали готовиться к очередному поиску. Но произошло неожиданное. Правитель страны Льда начал энергичное уничтожение высокопоставленных мясных машин. Он делал это для сохранения своей власти. Были схвачены и заперты в каменные пещеры тысячи сильных мясных машин, управлявших и руководивших миллионами простых мясных машин. Братство не смогло избежать этого. Не все, происходящее в мире мясных машин, удавалось нам понять. Мы понимали каждую мясную машину. Но толпа мясных машин была не совсем прозрачна для нас. Ее гул подавлял наши сердца. И мы не все видели в толпе. Поэтому мы не смогли вовремя предупредить наших. И в один день были схвачены и помещены в подвал братья Иг, Зчап и Шорор. Мясные машины заперли их. Они стали бить и мучить тела братьев. От них требовали признаний в том, чего они не совершали. Братство не смогло помочь им. И мясные машины убили братьев.
Мы видели Свет, покидающий их сердца.
По всей стране Льда стали хватать и запирать опытных и сильных мясных машин. Их тела мучили. И заставляли признаться в том, чего они не совершали. Некоторые из них не признавались. И умирали от мук. Другие признавались. Их или убивали, или увозили в холодный край, далекий от городов. Там их заставляли валить деревья и копать землю, а на ночь запирали в деревянные сараи. Кормили их очень скудно. И мясные машины быстро умирали в этом холодном крае.
На место уничтоженных мясных машин правитель страны Льда назначил других мясных машин, более молодых и менее опытных. Они устраивали правителя. Братство поняло , что через несколько лет этих мясных машин постигнет все та же участь – они будут схвачены и уничтожены. И это будет продолжаться, пока жив правитель.
Мы поняли, что в стране Льда опасно внедряться во власть. Пока жив этот правитель, риск потери братьев слишком велик. Как только он умрет и на его место вступит другой, Братству можно будет снова стремиться проникать в руководство страной. Поэтому Братство приняло важное решение: братья и сестры, занимающие высокие посты в руководстве этой страны, должны как можно скорее покинуть ее.
В течение месяца 38 братьев и 8 сестер покинули эту страну. И перебрались в страну Порядка. Трое братьев погибли при перемещении от рук хранителей границ. Большая часть прибывших братьев и сестер осталась в стране Порядка. Остальные были переправлены в две небольшие северные страны. Там Братству достались несколько больших каменных пещер. В них стали жить братья и сестры, прибывшие из страны Льда. Они стали подготавливать возможность для поиска в этих северных странах, где проживало много голубоглазых и русоволосых мясных машин.
Мы с Фер окончательно восстановили свои силы.
И были готовы к новому поиску.
Но началась война мясных машин. Мы знали о ней давно. Ее начало, как и многое в мире мясных машин, произошло быстро и непредсказуемо. Братство ожидало большую войну между странами Порядка и Льда. Но началась маленькая война в другом месте. Вождь страны Порядка повелел своим мясным машинам напасть на небольшую страну на востоке. Мясные машины страны Порядка быстро заняли половину этой страны. Другую половину заняли мясные машины страны Льда. Затем вождь страны Порядка направил своих мясных машин в другие пограничные страны. Мясные машины страны Порядка клубились желанием убивать во имя Порядка. Для этого они использовали железные машины и железные трубки, плюющиеся кусками горячего металла. Эти куски попадали в тела мясных машин и убивали их. Страна считалась сильной, если у нее было много мясных машин, железных машин и железных трубок, плюющихся горячим металлом. У страны Порядка всего этого было много.
Братство было готово к войне.
Мы начали поиск среди готовящихся воевать мясных машин. Они собирались в ровные группы, перемещались, учились обращаться с железными трубками, плюющимися горячим металлом. Братство снова стало использовать нас с Фер. Нам изготовили два ящика, похожих на те ящики, в которые мясные машины кладут свою одежду, когда переезжают из одного города в другой. Перед поиском мы с Фер снимали с себя одежду, ложились в эти ящики и прижимали ноги к груди. Ящики закрывали. И их несли наши братья туда, где скоплялись мясные машины. Мы с Фер к тому времени стали очень худыми по меркам мясных машин. Мы ели очень редко. Только раз в три дня пили воду. Наши тела стали очень легкими, а ноги и руки – тонкими. Тонкая морщинистая кожа обтягивала наши тела. Нас нельзя было показывать мясным машинам – это напугало бы их и насторожило. Даже по сравнению с сильно старыми мясными машинами мы выглядели необычно. Наши лица напоминали черепа. Волосы на наших головах стали совершенно белыми.
Поэтому мы могли просматривать мясных машин только из ящиков. Братство возило нас в ящиках по стране Порядка и по завоеванным ею странам. Мы с Фер жили в ящиках. И привыкли к ним. В ящиках мы спали и говорили сердцем между собой. Когда начинался поиск, мы просматривали толпы мясных машин. В основном это происходило во время их собраний, когда они неподвижно стояли или сидели и слушали какую-нибудь мясную машину, громко говорящую им о войне во имя прекрасного будущего. Найдя в толпе наших, мы заглядывали в их жизнь, узнавали их имена в мире мясных машин. Сквозь щель в ящике я шептал братьям эти имена. Различными способами они находили новообретенных. И ледяные молоты будили их сердца.
Братство росло.
Но вскоре началась и большая война. Начало ее стало так же неожиданно для нас. Мы ждали, что страна Льда первой нападет на страну Порядка. Но всего на несколько недель страна Порядка опередила страну Льда. Нападение застало мясных машин страны Льда и ее правителя врасплох: они не верили, что страна Порядка, имеющая меньше мясных и железных машин, нападет на большую и сильную страну Льда. Неожиданность помогла нападающим. Мясные машины страны Порядка, сев в свои железные машины и вооружившись мощными трубами, плюющимися горячим металлом, быстро продвигались на восток по стране Льда, уничтожая мясных машин и железных. Мясные машины страны Льда отступали, побросав свои трубки, плюющиеся горячим металлом. Многие из отступающих попали в плен к наступающим. Пленных мясных машин содержали в огороженных и охраняемых местах. Они должны были работать даром на страну Порядка.
Братство почувствовало, что нужно начать поиск среди плененных мясных машин. Братья сделали все, чтобы проникнуть в места, где содержались плененные мясные машины страны Льда. Их были сотни тысяч. Нас с Фер помещали в наши ящики и везли в эти места. Мы просматривали толпы плененных мясных машин. И находили наших.
В одной толпе я увидел мясную машину, приведшую меня ко Льду. Ту сильную и целеустремленную мясную машину, которая вела нас через непроходимый лес к месту падения Льда. Теперь это была слабая и больная мясная машина. Тело ее было измождено недоеданием, нога распухла. Власти страны Льда заставили ее взять в руки трубку, плюющуюся горячим металлом, и идти воевать. Она попала в плен и умирала, так и не узнав, что упало тогда с неба на землю. Она не знала, что такое Лед. И она не знала, что я смотрю на ее жизнь из ящика.
Мы с Фер искали. Но не только среди мясных машин. Мы по-прежнему искали среди новообретенных. Напряженно искали тех, кто способен заменить нас. И видеть сердцем так же, как и мы.
Но пока не находили себе подобных.
Мы беспокоились , лежа в своих ящиках. Мы были глазами Братства. Если эти глаза закроются, искать станет очень трудно. И поиск 23 000 затянется на десятилетия. Мы стонали сердцем от непреодолимого, но долгожданного. Мы любили Братство. Мы очень хотели снова стать Светом. Мы ненавидели Землю.
Но мы старели и слабели. Жизнь угасала в наших телах. Только сердца жили , как и прежде. Они работали.
Война расширялась.
Мясные машины страны Порядка продвинулись на восток, к двум главным городам страны Льда. Они осадили эти города. Так же мясные машины страны Порядка проникли на юг и на запад. Новые страны втягивались в эту войну. Постепенно их стало 47. Миллионы мясных машин, сев в железные машины, внедрялись во вражеские страны, плевали горячим металлом из широких труб, убивали мясных машин, говорящих на других языках, разрушали их города.
В сражениях и битвах, в разрушенных городах и деревнях гибли миллионы мясных машин. Вместе с ними гибли и не найденные нами братья и сестры. Мы с Фер чувствовали их гибель. И торопили Братство. В горах мы становились Малым Кругом, закрывали глаза, говорили на языке Света. Молодые братья и сестры учились у нас. Мы с Фер были счастливы отдать им все, что могли и умели. Наши высохшие руки трогали их лица. Наши сердца торкали их сердца: надо спешить! Мы показывали — где искать и кого. Рты наши раскрывались, мы шептали на языке Земли имена новообретенных. Их искали. Но не всех новообретенных успевали найти и разбудить. Не все дожидались спасительного удара ледяного молота. Многие терялись в хаосе войны. Многие гибли в городах и сражениях. Сердца их умирали, не проснувшись.
Война растянулась на несколько лет. Мясные машины страны Льда, накопив силы, изготовив много железных машин и труб, плюющихся горячим металлом, стали теснить мясных машин страны Порядка. Сопротивляясь, те стали отступать. Постепенно они отступили к своим пределам. В войну вступила большая и могущественная страна, отделенная океаном. В войне она была заодно со страной Льда. Живущие в ней мясные машины называли ее страной Свободы, так как в ней не было единовластного правителя, как в странах Льда и Порядка. Тысячи мясных машин страны Свободы сели в плавучие и летающие машины и достигли берегов стран, порабощенных страной Порядка. Мясные машины страны Свободы стали плевать горячим металлом из своих мощных железных труб в мясных машин страны Порядка и сбрасывать железные яйца на их города. Мясные машины стран Порядка яростно сопротивлялись, но вскоре стали отступать под натиском приплывших из-за океана мясных машин.
Братству стало ясно, что война закончится победой стран Льда и Свободы над страной Порядка. Но также мы поняли, что вождь страны Порядка осуществит свою главную страсть мучительной потери власти. И при осуществлении этой страсти он постарается погубить как можно больше мясных машин. Нам нужно было успеть найти новых наших и уберечь от гибели найденных ранее. Вождь страны Порядка и его помощники организовали несколько тайных мест для уничтожения мясных машин. Они считали этих мясных машин чуждыми идее Порядка. По убеждению вождя, эти мясные машины своим существованием мешали установлению полного порядка в его стране. Хотя ни внешне, ни внутренне эти мясные машины не отличались от остальных мясных машин страны Порядка. Они делали то же самое, что и все мясные машины: работали, рожали, воевали, строили, старели и умирали. Они не были врагами страны Порядка, как мясные машины страны Льда или Свободы. Их отличало только то, что их предки не жили в стране Порядка. Эти мясные машины пришли в страну Порядка с востока. Поэтому вождь и его помощники считали их чужаками. Братство сразу заинтересовалось местами уничтожения мясных машин. Мы использовали эти огороженные и сильно охраняемые места для поиска наших. Братья, носящие одежду военных мясных машин, сумели устроить так, что голубоглазых и светловолосых мясных машин не уничтожали, а содержали в большом деревянном сарае. Когда их накапливалось достаточно, их вывозили в тайное место, где мы с Фер просматривали их. Это произошло трижды. Мы нашли 48 братьев и 29 сестер. Но к концу войны уничтожение мясных машин стало нарастать. Особенно много их уничтожали в одном месте, находящемся в стране, захваченной страной Порядка. В этом месте скопилось много отобранных для нас голубоглазых и светловолосых мясных машин. Их собирались вывозить, но страна Льда усилила свое наступление, и Братство узнало, что вывезти отобранных уже невозможно. Их должны были уничтожить, как и других. Нужно было срочно отправляться в это место и просматривать отобранных там. Братья, использующие военных мясных машин, поехали в это место. Нас уложили в наши ящики и взяли с собой. Сначала мы ехали в железной машине по обычной дороге, потом братья пересели в длинную железную машину, которая повезла нас по железной колее. Место, куда мы направлялись, было довольно большим. Оно находилось в поле и было огорожено железными веревками с шипами. Его охраняли мясные машины с железными трубками, плюющимися горячим металлом. Это делалось для того, чтобы подготовленные к уничтожению мясные машины не разбежались. Наша длинная железная машина въехала в это место. И за ней сразу заперли ворота. Когда братья вынесли нас с Фер из машины и спустили на землю, мы сразу почувствовали видящее сердце. Одно из двух, которых мы искали взамен себе. Оно билось где-то рядом. Мы радостно заволновались в своих ящиках. Место, где мы оказались, клубилось тысячами жизней. Собранные из нескольких стран, мясные машины находились в деревянных сараях. И ждали уничтожения. В этом месте было пять больших печей. Возле каждой печи находилась каменная пещера. В нее заводили уничтожаемых мясных машин. Им говорили, что это баня, где они будут мыться. Мясные машины раздевались. Но вместо воды на них тек ядовитый воздух, созданный умными мясными машинами для умерщвления других мясных машин. Этот ядовитый воздух удушал мясных машин. Когда они все умирали, каменную пещеру открывали и проветривали. Затем другие мясные машины бросали тела удушенных мясных машин в печи. В печах тела сгорали и превращались в пепел. Который лежал толстым слоем повсюду в этом месте. Большинство мясных машин, ожидающих уничтожения, знали, что в каменных пещерах их ожидает не баня, а ядовитый воздух. Но они покорно ждали смерти. Хотя их было гораздо больше охраны, мясные машины не пытались объединиться и напасть на уничтожающих их мясных машин. Они ожидали своей участи. Многие надеялись, что выживут. Мы слышали клубящийся гул их жизней. И различали в нем наших. Братья долго говорили с главной в этом месте мясной машиной, руководящей уничтожением мясных машин. Главная мясная машина долго не хотела отдавать нам отобранных голубоглазых и светловолосых мясных машин. У нее было много вопросов к приехавшим братьям. Тогда братья дали ей несколько камней, очень дорогих в мире мясных машин. И главная мясная машина этого места разрешила нам взять отобранных. Они находились в двух больших сараях. Охрана скомандовала им, и они пошли из сараев к нашей длинной железной машине. Многие из них были очень истощены от недоедания и передвигались медленно. С ними вместе передвигалось и видящее, непробужденное сердце. Мы с Фер поняли, что оно среди отобранных. Когда они все сели на длинную железную машину, их заперли. И наша длинная железная машина выехала из места для уничтожения мясных машин. Мы с Фер трепетали : сердца наши почувствовали много наших среди этих мясных машин. И чувствовали видящее сердце. Мы стали торопить братьев. Машина проехала по железному пути четверть дня, и ее остановили на краю леса. Там был большой овраг. Братья приказали мясным машинам выйти из длинной машины и собраться в овраге. Мясные машины покорно исполнили приказание. Они вошли в овраг и встали в нем. Братья приказали им сесть. Мясные машины сели не землю. Братья вынесли нас с Фер из поезда, поставили ящики на край оврага, открыли и вынули нас из ящиков. Нас посадили на край оврага. Мы стали просматривать мясных машин. Они молча смотрели на нас. Их совсем не пугал наш вид, потому что они сами были очень худыми. Но они не понимали, что мы делаем. Мы стали находить наших. Братья сразу выводили их из оврага и сажали в длинную машину. Мы почти сразу нашли видящее сердце. Им обладал брат. Его посадили в машину. Мы нашли 17 братьев и 30 сестер. Всех их посадили в длинную машину и заперли. Когда поиск окончился, братья взяли нас на руки и отнесли в длинную железную машину. Братья, использующие одежду военных мясных машин и охранявшие мясных машин в овраге, тоже сели в длинную железную машину. Машина медленно поехала. Мясные машины, оставшиеся в овраге, смотрели. Они не понимали, почему мы уезжаем. Они были уверены, что мы собрали их в овраге, чтобы уничтожить из трубок, плюющихся горячим металлом. А мы поехали дальше с новообретенными. В пути братья достали припасенные ледяные молоты и приготовились простучать найденных. Мы с Фер указали на брата с видящим сердцем. Мы жаждали, чтобы он проснулся первым. Он был худым, с молодым и изможденным лицом. Ему было 23 года. Когда братья раздели его и стали привязывать к стене, он совершенно не сопротивлялся. Только молился. И сжимал в правой руке кусок скомканной серой бумаги. Мы с Фер увидели его жизнь и поняли, что это за бумага. Когда его везли в место для уничтожения, ему передала эту бумагу одна мясная машина. Она знала много молитв, и к ней в прежней мирной жизни приходили мясные машины, чтобы она подсказала им, как правильно жить. Передавая ему скомканную бумагу, мясная машина сказала, что эта бумага – он сам. И от него зависит, какой он будет – скомканный или расправленный. И каждую ночь в месте для уничтожения он расправлял эту бумагу на ладони. А утром скомкивал. Привязанный к стене, он сжимал в кулаке эту бумагу. Как только ледяной молот ударил в его худую грудь, скомканная бумага выпала из его руки. А видящее сердце заговорило:
– Уб! Уб! Уб!
И мы с Фер поняли, что Уб – один из двух наших преемников. Он сможет видеть мир так же, как и мы. Сможет в паре с еще одним видящим сердцем. Мы найдем и это сердце. Война кончится, мясные машины станут восстанавливать разрушенное и рожать детей. Братство укрепится в этом мире еще прочней. Наши смертельно уставшие тела умрут, сердца остановятся, Свет покинет их. Но сердца Уб и его напарника будут биться и искать. Они найдут ВСЕХ. И обретенные встанут в Большой Круг и произнесут сердцем 23 слова. И воссияет Свет. И исчезнет Земля. И остановится Время. И пребудет Вечность.
Но нужно было продолжать жить настоящим.
Братья отцепили от длинной железной машины пустые части. Без них она стала короче, но братья и новообретенные помещались в ней. Машина поехала быстрее. Нужно было как можно скорее доставить новообретенных в укромное место, где им оказали бы помощь. Многие из них от постоянного голода не могли даже стоять. Но никто не умер от удара ледяного молота: проснувшиеся сердца помогали им. Мы с Фер сидели возле Уб. Он был в забытьи и слабо дышал. Мы держали его руки. Они были почти такие же худые, как и наши. Мы трогали его лицо. Мы берегли его сердце.
После заката солнца железная машина повернула на север. Нам нужно было отвезти найденных в условное место, где их ждали братья. К утру мы достигли этого места. Это было место, где останавливались железные машины, ездящие по железным путям. Их там стояло много. В пути новообретенных переодели в обычную одежду. Когда наша машина стала останавливаться, нас с Фер снова стали укладывать в ящики. Мы с трудом отпустили руки Уб. Машина остановилась. Но что-то двигалось над ней. Высоко. В небе.
Мы с Фер вскрикнули в наших ящиках: сердца увидели четыре летающие машины вверху. Летающие машины открыли свои животы. И сбросили вниз большие железные яйца, набитые яростным веществом. Железные яйца полетели сверху. Их было сорок. Мы увидели их над нами. И поняли, что кто-то из нас погибнет. Железные яйца стали падать. Как только они ударялись о землю, яростное вещество разрывало их. А вместе с ними – все вокруг. Скорлупа железных яиц разлеталась с силой во все стороны. Три железных яйца взорвались рядом с нашей машиной. Скорлупа железных яиц пробила стены нашей машины и прошла сквозь тела 18 братьев и 12 сестер. Скорлупа железных яиц прошла сквозь голову брата Уб. Скорлупа железных яиц прошла сквозь ящик Фер.
Она прошла через тело Фер.
Через сердце Фер.
И сердце Фер остановилось.
Время
Время Земли разноцветно. Каждый предмет, каждое живое существо живет в своем времени. В своем цвете. Время камней и гор темно-багровое. Время песка пурпурное. Время чернозема оранжевое. Время рек и озер абрикосовое. Время деревьев и травы серое. Время насекомых коричневое. Время рыб изумрудное. Время хладнокровных животных оливковое. Время теплокровных животных голубое. Время мясных машин фиолетовое.
И только у нас, братьев Света, нет своего цвета земного. Мы бесцветны, пока в сердцах пребывает Свет Изначальный. Ибо Он – наше время. И в этом времени живем мы. Когда останавливаются сердца наши и Свет покидает их, мы обретаем цвет. Фиолетовый. Но совсем ненадолго: как только тело остывает, время его становится темно-желтым. Время трупов живых существ на Земле темно-желтое.
Сестра Храм
Семь лет минуло после гибели Фер.
Руки мои двигаются медленно. Пальцы с трудом шевелятся. Они редко прикасаются к вещам. К вещам Земли. К недолговечным вещам. Которые гниют и распадаются. Братья и сестры любят мои руки. Потому что знают их. Они кладут их на свои лица. И замирают. А я оберегаю моих братьев и сестер.
Глаза мои перестали видеть мир вещей. Тьма мира Земли стоит передо мной. Но сердце мое видит. Сердце мое знает многое.
Война мясных машин окончилась. Страна Льда и Свободы победили. Страна Порядка проиграла. Ее мясные машины клубились устало и отчаянно. Они убивали и погибали. Вождь исполнил мучительно желание своей жизни: он героически проиграл великую войну. Забравшись глубоко в землю, он убил себя металлом из железной трубки. Победившие мясные машины судили помощников вождя. Их подвесили за шеи на веревках, чтобы они не могли дышать. И помощники вождя задохнулись. Победившие мясные машины принялись восстанавливать разрушенное. На месте сожженных городов они возвели новые. Мясные машины рожают мясных машин. Новорожденные мясные машины растут. И заселяют новые города.
Я вижу это.
Вместо разбитых железных машин строятся более мощные. Тысячи новых труб, плюющихся металлом, создаются ежедневно. Миллионы железных яиц, разрушающих города, снова ждут своего часа.
Я вижу это.
В конце войны мясные машины создали мощнейшее яростное вещество, которого не было раньше. Взрываясь, это вещество могло уничтожать целые города. Его создавали самые умные мясные машины. Этим веществом набили два больших железных яйца и сбросили их на два города. Взорвавшись, яйца уничтожили оба города. В этих городах сразу погибли 223 418 мясных машин. Но среди них не было наших. Наши погибали в других местах.
И я видел это.
За четыре года войны Братство потеряло 49 братьев и 70 сестер. Они погибли в разных странах. От горячего металла, при крушении железных машин, в горящих городах, от болезней и ран.
Потери не обескровили нас. Основа Братства была заложена до войны. Она была правильно заложена. И осталась крепкой.
После войны Братство укрепилось в шести странах. Мы прочно стояли в мире мясных машин. Нам принадлежали каменные пещеры, сложные машины, дорогостоящие предметы. Мы владели местами, где производились вещи, без которых мясные машины не могли обойтись: одежда, обувь, предметы для каменных пещер.
У Братства стало много денег. Это помогало искать.
Но главная трудность осталась: после гибели Фер Братство лишилось Всевидящего Ока. Один я не мог различать наших в толпе. Мое сердце не справлялось. Оно захлебывалось гулом толпы. Я лишь чувствовал наших. Я мог только направлять поиск.
Моему сердцу не хватало сердца Фер. Вместе с Фер погиб и Уб, наша надежда. Мой ящик больше не понадобился Братству. Его сожгли.
Я живу.
И пока я живу, я знаю, где искать.
Как могу, я направляю братьев. Но все равно – пока они ищут вслепую. Похищая голубоглазых и светловолосых, они простукивают каждого ледяным молотом. Это сложно и трудоемко. Но выхода нет. И мы ищем.
После войны для простукивания потребовалось много Льда.
Лед лежал в стране Льда.
Его нужно было доставлять в страны, где обосновалось Братство. Где велся поиск. Братья занялись доставкой Льда. Они сумели устроить так, что мясные машины стали добывать Лед. Рядом с местом, где он лежал, было создано поселение мясных машин, провинившихся перед законом страны Льда. За это их обычно заставляли валить деревья и добывать из земли редкие металлы. Но братья сумели заставить власти страны Льда поверить, что Лед необходим для укрепления могущества этой страны. Умные мясные машины помогли нам в этом. Лед стали добывать и доставлять в главный город этой страны. Оттуда Братство тайно переправляло его в нужные страны. Братья распиливали его на сотни кусков. И изготовляли сотни ледяных молотов.
Поиск велся.
За земной год мы находили не более пятидесяти наших. Многие сотни голубоглазых и светловолосых мясных машин гибли под ударами ледяных молотов. Братьям приходилось простукивать всех похищенных. Это был очень медленный поиск по сравнению с прежним, когда мы с Фер за один день находили десятки братьев. Когда раздвигали клубящуюся толпу. Когда проходили сквозь ее гул. Когда увидели в ней сразу 47 наших, в том самом овраге. Когда братья, не успевая принимать новообретенных, отдавали им свою одежду. Когда мы с Фер падали от сердечной усталости. И из наших ртов текла желчь. А из ушей – кровь. Но мы стонали от счастья.
Собравшись в горах Большим Кругом, мы спрашивали наши сердца, спрашивали Свет: есть ли надежда на возвращение к прежнему поиску? Есть ли надежда быстро обрести всех 23 000? Есть ли надежда через несколько десятков земных лет встать всем в Главном Круге? И произнести 23 сердечных слова? И снова стать Светом Изначальным?
Надежда была.
Вернее – половина надежды.
Братья принесли ее на руках зимней ночью.
Это произошло в конце войны, через полгода после гибели Фер. Ее нашли среди мясных машин, угнанных из страны Льда в страну Порядка. Их собирались использовать как рабочую силу. Братья искали в подобных местах. Ее сердце назвало имя:
– Храм!
И я услышал. Хотя и был в горах, далеко от нее. Имя ее отозвалось во мне. Я почувствовал видящее сердце. Храм была половиной. Другой половиной был Уб, погибший вместе с Фер. Если бы кусок скорлупы железного яйца не прошел через голову Уб, они с Храм стали бы парой видящих. Стали бы Оком Братства. Таким же, каким были мы с Фер. И быстрый поиск продолжился бы. И мы нашли бы ВСЕХ.
Но Земля отняла у нас Фер и Уб.
А Свет подарил нам Храм.
Ее внесли на руках в нашу каменную пещеру. Храм была еще слаба. Сердце ее проснулось совсем недавно. Храм смотрела на нас только глазами. Я же видел ее сердцем. Я знал, кого вносят в пещеру. И многие находящиеся в пещере знали это. Храм поставили на камень посреди пещеры. И мы, братья и сестры, бережно приветствовали ее сердце. Видящее сердце. И поклонились ей. Чтобы она поняла, кто она для Братства.
Потом она плакала сердцем.
Сердце ее было готово ко всему. Мудрость и Сила Света пели в нем.
И я успокоился. Впервые после гибели Фер и Уб.
Если Свет послал нам Храм, значит, он пошлет и еще одно видящее сердце. Оно придет. Надо просто ждать. Искать. И готовить Храм к Последнему Поиску.
Она поселилась у нас в горах. Я берег ее молодое сердце. Осторожно говорил с ним. Бережно трогал. В Малом Круге мы поддерживали Храм. Ее сердце крепло с каждым днем. И через 94 ночи в Малом Круге мы произнесли с ней все 23 слова. Она стояла с нами на снегу. С двадцатью двумя мудрыми сердцем. Мы произносили слова. И слова Света сияли в наших сердцах. И сердце Храм сияло вместе с нами. Оно было сильным. Оно могло многое.
Мы поддерживали Храм.
Она шла по стопам Фер. Я сделал ее путь более простым. Потому что я знал Фер. Я помогал Храм.
Пришло время, когда мы встали Большим Кругом. На холме лунной ночью, мы, 230 братьев и сестер, стояли, взявшись за руки. И Храм стояла с нами. Мир Земли спал. Но не спали наши сердца. Большому Кругу открылось многое. Мы понимали то, что было скрыто. Что не могло открыться каждому отдельно.
Мы поняли, куда нужно направиться. Куда должно стремиться Братство.
И для Храм наступил важный день.
Это произошло 6 июля 1950 года по времени мясных машин. В маленькой северной стране, где обосновалось Братство. В тот день Храм проснулась, как и другие братья и сестры, с восходом солнца. Она говорила сердцем с нами. И это был мой последний сердечный разговор с ней. Братья поднесли меня к ней. Своими слабыми руками я взял ее молодые и сильные руки. Братство Света окружало нас.
Я заговорил :
– Храм, сегодня тебе предстоит покинуть наше Братство. Ты овладела языком сердца. Ты познала все 23 сердечных слова. Ты готова к подвигу во имя Света. Ты отправишься на восток, в страну, где лежит Лед. И будешь искать братьев и сестер. Будить их сердца. И отнимать их у мясных машин. В стране Льда остались только трое наших : сестра Юс, братья Ха и Адр. Они ждут нашей помощи. И твоей.
Я не говорил с ней о главном. Она знала это и без меня. Ведала то, что открылось всем в Большом Круге: ей предстоит найти свою половину. Которая поможет завершить поиск. Половину, которую ждали мы все. Стоя в Большом Круге, мы ведали, что Лед должен притянуть эту половину. Но в каких краях огромной страны Льда искать второе видящее сердце, не знали мы.
Храм понимала это.
Слабеющими пальцами я сжал ее руки.
Она бережно сжала мои.
Сердца наши вспыхнули, прощаясь. Чтобы встретиться потом. Навсегда. В Главном и Последнем Круге. Чтобы стать Светом.
Пальцы Храм разжались. И оставили мои дрожащие руки. Храм стала отдаляться от меня. Она преодолевала пространство. Она превозмогала время. Она стремилась на восток. Туда, где лежал Лед. Где ждали братья. Где ждало второе видящее сердце.
Я провожаю Храм.
Сердце мое замирает.
Сердце слабеет.
Сердце останавливается.
Сердце сделало свое дело.
И Свет покидает его.
Лед
Часть первая
Брат Урал
23.42.
Подмосковье. Мытищи. Силикатная ул., д. 4, стр. 2
Здание нового склада «Мособлтелефонтреста».
Темно-синий внедорожник «Линкольн-навигатор». Въехал внутрь здания. Остановился. Фары высветили: бетонный пол, кирпичные стены, ящики с трансформаторами, катушки с подземным кабелем, дизель-компрессор, мешки с цементом, бочку с битумом, сломанные носилки, три пакета из-под молока, лом, окурки, дохлую крысу, две кучи засохшего кала.
Горбовец налег на ворота. Потянул. Стальные створы сошлись. Лязгнули. Он запер их на задвижку. Сплюнул. Пошел к машине.
Уранов и Рутман вылезли из кабины. Открыли дверь багажника. На полу внедорожника лежали двое мужчин в наручниках. С залепленными ртами.
Подошел Горбовец.
– Здесь где-то свет врубается. – Уранов достал моток веревки.
– Разве так не видно? – Рутман стянула перчатки.
– Не очень. – Уранов сощурился.
– Милой, главное дело, шоб слышно было! – Горбовец улыбнулся.
– Акустика здесь хорошая. – Уранов устало потер лицо. – Давайте.
Они вытащили пленников из машины. Подвели к двум стальным колоннам. Основательно привязали веревками. Встали вокруг. Молча уставились на привязанных.
Свет фар освещал людей. Все пятеро были блондинами с голубыми глазами.
Уранов: 30 лет, высокий, узкоплечий, лицо худощавое, умное, бежевый плащ.
Рутман: 21 год, среднего роста, худая, плоскогрудая, гибкая, лицо бледное, непримечательное, темно-синяя куртка, черные кожаные штаны.
Горбовец: 54 года, бородатый, невысокий, коренастый, жилистые крестьянские руки, грудь колесом, грубое лицо, темно-желтая дубленка.
Привязанные:
1-й — лет под пятьдесят, полный, холеный, румяный, в дорогом костюме;
2-й — молодой, тщедушный, горбоносый, прыщавый, в черных джинсах и кожаной куртке.
Рты их были залеплены полупрозрачной клейкой лентой.
– Давайте с этого. – Уранов кивнул на полного.
Рутман достала из машины продолговатый металлический кофр. Поставила на бетонный пол перед Урановым. Расстегнула металлические замки. Кофр оказался мини-холодильником.
В нем лежали валетом два ледяных молота: цилиндрической формы ледяные головки, длинные неровные деревянные рукояти, притянутые к головкам ремешками из сыромятной кожи. Иней покрывал рукояти.
Уранов надел перчатки. Взял молот. Шагнул к привязанному. Горбовец расстегнул на груди толстяка пиджак. Снял с него галстук. Рванул рубашку. Посыпались пуговицы. Обнажилась пухлая белая грудь с маленькими сосками и золотым крестиком на цепочке. Заскорузлые пальцы Горбовца схватили крестик, сдернули. Толстяк замычал. Стал делать знаки глазами. Заворочал головой.
– Отзовись! – громко произнес Уранов.
Размахнулся и ударил молотом ему в середину груди.
Толстяк замычал сильнее.
Трое замерли и прислушались.
– Отзовись! – после паузы произнес снова Уранов. И опять хлестко ударил. Толстяк нутряно зарычал. Трое замерли. Вслушивались.
– Отзовись! – Уранов ударил сильнее.
Мужчина рычал и мычал. Тело тряслось. На груди проступили три круглых кровоподтека.
– Дай-кось я уебу. – Горбовец забрал молот. Поплевал на руки. Размахнулся.
– Отзовися! – Молот с сочно-глухим звуком обрушился на грудь. Посыпалась ледяная крошка.
И снова трое замерли. Прислушались. Толстяк мычал и дергался. Лицо его побледнело. Грудь вспотела и побагровела.
– Орса? Орус?
Рутман неуверенно тронула свои губы.
– Это утроба икает. – Горбовец качнул головой.
– Низ, низ. – Уранов согласно кивнул. – Пустой.
– Отзовися! – проревел Горбовец и ударил. Тело мужчины дернулось. Бессильно повисло на веревках.
Они придвинулись совсем близко. Повернули уши к багровой груди. Внимательно послушали.
– Утробой рычет… – Горбовец сокрушенно выдохнул. Размахнулся.
– Отзо-вися!
– Отзо-вися!
– Отзо-вися!
– Отзо-вися!
Бил. Бил. Бил. От молота полетели куски льда. Треснули кости. Из носа толстяка закапала кровь.
– Пустой. – Уранов выпрямился.
– Пустой… – Рутман закусила губу.
– Пустой, мать его… – Горбовец оперся на молот. Тяжело дышал. – Ох… родимая мамушка… сколько ж вас, пустозвонов, понастругали…
– Полоса такая, – вздохнула Рутман.
Горбовец со всего маха стукнул молотом по полу. Ледяная головка раскололась. Лед разлетелся в стороны.
Болтались разорванные ремешки. Горбовец бросил рукоять в холодильник. Взял другой молот. Передал Уранову.
Уранов стер иней с рукояти. Угрюмо вперился в бездыханное тело толстяка. Перевел тяжелый взгляд на второго. Две пары голубых глаз встретились. Привязанный забился и завыл.
– Не полошись, милой. – Горбовец стер со щеки кровяные брызги. Зажал ноздрю. Наклонился. Высморкался на пол. Вытер руку о дубленку. – Слышь, Ирэ, шашнадцатаво стучим, и опять пустышка! Што ж это за пирамидон такой? Шашнадцатый! И – пустозвон.
– Хоть сто шестнадцатый. – Уранов расстегнул куртку на привязанном парне. Парень заскулил. Его худосочные коленки тряслись.
Рутман стала помогать Уранову. Они разорвали на груди парня черную майку с красной надписью . Под майкой дрожала белая костистая грудь в многочисленных крапинках веснушек.
Уранов подумал. Протянул молот Горбовцу:
– Ром, давай ты. Мне уже давно не везет.
– Ага… – Горбовец поплевал на ладони. Взялся. Замахнулся.
– Отзовися!
Ледяной цилиндр со свистом врезался в тщедушную грудину. Тело привязанного дернулось от удара. Трое прислушались. Узкие ноздри парня затрепетали. Из них вырвались всхлипы. Горбовец сокрушенно покачал косматой головой. Медленно отвел назад молот.
– Отзо-вися!
Свист рассекаемого воздуха. Звучный удар. Брызги ледяной крошки. Слабеющие стоны.
– Что-то… что-то… – Рутман прислушивалась к посиневшей груди.
– Верх, просто верх… – Уранов отрицательно качал головой.
– Чивоито… и не знаю… али в глотке? – Горбовец чесал рыжеватую бороду.
– Ром, еще, но поточнее, – скомандовал Уранов.
– Куды уж точней… – Горбовец размахнулся. – Отзо-вися!
Грудина треснула. Лед посыпался на пол. Из-под прорванной кожи скупо брызнула кровь. Парень бессильно повис на веревках. Голубые глаза закатились. Черные ресницы затрепетали.
Трое слушали. В груди парня раздалось слабое прерывистое ворчание.
– Есть! – дернулся Уранов.
– Господи, воля твоя! – Горбовец отбросил молот.
– Так и думала! – Рутман радостно засмеялась. Дула на пальцы.
Трое приникли к груди парня.
– Говори сердцем! Говори сердцем! Говори сердцем! – громко произнес Уранов.
– Говори, говори, говори, милой, – забормотал Горбовец.
– Говори сердцем, сердцем говори, сердцем… – радостно прошептала Рутман.
В окровавленной посиневшей груди возникал и пропадал странный слабый звук.
– Назови имя! Назови имя! Назови имя! – повторял Уранов.
– Имя, милой, имя скажи, имя! – Горбовец гладил русые волосы парня.
– Имя свое, имя назови, назови имя, имя, имя… – шептала Рутман в бледно-розовый сосок.
Они замерли. Оцепенели. Вслушивались.
– Урал, – произнес Уранов.
– Ур… Ура… Урал! – Горбовец дернул себя за бороду.
– Урррааал… ураааал… – Рутман радостно прикрыла веки.
Счастливая суета охватила их.
– Быстро, быстро! – Уранов вынул грубой работы нож с деревянной ручкой.
Перерезали веревки. Содрали пластырь со рта. Положили парня на бетонный пол. Рутман притащила аптечку. Достала нашатырь. Поднесла. Уранов положил на побитую грудь мокрое полотенце. Горбовец подхватил парня под спину. Осторожно встряхнул:
– Ну-ка, милой, ну-ка, маленькой…
Парень дернулся всем хилым телом. Ботинки на толстой подошве заерзали по полу. Он открыл глаза. Тяжело вдохнул. Выпустил газы. Захныкал.
– Вот и ладно. Поперди, маленькой, поперди… – Горбовец рывком поднял его с пола. На кривых и крепких ногах понес к машине.
Уранов поднял молот. Разбил лед об пол. Рукоять кинул в холодильник. Закрыл. Понес.
Парня посадили сзади. Горбовец и Рутман сели по бокам. Поддерживали. Уранов открыл ворота. Выехал в промозглую темноту. Вылез. Запер ворота. Сел за руль. Погнал машину по неширокой и не очень ровной дороге.
Фары высвечивали обочину с остатками грязного снега. Светящийся циферблат показывал 00.20.
– Твое имя – Юрий? – Уранов глянул на парня в верхнее зеркало.
– Ю…рий… Лапин… – тот с трудом выдохнул.
– Запомни, твое истинное имя – Урал. Твое сердце назвало это имя. До сегодняшнего дня ты не жил, существовал. Теперь ты будешь жить. Ты получишь все, что захочешь. И у тебя будет великая цель в жизни. Сколько тебе лет?
– Двадцать…
– Все эти двадцать лет ты спал. Теперь ты проснулся. Мы, твои братья, разбудили твое сердце. Я Ирэ.
– Я Ром. – Горбовец гладил щеку парня.
– А я Охам. – Рутман подмигнула. Отвела прядь с потного лба Лапина.
– Мы отвезем тебя в клинику, где тебе окажут помощь и где ты сможешь прийти в себя.
Парень затравленно покосился на Рутман. Потом на бородатого Горбовца:
– А… я… а когда я… когда… мне надо…
– Не задавай вопросов, – перебил Уранов. – Ты потрясен. И должен привыкнуть.
– Ты ищо слабой. – Горбовец гладил его голову. – Отлежисси, тогда и потолкуем.
– Тогда все узнаешь. Болит? – Рутман осторожно прикладывала мокрое полотенце к круглым кровоподтекам.
– Бо…лит… – Парень всхлипнул. Закрыл глаза.
– Наконец-то полотенце пригодилось. А то мочу-мочу перед каждым стуком. А после пустышка. И – отжимай воду! – Рутман рассмеялась. Осторожно обняла Лапина. – Слушай… ну это кайф, что ты наш. Я так рада…
Внедорожник закачался на ухабах. Парень вскрикнул.
– Полегшей… не гони… – Горбовец теребил бороду.
– Очень больно, Урал? – Рутман с удовольствием произнесла новое имя.
– Очень… А-а-а-а! – Парень стонал и вскрикивал.
– Все, все. Сейчас трясти не будет. – Уранов рулил. Осторожно. Машина выползла на Ярославское шоссе. Повернула. Понеслась к Москве.
– Ты студент, – произнесла Рутман утвердительно, – МГУ, журфак.
Парень промычал в ответ.
– Я тоже училась. В педе на экономическом.
– Никак ты тово, паря… – Горбовец улыбнулся. Потянул носом. – Обделалси! Спужался, маленькой!
От Лапина слегка попахивало калом.
– Это вполне нормально. – Уранов щурился на дорогу.
– Когда меня стучали, я тоже коричневого творожку произвела. – Рутман в упор разглядывала худощавое лицо парня. – Да и кипяточку подпустила классно так, по-тихому. А ты… – она потрогала его между ног, – спереди сухой. Ты не армянин?
Парень мотнул головой.
– С Кавказа есть чего-то? – Она провела пальцем по горбатому носу Лапина.
Он снова мотнул головой. Лицо его бледнело сильней. Покрывалось потом.
– А с Прибалтики – нет? Нос у тебя красивый.
– Не приставай, коза, ему сичас не до носа, – проворчал Горбовец.
– Охам, набери клинику, – приказал Уранов.
Рутман достала мобильный, набрала:
– Это мы. У нас брат. Двадцать. Да. Да. Сколько? Ну, минут…
– Двадцать пять, – подсказал Уранов.
– Через полчаса будем. Да.
Она убрала мобильный.
Лапин склонил голову на ее плечо. Закрыл глаза. Провалился в забытье.
Подъехали к клинике:
Новолужнецкий пр., д. 7.
Остановились у проходной. Уранов показал пропуск. Подъехали к трехэтажному зданию. За стеклянными дверями стояли два дюжих санитара в голубых халатах.
Уранов открыл дверь машины. Санитары подбежали. Подвезли коляску-кровать. Стали вытаскивать Лапина. Он очнулся и слабо вскрикнул. Его положили на коляску. Притянули ремнями. Ввезли в дверь клиники.
Рутман и Горбовец остались возле машины. Уранов двинулся за коляской.
В приемной палате их ждал врач: полноватый, сутулый, густые волосы с проседью, золотые очки, тщательно подстриженная бородка, голубой халат.
Он стоял у стены. Курил. Держал пепельницу.
Санитары подвезли к нему коляску.
– Как обычно? – спросил врач.
– Да. – Уранов посмотрел на его бороду.
– Осложнения?
– Там, кажется, грудина треснула.
– Как давно? – Врач снял с груди Лапина полотенце.
– Минут… сорок назад.
Вбежала ассистентка: среднего роста, каштановые волосы, серьезное скуластое лицо:
– Простите, Семен Ильич.
– Так… – Врач загасил окурок. Поставил пепельницу на подоконник. Склонился над Лапиным. Коснулся распухшей фиолетовой грудины. – Значит, сперва: наш коктейль в тумане светит. Потом на рентген. А после ко мне.
Он резко повернулся и двинулся к двери.
– Мне остаться? – спросил Уранов.
– Незачем. Утром. – Врач вышел.
Ассистентка распечатала шприц. Насадила иглу. Преломила две ампулы и набрала из них шприцем.
Уранов провел рукой по щеке Лапина. Тот открыл глаза. Поднял голову. Оглянулся. Кашлянул. И рванулся с коляски.
Санитары кинулись на него.
– Не-е-е-е! Не-е-е-е! Н-е-е-е-е!! – хрипло закричал он.
Его прижали к коляске. Стали раздевать. Запахло свежим калом. Уранов выдохнул.
Лапин хрипел и плакал.
Санитар перетянул худое предплечье Лапина жгутом. Ассистентка склонилась со шприцем:
– Страдать не нужно…
– Я хочу домо-о-о-ой позвонить… – захныкал Лапин.
– Ты уже дома, брат, – улыбнулся ему Уранов.
Игла вошла в вену.
Мэр
Лапин очнулся к трем часам дня. Он лежал в небольшой одноместной палате. Белый потолок. Белые стены. Полупрозрачные белые занавески на окне. На белом столике с гнутыми ножками ваза с веткой белых лилий. Невключенный белый вентилятор.
У окна на белом стуле сидела медсестра : 24 года, стройная, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза, большие очки в серебристой оправе, короткий белый халат, красивые ноги.
Медсестра читала журнал «ОМ».
Лапин скосил глаза на свою грудь. Ее стягивала белая эластичная повязка. Гладкая. Под ней виднелся бинт.
Лапин вынул руку из-под одеяла. Потрогал повязку.
Сестра заметила. Положила журнал на подоконник. Встала. Подошла к нему.
– Добрый день, Урал.
Она была высокой. Голубые глаза внимательно смотрели сквозь очки. Полные губы улыбались.
– Я Харо, – произнесла она.
– Что? – Лапин разлепил потрескавшиеся губы.
– Я Харо. – Она осторожно присела на край кровати. – Как ты себя чувствуешь? Голова не кружится?
Лапин посмотрел на ее волосы. И все вспомнил.
– А… я еще здесь? – хрипло спросил он.
– Ты в клинике. – Она взяла его руку. Прижала свои теплые мягкие пальцы к запястью. Стала слушать пульс.
Лапин осторожно втянул в грудь воздух. Выдохнул. В грудине слабо и тупо ныло. Но боли не было. Он сглотнул слюну. Поморщился. Горло саднило. Глотать было больно.
– Хочешь пить?
– Немного.
– Сок, вода?
– Оранж… то есть… апельсиновый. Есть?
– Конечно.
Она протянула руку над Лапиным. Белоснежный халат зашуршал. Лапин почувствовал запах ее духов. Посмотрел на открытый ворот халата. Гладкая красивая шея. Родинка над ключицей. Золотая тонкая цепочка.
Он перевел глаза вправо. Там стоял узкий стол с напитками. Она наполнила стакан желтым соком. Обернула салфеткой. Поднесла Лапину.
Он заворочался.
Левой рукой медсестра помогла ему сесть. Голова его коснулась белой спинки кровати. Он взял из ее руки стакан. Отпил.
– Тебе не прохладно? – Она улыбалась. Смотрела в упор.
– Да нет… А который час?
– Три. – Медсестра глянула на свои узкие часы.
– Мне надо домой позвонить.
– Конечно.
Она вынула из кармана мобильный:
– Попей. Потом позвонишь.
Лапин жадно выпил полстакана. Выдохнул. Облизал губы.
– У тебя сейчас жажда.
– Это точно. А вы…
– Говори мне «ты».
– А ты… здесь давно?
– В смысле?
– Ну, работаешь?
– Второй год.
– А ты кто?
– Я? – Она шире улыбнулась. – Я медсестра.
– А это что… какая это больница?
– Реабилитационный центр.
– Для кого? – Он посмотрел на ее родинку.
– Для нас.
– Для кого – нас?
– Для проснувшихся людей.
Лапин замолчал. Допил сок.
– Еще?
– Немного… – Он протянул стакан. Она наполнила. Он отпил половину:
– Больше не хочу.
Она забрала стакан. Поставила на столик. Лапин кивнул на мобильный:
– Можно?
– Да, конечно, – протянула она. – Говори. Я выйду.
Встала. Быстро вышла.
Лапин набрал номер родителей, кашлянул. Отец взял трубку:
– Да.
– Пап, это я.
– Куда пропал?
– Да тут… – Он потрогал повязку на груди. – Это…
– Чего – это? Случилось что?
– Ну… так…
– Опять влип? В обезьяннике?
– Да нет…
– А где ты?
– Ну, мы на концерте были вчера с Головастиком. На Горбушке. Ну и, короче, я у него остался.
– А позвонить не мог?
– Да как-то… замотались там… у него бардак такой дома…
– Опять поддавали?
– Да нет, слегка пива выпили.
– Лоботрясы. А мы обедать садимся. Ты приедешь?
– Я… ну, мы тут погулять хотим пойти.
– Куда?
– В парк… у него тут. С собакой он хочет.
– Как хочешь. У нас курица с чесноком. Все съедим.
– Я постараюсь.
– Не застревай там.
– Ладно…
Лапин отключил мобильный. Потрогал шею. Откинул одеяло. Он был голый.
– Бля… а где трусы? – Он потрогал свой член.
В грудине остро и больно кольнуло. Он поморщился. Прижал руку к повязке:
– Сука…
Медсестра осторожно открыла дверь:
– Закончил?
– Да… – Он поспешно накинул на себя одеяло. Она вошла.
– А где моя одежда? – Лапин морщился. Тер шину.
– Болит? – Она снова села на край кровати.
– Стрельнуло…
– У тебя небольшая трещина грудины. Стяжку придется поносить. От усилий, поворотов может резко болеть. Пока не срастется. Это нормально. На грудную клетку гипс не кладут.
– Почему? – шмыгнул он носом.
– Потому что человеку нужно дышать, – улыбнулась она.
– А где моя одежда? – снова спросил он.
– Тебе холодно?
– Нет… просто я… голым не люблю спать.
– Правда? – искренне смотрела она. – А я – наоборот. Не засну, если на мне что-то надето. Даже цепочка.
– Цепочка?
– Ага. Вот. – Она сунула руку за отворот халата, достала цепочку с маленькой золотой кометой. – Каждый раз на ночь снимаю.
– Интересно, – усмехнулся Лапин. – Такая чувствительная?
– Человек должен спать голым.
– Почему?
– Потому что рождается голым и умирает голым.
– Ну, умирает не голым. В костюме. И в гробу.
Она убрала цепочку.
– Человек не сам надевает костюм. И в гроб не сам ложится.
Лапин ничего не ответил. Смотрел в сторону.
– Хочешь поесть?
– Я хочу… мне надо… мою одежду. В туалет сходить.
– Помочиться?
– Угу…
– С этим нет проблем. – Она наклонилась. Достала из-под кровати белое пластиковое судно.
– Да нет… я не… – криво улыбнулся Лапин.
– Расслабься. – Она быстро и профессионально всунула судно под одеяло.
Прохладный пластик прикоснулся к бедрам Лапина. Ее рука взяла его член. Направила в патрубок.
– Слушай… – Он потянул к себе колени. – Я ведь не паралитик еще…
Ее свободная рука остановила его колени. Нажала. Уложила на кровать.
– Здесь нет никакой проблемы, – мягко и настойчиво произнесла она.
Лапин смущенно засмеялся. Посмотрел на «ОМ». Потом на лилию в вазе.
Прошло полминуты.
– Урал? Так ты хочешь или нет? – с мягким укором спросила она.
Лицо Лапина стало серьезным. Он слегка покраснел. Член его вздрогнул. Моча бесшумно потекла в судно. Медсестра умело придерживала член.
– Ну вот. Как просто. Ты никогда не мочился в судно?
Лапин мотнул головой. Моча текла.
Медсестра протянула свободную руку. Взяла со столика с напитками салфетку.
Лапин закусил губу и осторожно вдохнул.
Струя иссякла. Медсестра обернула член салфеткой. Осторожно вынула потеплевшее судно из-под одеяла. Поставила под кровать. Стала вытирать член.
– Ты родился с голубыми глазами? – спросила она.
– Да. – Он исподлобья посмотрел на нее.
– А я родилась с серыми. И до шести лет была сероглазой. И отец повел меня на свой завод. Показать какую-то чудесную машину, которая собирала часы. И когда я ее увидела, я просто окаменела от счастья. Она так работала, так потрясающе работала! Не знаю, сколько я стояла: час, два… Пришла домой, завалилась спать. А на следующее утро мои глаза поголубели.
Член Лапина стал напрягаться.
– Ресницы черные. И брови, – разглядывала она его. – Ты, наверно, любишь нежное.
– Нежное?
– Нежное. Любишь?
– Я … вообще-то… – сглотнул он.
– У тебя были женщины?
Он нервно усмехнулся:
– Девки. А у тебя были женщины?
– Нет. У меня были только мужчины, – ответила она спокойно, выпуская из рук его член. – Раньше. До того, как я проснулась.
– Раньше?
– Да. Раньше. Сейчас мне не нужны мужчины. Мне нужны братья.
– Это как? – Он подтянул к себе колени, загораживая свой напрягшийся член.
– Секс – это болезнь. Смертельная. И ею болеет все человечество. – Она убрала салфетку в карман халата.
– Да? Интересно… – усмехнулся Лапин. – А как же – нежность? Ты же про нее говорила?
– Понимаешь, Урал, есть нежность тела. Но это ничто по сравнению с нежностью сердца. Проснувшегося сердца. И ты это сейчас почувствуешь.
Дверь открылась.
Вошла женщина в белом махровом халате: 38 лет, среднего роста, полная, темно-русые волосы, голубые глаза, лицо круглое, некрасивое, улыбчивое, спокойное.
Лапин прижал к груди дрожащие колени. Потянулся за одеялом. Но одеяло было в ногах.
Медсестра встала. Подошла к женщине. Они бережно поцеловались в щеки.
– Я вижу, вы уже познакомились. – Вошедшая с улыбкой посмотрела на Лапина. – Теперь моя очередь.
Медсестра вышла. Бесшумно притворила за собой дверь.
Женщина смотрела на Лапина.
– Здравствуй, Урал, – произнесла она.
– Здравствуйте… – отвел глаза он.
– Я Мэр.
– Мэр? Чего?
– Ничего, – улыбнулась она. – Мэр – мое имя.
Она скинула халат. Голая шагнула к Лапину. Протянула полную руку:
– Встань, пожалуйста.
– Зачем? – Лапин исподлобья смотрел на ее большую отвислую грудь.
– Я прошу тебя. Не стесняйся меня.
– Да мне по барабану. Только… отдайте мою одежду.
Лапин встал. Упер руки в худосочные бедра.
Она шагнула к нему. Осторожно обняла и прижалась своей грудью к его.
Лапин нервно засмеялся, отворачивая лицо:
– Тетя, я не буду с вами трахаться.
– Я тебе и не предлагаю, – сказала она. Замерла.
Лапин тоскливо вздохнул, глянул в потолок.
– Одежду верните, а?
И вдруг вздрогнул. Дернулся всем телом. Замер.
Они оцепенели. Стояли, обнявшись. Глаза их закрылись.
Они простояли неподвижно 42 минуты.
Мэр вздрогнула, всхлипнула. Разжала руки. Лапин бессильно выпал из ее объятий на пол. Конвульсивно дернулся. Разжал зубы. Со всхлипом жадно втянул воздух. Сел. Открыл глаза. Тупо уставился на ножку кровати. Щеки его пылали.
Мэр подняла халат, надела. Положила маленькую пухлую ладонь на голову Лапина.
– Урал.
Повернулась и вышла из палаты.
Вошла сестра с одеждой Лапина в руках. Присела на корточках рядом с Лапиным.
– Как ты?
– Нормально. – Он провел дрожащей рукой по лицу. – Я вообще-то хочу… это… хочу…
– Болит грудь?
– Так… как-то… я… это…
– Одевайся. – Сестра погладила его плечо.
Лапин подтянул к себе джинсы. Под ними лежали трусы. Новые. Не его.
Он пощупал их.
– А вы… а ты…
– Что? – спросила сестра. – Отвернуться мне?
– А ты… что? – Он шмыгнул носом.
Посмотрел на нее, словно увидел впервые. Пальцы его мелко дрожали.
Сестра встала. Отошла к окну. Отвела занавеску. Стала смотреть на голые ветви.
Лапин с трудом встал. Пошатываясь и оступаясь, надел трусы. Потом джинсы. Взял черную майку. Она тоже была новой. Вместо прежней надписи «WWW. FUCK.RU» на ней было написано «BASIC». Тоже красным.
– А почему… это? – Его пальцы мяли новую майку.
Сестра оглянулась:
– Надевай. Это все твое.
Он смотрел на майку. Потом надел ее. Взялся за куртку. На ней лежали его вещи. Ключи. Студенческий. Кошелек. Кошелек был непривычно толстым.
Лапин взял его. Открыл. Он был набит деньгами. Рублями в пятисотенных купюрах. И долларами.
– А это… не мое. – Он смотрел на кошелек.
– Это твое. – Сестра повернулась. Подошла.
– У меня было… семьдесят рублей. Семьдесят… пять.
– Это твои деньги.
– Это чужое… – Он смотрел на кошелек. Потрогал свою грудь.
Она взяла его за плечи:
– Вот что, Урал. Ты пока не очень понимаешь, что с тобой произошло. Я бы сказала – совсем не понимаешь. Вчера ночью ты проснулся. Но еще не отошел ото сна. Твоя жизнь теперь пойдет совсем по-другому. Мы поможем тебе.
– Кто – мы?
– Люди. Которые проснулись.
– И… что?
– Ничего.
– И что со мною будет?
– Все, что бывает с тем, кто проснулся.
Лапин смотрел на ее красивое лицо остекленевшими глазами.
– Что – все?
– Урал, – ее пальцы сжали его костлявые плечи, – имей терпение. Ты еще только встал с кровати. На которой спал двадцать лет. Ты даже не сделал первого шага. Поэтому положи кошелек в карман и следуй за мной.
Она открыла дверь. Вышла в коридор.
Лапин надел куртку, засунул кошелек во внутренний карман. Ключи и студенческий – в боковые. Вышел в коридор.
Сестра быстро пошла. Он двинулся вслед. Осторожно. Трогал шину на груди.
Возле приемной палаты их ждали врач и Мэр. Она была в темно-фиолетовом пальто с большими пуговицами. Стояла, сунув руки в карманы. Смотрела на Лапина все так же тепло и приветливо. Улыбалась.
– Значит, у нас, молодой человек, небольшая трещинка в грудине, – заговорил врач.
– Мне уже говорили, – пробормотал Лапин, не отрывая глаз от Мэр.
– Повторенье – мать ученья, – бесстрастно продолжал врач. – Стяжку десять дней не снимать. Бетонные плиты не поднимать. Мировых рекордов не ставить. С титанами любовью не заниматься. А вот это, – он протянул две упаковки лекарств, – попить. Два раза в день. И если будет болеть – пенталгин. Или семь стаканов водки. Ясно?
– Что? – Лапин перевел на него тяжелый взгляд.
– Шутка. Берите. – На ладони врача лежали две упаковки. Лапин присмотрелся к ним. Взял. Рассовал по карманам.
– Молодой человек не понимает шуток, – с улыбкой объяснил врач женщинам.
– Он все прекрасно понимает. Спасибо. – Мэр прижалась своей щекой к щеке врача.
– Будь счастлив, Урал, – громко произнесла медсестра.
Лапин резко обернулся к ней. Вперился в нее: красивая, стройная, теплый взгляд. Большие очки. Большие губы.
Мэр кивнула им. Вышла в стеклянный тамбур. И на улицу. Там было пасмурно. И промозгло. Мокрые голые деревья. Остатки снега. Серая трава.
Лапин вышел следом. Осторожно ступал.
Мэр подошла к большому синему «Мерседесу». Открыла заднюю дверь. Повернулась к Лапину:
– Прошу, Урал.
Лапин забрался внутрь. Сел на упругое сиденье. Синяя кожа. Тихая музыка. Приятный запах сандала. Белобрысый затылок водителя.
Мэр села впереди.
– Познакомься, Фроп. Это Урал.
Водитель обернулся: 52 года, круглое простецкое лицо, маленькие мутно-голубые глаза, пухлые руки, синий, в тон машины, костюм.
– Фроп, – улыбнулся он Лапину.
– Юра… то есть… Урал, – криво усмехнулся Лапин. И вдруг засмеялся.
Водитель отвернулся. Взялся за руль. Машина плавно тронулась. Выехали на Лужнецкую набережную.
Лапин продолжал смеяться. Трогал рукой грудь.
– Ты где живешь? – произнесла Мэр.
– В Медведково, – с трудом облизал губы Лапин.
– В Медведково? Мы отвезем тебя домой. Какая улица?
– Возле метро… там. Я покажу… У метро. Выйду.
– Хорошо. Но прежде заедем в одно место. Там ты познакомишься с тремя братьями. Это люди твоего возраста. Они просто скажут тебе несколько слов. И вообще помогут. Тебе сейчас нужна помощь.
– А… это где?
– В центре. На Цветном бульваре. Это займет максимум полчаса. Потом мы отвезем тебя домой.
Лапин посмотрел в окно.
– Главное для тебя сейчас – постарайся не удивляться ничему, – заговорила Мэр. – Не пугайся. Мы не тоталитарная секта. Мы просто свободные люди.
– Свободные? – пробормотал Лапин.
– Свободные.
– Почему?
– Потому что мы проснулись. А тот, кто проснулся, – свободен.
Лапин смотрел на ее ухо.
– Мне было больно.
– Вчера?
– Да.
– Это естественно.
– Почему?
Мэр обернулась к нему:
– Потому что ты родился заново. А роды – это всегда боль. И для роженицы, и для новорожденного. Когда твоя мать выдавила тебя из влагалища, окровавленного, посиневшего, тебе разве не было больно? Что ты тогда сделал? Заплакал.
Лапин смотрел в ее голубые глаза, сдавленные слегка припухлыми веками. По краям зрачки окружала еле различимая желтовато-зеленая пелена.
– Значит, я вчера родился заново?
– Да. Мы говорим – проснулся.
Лапин посмотрел на ее аккуратно подстриженные русые волосы. Концы их мелко подрагивали. В такт движению.
– Я проснулся?
– Да.
– А… кто спит?
– Девяносто девять процентов людей.
– Почему?
– Это трудно объяснить в двух словах.
– А кто… не спит?
– Ты, я, Фроп, Харо. Братья, которые будили тебя вчера.
Выехали на Садовое кольцо. Впереди была большая пробка.
– Ну вот, – вздохнул водитель. – Скоро по центру – только пешком…
Рядом с «Мерседесом» двигалась грязная «девятка». Толстый парень за рулем. Ел чизбургер. Бумажная упаковка задевала его приплюснутый нос.
– А тот, который… там остался? – спросил Лапин.
– Где?
– Ну… вчера… он что? Проснулся тоже?
– Нет. Он умер.
– Почему?
– Потому что он пустой. Как орех.
– Он что… не человек?
– Человек. Но пустой. Спящий.
– А я – не пустой?
– Ты не пустой. – Мэр достала из сумочки пачку жвачки. Распечатала. Взяла сама. Протянула водителю. Тот отрицательно мотнул головой. Протянула Лапину.
Он взял автоматически. Распечатал. Посмотрел на розовую пластинку. Потрогал ею нижнюю губу.
– Я… это…
– Что, Урал?
– Я… пойду.
– Как хочешь. – Мэр кивнула водителю.
«Мерседес» притормозил. Лапин нервно зевнул. Нащупал гладко-прохладную ручку замка. Потянул. С трудом открыл дверь. Вышел. Пошел между машин.
Водитель и Мэр проводили его долгими взглядами.
– Почему все бегут? – спросил водитель. – Я тоже сбежал.
– Нормальная реакция, – снова зажевала Мэр. – Я думала, он раньше попытается.
– Терпеливый… Куда теперь?
– К Жаро.
– В офис?
– Да. – Она покосилась на заднее сиденье.
Согнутая розово-матовая пластинка осталась лежать.
На синей гладкой коже.
Швейцарский сыр
Лапин шел. Потом побежал. Тяжело. С трудом поднимая ноги. Морщился. Прижимал руку к груди. Пересек улицу.
Вдруг.
Боль.
Грудина.
Как разряд тока.
Вскрикнул. Отдало в локти. В ребра. В виски. Застонал. Согнулся. Опустился на колени:
– Сука…
Остановился хорошо одетый мужчина:
– Чего такое?
– Сука… – повторил Лапин.
– Жизнь-то? Это точно.
Лапин тяжело встал. Заковылял к Патриаршим прудам. Здесь снега давно не было. Мокрый тротуар. Весенняя городская грязь возле пруда.
Он добрел до Большой Бронной. Вышел на бульвар. Сел на скамейку. Откинулся на влажную жесткую спинку.
– Хуе… бень… хуебень…
Подошла грязная старушка. Заглянула в урну. Двинулась дальше.
Лапин достал кошелек. Вынул доллары. Пересчитал: 900.
Пересчитал рубли: 4500. И старые свои 70. И металлический пятак.
Посмотрел по сторонам. Шли люди. Быстро. И не торопясь. Парень и девушка пили пиво на ходу.
– Это правильно… – Лапин вынул пятисотенную купюру, кошелек убрал. Встал осторожно. Но боль затаилась.
Он добрел до ларька. Купил бутылку «Балтики». Попросил открыть. Отпил сразу половину. Отдышался. Вытер выступившие слезы. Двинулся к метро. На Пушкинской площади было людно. Он допил пиво. Осторожно поставил на мраморный парапет. Стал спускаться вниз по ступеням. Остановился. Подумал: «А хули?»
Повернул назад. Вышел на Тверскую. Поднял руку. Сразу остановились две машины. Грязно-красная. И зеленая. Почище.
– Чертаново, – сказал Лапин водителю грязно-красной.
– И чего?
– Чего?
– Чего-чего! Сто пятьдесят!
Лапин кивнул. Забрался на сиденье рядом с водителем.
– Куда там?
– Сумской проезд.
Водитель хмуро качнул усами. Включил музыку. Плохую. Но громкую.
Через час небыстрой езды машина подъехала к семиэтажному дому Лапина. Он расплатился. Вышел. Поднялся на пятый этаж. Открыл ключом дверь. Вошел в тесно заставленную прихожую. В квартире пахло кошкой и жареным луком.
– А-а-а… явление Христа народу, – выглянул из кухни жующий отец.
– Надо же! – выглянула мать. – А мы уж понадеялись, что ты к Головастику переселился.
– Привет, – буркнул Лапин. Снял куртку. Потрогал повязку: не заметно через майку? Глянул в овальное зеркало: заметно. Пошел в свою комнату.
– Мы уже все съели, не торопись! – крикнула мать. Они с отцом засмеялись.
Лапин толкнул ногой дверь с надписью: «FUCK OFF FOREVER!» В комнате был полумрак: книжные полки, стол с компьютером, музыкальный центр, гора компакт-дисков. Плакаты на стене: «Матрица», голая Лара Крофт с двумя пистолетами, Мэрилин Мэнсон в образе гниющего на кресте Христа, незастеленная кровать. Сиамский кот Нерон дремал на подушке.
Три рубашки висели на спинке стула. Лапин взял черную. Надел поверх майки. Осторожно лег на кровать. Зевнул с ревом:
– У-а-а-а-а-а-бл-я-а-а-а-а!
Нерон нехотя поднялся. Подошел к нему. Лапин подул ему в ухо. Нерон увернулся. Спрыгнул на старое ковровое покрытие. Пошел из комнаты.
Лапин посмотрел на большие губы Лары Крофт. Вспомнил медсестру.
– Хар… Хара? Лара. Клара.
Усмехнулся. Покачал головой. С силой выдохнул сквозь неровные зубы.
В полуоткрытую дверь заглянула мать: 43 года, полноватая, каштановые волосы, моложавое лицо, серые лосины, черно-белый свитер, сигарета.
– Ты что, и вправду сыт?
– Я поем. – Лапин застегивал рубашку.
– Погудели вчера?
– Угу…
– Позвонить трудно было?
– Уг-у-у-у, – серьезно кивнул Лапин.
– Мудило. – Мать ушла.
Лапин лежал. Смотрел в потолок. Теребил стальное охвостье ремня.
– Я дважды разогревать не буду! – закричала мать на кухне.
– По барабану… – махнул рукой он. Потом приподнялся. Поморщился. Тяжело оттолкнулся от кровати. Встал. Побрел на кухню. Там мать мыла посуду.
На столе стояла тарелка с куском жареной курицы. И вареной картошкой. Здесь же стояла чаша с кислой капустой. И тарелка с солеными огурцами.
Лапин быстро съел курицу. Картошку не доел. Запил водой.
Пошел в большую комнату. Снял трубку. Набрал номер:
– Кела, привет. Это Юрка Лапин. А Генку можно? Ген. Это я. Слушай, мне… это… потереть с тобой надо. Да нет, ничего… Просто посоветоваться. Нет, это ни при чем. Там… это. Другое. Щас? Конечно. Ага.
Он положил трубку. Пошел в прихожую. Стал натягивать куртку. И чуть не закричал от боли:
– Ой, бля-а-а-а-а…
– Ты чего, опять уходишь? – гремела тарелками мать.
– Я к Генке, ненадолго…
– Хлеба купишь?
– Ага.
– Дать денег?
– У меня есть.
– Неужели не все пропили?
– Не все.
Лапин вышел из квартиры. Хлопнул дверью. Шагнул к лифту. Остановился. Постоял. Повернулся. Спустился по лестнице на четвертый этаж. Остановился на лестничной клетке. Присел на корточки. Заплакал. Слезы потекли по щекам. Сначала он плакал беззвучно. Трясся плечами. Прижимал худые руки к лицу. Потом заскулил. Вырвались скупые рыдания. Изо рта. И из носа. Потом зарыдал во весь голос. Рыдал долго.
С трудом успокоился, пошарил по карманам куртки. Платка не было. Громко высморкался на избитый желто-коричневый кафель. Вытер руку о стену рядом с надписью «ВИТЕК ГОВНОЕД».
Рассмеялся. Вытер слезы:
– Мэр, мэр, мэр… мэр, мэр, мэр…
Опять зарыдал. Колупал пальцем синюю стену. Трогал грудину.
Постепенно успокоился.
Встал. Спустился вниз. Вышел на улицу. Прошел мимо трех домов. В четвертый вошел. Поднялся на второй этаж. Позвонил в 47-ю квартиру.
Зеленую стальную дверь открыли почти сразу.
На пороге стоял Кела: 28 лет, среднего роста, коренастый, мускулистый, лицо плоское, рыжеватые усы, бритая маленькая голова.
– Здоров. – Кела повернулся. Ушел.
Лапин вошел в коридор двухкомнатной квартиры: четыре колеса, ящики из-под аудиоаппаратуры, вешалка с одеждой, горные лыжи с ботинками.
Из комнаты Келы доносилась громкая музыка. Лапин прошел в комнату Гены: ящики с видеокассетами, кровать, буфет, фотографии.
Гена сидел за компьютером: 21 год, взъерошенный, похожий на Келу, но полнее.
– Привет. – Лапин встал у него за спиной.
– Хай… – не обернулся он. – Где пропадал?
– Везде.
– Чо, растворился?
– Ага.
– А я вчера сайт нарыл классный. Гляди…
Он набрал . Появилась бледная картинка с изображением Сталина.
Под ней надпись: СОБЕРИ КАМЕННЫЙ БУКЕТ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ!
Под надписью виднелись семь каменных цветков. Гена навел стрелку на один. Нажал. Возникла картинка: корова, татуированная изображением Сталина, пасущаяся на лугу из каменных цветков. Над коровой парил лозунг: ВСЕ НА БОРЬБУ С БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ!
– Классно, а? – Гена толкнул его в бедро пухлым локтем, навел стрелку на один из цветков, нажал.
Появилась картинка: два Сталина угрожающе показывают друг на друга. Над ними парил лозунг: ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК – ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, НЕТ ЧЕЛОВЕКА – НЕТ ПРОБЛЕМЫ!
– Во пацаны гуляют! – усмехнулся Гена.
– Слушай, Ген. Ты про тайные секты знаешь чего-нибудь?
– Какие? «Аум синрикё»?
– Нет, ну… другие… типа ордена.
– Масоны, что ли?
– Как бы. В Сети можно нарыть чего-нибудь?
– Да все можно нарыть. А зачем тебе масоны?
– Мне те, которые у нас.
– Это Кела в курсе. Он про масонов только и трет.
– Кела… – потрогал грудь Лапин. – Он же на черножопых завернут. И на евреях.
– Ну. Он разных знает. А чего тебе?
– Да на меня наехали козлы какие-то. Братство, блядь. Проснувшиеся люди.
– Проснувшиеся?
– Ага.
– И чего они хотят? – Гена быстро двигал «мышью», смотрел на экран.
– Непонятно.
– Ну и пошли их… Во, гляди! Классно, а? Там продвинутые, на этом Сталине!
– Мне посоветоваться надо с кем-то. Кто знает, кто это такие.
– Ну, поди спроси его. Он все знает.
Лапин пошел в комнату Келы: деревянный стеллаж с книгами, большой музыкальный центр с большими колонками, маленький телевизор, портреты Альфреда Розенберга, Петра Столыпина, плакат РНЕ «За новый русский порядок!», три пары нунчаков, шнурованные ботинки на толстой подошве, штанга 60 к г, гантели 3 к г, гантели 12 кг, две бейсбольные биты, матрац, шкура бурого медведя на полу.
Кела сидел на матраце, пил пиво и слушал «Helloween».
Лапин сел рядом. Подождал. Пока кончится песня.
– Кел, у меня проблема.
– Чего?
– Какая-то секта… или это орден… наехали как-то сразу.
– Как?
– Ну, тянут, там, толкают, типа: мы – проснувшиеся люди. Братья. А все к ругом спят. Бабки сулят. Типа, масоны.
Кела выключил музыку. Положил пульт на пол.
– Запомни раз и навсегда: масонов самих по себе не бывает. Есть только жидо-масоны. Про «Б’най Брит» слышал?
– Чего это?
– Официальная жидо-масонская ложа в Москве.
– Кел, понимаешь, эти, которые… ну… ко мне пришли, они не евреи. Блондины, как и я. И даже глаза голубые. Да! Слушай… – вспомнил он, – я только щас понял! У них у всех голубые глаза!
– Это не важно. Все масонские ложи контролирует жидовская олигархия.
– Они говорили, типа, что все люди спят, как бы спячка такая, а надо проснуться, как бы родиться заново, а началось все вообще на улице, возле психодрома подошли и попросили у меня…
Кела перебил:
– Еще триста лет назад все масоны были или жидами, или с прожидью. Раньше, на хуй, жиды масонов использовали, как кукол, а теперь – политиков. А все политики – проститутки. Там, бля, пробы негде ставить. А уж наши… – Кела сцепил жилистые пальцы замком, хрустнул. – У них у всех на залупах татуировка: магендовид и 666.
Лапин нетерпеливо вздохнул:
– Кел, но я…
– Вот, послушай, на хуй… – Кела протянул мускулистую руку, снял с полки книгу. Открыл закладку:
– Франц Лист. Композитор великий. Пишет про жидов: «Настанет момент, когда все христианские нации, среди которых живут евреи, поставят вопрос, терпеть их дальше или депортировать. Этот вопрос по своему значению так же важен, как вопрос о том, хотим ли мы жизнь или смерть, здоровье или болезнь, социальный покой или постоянное волнение». Понял?
В дверь позвонили.
– Генка, открой! – крикнул Кела.
– Ну что за… – Гена злобно зашаркал. Открыл.
В комнату Келы вошел здоровенный парень: 23 года, бритая голова, широкие плечи, кожаная куртка и штаны, большие руки, на торце ладони татуировка «ЗА ВДВ!».
– О! Здорово, зёма, – встал с матраца Кела.
– Здоров, Кел.
Они размахнулись, сильно стукнулись правыми ладонями.
– У вас тут, говорят, железо ржавеет! – улыбнулся парень крепкими зубами.
– Ржавеет, на хуй. Вон, – кивнул Кела на штангу.
– Ага. – Парень подошел к ней, взялся, приподнял. – Понял…
– Только, Витек, пару недель – максимум.
– Нет проблем. – Парень взял штангу в правую руку. Посмотрел на Лапина. На пиво. – Чего, квасите?
– Да нет. – Кела рухнул на матрац. – Я тут с молодежью базарю.
– Хороший шнур, – кивнул парень и вышел со штангой.
– Про «Союз Сатаны и Антихриста» слышал? – спросил Кела Лапина.
– Это что?
– А про «Бне Мойше»?
– Нет.
Кела вздохнул:
– Ёпгеть, чем вы, на хуй, дышите, непонятно!
– Компутэром. – Гена заглянул в комнату.
– Компутэром, на хуй, – кивнул Кела. – А ты знаешь, кто и где придумал Интернет? И зачем придумал?
– Сто раз уже говорил, – почесал щеку Гена. – А чего… все в мире придумали евреи и китайцы.
– А ты «Имя мое Легион» читал? – Кела перевел взгляд на Лапина. В дверь позвонили.
– Открой, – кивнул Кела Гене.
Вошел тот же парень в кожаном. Со штангой в руке.
– Кел, слушай, я чего забыл: там в пятницу Вован к себе звал. Помахаться. Поедешь?
– Давай.
– Я зайду тогда.
– Давай. Во, Витек, «Имя мое Легион» не читали. И спортом ни хера не занимаются.
– Каждому – свое! – улыбнулся зубами парень. Протянул Гене штангу: – Подержи, молодой.
– Да ты что! – засмеялся Гена. – У меня камни в почках.
– Чо, правда?
– Правда! – ответил за Гену Кела. – Во, на хуй, Вить. Двадцатник пацану – и камни в почках!
– Да-а-а-а… – Парень прислонился к косяку, продолжая держать штангу. – Я чего-то такого не припомню. Так рано. Камни. У нас это. В батальоне один сержант старлея вылечил. Тот спать на холоде не мог.
– Чего?
– Камни в почках. Пивом напоил. Четыре литра. Потом, говорит – пошли поссым. Ну встали. Старлей ссыт. А тот ему ребром по почкам – хуяк! Тот – о-о-о-о, бля! Моча с кровью. И весь песок из почек вышел. Вот так. Полевая медицина.
Парень повернулся и вышел.
Зазвонил телефон.
Кела взял трубку:
– Да. Здоров, зёма. А! Ёпгеть, а чего ж ты? Всё, на хуй! Завтра еду брать. Не говори! Сегодня иду по улице, думаю – неужели с «четверки» гнилой, на хуй, пересяду на приличную тачку? Ага! Да… да… точняк. Ага!
– Вы чего, новую машину покупаете? – спросил Лапин.
– Не новую. «Гольф» 93-го года. – Гена зевнул.
– Разбогатели?
– Праотцы пару штук подкинули.
– Хорошо.
– Пошли в чате поколбасим. Там кинозавры понабежали.
– Да я хотел с Келой потереть.
– Это Воронин. Надолго. Пошли, хуйнем!
– Пошли…
Вернулись в комнату Гены. Сели рядом у компьютера.
Гена быстро вошел в чат под именем Кillа Вее:/)
Зхус /: Я тоже купил вчера арджентовский «Призрак оперы». Понадеялся на Джулиана Сендса, которого обычно в хуевых фильмах не видел. Он самый клевый для меня актер после Микки Рурка. Уебищный фильм!!!! /-
De Scriptor /: Да и «Тьма» сранье сраньем.
Наташа /: Твой Джулиан Сендс – хуйня. Он только в «Чернокнижнике-2» хорошо сыграл, а уж «Призрак оперы» – отстой полный.
Кillа Вее /: Вы все слабохуйные пиздососы! А Джулиан Сендз племянник Фили Киркорова:)
Старый Как Мамонт /: Гнилая! Где тебя dhtvz носило?
Кillа Вее /: В пизде мамонтихи, Лохматый. Чего вы дрочите на Сендза, если есть Чууулпан Хамыыыытовааааа с Кеану Риввввзом!!!! Ребята, я их полюбила и люблю!
De Scriptor /: Долбоебизм не лечится:/ (Но его можно использовать в мирных целях.
Крот /: Эта мокрощелка щас опять все засрет.
Кillа Вее /: Обязательно, мальчики:/-
Зхус /: Есть предложение: уебывай по своей же ссылке.
Старый Как Мамонт /: КилкаБи, заткнись на время. Я тут недавно нарыл: . Можно заказать редкие фильмы на дом. Любимого Кроненберга взял:)))
Крот /: А у Ардженто кто-нибудь видел «Демоны»?
Vino /: Демонов снял не Ардженто. Или Дж. Ромеро, или Лючиано Фульчи. Вчера РенТВ крутили Феномена твоего хилого Ардженто – полный трэш. С хеви-металом на саундтреке.
Кillа Вее /: Ой, кто пришел! Сладко запел угловатый соловушка! У тебя еще стоит? I’m always ready, motherfucker!!!!:/)
Vino /: Кillа Вее, если ты хочешь, чтобы тебя кто-то трахнул до посинения клитора, то… ///!
– Ген, я домой пойду. – Лапин встал. Потер грудь.
– Чего ты, Лап? Давай напиши чего-нибудь. Давай, хуйни не по-детски!
– Да не, я… на хер. Я с Келой хотел побазарить, а он опять про своих жидов.
– Ну, а на хера ты завел его? Поговорил бы о чем-нибудь другом. Масоны-масоны… Он теперь только об этом и будет пиздеть. Я с ним вообще больше нацвопросов не касаюсь. Заебало.Лапин махнул рукой. Постоял.
– Ген.
– Чего? – печатал Гена.
– Поехали в пивняк.
– В какой? – удивленно повернулся Гена.
– В любой. У меня… это… денег до хера.
– Откуда?
– От верблюда.
Вошел Кела с новой бутылкой пива.
– И вот что. Генк. Я тебе, на хуй, последний раз говорю: будешь дурь сосать – отселю к праотцам. Там соси, на хуй, в сортире.
– Я сто лет не сосал, ты чего?
– Позавчера? А? Когда я курей возил. А у тебя твои козлы были. Нет, что ль?
– Да ты чего? Кел? Мы новый «ВВ» слушали.
– Ты не пизди главному. Мудаки. Вы не врубаетесь ни хуя. – Он отхлебнул из бутылки. – У чеченов дохлых мозг знаешь какой был? Как сыр швейцарский. С дырами. Вот такими. От чего? От дури. Понял?
– Ты уже рассказывал. – Гена сунул в рот жвачку. – Кел, а от пива печень жиром заплывает.
– Задумайся, на хуй. Предупредил. В последний раз.
Кела вышел.
– Ой, бля… – вздохнул Гена. – Как давёж надоел. Бля, чего они на Качалове так помешаны? Витек, Шпала, Бомбер, – они ж тупота, все с двумя извилинами, понятно, чего им не качаться. Но Кела-то – умный. Он книг больше прочел, чем они все. И туда же – здоровое тело, бля, здоровый дух. И мне, бля, каждое утро гантели эти вонючие в постель сует! Представляешь? Я сплю, бля, а он – под жопу мне гантели! Дурдом…
Лапин смотрел в экран. Встал:
– Ушел я.
– Чего ты?
– Дело есть еще…
– Лап, чего ты сегодня такой?
– Какой?
– Ну… как побитый?
Лапин глянул на него и рассмеялся. Приступ истерического смеха заставил его согнуться.
– Ты чего? – не понимал Гена. Лапин хохотал. Гена смотрел на него.
С трудом Лапин успокоился. Вытер выступившие слезы. Тяжело вдохнул:
– Все… ушел.
– А пивняк?
– Какой?
– Ну, ты же в пивняк меня позвал?
– Пошутил.
– Ну и шутки у вас, малэчык.
Лапин вышел.
На улице стемнело. И подморозило. Лужи потрескивали под ногами.
Лапин добрел до своего подъезда. Вошел. Вызвал лифт. Посмотрел на стену. Там были знакомые граффити. Две из них – ACID ORTHODOX и РАЗРУХА-97 принадлежали Лапину. Он заметил новую надпись: УРАЛ, НЕ БОЙСЯ ПРОСНУТЬСЯ.
Черный фломастер. Аккуратный почерк.
Диар
8.07.
Киевское шоссе. 12-й километр
Белая «Волга». Свернула на лесную дорогу. Проехала триста метров. Свернула еще раз. Встала на поляне.
Березовый лес. Остатки снега. Утреннее солнце.
Из кабины вышли двое.
Ботвин: 39 лет, полный, блондин, голубые глаза, добродушное лицо, спортивная сине-зеленая куртка, сине-зеленые штаны с белой полосой, черные кроссовки.
Нейландс: 25 лет, высокий, худощавый, блондин, решительно-суровый, голубые глаза, острые черты лица, коричневый плащ.
Они открыли багажник. Там лежала Николаева: 22 года, смазливая блондинка, голубые глаза, короткая лисья шуба, высокие сапоги-ботфорты черной замши, рот залеплен белым пластырем, наручники.
Вытащили Николаеву из багажника. Она сучила ногами. Подвывала.
Нейландс достал нож. Разрезал шубу на спине. И на рукавах. Шуба упала на землю. Под шубой было красное платье. Нейландс разрезал его. Разрезал лифчик.
Средних размеров грудь. Маленькие соски.
Подвели к березе. Стали привязывать.
Николаева нутряно завопила. Забилась в их руках. Шея и лицо ее побагровели.
– Не туго. Чтоб дышала свободно. – Ботвин прижимал дергающиеся плечи к березе.
– Я туго не делаю. – Нейландс сосредоточенно работал.
Закончили. Ботвин достал из машины продолговатый белый футляр – холодильник. Открыл. Внутри лежал ледяной молот: аккуратная увесистая головка, деревянная рукоять, сыромятные ремешки.
Нейландс вынул из кармана рублевую монету:
– Орел.
– Решка, – примеривался к молоту Ботвин. Нейландс подбросил монету. Упала. Ребром в снег.
– Вот тебе, бабушка, и женский день! – засмеялся Ботвин. – Ну что, вторую?
– Ладно, – махнул рукой Нейландс. – Стучи.
Ботвин встал перед Николаевой.
– Значит, детка моя. Мы не грабители, не садисты. И даже не насильники. Расслабься и ничего не бойся.
Николаева скулила. Из глаз ее текли слезы. Вместе с тушью ресниц. Ботвин размахнулся:
– Гово-ри!
Молот ударил в грудину. Николаева крякнула нутром.
– Не то, детка, – покачал головой Ботвин. Размахнулся. Солнце сверкнуло на торце молота.
– Гово-ри!
Удар. Содрогание полуголого тела.
Ботвин и Нейландс прислушались.
Плечи и голова Николаевой мелко дрожали. Она быстро икала.
– Мимо кассы, – хмурился Нейландс.
– На все воля Света, Дор.
– Ты прав, Ыча.
В лесу перекликнулись две птицы. Ботвин медленно отвел в сторону молот:
– Детка… гово-ри!
Мощный удар сотряс Николаеву. Она потеряла сознание. Голова повисла. Длинные русые волосы накрыли грудь.
Ботвин и Нейландс слушали.
В посиневшей груди проснулся звук. Слабое хорканье. Раз. Другой. Третий.
– Говори сердцем! – замер Ботвин.
– Говори сердцем! – прошептал Нейландс. Звук оборвался.
– Было точно… подними голову. – Ботвин поднял молот.
– Сто процентов… – Нейландс зашел сзади березы. Приподнял голову Николаевой, прижал к шершавому холодному стволу. – Только – деликатно…
– Сделаем… – Ботвин размахнулся. – Гово-ри!
Молот врезался в грудину. Брызнули осколки льда.
Ботвин прильнул к груди. Нейландс выглянул из-за березы.
– Хор, хор, хор… – послышалось из грудины.
– Есть! – Ботвин отшвырнул молот. – Говори, сестричка, говори сердцем, разговаривай!
– Говори сердцем, говори сердцем, говори сердцем! – забормотал Нейландс. Стал суетливо рыться по карманам: – Где? Где? Куда… ну где?
– Погоди… – захлопал себя по карманам Ботвин.
– Тьфу, черт… в машине! В бардачке!
– Блядь…
Ботвин метнулся к «Волге». Поскользнулся на мокром снегу. Упал. На грязную бурую траву. Быстро подполз к машине. Открыл дверь. Выдернул из бардачка стетоскоп.
Звук не прерывался.
– Скорей! – выкрикнул Нейландс фальцетом.
– Зараза… – Ботвин подбежал. Грязной рукой протянул стетоскоп.
Нейландс сунул концы в уши. Прижал стетоскоп к фиолетовой грудине.
Оба замерли. Далеко пролетал самолет. Перекликались птицы. Солнце зашло за тучу.
В груди у Николаевой хоркало. Слабо. Равномерно.
– Ди… ро… аро… ара… – зашептал Нейландс.
– Не горячись! – выдохнул Ботвин.
– Ди… ди… ар. Диар. Диар. Диар! – облегченно выдохнул Нейландс. Скинул стетоскоп. Протянул Ботвину.
Тот неловко вставил в уши. Пухлая грязная рука прижала черный кругляшок к грудине.
– Ди… эр… ди… эро… диар. Диар. Диар. Диар.
– Диар! – кивал худощавой головой Нейландс.
– Диар, – улыбнулся Ботвин. Провел выпачканной в земле рукой по лицу. Засмеялся. – Диар!
– Диар! – Нейландс хлопнул его по плечу.
– Диар! – Ботвин ответно стукнул в грудь.
Они обнялись. Покачались. Оттолкнулись друг от друга.
Нейландс стал резать веревки. Ботвин кинул молот в футляр. Снял с себя куртку.
Освободили бесчувственную Николаеву от веревок. И от наручников. Завернули в куртку. Подняли. Понесли к машине.
– Молот не забудь, – сопел Ботвин. Уложили Николаеву на заднее сиденье.
Нейландс захватил футляр с молотом. Кинул в багажник.
Ботвин сел за руль. Завел мотор.
– Погоди. – Нейландс шагнул к березе. Расстегнул брюки. Расставил ноги. Николаева слабо застонала.
– Очнулась. Диар! – улыбнулся Нейландс.
Струя мочи ударила в березовый ствол.
Вор
Николаева проснулась от прикосновения.
Кто-то голый и теплый прижимался к ней.
Она открыла глаза: белый потолок, матовый плафон, край окна за полупрозрачной белой занавеской, курчавые светлые волосы. Запах. «After shave lotion». Мужское ухо с приросшей к щеке мочкой. Мужская щека. Хорошо выбритая.
Николаева зашевелилась. Скосила глаза вниз: край простыни. Под простыней ее голое тело. Громадный синяк на груди. Ее ноги. Смуглое мускулистое мужское тело. Прижимается. Обвивает ее руками. Поворачивает ее на бок. С силой прижимается своей грудью к ее груди.
– Послушайте… – хрипло произнесла она. – Я не люблю, когда так делают…
И вдруг оцепенела. Тело ее содрогнулось. Глаза полуприкрылись. Закатились по веки. Мужчина тоже замер. Вздрогнул, дернул головой. И оцепенел, прижавшись.
Прошло 37 минут.
Рот мужчины открылся. Из него раздался слабый хриплый стон. Мужчина пошевелился. Разжал руки. Повернулся. Скатился с кровати на пол. Бессильно вытянулся. Всхлипнул. Тяжело задышал.
Николаева вздрогнула. Засучила ногами. Села. Вскрикнула. Прижала руки к груди. Открыла глаза. Лицо ее было пунцовым. Из открытого рта вытекла слюна. Николаева всхлипнула и заплакала. Плечи ее вздрагивали. Ноги ерзали на простыне.
Мужчина со стоном выдохнул. Сел. Посмотрел на Николаеву.
Она плакала, бессильно вздрагивая.
– Хочешь соку? – тихо спросил мужчина.
Она не ответила. Испуганно взглянула на него.
Мужчина встал: 34 года, стройный мускулистый блондин, лицо тонкое, красивое, чувственное, большие голубые глаза.
Он обошел кровать. Взял с тумбочки бутылку минеральной воды. Открыл. Стал наливать в стакан.
Николаева смотрела на него: смугловатое тело, золотистые волосы на ногах и груди.
Мужчина поймал ее взгляд. Улыбнулся:
– Здравствуй, Диар.
Она молчала. Он отпил из стакана. Она разлепила пунцовые, налившиеся кровью губы:
– Пить…
Он сел к ней на кровать. Обнял. Приставил стакан к ее губам. Она стала жадно пить. Зубы стучали о стекло.
Выпила все. Со стоном выдохнула:
– Еще.
Он встал. Наполнил стакан до краев. Поднес ей. Она залпом осушила стакан.
– Диар… – Он провел рукой по ее волосам.
– Я … Аля, – произнесла она. Вытерла слезы простыней.
– Ты Аля для обычных людей. А для проснувшихся ты Диар.
– Диар?
– Диар, – тепло смотрел он.
Она вдруг закашляла. Схватилась за грудь.
– Осторожней. – Он держал ее за потные плечи.
– Ой… больно… – застонала она.
Мужчина вынул из тумбочки полотенце. Положил ей на плечи. Стал осторожно вытирать ее. Она посмотрела на свой кровоподтек, захныкала:
– Ой… ну… зачем же так….
– Это пройдет. Просто синяк. Но кость цела.
– Господи… а это… что ты делал-то такое… господи… ну на хуя же так? А? На хуя же так вот делать? – Она затрясла головой. Поджала колени к подбородку.
Он обнял ее за плечи:
– Я Вор.
– Чего? – непонимающе смотрела она. – В законе?
– Ты не поняла, Диар. Я не вор, а Вор.
– Обычный?
– Нет, – засмеялся он. – Вэ, о, эр – три буквы. Это мое имя. Воровством я никогда не занимался.
– Да? – Она рассеянно осмотрелась. – Это что? Гостиница?
– Не совсем. – Он прижался к ее спине. – Что-то вроде санатория.
– Для кого?
– Для братьев. И сестер.
– Для каких?
– Для таких, как ты.
– Как я? – Она вытерла губы о колени. – Значит, я – сестра?
– Сестра.
– Чья?
– Моя.
– Твоя? – Губы ее задрожали, искривились.
– Моя. И не только моя. У тебя теперь много братьев.
– Бра… тьев? – всхлипнула она. Схватила его руку. И вдруг закричала в голос – надрывно и протяжно. Крик перешел в рыдание.
Он обнял ее, прижал к себе. Николаева рыдала, уткнувшись в его мускулистую грудь. Он стал укачивать ее, как ребенка:
– Все хорошо.
– Зачем… еще… зачем… оооо! – рыдала она.
– Все, все теперь у тебя будет хорошо.
– Оооо!!! Как это… ой, что ж ты наделал-то… господи…
Постепенно она успокоилась.
– Тебе надо отдохнуть, – сказал он. – Сколько тебе лет?
– Двадцать два… – всхлипнула она.
– Все эти годы ты спала. А теперь проснулась. Это очень сильное потрясение. Оно не только радует. Но и пугает. Тебе нужно время, чтобы привыкнуть к нему.
Она кивнула. Всхлипнула:
– А… есть… платок?
Он протянул ей салфетку. Она шумно высморкалась, скомкала, кинула на пол.
– Господи… обревелась вся…
– Ты можешь принять ванну. Тебе помогут привести себя в порядок.
– Ага… – пугливо покосилась она на окно. – А где…
– Ванная? Сейчас тебя проводят.
Николаева рассеянно кивнула. Покосилась на лилию в вазе. На окно. Снова на лилию. Набрала побольше воздуха. Вскочила с кровати. Кинулась к двери. Вор сидел неподвижно. Она рывком распахнула дверь. Вылетела в коридор. Побежала. Врезалась в медсестру. Та курила возле высокой латунной пепельницы. Медсестра голубоглазо улыбнулась Николаевой:
– Доброе утро, Диар.
Николаева кинулась к выходу. Голые ступни ее шлепали по новому широкому паркету коридора. Добежала до стеклянных дверей. Толкнула первую. Выскочила в тамбур. Толкнула вторую. Побежала по мокрому асфальту.
Врач смотрел на нее сквозь стекло. Скрестил руки на груди. Улыбался.
Блондинистый шофер в припаркованном серебристом «БМВ» проводил долгим взглядом. Ел яблоко.
Голая Николаева бежала по Воробьевым горам. Вокруг стояли голые деревья. Лежал грязный снег.
Она быстро устала. Остановилась. Присела на корточки. Посидела немного, тяжело дыша. Встала. Потрогала грудину. Поморщилась:
– Суки…
Пошла. Босые ноги шлепали по лужам.
Впереди показалась большая дорога. Ездили редкие машины. Дул мокрый весенний ветер. Николаева ступила на дорогу. И тут же почувствовала сильный холод. Задрожала. Обняла себя руками.
Проехала машина. Пожилой водитель улыбнулся Николаевой.
Она подняла руку. Проехал «Фольксваген». Водитель и пассажир открыли окна. Выглянули. Засвистели.
– Козлы… – пробормотала Николаева. Зубы ее стучали.
Показались «Жигули». Остановились.
– Ты что, моржиха? – Водитель открыл дверь: 40 лет, бородатый, очкастый, с большой серебряной серьгой и черно-желтым платком на голове. – Лед же уже сошел!
– Слу…шай… отвези… ме…ня… ограбили… – стучала зубами Николаева.
– Ограбили? – Он заметил большой синяк у нее между грудей. – Били?
– Отпиз…дили… суки…
– Садись.
Она залезла на сиденье. Закрыла дверь.
– Ой, бля… холодина…
Водитель снял с себя легкую белую куртку. Накинул на плечи Николаевой.
– Ну, чего, в милицию?
– Ты что… – морщилась она. Куталась в куртку. Тряслась: – С эти… ми козлами… дел не имею… отвези домой. Я заплачу.
– Куда?
– Строгино.
– Строгино… – озабоченно выдохнул он. – Мне на работу надо.
– Ой, холодина какая… – дрожала она. – Вру… би печку посильней…
Он сдвинул регулятор тепла до упора:
– Давай я тебя до Ленинского подброшу, а ты там словишь кого-нибудь.
– Ну, чего я буду… опять это… ой, сука… отвези, прошу, – дрожала она.
– Строгино… это совсем мне не в жилу.
– Сколько ты хочешь?
– Да… не в этом дело, киса.
– Дело всегда в этом. Сто, сто пятьдесят? Двести? Поехали за двести. Все.
Он подумал. Переключил скорость. Машина поехала.
– Закурить есть?
Он протянул пачку «Кэмел». Николаева взяла. Он поднес зажигалку:
– А чего они тебя… раздели и в лесу выкинули?
– Ага. – Она жадно затянулась.
– Всю одежду?
– Как видишь.
– Круто. Но заявить-то надо?
– Сама разберусь.
– Чего, знакомые?
– Типа того.
– Тогда другое дело.
Он помолчал, потом спросил:
– Ты чего, ночная бабочка?
– Скорее – дневная… – устало зевнула она, выдыхая дым. – Капустница.
Он кивнул с усмешкой.
Полусладкое
12.17.
Строгино. Улица Катукова, д. 25
«Жигули» подъехали к шестнадцатиэтажному блочному дому.
– Пойдем со мной. – Николаева вышла из машины. Подошла к подъезду. Набрала на домофоне номер квартиры: 266.
– Кто?
– Это я, Наташк.
Дверь запищала. Николаева и водитель вошли. Поднялись на двенадцатый этаж.
– Постой здесь. – Она вернула ему куртку. Позвонила в дверь.
Открыла заспанная Наташа: 18 лет, пухлое лицо, черные волосы, короткая стрижка, красный махровый халат.
– Дай двести рублей. – Николаева прошла мимо нее в свою комнату. Достала из шкафа такой же красный халат. Надела.
– Ёб твою… ты чего? – Наташа двинулась за ней.
– Двести рублей! Водиле заплатить.
– У меня только двести баксов.
– Рубли есть? У тебя рубли есть?! – выкрикнула Николаева.
– Да нету, чего орешь…
– А баксы по-мелкому?
– Два стольника. А чего это у тебя? – Наташа заметила синяк на груди.
– Не твое дело. А у Ленки нет?
– Чего?
– Рублей.
– Не знаю. Она спит еще.
Николаева вошла в другую комнату. Там на полу спали две женщины.
– Что, и Сула приехала? – посмотрела на них Николаева.
– Ага, – выглянула из-за ее спины Наташа, – под утро приползли на рогах.
– Тогда – на хуй… – досадно махнула рукой Николаева.
– Ну и чего? – Водитель стоял перед открытой входной дверью.
– Зайди, – пошла к нему Николаева.
Он вошел. Она закрыла за ним дверь:
– Слушай, у нас с рублями облом. Давай я тебе отсосу?
Он посмотрел на нее. Потом на Наташу. Наташа усмехнулась. Пошла к себе.
– Давай. – Николаева взяла его за руки.
– Ну, вообще-то… – Он в упор смотрел на нее.
– Давай, давай… в ванной. Ну, облом с бабками, видишь. А этих сучар будить – вони не оберешься… – Она потянула его за руку.
– Я могу поехать поменять, – остановился он.
– Не смеши. – Она зажгла свет в ванной. Втянула его за руку. Заперла дверь. Присела. Стала расстегивать ему брюки.
– А ты… давно… это? – смотрел он сверху.
– Много вопросов, юноша… о! А мы быстры на подъем… – Она потрогала сквозь брюки его напрягшийся член.
Расстегнула ремень. Молнию. Стянула вниз серые брюки. Потом черные трусы.
У водителя был небольшой горбатый член.
Она быстро всосала его губами. Обхватила руками лиловатые ягодицы. Стала быстро двигаться.
Водитель оттопырил зад. Слегка наклонился. Оперся рукой о стиральную машину. Засопел. Его серьга покачивалась в такт движению.
– Погоди… зайка… – Он положил руку на ее голову.
– Больно? – выплюнула она член.
– Нет… просто… я так никогда не кончу… давай, это… по-нормальному…
– Я без кондома не буду.
– А у меня… я… не вожу с собой… – засмеялся он.
– Вот с этим нет проблем. – Она вышла. Вернулась с пачкой презервативов. Распечатала. Ловко и быстро надела ему. Скинула халат. Повернулась к нему задом. Облокотилась на раковину:
– Давай…
Он быстро вошел. Обхватил ее длинными руками. Двигался быстро. Сопел.
– Хорошо… ой, хорошо… – спокойно повторяла она. Разглядывала в зеркале свой синяк. Он кончил.
Она подмигнула ему в зеркало:
– Пират!
Посмотрела на него внимательно. Внезапно губы ее задрожали. Она зажала себе ладонью рот. Он сопел носом, прикрыв глаза. Положил ей голову на плечо.
Она протянула руку. Закрыла сливное отверстие в ванне. Пустила воду, едва сдерживая рыдания:
– Все. Мне… мне… греться пора.
Он тяжело заворочался на ней. Открыл глаза. Его член вышел из ее влагалища. Водитель посмотрел на него.
– В… в сортир, – посоветовала она. Сняла с полки флакон с шампунем. Ливанула в ванну. И разрыдалась в голос.
Он хмуро глянул на нее:
– Чего? Плохо?
Она замотала головой. Потом схватила его руку. Опустилась на колени, прижала руку к груди. Зарыдала сильнее, зажимая себе рот.
– Чего? – смотрел он сверху. – Обидели, что ли? А? Чего ты?
– Нет, нет, нет… – всхлипывала она. – Погоди… погоди…
Прижимала его руку к грудине. И рыдала.
Он покосился на себя в зеркало. Терпеливо стоял. Презерватив со спермой висел на увядающем члене. Покачивался в такт ее рыданиям.
Она с трудом успокоилась:
– Это… это так… все… иди…
Водитель подтянул брюки. Вышел.
Николаева села в ванну. Обняла колени руками. Положила на них голову.
В туалете зашумел сливной бачок. Водитель заглянул в ванную.
– Все в порядке? – не подняла головы Николаева.
Он кивнул. С любопытством смотрел на нее.
– Если хочешь – приезжай еще.
Он кивнул.
Она сидела неподвижно. Он вытер нос:
– Тебя как зовут?
– Аля.
– А меня Вадим.
Она кивнула себе в колени.
– У тебя… проблемы большие?
– Да нет. – Она упрямо тряхнула головой. – Просто… так просто… все… пока.
– Ну пока.
Водитель скрылся. Хлопнула входная дверь.
Ванна наполнялась водой. Вода дошла до подмышек. Николаева закрыла кран. Легла.
– Господи… вор, вор, вор… вор, вор, вор…
Пена шуршала вокруг ее заплаканного лица.
Николаева задремала.
Через 22 минуты в ванную заглянула Наташа:
– Аль, вставай.
– Чего? – Николаева недовольно открыла глаза.
– Парвазик приехал.
Николаева быстро села.
– Ах ты, блядь. Стукнула?
– Он сам приехал.
– Сам! Гадина! Ну, попроси у меня еще белье!
– Пошла ты…
Наташа захлопнула дверь.
Николаева провела мокрыми руками по лицу. Закачалась:
– Ну, блядь… ну, тварь…
Тяжело встала. Приняла душ. Обмотала голову полотенцем. Вытерлась. Надела халат. Вышла в коридор.
– С легким паром, – раздалось на кухне.
Николаева пошла туда.
Там сидели двое мужчин.
Парваз: 41 год, маленький, черноволосый, смуглый, небритый, с мелкими чертами лица, в сером шелковом пиджаке, в черной рубашке, в узких серых брюках, в ботинках с пряжками.
Паша: 33 года, полный, светловолосый, белокожий, с мясистым лицом, в серебристо-сиреневом спортивном костюме «Пума», в голубых кроссовках.
– Здорово, красавица. – Парваз поднес спичку к сигарете.
Николаева прислонилась к дверному косяку.
– Мы же с тобой, па-моему, дагаварились. – Он затянулся. – Па-хорошему. Ты мне что-то пообещала. А? Разные слова гаварила. Клялась. А? Или у меня что-то с памятью?
– Парвазик, у меня проблема.
– Какая?
– На меня наехали круто.
– И кто? – Парваз выпустил длинную струю дыма из тонких маленьких губ. Николаева распахнула халат:
– Во, посмотри.
Мужчины молча посмотрели на синяк.
– Понимаешь, это вообще… Я до сих пор опомниться не могу. Дай закурить.
Парваз протянул ей пачку «Данхил», спички.
Она закурила. Положила сигареты и спички на стол.
– Короче, вчера я на шесте свою программу сделала, ну и пошла по клубу – тряхнуть на персоналку. Народу немного было. Ну и два мужика сидят, один мне знак подал. Я подошла, волну сделала, сиськами тряхнула. Он говорит – сядь, посиди. Я присела, они шампанского заказали. Выпили, стали пиздеть. Они – нормальная такая лоховня, торгуют какими-то увлажнителями воздуха. Один из Прибалтики, красавец такой высокий, а имя сложное какое-то… Ритэс-хуитэс… не запомнила, а второй толстый – Валера. Ну, я говорю, мне холодно, я пойду оденусь. «Да, да, конечно. И приходи к нам». Ну, я платье надела, вернулась к ним. «Чего ты хочешь?» Я говорю: «Перекусить чего-нибудь». Заказали мне шашлык из осетрины. «Ты стриптиз давно танцуешь?» Я говорю недавно. «Сама откуда?» Из Краснодара. Ну и все такое. А потом этот прибалт говорит: «Поехали ко мне домой?» Я: 300 баксов ночь. «Нет проблем». Ну, расплатились они, выкатились. И я. У них «Волга» такая, белая, новая совсем. Села к ним. И только мы от клуба отъехали, один мне – раз! маску с какой-то хуйней. Прямо на это… вот так… на морду. И все. И я очнулась: темно, лежу, руки сзади в наручниках, бензином воняет. В багажнике. Лежу. Там хуйня какая-то рядом. Ну, а машина едет и едет. Потом остановилась. Они багажник открыли, вытащили меня. В лесу в каком-то. Утром уже. Раздели, привязали к березе. Да! А рот они мне еще раньше залепили. Типа пластыря что-то… Вот. И потом. Потом вообще это пиздец какой-то! У них такая… такой, типа сундука. А там лежал как будто топор такой, ну, как каменный. На палке кривой. Но это не камень только, а лед. Топор такой ледяной. Вот. И значит, один козел взял этот топор, размахнулся и к-а-а-ак ебнет мне в грудь! Вот сюда прямо. А другой говорит: «Рассказывай все». Но рот-то у меня заклеенный! Я мычу, но говорить-то не могу! А эти гады стоят и ждут. И опять: хуяк по груди! И опять: говори. У меня уже поплыло все, больно, ужас, блядь, какой-то. И – третий раз. Хуяк! И я отключилась. Вот. А потом очнулась: больница какая-то. И парень какой-то меня трахает. Я сопротивляться начала, а он нож вытащил и к горлу приставил. Вот. Ну, натрахался. Стал бухать. Я лежу – сил нет пальцем пошевельнуть. А он говорит: «Теперь здесь жить будешь». Я говорю: «На хера?» А он: «Будем тебя иметь». Я говорю: «У вас проблемы будут, я под Парвазом Слоеным хожу». А он говорит: «Я положил на твоего Парваза». Ну, он набухался быстро. Я говорю: «Я в сортир хочу». Он позвал санитара такого, бычару. Тот повел меня. Я голая иду по коридору, вижу, у него хуило стоит. В сортир вошла, а он за мной: «Становись раком!» Н у, встала, чего делать. Трахнул меня, отвалился в коридор. А в сортире окно такое, ну, типа стеклопакет. И никакой решетки, главное! Я окно открыла, вылезла потихоньку, там лес какой-то. В лес как рванула! Бежала, бежала. Потом поняла – Воробьевы горы. Вышла на шоссе, мотор взяла, и вот – Наташка видела, как я приехала. Место это, ну, эту больницу, я смогу найти.
Парваз и Паша переглянулись.
– Вот, братан, а ты удивляешься – пачему у нас убыток. – Парваз потушил сигарету. Рассмеялся: – Ледяной тапор, блядь! А может – залатой? А? Или брыльянтовый? А? Ты ошиблась, это не лед был – брыльянты. Брыльянтовым тапаром – па груди, па груди. А? Харашо. Для здаровья. Палезно.
– Парвазик, я клянусь, это… – подняла руки Николаева.
– Ледяной тапор… пиздец! – Он смеялся. Раскачивался: – Блядь, Паш. Ледяной тапор! Не, нам нужен другой бизнес, братан. Хватит. Пашли на рынок, мандарынами таргавать!
– Парвазик, Парвазик! – крестилась Николаева.
Паша сцепил могучие руки замком. Два коротких больших пальца быстро-быстро заскользили друг по дружке. Он забормотал бабьим фальцетом:
– Что ж ты, говнососка, наглеешь так? Ты что, по-нормальному не хочешь работать? Надоела нормальная жизнь? По-плохому хочешь? По-жесткому? Чтоб по голове били?
– Клянусь, Парвазик, всем на свете клянусь! – Николаева перекрестилась. Опустилась на колени: – Матерью клянусь! Отцом покойным клянусь! Парвазик! Я верующая! Богородицей клянусь!
– Верующая! А крест твой где? – спросил Паша.
– Так эти суки и крест с меня содрали!
– И крэст? Такие плахие? – покачал головой Парваз.
– Они меня чуть не угробили! Я до сих пор трясусь вся! Не веришь – поехали на Воробьевы горы, я найду это место, вот тебе крест!
– Какой крэст? Какой, блядь, крэст? На тебе пробы негде ставить! Крэст!
– Не веришь – Наташку позови! Она все видела! Как я голая да измудоханная приползла!
– Наташ! – крикнул Паша.
Тут же появилась Наташа.
– Когда она пришла?
– Где-то час назад.
– Голая?
– Голая.
– Одна?
– С каким-то козлом.
– Паш, это водила, он подвез меня, когда я…
– Молчи, пизда. И что это за козел?
– Да какой-то с серьгой, бородатый… Она ему бабки должна была. И в ванной отсосала.
– Да это за то, что подвез! За дорогу! Я ж без ничего выбежала!
– Молчи, плесень подзалупная. О чем они пиздели?
– Да ни о чем. Отсосала по-быстрому, сказала, если хочешь – заходи еще.
– Ах ты, срань! – Николаева гневно смотрела на Наташу.
– Парвазик, она сказала, что мне больше белья не даст. – Наташа не обращала внимания на Николаеву.
Парваз и Паша переглянулись.
– Парвазик… – Николаева качала головой. – Парвазик… она врет, сука, я… да она все время в моих платьях ходила! Я ей все делала!!
– Кто в доме? – спросил Наташу Парваз.
– Ленка и Сула. Спят.
– Давай их сюда.
Наташа вышла.
– Парвазик…
Николаева стояла на коленях. Лицо ее исказилось. Брызнули слезы:
– Парвазик… я… я… всю правду сказала… я вот столечко не соврала, клянусь… клянусь… клянусь…
Она трясла головой. Полотенце размоталось. Край его закрыл ее лицо.
Парваз встал. Подошел к мойке. Наклонился к мусорному ведру.
– Я тебе тагда паверил. Я тебя тагда прастил. Я тебе тагда памог.
– Парвазик… Парвазик…
– Я тебе тагда вернул паспорт.
– Клянусь… клянусь…
– Я тагда падумал: Аля женщина. Но теперь я панимаю: Аля не женщина.
– Парвазик…
– Аля – крыса памойная.
Из мусорного ведра он вынул пустую бутылку из-под шампанского. Брезгливо взял двумя пальцами:
– «Полусладкое».
Рывком сдвинул стол в сторону. Поставил бутылку на пол посередине кухни.
В кухню вошла Сула: 23 года, маленькая, каштановые волосы, смуглое, непривлекательное лицо, большая грудь, стройная фигура, цветастый халат.
И сразу за ней – Лена: 16 лет, высокая, хорошо сложенная, красивое лицо, светлые длинные волосы, розовая пижама.
Обе встали у двери. За ними показалась Наташа.
– Девочки, у меня плахая новость, – заговорил Парваз. – Очень плахая. – Сунул руки в узкие карманы. Привстал на носках. Качнулся: – Сегодня ночью Аля савершила плахой паступок. Павела себя как крыса памойная. Нарубила себе па-подлому. Наплевала на всех. И насрала на всех.
Он замолчал. Николаева стояла на коленях. Всхлипывала.
– Раздевайся, – приказал Парваз.
Николаева развязала пояс халата. Повела плечами. Халат соскользнул с ее голого тела. Парваз сдернул с ее головы полотенце:
– Садись.
Она встала. Перестала всхлипывать. Подошла к бутылке. Примерилась. Стала садиться влагалищем на бутылку.
– Нэ пиздой! Жопой садысь! Пиздой ты на меня работать будэшь!
Все молча смотрели.
Николаева села на бутылку анусом. Балансировала.
– Сидеть! – прикрикнул Парваз.
Она села свободней. Вскрикнула. Оперлась руками о пол.
– Бэз рук, пизда! Бэз рук! – Парваз ударил ногой по ее руке. И резко нажал на плечи:
– Си-дэ-ть!
Николаева закричала.
Мохо
19.22.
Тверская улица, дом 6
Темно-синий «Пежо-607» въехал во двор. Остановился.
Боренбойм сидел с газетой на заднем сиденье: 44 года, среднего роста, лысоватый, блондин, умное лицо, голубые глаза, узкие очки в золотой оправе, темно-зеленая тройка. Дочитал. Кинул на переднее сиденье. Взял узкий черный портфель.
– Завтра полдесятого.
– Хорошо, – кивнул шофер: 52 года, продолговатая голова, пепельные волосы, большой нос, большие губы, коричневая куртка, голубая водолазка.
Боренбойм вышел. Направился к подъезду № 2. В кармане у него зазвонил мобильный. Он вынул его. Остановился. Приложил к уху:
– Да. Ну? Так уже ж договорились. В девять, там. Не, давай наверху, там кухня лучше, и потише. Чего? А чего он мне в контору не позвонил? А? Леш, ну что за разговоры… испорченный телефон какой-то! Как я могу заочно давать советы? Пусть приедет нормально. Вообще по облигациям сейчас – порядок полный, они пухнут уже второй месяц, там предмета для разговора нет. А? Давай. Все… Да, Леш, ты про Володьку слышал? Там ночью экскаватор подогнали и два банкомата ковшом вырыли. Да! Мне Савва рассказал. Ты расспроси, он знает подробности. Вот такие сибирские помидоры. Ну, все.
Боренбойм вошел в подъезд.
Кивнул вахтерше: 66 лет, худощавая, парик, очки, серо-розовая кофта, коричневая юбка, валенки.
Он сел в лифт. Поднялся на третий этаж. Вышел. Достал ключи. Стал отпирать дверь.
Вдруг ему в спину что-то уперлось. Он стал оборачиваться. Но кто-то сильно схватил его за левое плечо:
– Не оглядываться. Смотреть вперед.
Боренбойм посмотрел на свою дверь. Она была стальной. Окрашенной серым.
– Открывай, – приказал низкий мужской голос. Боренбойм дважды повернул ключ.
– Входи. Дернешься – кладу на месте.
Боренбойм не двигался. В щеку ему уперся торец пистолетного глушителя. Он пах ружейным маслом.
– Не понял? До одного считаю.
Боренбойм толкнул дверь рукой. Вошел в темную прихожую.
Рука в коричневой перчатке вынула ключ из двери. Мужчина вошел вслед за Боренбоймом. И сразу закрыл за собой дверь.
– Свет включи, – приказал он.
Боренбойм нащупал широкую клавишу выключателя. Нажал. Сразу вспыхнул свет во всей пятикомнатной квартире. И зазвучала музыка: Леонард Коэн, «Сюзанн».
– На колени. – Мужчина ткнул Боренбойма пистолетом между лопаток.
Боренбойм опустился на бежевый коврик.
– Руки назад.
Он выпустил портфель. Протянул руки назад. На запястьях щелкнули наручники. Мужчина стал обыскивать карманы Боренбойма.
– Деньги в кабинете в столе. Около двух тысяч. Больше нет, – пробормотал Боренбойм. Мужчина обыскивал его. Достал из карманов бумажник. Мобильный телефон. Золотую зажигалку «GUCCI».
Все положил на пол.
Открыл портфель: деловые бумаги, две курительные трубки в кожаном футляре, банка с табаком, сборник рассказов Борхеса.
– Встать. – Мужчина взял Боренбойма под руку. Боренбойм встал. Покосился на незнакомца.
Мужчина: 36 лет, невысокий, крепкого телосложения, блондин, голубые глаза, короткая стрижка, тяжелое лицо, полоска светлых усов, стального цвета плащ, светлосерый шарф, черный кожаный рюкзак за спиной.
– Вперед. – Мужчина ткнул Боренбойма пистолетом.
Боренбойм пошел вперед. Миновали первую гостиную с круговым аквариумом и мягкой мебелью. Вошли во вторую. Здесь стояла низкая японская мебель. На стенах висели три свитка. И плоский телевизор. В углу стоял музыкальный центр. В виде черно-синей пирамиды.
Мужчина подошел к пирамиде. Посмотрел:
– Как вырубить?
– Вон пульт. – Боренбойм мотнул головой в сторону низкого квадратного стола. Черно-синий пульт лежал на краю.
Мужчина взял. Нажал кнопку «POWER». Музыка прекратилась.
– Сидеть. – Он нажал на плечо Боренбойма. Усадил на низкое сиденье с красной подушкой.
Убрал пистолет в карман. Снял рюкзак. Развязал. Достал молоток и два стальных альпинистских костыля.
– Какие стены в доме?
– В смысле? – напряженно моргал бледный Боренбойм.
– Кирпич, бетон?
– Кирпичные.
Мужчина сдернул со стены два свитка. Примерился. И в три удара вбил костыль в стену. На уровне своих плеч. Отошел от него метра на два. И вогнал второй костыль. На том же уровне. Потом достал мобильный. Набрал номер:
– Все в норме. Давай. Там открыто.
Вскоре в квартиру вошла Дибич: 32 года, высокая, худая, широкоплечая, блондинка, голубовато-серые глаза, жесткое костистое лицо, серовато-синее пальто, синий берет, синие перчатки, сине-желтый шарф, продолговатая спортивная сумка.
Осмотрелась. Мельком глянула на сидящего Боренбойма:
– Хорошо.
Мужчина достал из рюкзака веревку. Разрезал ножом пополам.
Они подняли Боренбойма. Сняли с него наручники. Стали снимать пиджак.
– Вы по-человечески можете сказать, что вам нужно? – спросил Боренбойм.
– Пока не можем. – Дибич взяла его правую руку, обвязала веревкой.
– Я не храню деньги дома.
– Нам не нужны деньги. Мы не грабители.
– А кто вы? Страховые агенты? – Боренбойм нервно усмехнулся. Облизал сухие губы.
– Мы не страховые агенты, – серьезно ответила Дибич. – Но ты нам очень нужен.
– Для чего?
– Расслабься. И ничего не бойся.
Они привязали его за руки ко вбитым в стену костылям.
– Вы садисты? – Боренбойм стоял. С разведенными в стороны руками.
– Нет. – Дибич сняла пальто. Под ним был синий костюм в тончайшую полоску.
– Чего вам надо? Какого хера? – Голос Боренбойма сорвался.
Мужчина залепил ему рот клейкой лентой. Дибич расстегнула сумку. В ней лежал продолговатый мини-холодильник. Она открыла его. Вынула ледяной молот.
Мужчина расстегнул Боренбойму жилетку и рубашку. Разорвал майку. Внезапно Боренбойм ударил его ногой в пах. Мужчина согнулся. Зашипел. Опустился на колени:
– Ох-хо…
Дибич ждала. Оперлась на молот.
– Ой… – морщился мужчина.
Дибич подождала немного. Посмотрела на висящий на стене свиток:
– Лед тает, Обу.
Мужчина приподнялся. Они приблизились к привязанному. Боренбойм попытался ударить ногой Дибич.
– Держи его ноги, – сказала она.
Мужчина кинулся. Обхватил колени Боренбойма. Сжал. Замер.
– Говори сердцем! – Дибич красиво размахнулась. Молот со свистом описал полукруг.
Обрушился на грудь Боренбойма.
Боренбойм зарычал.
Дибич приложила ухо к его грудине:
– Говори, говори, говори…
Боренбойм рычал. Дергался.
Дибич отшагнула. Размахнулась. Ударила. Изо всех сил.
Молот треснул. Куски полетели в стороны.
Боренбойм застонал. Повис на веревках. Голова упала на грудь.
Дибич приникла:
– Говори, говори, говори…
В грудине возник звук.
Дибич вслушалась.
Мужчина слушал тоже.
– Мо… хо… – произнесла Дибич.
Удовлетворенно выпрямилась:
– Его зовут Мохо.
– Мохо, – произнес мужчина. Поморщился. Улыбнулся.
Брат и сестры
Боренбойм открыл глаза.
Он сидел в треугольной ванне. Теплые струи воды приятно обтекали его тело. Напротив сидели две голые женщины.
Ар: 31 год, полная, блондинка, голубые глаза, большая грудь, округлые полные плечи, простоватое улыбчатое деревенское лицо.
Экос: 48 лет, маленькая, стройная, блондинка, голубые глаза, лицо внимательное, умное.
В просторной ванной комнате был полумрак. Только три толстые голубые свечи горели по краям ванны.
– Здравствуй, Мохо, – произнесла маленькая женщина. – Я Экос. Твоя сестра.
– Здравствуй. Мохо, – улыбалась полная. – Я Ар, сестра твоя.
Боренбойм вытер влагу с лица. Огляделся. Задержал взгляд на свече:
– А я Боренбойм Борис Борисович. Моя единственная сестра, Анна Борисовна Боренбойм Викерс погибла в автомобильной катастрофе в 1992 году. Близ города Лос-Анджелес.
– Теперь у тебя будет много сестер и братьев, – произнесла Экос.
– Сомневаюсь. – Боренбойм потрогал обширный синяк на груди. – Мама уже на том свете. Отец лежит после инсульта. И вероятность, что он осчастливит меня братом или сестрой, практически равна нулю.
– Родная кровь не единственная форма братства.
– Конечно. Есть еще братство по несчастью, – кивнул Боренбойм. – Когда живьем в братскую могилу кладут.
– Есть сердечное братство, – тихо произнесла Ар.
– Это когда один другому сердечный клапан продает? А себе искусственный ставит? Слышал про такое. Неплохой бизнес.
– Мохо, твой цинизм скучен. – Экос взяла его левую руку. Ар – правую.
– А я вообще скучный человек. Поэтому и живу один. А цинизм – это единственное, что меня спасает. Вернее – спасало. До второго марта.
– Почему только до второго марта? – Экос гладила под водой его запястье.
– Потому что второго марта я принял ошибочное решение. Я решил ездить только с водителем, а охранника не брать. Временно отдать его Рите Солоухиной. Которой? Нужен водитель. Потому что? Она ошпарила руку. Когда? Делала фондю. Сыром расплавленным, сыром…
– Ты жалеешь, что помог ей? – Ар гладила его другую руку.
– Я жалею, что на время изменил своему цинизму.
– Тебе стало ее жалко?.
– Не то чтобы… просто мне нравятся ее ноги. И как она работает.
– Мохо, но это довольно циничный аргумент.
– Нет. Если бы он был по-настоящему циничным, я бы не оказался лохом. Лохом. Которого взяли голыми руками.
– Разве они были не в перчатках? – подняла тонкие брови Экос. Они с Ар засмеялись.
– Да, – серьезно пожевал губами Боренбойм, – эти суки были в перчатках. Кстати, девочки, а где мои очки?
– Ты ложишься в ванну в очках?
– Иногда.
– Они же потеют.
– Это мне не мешает.
– Видеть?
– Думать. Где они?
– Сзади.
Он обернулся. Рядом с его головой на мраморном подиуме лежали очки и часы. Часы показывали 23. 55.
Он надел очки. Стал надевать часы.
В приоткрытую дверь вошла голая девочка: 12 лет, угловатое худое тело, безволосый лобок, русые короткие волосы, большие голубые глаза, спокойное и доброе лицо.
Она угловато перекинула ногу через невысокий края ванны, ступила в нее. Подошла к Боренбойму и опустилась перед ним на колени:
– Здравствуй, Мохо.
Боренбойм сумрачно глянул на нее.
– Я Ип.
Боренбойм собрался сказать что-то, но заметил большой белый шрам на груди девочки. Он посмотрел на свой синяк.
– Можно я положу тебе руку на грудь? – спросила девочка.
Боренбойм перевел взгляд на ее шрам, потом посмотрел на женщин. В центре груди у каждой тоже были шрамы.
– Вас что… тоже? – поправил он очки.
Женщины кивнули, не переставая улыбаться.
– Меня били в грудь ледяным молотом шестнадцать раз. – Ар приподнялась на коленях. – Смотри.
Он увидел заросшие рубцы на ее груди.
– Я трижды теряла сознание. Пока мое сердце не заговорило и не назвало мое истинное имя: Ар. После этого меня отнесли в купальню, обмыли, наложили повязку на раны. И потом один из братьев прижался к моей груди своей грудью. И его сердце заговорило с моим сердцем. И я плакала. Первый раз в жизни я плакала от счастья.
– А меня били семь раз, – заговорила Экос. – Вот… видишь… один большой шрам и два небольших шрамика. А я тогда просто обливалась кровью. Меня взяли на даче. Привязали к дубу. И били ледяным молотом. А сердце молчало. Оно не хотело говорить. Не хотело просыпаться. Оно хотело спать до самой смерти. Чтобы сонным сгнить в гробу, как у миллиардов людей… У меня тонкая кожа. Лед прорвал ее сразу. И крови было много. Молот был весь в крови. И когда сердце заговорило и назвало мое настоящее имя – Экос, меня поцеловал стучащий. В губы. Это был мой первый братский поцелуй.
– Поцеловал?
– Да.
– Стучащий?
– Стучащий.
– То есть – стукач? – нервно усмехнулся Боренбойм, глядя в большие глаза девочки.
– Называй так, если тебе удобно, – спокойно ответила Экос.
– Твой цинизм – это броня. Единственная защита от искренности. Которая тебя всегда пугала, – гладила его руку Ар.
– Как только она рухнет, ты станешь не просто счастливым. Ты поймешь, что такое настоящая свобода, – добавила Экос.
Девочка по-прежнему стояла на коленях. По-детски вопросительно смотрела на Боренбойма.
– М-да… наверно… – Он с трудом оторвал взгляд от глаз девочки. – А вот меня стукач не поцеловал. А жаль.
Решительно поправил очки. И неожиданно резко встал. Вода плеснула на женщин.
– Вот что, девочки мои. Подводный массаж мне сейчас не в кайф. Значит, расслабляться мы не будем. Времени у меня нет. Зовите ваших быков. Пусть скажут на правильном русском: сколько, где и когда.
– Здесь нет никаких быков. – Экос вытерла ладонью лицо.
– Тут только мы и служанка, – улыбалась Ар.
– И еще кошка, – произнесла девочка. – Но она сейчас спит в корзине. У нее скоро будут котята. А можно мне положить руку тебе на грудь?
– Зачем? – спросил Боренбойм.
– Чтобы поговорить с твоим сердцем.
Боренбойм вышел из ванны. Взял полотенце. Протер очки. Стал вытираться. Поморщился от боли.
– Значит, быки снаружи. Ясно.
– Снаружи? – Экос погладила свое плечо. – Там тоже нет быков. Там только березы.
– И снег. Но он уже плохой, – добавила девочка.
Боренбойм угрюмо покосился на нее. Обвязал свой худощавый торс полотенцем:
– Где моя одежда?
– В спальне.
Он вышел из ванной комнаты. Оказался в просторном многокомнатном помещении. Богато обставленном: ковры, дорогая мебель, хрустальные люстры, картины старых мастеров. Тихо звучала музыка Моцарта.
Он подошел к окну. Отвел штору зеленого бархата. Глянул: ночной березовый лес, белеющие в полутьме остатки снега. Где-то далеко лаяла собака.
– Что жилаете випить? – раздался женский голос с акцентом.
Он обернулся.
Поодаль стояла таиландка: 42 года, невысокая, некрасивая, полноватая, серый спортивный костюм, синие с блестками шлепанцы на смуглых босых ногах с лиловым педикюром.
– Где спальня? – Боренбойм брезгливо покосился на ее ноги.
– А вот издес. – Она повернулась. Пошла.
Он двинулся за ней.
Подвела. Показала морщинистой рукой.
Спальня была небольшой: по стенам индийская льняная ткань с желто-зеленым орнаментом, зеркало с подзеркальным столиком, индийский парчовый пуф, две большие бронзовые вазы по углам, двуспальная кровать под индийским покрывалом. На кровати – аккуратной стопкой одежда Боренбойма.
Он подошел. Взял. Проверил карманы: бумажник, ключи. Мобильный остался в портфеле.
Он надел трусы. Брюки. Вместо разорванной майки была новая.
– Оперативные… – усмехнулся он.
Надел майку, рубашку, жилетку. Стал завязывать галстук.
– Можно, я поговорю с твоим сердцем? – раздался голос девочки.
Он оглянулся: голая Ип стояла в двери спальни. На детском теле ее блестели капельки воды. Покончив с галстуком, он надел ботинки, пиджак. Застегнул две нижние пуговицы на пиджаке. Покосился на себя в зеркало. Вышел из спальни, задев мокрое плечо Ип.
– Что жилаете випить? – Таиландка стояла посередине гостиной.
– Випить, – скривил он губы. – Осинового сока нет?
– И что? – не поняла она.
– Осинового сока. Или березового молока, на худой конец?
– Бе-резо-ва? – наморщила она маленький лоб.
– Ааа… – обреченно махнул рукой Боренбойм. – Где выход?
– А вот издес, – послушно двинулась она.
Прошла в прихожую. Открыла белую дверь в тамбур. Надела прямо на шлепанцы большие валенки с галошами. Накинула серый пуховый платок. Открыла толстую входную дверь. Сошла вниз по мраморным ступеням.
Боренбойм вышел из дома. Двор и сам дом были подсвечены. Березовый лес густо стоял на участке.
Служанка шла по широкой асфальтированной дороге. К стальным воротам в высоком кирпичном заборе. Шаркала валенками.
Боренбойм огляделся. Поднял ворот пиджака. Вдохнул сырой ночной воздух. Напряженно двинулся за служанкой.
Она подошла к воротам. Вставила ключ в скважину. Повернула.
Ворота поехали в сторону.
– Можно, я поговорю с твоим сердцем? – раздалось сзади.
Боренбойм оглянулся: дом. Два этажа, белые стены, серая черепица, две трубы, ажурные решетки на окнах, медное солнце над дверью. На фоне подсвеченного дома стояла едва различимая голая фигурка. Она бесшумно подошла. В полумраке глаза Ип казались еще больше.
В полутемных окнах дома – никого.
– Можно? – Ип взяла влажными руками его руку.
Боренбойм глянул в открытые ворота: за ними пустая ночная улица. Лужи. Столб. Щербатый забор. Обыкновенный дачный поселок.
– Ты простудишься, – произнес он.
– Нет, – серьезно ответила Ип. – Пожалуйста, можно? Потом ты поедешь к себе.
– О’кей, – по-деловому кивнул он. – Только быстро.
Она оглянулась, посмотрела на качели возле беседки, потянула его руку:
– Идем туда.
Боренбойм пошел. Потом остановился:
– Нет. Мы не пойдем туда. – Он глянул на ворота: – Мы пойдем туда.
– Хорошо. – Она потянула его к воротам.
Они вышли за ворота. Ип потянула Боренбойма к обледенелому сугробу на обочине дороги. Он пошел за ней. Под его ботинками похрустывал лед. Босая Ип передвигалась бесшумно и легко. «Ангел, блядь…» – подумал Боренбойм. И произнес:
– Только быстро, полминуты. Серьезно говорю.
Маленькая таиландка в валенках сиротливо стояла у открытых ворот. Подмосковный ветер трепал концы ее пухового платка.
Ип подвела Боренбойма к сугробу. Взобралась на него. Лицо ее оказалось вровень с лицом Боренбойма. Очки его поблескивали в темноте.
Девочка осторожно обняла его худыми, но длинными руками, прижалась своей грудью к его. Он не противился. Их щеки соприкоснулись.
– О’кей. – Он слегка отвернулся, отстраняя лицо.
Посмотрел на подсвеченный дом. Запел басом:
– Darling, stop confusing me with your…
Но вдруг вздрогнул всем телом. И замер.
Ип тоже замерла.
Они стояли неподвижно.
Таиландка смотрела на них.
Прошло 23 минуты. Девочка разжала руки. Боренбойм бессильно упал на обледенелую дорогу. Ип опустилась на сугроб. Всхлипнула, втянула воздух сквозь сжатые зубы и жадно задышала. Уличный фонарь тускло освещал ее хрупкое белое тело.
Боренбойм зашевелился. Слабо вскрикнул. Сел. Застонал. Потом опять упал, растянувшись. Жадно задышал. Открыл глаза. В черном небе промеж клочковатых облаков слабо поблескивали звезды.
Девочка сошла с сугроба, еле слышно хрустнув снегом. Пошла к воротам. Скрылась в них. Раздалось слабое гудение, и ворота закрылись.
Боренбойм заворочался, хрустя льдом. Встал на четвереньки. Пополз. Потом оттолкнулся руками от земли. Тяжело встал. Пошатываясь, выпрямился:
– Оооо… нет.
Посмотрел на улицу. На сугроб.
– Нет… о, боже мой… – затряс головой.
Подошел к воротам. Стал шлепать по ним грязными руками:
– Эй… эй… ну эй… – Прислушался. За воротами было тихо.
Боренбойм кинулся на ворота. Замолотил по ним руками и ногами. Очки слетели. Он прислушался. Тишина.
Он заскулил, прижавшись к воротам. Сполз на землю. Заплакал. Встал, отошел от ворот, пробежал на полусогнутых ногах и с разбега ударил ногой в ворота.
Прислушался. Нет ответа.
Он набрал в грудь побольше воздуха и закричал изо всех сил.
Эхо разнесло крик по окрестности.
Где-то далеко залаяла собака. Потом другая.
– Ну я прошу… ну умоляю! – вскрикивал Боренбойм, стуча в ворота. – Ну я же умоляю! Ну я же умоляю! Ну умоляю!! Блядь… ну я же умоляю!!!
Истошный крик его оборвался хрипом. Он замолчал. Облизал губы.
Тонкий месяц выплыл из-за тучи. Две собаки неохотно лаяли.
– Нет… это нельзя так… – Боренбойм отступил от забора. Очки хрустнули под ногами. Он наклонился, поднял. Левое стекло треснуло. Но не вылетело.
Он вытащил платок, протер очки. Надел. Платок кинул в лужу. Всхлипнув, вздохнул. Побрел по улице.
Дошел до перекрестка. Свернул. Дошел до другого. И чуть не столкнулся с машиной. Красная «Нива» резко затормозила. Его обрызгало из лужи.
– Ты чего, охуел? – открыл дверь водитель: 47 лет, худое морщинистое лицо, впалые щеки, стальные зубы, кожаная кепка.
– Извини, друг. – Боренбойм оперся руками о капот. Устало выдохнул: – Отвези в милицию. На меня напали.
– Чего? – зло сощурился водитель.
– Отвези, я заплачу… – Боренбойм вытер водяные брызги с лица. Полез во внутренний карман. Вынул бумажник, раскрыл. Поднес под грязную фару: все четыре кредитные карты на месте. Но как всегда, ни одного рубля. И? Еще одна карточка: VISA Electron. С его именем. Такой у него никогда не было. У него была VISA Gold. Он повертел новую карточку:
– What’s the fuck?
В углу карточки он разглядел написанный от руки пин-код: 6969.
– Ну, чего, долго стоять будем? – спросил водитель.
– Щас, щас… Слушай… а тут какая станция?
– Кратово.
– Кратово? – Боренбойм посмотрел на его кепку. – Новорязанское шоссе… Отвези в Москву, друг. Сто баксов.
– Так. Отошел от машины! – зло ответил водитель.
– Или до милиции… то есть до Рязанки… до Рязанки подвези!
Водитель захлопнул дверь. «Нива» резко тронулась. Боренбойм отпрянул в сторону.
Машина свернула за угол.
Боренбойм посмотрел на карточку:
– Блядь… дары волхвов… и с пин-кодом! Туфта, сто процентов.
Спрятал карточку в бумажник. Сунул его в карман. Пошел по улице. Мимо заборов и темных дач. Ежился. Сунул руки в карманы брюк.
В окнах одной дачи горел свет. Возле глухих ворот была калитка. Боренбойм подошел к ней. Дернул. Калитка была заперта.
– Хозяин! – крикнул он.
В доме залаяла собака.
Боренбойм подождал. Никто не откликнулся. Он крикнул еще раз. И еще. Собака лаяла.
Он зачерпнул мокрого снега. Слепил снежок. Кинул в окно веранды.
Собака продолжала лаять. Никто не вышел.
– И не князя будить – динозавра… бля… – Боренбойм сплюнул. Двинулся по темной улице.
Улица стала сужаться. Превратилась в грязную тропу. Зеленый и серый заборы сдавили ее.
Боренбойм шел. Тонкий ледок хрустел под ногами.
Вдруг тропа оборвалась. Впереди оказался резкий спуск. Грязный. С водой и снегом. И смутно виднелась неширокая река. Черная. С редкими льдинами.
– Кончен бал, погасли свечи, fuck you slowly…
Боренбойм постоял. Поежился. Повернулся. Пошел назад. Поровнялся с освещенным домом. Слепил снежок. Подбросил в воздух. Пнул ногой. И вдруг зарыдал в голос, по-детски, беззащитно. Побежал, рыдая. Вскрикнул. Остановился:
– Нет… ну не так… ооо, мамочка… ооо! Мудак… мудак ебаный… ооо! Это просто… просто… мудак…
Высморкался в ладонь. Всхлипывая, пошел дальше. Свернул направо. Потом налево. Вышел на широкую улицу. По ней проехал грузовик.
– Эй, шеф! Эй! – хрипло и отчаянно закричал Боренбойм. Побежал за грузовиком.
Грузовик остановился.
– Шеф, подвези! – подбежал Боренбойм.
– Куда? – пьяно посмотрел из окна водитель: 50 лет, грубое желто-коричневое лицо, кроликовая шапка, серый ватник, сигарета.
– В Москву.
– В Москву? – усмехнулся водитель. – Ёптеть, я спать еду.
– Ну, а до станции?
– До станции? Да это ж рядом, чего туда ехать-то?
– Рядом?
– Ну.
– Сколько пешком?
– Десять минут, ёптеть. Иди вон так… – Он махнул из окна грязной рукой.
Боренбойм повернулся. Пошел по дороге. Грузовик уехал.
Впереди показались фары. Боренбойм поднял правую руку. Замахал.
Машина проехала мимо.
Он дошел до станции. Возле ночной палатки с напитками стояли белые «Жигули». Водитель покупал пиво.
– Друг, слушай, – подошел Боренбойм. – У меня большая проблема.
Водитель недоверчиво покосился: 42 года, высокий, упитанный, круглолицый, коричневая куртка:
– Чего?
– Мне… надо тут дом один найти… я не запомнил номера…
– Где?
– Тут… тут рядом.
– Сколько?
– Пятьдесят баксов.
Водитель прищурил заплывшие поросячьи глазки:
– Деньги вперед.
Боренбойм автоматически достал бумажник, но вспомнил:
– У меня нет наличных… я заплачу, заплачу потом.
– Не канает, – качнул массивной головой водитель.
– Ну, погоди… – Боренбойм тронул грязной рукой свою щеку. Потом снял с левой руки часы:
– Вот, часы… швейцарские… они тыщу баксов стоят… понимаешь, на меня напали. Поедем, найдем их.
– Не играю в чужие игры, – мотал головой водитель.
– Дружище, ты в убытке не останешься!
– Если напали, иди в милицию. Тут рядом.
– На хер мне нужна милиция… ну в чем проблема, тыща баксов! «Морис Лакруа»! – тряс часами Боренбойм.
Водитель подумал, шмыгнул носом:
– Не. Не пойдет.
– Фу, блядь… – устало выдохнул Боренбойм. – И что ж ты такой неполиткорректный… – Огляделся. Других машин не было. – Ладно. Я их потом найду… Ну а в Москву хотя бы можешь отвезти? Дома я тебе дам рубли или доллары. Что хочешь.
– А куда в Москве?
– Тверская. Или нет… лучше – Ленинский. Ленинский проспект.
Водитель прищурился:
– За двести баксов поеду.
– О’кей.
– Но деньги вперед.
– Блядь! Но я ж тебе только что сказал – меня ограбили, напали! Вот залог – часы! Карточки могу тебе кредитные показать!
– Часы? – Водитель посмотрел, словно увидел часы впервые. – Сколько стоят?
– Тыщу баксов.
Тот засопел скучающе, вздохнул. Взял. Посмотрел. Сунул в карман:
– Ладно, садись.
Крысиное дерьмо
03.19.
Ленинский проспект, д. 35
«Жигули» въехали во двор.
– Минуту подожди. – Боренбойм вылез из машины. Подошел к двери подъезда № 4. Набрал на панели домофона номер квартиры.
Долго не отвечали. Потом сонный мужской голос спросил:
– Да?
– Савва, это Борис. У меня проблема.
– Боря?
– Да, да. Открой, пожалуйста.
Дверь запищала.
Боренбойм вошел в подъезд. Вбежал по ступеням к лифту. Поднялся на третий этаж. Подошел к большой двери с телекамерой. Дверь тяжело открылась. Савва выглянул из-за нее: 47 лет, большой, грузный, лысоватый, заспанное лицо, бордовый халат.
– Борьк, чего стряслось? – сонно щурился он. – Господи, где ты извалялся?
– Привет. – Боренбойм поправил очки. – Дай двести баксов с таксистом расплатиться.
– Ты в загуле? Тебя что, отпиздили?
– Нет, нет. Все серьезней. Давай, давай, давай!
Они вошли в просторную прихожую. Савва отодвинул панель полупрозрачного платяного шкафа. Полез в карман темно-синего пальто. Достал бумажник. Вытянул из него две стодолларовые бумажки. Боренбойм вырвал их у него из пальцев. Вышел. Спустился вниз. Но «Жигулей» не было.
– Тьфу, блядь! – Боренбойм сплюнул. Прошел за угол дома. Машины нигде не было.
– Временами дико сообразительный народ… – Он зло засмеялся. Скомкал купюры. Сунул в карман: – Fuck you!
Вернулся к Савве.
– Хватило? – Савва пошел на кухню. Зажег свет.
– Вполне.
– У тебя очки разбиты. Грязный весь… чего, напали, что ли? Давай, ты это… сними, надень… дать тебе чего-нибудь надеть? Или сразу в душ?
– Сразу выпить. – Боренбойм снял испачканный пиджак, кинул его в угол.
Сел за круглый стеклянный стол с широкой каймой из нержавеющей стали.
– Может, душ сначала? Тебя били?
– Выпить, выпить. – Боренбойм подпер подбородок кулаком, закрыл глаза. – И покурить чего покрепче.
– Водки? Вина? Пиво… тоже есть.
– Виски? Или нет?
– Обижаешь, начальник. – Савва размашисто ушел. Вернулся с бутылкой «Tullamore dew». И с пачкой папирос «Богатыри»: – Крепче нет ничего.
Боренбойм быстро закурил. Снял очки. Потер свои надбровья кончиками пальцев.
– Со льдом? – Савва достал стакан.
– Straight.
Савва налил ему:
– Чего стряслось?
Боренбойм молча выпил залпом.
– Одна-а-ако, отче! – пропел Савва на церковный манер. Налил еще.
Боренбойм отпил. Повертел стакан:
– На меня наехали.
– Так. – Савва сел напротив.
– Но я не знаю, кто они и чего они хотят.
– Ихь бин не понимает. – Савва пошлепал ладонями по своим пухлым щекам.
– Я тоже. Не понимает. Пока.
– И… когда?
– Вчера вечером. Я вернулся домой. И возле двери мне какой-то хер пушку приставил. Вот. А потом…
На кухню вошла заспанная Сабина: 38 лет, рослая, спортивная.
– Zum Gottes Willen! Боря? У вас мужское пьянство уже? – заговорила она с легким немецким акцентом.
– Бинош, у Бори проблема.
– Что-то случилось? – Она пригладила взлохмаченные волосы. Наклонилась. Обняла Боренбойма. – Ой, ты совсем грязный. Это что?
– Так… мужские дела. – Он поцеловал ее в щеку.
– Серьезное?
– Так. Не очень.
– Хочешь есть? У нас там салат остался.
– Не, не. Ничего не надо.
– Тогда я спать пойду, – зевнула она.
– Schlaf Wohl, Schützchen. – Савва обнял ее.
– Trink Wohl, Schweinchen. – Она шлепнула его по лысине. Ушла. Боренбойм взял папиросу. Прикурил от окурка. Продолжил:
– А потом вошел со мной в квартиру. Надел мне наручники. Вошла одна баба. Они вбили в стену два таких кронштейна. На них – по веревке. И распяли меня, блядь, на стене, как Христа. Вот. И потом… это вообще… очень странно… они открыли такой… типа кофра… а там лежал такой странный молоток какой-то… странной такой архаической формы… с такой рукояткой из палки простой… неровной такой. Но сам молоток этот был не стальной, не деревянный, а ледяной. Лед. Не знаю – искусственный, натуральный, но лед. И вот, представь, этим молотком эта баба стала меня молотить в грудь. И повторяла: скажи мне сердцем, скажи мне сердцем. Но! Самое странное! Они мне рот залепили! Такой клейкой лентой. Я мычу, она меня лупит. И лупит, блядь, изо всех сил. Так, что лед этот просто разлетался по комнате. Лупит и говорит эту хуйню. Дико больно, прямо пронизывало всего. Никогда такой боли не чувствовал. Даже когда мениск полетел. Вот. Они меня лупят, лупят. И я просто отрубился.
Он глотнул из стакана.
Савва слушал.
– Сав, это вообще на бред похоже. Или на сон. Но – вот, посмотри… – Он расстегнул рубашку. Показал обширный синяк на груди: – Это не сон.
Савва протянул пухлую руку. Потрогал:
– Болит?
– Так… когда давишь. Голова болит. И шея.
– Выпей, Борь, расслабься.
– А ты?
– Я… мне рано ехать завтра, то есть сегодня.
Боренбойм допил виски. Савва сразу налил еще.
– Но самое интересное началось потом. Я очнулся: сижу в джакузи. Со мной две бабы. Вода бурлит. И эти бабы начинают меня гладить потихоньку и плести мне что-то про братство какое-то, что мы с ними братья-сестры, про искренность, про непосредственность и так далее. Их, оказывается, тоже пиздили такими же молотками в грудь, они мне шрамы показывали. Реальные шрамы. И пиздили до тех пор, пока они не заговорили сердцем. И что у нас у всех, у нашего ебаного братства, свои имена. У них – Вар, Map, не помню. А меня зовут – Мохо. Понимаешь?
– Как?
– Мохо!
– Мохо? – Савва смотрел маленькими подслеповатыми глазами.
– Меня зовут Мохо! – выкрикнул Боренбойм и захохотал. Откинулся на спинку стула из нержавеющей стали. Схватился за грудь. Сморщился. Закачался.
Савва внимательно смотрел на него.
Боренбойм нервно хихикал. Раскачивался на стуле. Достал платок. Вытер глаза. Высморкался. Потер грудь.
– Когда смеюсь – больно. Вот, Савочка. Но и это не все. Сидели мы, сидели в этой джакузи. И вдруг вошла девочка. Совсем еще маленькая… ну, лет одиннадцать, наверно. Русая такая, с большими голубыми глазами. И с такими же шрамами на груди. Вошла и так рядом села со мной. Думаю: так, щас будут мне малолетку на хуй насаживать. Но она просто сидит. И я вдруг вижу – все они голубоглазые и блондинки. И те двое, что пиздили меня молотом, тоже были голубоглазые и блондины. Как и я! Понимаешь?
Савва кивнул.
– И до меня дошло, что это не совсем обычный наезд. Я говорю: девушки, хватит плескаться, зовите ваших бычар, я спрошу, чего они хотят. Они говорят: а бычар тут и нет никаких. И я сразу поверил. Да! А эта девочка… Дюймовочка эта голубоглазая, она повторяла как кукла одно и то же: дай я поговорю с твоим сердцем, дай поговорю, дай поговорю… И я просто встаю и иду оттуда на хер! Одежда моя была там. Оделся я. Осмотрелся. Это такой кондовый новорусский домина, жирный такой. Никого там нет, кроме служанки. Вышел я на участок, иду к воротам. А эта девочка голенькая – за мной. А служанка ворота отперла: пожалуйста. Я вышел. Улица, нормальная такая дачная, это все в Кратово. А девчонка голая – за мной! И опять: дай мне поговорить с твоим сердцем. Ну, хер с тобой – давай говори! Она так подошла ко мне, обняла и прилипла к груди, как мокрица. И ты знаешь, Савва, – голос Боренбойма задрожал, – я… ну ты знаешь меня двенадцать лет… я взрослый деловой человек, прагматик, я, бля, знаю, откуда ноги растут, меня развести вообще-то трудно, но… понимаешь… то, что было потом… – тонкие ноздри Боренбойма затрепетали, – я… это… я не знаю до сих пор, что это было… и что это вообще такое…
Он замолчал, достал платок и высморкался. Отпил из стакана.
Савва налил еще:
– Ну и?
– Щас… – Боренбойм выдохнул, облизал губы. Вздохнул и продолжил: – Понимаешь, она обняла меня. Ну, обняла и обняла. А потом вдруг такое странное чувство возникло… словно… все во мне стало… как-то медленней, медленней. И мысли, и вообще… все. И я как-то остро почувствовал свое сердце, как-то охуительно остро… очень такое… острое и нежное чувство. Это трудно объяснить… ну, вот есть как бы тело, это просто мясо какое-то бесчувственное, а в нем сердце, и это сердце… оно… совсем не мясо, а что-то другое. И оно стало так очень неровно биться, как будто это аритмия… вот. А девочка… эта… застыла так неподвижно. И я вдруг почувствовал своим сердцем ее. Просто как своей рукой чужую руку. И ее сердце стало говорить с моим. Но не словами, а такими… как бы… всполохами, что ли… всполохами… а мое сердце как-то пыталось отвечать. Тоже такими всполохами…
Он налил себе виски, выпил. Взял из коробки папиросу, размял. Вздохнул. Положил в коробку.
– И когда это началось, все вокруг, вообще все, весь мир – он как бы остановился. И все стало как-то… сразу… так хорошо и понятно… так хорошо… – он всхлипнул, – я… никогда так… никогда так… никогда ничего такого… не чувствовал…
Боренбойм всхлипнул. Зажал рукой рот. Волна беззвучного рыдания накатила на него.
– Слушай, может, тебе… – начал привставать Савва.
– Нет, нет… нет… – затряс головой Боренбойм. – Сиди… по… посиди… – Савва сел.
Приподняв очки, Боренбойм вытер глаза. Шмыгнул носом:
– И это еще не все. Когда у нас все кончилось, она ушла в дом. Я там… стоял и стучал. В ворота. Очень хотел… чтобы она была со мной еще. Не она. А ее сердце. Вот. Но никто не открыл. Таковы, блядь, правила игры. И я пошел. Вышел к станции. Нанял там лоха одного. Да! А когда в карман полез, в бумажнике нашел вот что…
Боренбойм достал бумажник. Вынул карточку VISA Electron. Бросил на стол.
Савва взял.
– И вот теперь – все, – выпил Боренбойм. – У меня предчувствие, что это не просто кусок пластика. Там что-то лежит. Видишь, в уголке там?
– Пин-код?
– А что еще?
– Вполне может быть. – Савва вернул ему карточку.
– Юграбанк. Ты знаешь такой?
– Слышал. Газпромовская контора. В Югорске. Далековато.
– Знаешь там кого-нибудь?
– Нет. Но это не проблема найти. Хотя а чего ты узнать хочешь?
– Ну, кто положил. Я уверен, что там есть деньги.
– Чего гадать. Дождись утра. Слушай, а эти… которые тебя молотили?
– Я их больше не видел.
Савва помолчал. Пожевал губами. Тронул свой маленький нос:
– Борь, а как он тебе мог пушку приставить, если ты с охраной ходишь?
– В том-то и дело! Вчера я отдал охранника одной сотруднице. Она руку ошпарила, не может водить. Н у, я и… помог девушке человечинкой. Мудак человеколюбивый.
Савва кивнул.
– Ну, что скажешь?
– Пока – ничего.
– Почему?
– Слушай, Борь. Только не обижайся. Ты… нюхаешь часто?
– Уже месяц ни пылинки.
– Точно?
– Клянусь.
Савва наморщил лоб.
– Ну, что мне делать? – Боренбойм взял папиросу. Закурил. Савва пожал мясистыми плечами:
– Позвони Платову. Или своим.
Захмелевший Боренбойм усмехнулся:
– Я это и так сделаю! Часика через три. Но мне хочется понять… хочется услышать твое мнение. Что ты об этом думаешь?
Савва молчал. Разглядывал острый подбородок Боренбойма. На подбородке выступили бисеринки пота.
– Сав?
– Да.
– Что об этом думаешь?
– Как-то… ничего.
– Почему?
– Не знаю.
– Ты что, не веришь мне?
– Верю. Верю, – закивал головой Савва. – Борь, я теперь во все верю. Третьего дня ко мне в банк санэпидемстанция приперлась. В соседнем подвале морили тараканов. Ну и у нас заодно. Начали-то с тараканов, а нашли горы крысиного дерьма. И знаешь где? В вентиляционной системе. Горы просто, залежи. Пиздец какой-то! И самое замечательное – этих крыс никто никогда не слышал. Ни сотрудники, ни охрана, ни уборщицы. Да и питаться у нас им нечем было. С чего б они так много срали? Или что – они жрали где-то, а ко мне в банк залезали, чтобы просраться? Мистика! Я подумал-подумал. И собрал совет директоров. Говорю, господа, похоже, что это провокация. Крыс-то ни хера не было! А дерьмо есть. Значит, его кто-то специально подложил. Нам намекают на что-то? На что? Все молчат. Ты же знаешь, мы от Жорика только-только отбились. А Гриша Синайко, толковый парень, он в «Кредит Анштальдте» просидел четыре года, посмотрел так на меня внимательно и говорит: «Савва, никакой это не намек. Если бы подложили человечье дерьмо – вот это был бы явный намек. Тогда бы надо было париться. А крысиное дерьмо – никакой не намек. Это просто кры-си-ное дерь-мо! И если есть крысиное дерьмо, значит, его высрали крысы. Обыкновенные московские крысы. Поверь моему опыту». Борь, я подумал. И поверил.
Боренбойм резко встал. Поднял пиджак с пола. Пошел в прихожую:
– Дай мне рублей на такси.
Савва тяжело приподнялся. Двинулся за ним.
– Слушай, Борь, – он положил тяжелую руку на худое плечо Боренбойма, – я тебе очень советую…
– Дай мне рублей на такси! – перебил его Боренбойм.
– Борь. Хочешь, я Мишкарику позвоню, в ФСБ? Они тебе точно чего-то скажут…
– Дай мне рублей на такси!
Савва вздохнул. Скрылся в темных комнатах.
Боренбойм надел пиджак, ударил ребром ладони по стене. Сжал кулаки. Со свистом выдохнул.
Вернулся Савва с пачкой сотенных купюр.
– Надень мое пальто. Тебе же холодно так будет.
Боренбойм вытянул из пачки две сотни. Вынул из кармана две смятые в комок стодолларовые купюры, с силой вложил в Саввину ладонь:
– Thanks a lot, honey child.
Открыл дверь. Вышел.
Крысиное сердце
4.00.
Тверская улица, д. 6
Боренбойм отпер дверь своей квартиры. Вошел. Включил свет.
Зазвучала музыка. И привычно запел Леонард Коэн.
Боренбойм стоял возле приоткрытой двери.
Смотрел в квартиру. Все было по-прежнему.
Он закрыл дверь. Прошел по комнатам. Заглянул в ванную. На кухню.
Никого.
В японской гостиной на низком столе лежали: портфель, мобильный, зажигалка.
Он посмотрел на стену. Все три свитка висели на прежних местах. Он подошел. Сдвинул левый свиток. Дыра от вбитого костыля была тщательно заделана. Влажная водоэмульсионная краска еще не высохла. Вторая дыра под другим свитком была заделана так же.
– Ну, бля… – покачал головой Боренбойм. – Безотходное производство. Фирма веников не вяжет.
Усмехнулся.
Открыл портфель. Полистал бумаги: все на месте. Достал трубку. Набил табаком. Закурил. Подошел к полукруглому аквариуму. Свистнул. Рыбки оживились. Всплыли к поверхности.
Он вынул из ниши в стене китайскую чашку с крышкой. Открыл. В чашке был корм для рыбок. Он стал сыпать корм в аквариум:
– Голодающие мои…
Рыбки жадно хватали корм.
Боренбойм закрыл чашку. Поставил в нишу.
Выключил музыку. Вынул из японского шкафчика бутылку виски «Famous Grouse». Налил полстакана. Отпил. Сел. Взял мобильный. Положил на стол. Встал. Пошел на кухню. Открыл холодильник.
Он был пуст. Только на второй полке стояли четыре одинаковые чаши с салатами. Закрытые прозрачной пленкой.
Он взял чашу со свекольным салатом. Поставил на стол. Достал ложку. Сел. Стал жадно есть салат.
Съел весь.
Поставил пустую чашу в мойку. Вытер губы салфеткой.
Вернулся в японскую комнату. Взял телефонную трубку. Набрал номер. Махнул рукой:
– Shutta fuck up!
Кинул трубку на стол. Налил еще виски. Выпил. Выбил погасшую трубку. Стал набивать табаком. Бросил. Встал. Подошел к аквариуму.
Смотрел на рыб.
– Darling, stop confusing me with your wishful thinking… – пропел он.
Вздохнул. Печально скривил тонкие губы. Щелкнул по толстому стеклу.
Рыбки метнулись к нему.
Он прошел в ванную. Пустил воду. Поставил стакан с виски на край ванны. Разделся. Посмотрел на себя в зеркало. Потрогал синяк на груди.
– Говори, сердце… говори, митральный клапан… Козлы!
Устало рассмеялся.
Залез в ванну.
Допил виски.
Закрыл воду.
Откинул голову на холодную впадину подголовника.
Облегченно вздохнул.
Заснул.
Ему приснился сон: он подросток, на даче отчима в Сосенках, стоит у калитки и смотрит на улицу. По улице к нему приближаются Витька, Карась и Гера. Они должны вместе пойти на Саларевскую свалку. Ребята подходят. У них в руках палки для ворошения помойки. Он берет свою палку, стоящую у забора, выходит на улицу. Они быстро и весело идут по улице. Раннее утро, середина лета, сухая нежаркая погода. Ему очень приятно и легко идти. Они доходят до свалки. Она огромная, до самого горизонта.
– Будем ворошить с юга на север, – говорит Карась. – Там турбины лежат.
Они ворошат помойку. Боренбойм проваливается по пояс. Потом еще ниже. Там подземелье. Нестерпимая вонь. Тяжкий и липкий мусор колышется, как болото. Боренбойм кричит от страха.
– Не бзди! – хохоча, ловит его за ноги Гера.
– Это положительные катакомбы, – объясняет Витька – Тут живут родители ускорителей.
По катакомбам ходят люди, двигаются причудливые машины.
«Надо найти компьютерное тесто, тогда я дома сделаю сапоги перемещения для супермощных тепловозов», – думает Боренбойм, вороша мусор.
В мусоре мелькают всевозможные предметы. Вдруг Карась с Герой проламывают палками стену. Из проема несется угрюмый гул. «Это турбины», – понимает Боренбойм. Он заглядывает в проем и видит громадную пещеру, посередине которой высятся голубоватые турбины. Они угрюмо ревут, дым стелется от них. Он ест глаза.
– Валим отсюда, пока не сплющили! – советует Витька.
Они бегут по извилистому ходу, увязая в липком, хлюпающем мусоре. Боренбойм натыкается на кусок компьютерного теста. Серебристо-сиреневое, оно пахнет бензином и сиренью. Он вытягивает тесто из груды мусора.
– Ты его слепи по форме, а то распаяется! – говорит Карась.
Вдруг из компьютерного теста выпрыгивает крыса.
– Сука, она программу сожрала! – орет Витька.
Витька, Гера и Карась начинают бить крысу палками.
Серое тело ее сотрясается от ударов, она жалобно пищит. Боренбойм смотрит на крысу. Он чувствует ее трепещущее сердце. Это нежнейший комочек, от которого по всему миру идут волны тончайших вибраций, прекрасные волны любви. И что самое замечательное – они никак не связаны с агонией и ужасом погибающей крысы, они – сами по себе. Они пронизывают тело Боренбойма. Его сердце сжимается от сильнейшего приступа умиления, радости и счастья. Он расталкивает ребят, поднимает окровавленную крысу. Он рыдает, склоняется над ней. Влажные крысиные глазки закрываются. Сердце ее трепещет, посылая последние прощальные волны любви. Боренбойм ловит их своим сердцем. Ему понятен язык сердец. Он непереводим. Он прекрасен. Боренбойм рыдает от счастья и жалости. Крысиное сердце содрогается в последний раз. И останавливается: НАВСЕГДА! Ужас потери этого маленького сердца охватывает Боренбойма. Он прижимает окровавленное тельце к груди. Он рыдает в голос, как в детстве. Рыдает долго и беспомощно.Боренбойм проснулся.
Голое тело его вздрагивало в воде. Слезы обильно текли по щекам. Он с трудом поднял голову. Сморщился: грудь и шея болели еще сильнее. Сел в остывшей воде. Вытер слезы. Вздохнул. Глянул на часы: он спал 1 час 21 минуту.
– О-ля-ля… – Он тяжело вылез из ванны. Снял со змееобразной сушилки полотенце. Вытерся. Повесил полотенце на место. Повернулся к зеркалу. Приблизился. Заглянул в свои голубые глаза. Черные зрачки напомнили ему влажные крысиные глазки.
– Компьютерное тесто ела… – пробормотал он. Всхлипнул: – Ела… ела и ела… сволочи…
Лицо его исказилось судорогой. И слезы хлынули из глаз.
Вдребезги
00.44.
Клуб «Точка»
Заканчивался концерт группы «Ленинград». Вокалист Шнур пропел:В черном-черном городе черными ночами
Неотложки черные с черными врачами
Едут и смеются, песенки поют.
Люди в черном городе, словно мухи, мрут!
А мне все по хуй…
Шнур направил микрофон в зал. Там стояли и танцевали сотни три молодых людей. Зал закричал:
– …Я сделан из мяса!!!
Все запрыгали и запели.
Лапин прыгал и пел со всеми. Рядом прыгала и пела Илона: 17 лет, высокая, худая, с живым смешливым лицом, кожаные брюки, ботинки на платформе, белая кофта.
– Прощай, «Точка»! – выкрикнул Шнур. Зал засвистел.
– Чума, правда? – Илона толкнула Лапина кулаком в бок.
– Пошли бухалова возьмем, пока все не набежали! – закричал он ей в ухо.
– Давай.
Они подошли к стойке.
– Бутылку шампанского, – протянул Лапин деньги.
Бармен открыл бутылку, протянул вместе с фужерами.
– Двинем туда, в угол! – потянула Илона Лапина.
В углу край грубого деревянного стола был свободен. Они сели за стол. Лапин стал разливать шампанское в фужеры. Рядом сидели двое парней и девушка.
– Ну что, мастер? – Илона подняла бокал. – За что?
– Давай… за встречу. – Лапин чокнулся.
– Может, за Шнура?
– Давай за Шнура. – Выпили.
– А ты их в первый раз слушал? – Илона закурила.
– Живьем – да.
– В записи – не то. Нет кайфа такого. Bay! – Она взвыла. – Чума, ну чума! Фу… Сейчас бы косяка забить.
– Хочется? – опустошил свой бокал Лапин.
– Ага. Я всегда, когда прикалываюсь, травы хочу.
– А тут… нельзя достать? – оглянулся Лапин.
– Я тут всего второй раз. Никого не знаю.
– А я первый.
– Правда? Ты по-деловому на «Ленинград», да?
– Ага. Узнал случайно, что они тут зажигают. И приехал.
Лапин закурил.
– Ничего место, а? – осматривалась Илона. Быстро хмелела.
– Большой зал, – потер грудь Лапин.
– По-крутому, а? Блин, как покурить хочу! Слушай, ты при бабках?
– Вроде.
– Давай в одно место поедем. Там всегда есть. Много чего. Только это не близко.
– Где?
– В Сокольниках.
– А чего там?
– Там просто хата съемная. И друзья живут.
– Ну чо, поехали.
– До свиданья, наш плюшевый Мишка!
Илона встала, потянулась. Лапин взял ополовиненную бутылку. Они двинулись к выходу через танцующую толпу.
В гардеробе получили одежду. Вышли в полутемный проход с грубыми стенами из сваренных стальных кусков. Здесь маячили редкие фигуры.
– Уаах! Холодно… – Илона поежилась. Пошла вперед. Лапин обнял ее. Грубо и неловко притянул к себе.
– Нежности? – спросила Илона.
Лапин стал целовать ее тонкие холодные губы. Она ответила. Свободной рукой он сжал ее грудь. Бутылка выскользнула из другой руки. Разбилась возле их ног.
– Блин… – вздрогнул Лапин.
– Ауч! – посмотрела вниз Илона.
Лапин рассмеялся:
– Стекло во множественном числе… а по-русски – вдребезги.
– Гуляем? – спросил какой-то парень. Сидел на корточках у стены. Курил.
– Давай новую возьмем? – дохнул ей в ухо Лапин.
– Хватит! – Илона с силой наступила темно-синей платформой на осколки. Осколки хрустнули.
Она взяла Лапина за руку. Потянула к выходу из прохода:
– Шампанское – штука хорошая. Но там будет круче.
Лапин задержал ее:
– Подожди…
– Чего? – остановилась она.
Он обнял ее. Замер, прижавшись. Они постояли минуту.
– Холодно, – тихо усмехнулась Илона.
– Подожди… – Голос Лапина задрожал.
Она замолчала. Лапин прижался к ней и вздрагивал.
– Ты чего? – Она слизнула языком слезу с его щеки.
– Так… – прошептал он.
– Чего, кумарит, что ли?
Он отрицательно покачал головой. Шмыгнул носом:
– Просто… как-то херово.
– Тогда поехали. – Она решительно взяла его за руку.Любка
23.59.
Квартира Андрея. Кутузовский проспект, д. 17
Спальня со светло-сиреневыми стенами. Широкая низкая кровать. Приглушенная музыка. Полумрак.
Голая Николаева сидела на голом Андрее. Ритмично покачивалась. Грудина у Николаевой была перевязана шелковым платком. Но обе груди были свободны. Андрей курил: 52 года, полный, толстолицый, с залысинами, с волосатой грудью, татуированным плечом и короткими пухлыми пальцами.
– Не спеши, не спеши… – пробормотал Андрей.
– Хозяин барин. – Николаева стала двигаться медленней.
– Грудь у тебя клевая.
– Нравится?
– Ты ничего с ней не делала?
– Нет, что ты. Все мое. О-о-о… сладкий хуище какой…
– Достает до кишок? – Он выпустил дым ей в грудь.
– Ох… еще бы… ой… Жаль, что сегодня в попку нельзя…
– Почему?
– Бо-бо.
– Геморрой?
– Да нет… ой… последствия… ой… аварии…
– Как же ты так приложилась? Под машину попасть… ой, бля… надо же умудриться… я дорогу когда перехожу, раза четыре оглянусь… ой, не спеши…
– О-о-о… класс… о-о-о… Андрюш… о-о-о… ай!
– Не спеши, говорю.
Николаева взяла себя за бедра. Опустила голову. Тряхнула волосами. Осторожно двинула задом. Потом еще. Еще.
Андрей сморщился:
– Ой, бля… уже… Алька, сука… я же говорил – не спеши! Щас брызнет! Нет! Сдави, сдави там! Блядь! Слезь! Ну, на хуй так вот делать по-подлому?
Николаева моментально спрыгнула с него. Схватила одной рукой его обтянутый презервативом член. Другой сильно нажала в промежуток между анусом и яйцами:
– Извини, Саш… то есть… Андрюш…
– Сильней, сильней дави!
Она нажала сильнее. Он застонал. Дернул головой.
– Теперь отвлеки, отвлеки, на хуй…
– Как, Андрюшенька?
– Ну, расскажи чего-нибудь…
– Чего?
– Ну, смешное чего-нибудь… давай, давай, давай…
– Анекдот?
– Что-нибудь… ой, бля… давай, давай…
– Я не помню анекдоты… – Николаева почесала бритый лобок. – А! Вот заебательский случай, мне Сула рассказывала. Ее мужик один в пятнадцать лет к себе домой привел, трахнуть хотел, а она не давала, типа – девственница и все такое. Он возился с ней в постели, возился, хуй аж дымится ну там часа два, а она все ноги не разводит. Потом он говорит: давай в попку тебя трахну. Н у, давай. Подставила ему. Он как ввел, так сразу и кончил – терпеть уже сил нет. А спермы там – до хуя! Как полилась внутрь, как будто клизму сделали. Он отвалился. А Сула, представляешь, сразу встала, присела и на персидский ковер ему насрала! Пока он еблом щелкал, оделась и – деру!
– Ой, бля… Аль, давай… я все равно не могу…
– Щас, милый. – Она села на него. Ввела член во влагалище. Стала быстро двигаться. Взяла рукой яйца.
– Да… да… вот… – забормотал Андрей. Замер. Сжал кулаки. Выкрикнул. Стал бить Николаеву кулаками по бокам: – Да! Да! Да!
Она закрывалась руками. Двигалась. Взвизгивала.
Андрей перестал бить. Руки его бессильно упали на кровать.
– Ой, бля… – Он потянулся к пепельнице. Взял недокуренную сигарету.
– Как? – Николаева облизала его розовый волосатый сосок.
– Ой… – Он затянулся. – Аж искры из глаз…
– Ты такой классный… – она гладила его плечи, – такой кругленький… как Винни-Пух. А член – ваще. Я сразу кончаю.
Он усмехнулся:
– Не пизди. Налей вина.
– Силь ву пле. – Она протянула руку. Вынула из стеклянного ведерка со льдом бутылку белого вина «Pinot Grigio». Налила в бокалы.
Андрей взял бокал. Приподнял потную голову. Опустошил бокал. Откинулся на кровать:
– Ой, бля… клевая ты телка…
– Приятно слышать.
Он посмотрел в пустую пачку из-под сигарет:
– Сходи на кухню, там сигареты на полке.
– Где?
– Рядом с вытяжкой. Полка там стеклянная.
– Андрюш, можно я сперва в душ?
– Давай. Я сам схожу.
Николаева встала. Зажала ладонью влагалище. Побежала в ванную. В ванной встала под душ. Пустила воду. Быстро окатилась. Долго мыла влагалище. Выключила воду. Крикнула:
– Петь! Тьфу… Андрюш! А можно я ванну приму?
– Можно… – донеслось из спальни.
Николаева села в холодную ванну. Пустила воду. Взяла с полочки шампунь. Выдавила в струю. Сразу поползла пена. Николаева запела. Вода дошла до подмышек. Николаева выключила воду. Подтянула к себе колени. Заснула.
Ей приснилась Любка Кобзева, которую зарезали в мотеле «Солнечный». Они с ней на кухне той самой квартиры на Сретенке, которую Любка снимала пополам с Козой-Дерезой. Николаева сидит у окна и курит. За окном зима, идет снег. На кухне холодно. Николаева одета по-летнему легко, но в высоких серых валенках. А Любка – босая и в синем халате. Она суетится у плиты и готовит свои любимые манты.
– Все-таки какая я дуреха, – бормочет она, разминая тесто. – Дала себя зарезать! Надо же…
– Больно было? – спрашивает Николаева.
– Да нет, не очень. Просто страшно, когда этот козел на меня попер с ножом. Я прямо вся оцепенела. Надо было в окно прыгать, а я, дура, смотрю на него. Он – раз мне, сначала в живот, я даже не заметила, а потом в шею… и сразу – кровища, кровища… слушай, Аль, куда я перец поставила?
Николаева смотрит на стол. Все предметы видны очень хорошо: две тарелки, две вилки, нож с расколотой ручкой, терка, солонка, скалка, мука в пакете, девять кругляшков из теста. Но перечницы нет.
– Так всегда, когда надо что-то – запропастится, и все… – ищет везде Любка. Наклоняется. Заглядывает под стол.
Николаева видит в распахивающемся вороте ее халата грубо зашитый продольный разрез от шеи до лобка.
– Вон он… – замечает Любка.
Николаева видит перечницу под столом. Наклоняется, берет, передает Любке. И вдруг очень остро ощущает, что в груди Любки НЕ БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ. Любка говорит, бормочет, двигается, но сердце ее неподвижно. Оно стоит, как сломанный будильник. Николаеву охватывает ужасная скорбь. Но не от мертвой Любки, а от этого остановившегося сердца. Ей ужасно жалко, что сердце Любки мертво и НИКОГДА больше не будет биться. Она понимает, что сейчас разрыдается.
– Люб… а ты… лук в фарш кладешь? – с трудом произносит она, приподнимаясь.
– На хер он нужен, когда чеснок есть? – Любка внимательно смотрит на нее мертвыми глазами.
Николаева начинает всхлипывать.
– Чего ты? – спрашивает Любка.
– Ссать хочу, – лепечет непослушными губами Николаева.
– Ссы здесь, – с улыбкой говорит Любка.
Рыдания обваливаются на Николаеву. Она рыдает о ВЕЛИЧАЙШЕЙ ПОТЕРЕ.
– Люб…ка… Люб…ка… – вырывается из ее губ.
Она хватает Любку, прижимает к своей груди. Любка отводит холодные, испачканные мукой и тестом руки:
– Чего ты?
Ледяная грудь Любки БЕССЕРДЕЧНА. Николаева рыдает. Она понимает, что это уже НИКОГДА не исправить. Она слышит удары своего сердца. Оно живое, теплое и УЖАСНО дорогое. Ей от этого еще больней и горше. Она вдруг понимает, как ПРОСТО быть мертвым. Ужас и скорбь переполняют ее. Горячая моча струится по ногам.Николаева проснулась.
Лицо ее было в слезах. Тушь ресниц потекла.
Рядом с ванной стоял Андрей в красно-белом махровом халате.
– Ты чего? – недовольно спросил он.
– А? – всхлипнула она. И снова разрыдалась.
– Чего случилось? – сонно нахмурился он.
– Мне… это… – всхлипывала она, – подружка приснилась… она… ее… убили полгода назад…
– Кто?
– Да… какие-то торгаши с рынка… азера какие-то…
– Ааа… – почесал он грудь. – Слушай, я спать хочу. У меня завтра стрелка важная. Деньги в кухне на столе.
Он вышел.
Николаева вытерла слезы. Вылезла из ванны. Глянула в зеркало:
– Господи…
Долго умывалась. Вытерлась. Завернулась в большое полотенце. Вышла из ванной.
В квартире был полумрак. Из спальни раздался храп Андрея.
Николаева на цыпочках прошла в спальню. Нашла свои вещи. Прошла на кухню. Здесь горела только лампа в вытяжке над плитой. На столе лежали двести долларов.
Николаева оделась. Убрала деньги в кошелек. Выпила стакан яблочного сока. Вышла в прихожую. Надела плащ. Вышла из квартиры. Осторожно захлопнула за собой дверь.
Верхняя губа
2.02.
Съемная квартира Комара и Вики. Олений вал, д. 1
– Кулаком поработай слегка. – Комар перетянул предплечье Лапина жгутом.
– Чего ему работать – и так все на виду, – усмехнулась Вика. – Мне б такие веняки!
– Комар, сука, меня первой вмазал бы! – зло смотрела Илона.
– Гостю – первый квадрат, ёптеть. Тем более – он банкует… – Комар попал иглой в вену. – Бля, сто лет не видал незапоротых канатов.
– Илон, а ты чо, правда на «Ленинграде» была? – спросила Вика.
– Ага… – Илона смотрела на руку Лапина.
– Угарно?
– Ага.
– А чего они давали? Старое?
– Старое! Старое! Старое!.. – зло затрясла кистями Илона.
Комар потянул поршень на себя: 27 лет, бритоголовый, большеухий, худой, сутулый, длиннорукий, с сильно заострившимися чертами лица, в рваной синей майке и широких черных штанах.
В шприце показалась кровь. Комар дернул конец завязанного жгута. И плавно ввел содержимое шприца в вену Лапину:
– Дома.
Вика протянула кусочек ваты: 18 лет, смуглая, маленькая, пухловатая, длинноволосая, фиолетовые брюки из полиэстера, голубая водолазка.
Лапин прижал вату к вене. Согнул руку в локте. Откинулся на замызганную подушку:
– Ой, бля…
– Ну? – улыбнулся Комар.
– Да… – с трудом разлепил губы Лапин и улыбнулся. Смотрел в потолок с ржавыми потеками.
– Комар, сука, ты вмажешь меня, наконец?! – вскрикнула Илона.
– Нет проблем, мадам. – Комар распечатал новый шприц.
Вика высыпала в столовую ложку белый порошок из пакетика, добавила воды, вскипятила ложку над свечой. Комар набрал из ложки в шприц полупрозрачной жидкости.
Илона сама перетянула себе жгутом предплечье. Села напротив Комара. Протянула руку. На сгибе виднелись редкие следы от инъекций.
– Илон, так я не поняла, они все старое давали? – закурила Вика.
– Не, не только… – раздраженно сжимала и разжимала кулак Илона.
– «Вот будет лето, поедем на дачу. Лопату в руку, хуячим, хуячим»? Да?
– Да, да, да… – зло бормотала Илона.
– А мне нравится у них: та-та-та… кто-то колется, я лично – бухаю, но могу ускориться.
Комар не торопясь нашел место:
– М-да, рыбка, хорошо, что ты не злоупотребляешь.
– Чо я, дура, что ли? – нервно усмехнулась Илона.
– Кто вас, женщин, разберет! – Игла вошла в вену.
Лапин улыбался. Потянулся. Повел плечами:
– Все-таки… это совсем другое…
– Чего другое? – спросила Вика. – Speedball? Конечно! Круче, чем простой герыч!
– Круче. Но не люблю, когда пиздят: speedball, speedball, а сами ни хуя не пробовали… Много у нас разных… ну… посредственных людей… бездарей…
– Почему? – довольно улыбнулась Вика.
– Потому что каждый мудак хочет быть умнее, чем он есть на самом деле. Умнее и авторитетнее. Все прутся от своего авторитета, только об этом и думают. Как будто главная задача человека на земле сводится только к достижению положения в обществе любой ценой, пусть даже ценой чужих страданий.
Вика переглянулась с Комаром.
– Да. Уж чего-чего, а страданий у нас – хоть жопой ешь… – Комар с улыбкой вводил дозу в вену Илоны.
– Ой… – Она закрыла глаза. Согнула руку в локте. Закашляла.
Вика протянула Комару исколотую руку:
– Тут есть еще местечко.
– Только в лоб не дыши.
– Прости, Ком.
Илона потянулась:
– Класс!
Она поцеловала Лапина. Он неуклюже обнял ее.
– Ком, только не спеши. – Вика смотрела на иглу.
– У меня зрачки широкие? – Илона склонилась над Лапиным.
– Да, – серьезно ответил он.
– Красивые? Какой цвет?
– Что-то… такое… знаешь… – в упор и внимательно смотрел потеющий Лапин, – это вот что… это есть такие шары… знаешь, китайские шары равновесия… их надо перекатывать в одной руке, они из разных драгоценных камней делаются, типа яшмы там, и когда такой шар… шар цинь или цань, кажется, цинь… вот… и один шар там лежит, то из него течет такая энергия, биоэнергия, и там еще электрические накопления, все это вместе… и еще энергия камня, мы же очень мало знаем про энергию камней, камни охуительно древние… но когда-то они были мягкими, как губка, а потом уже под действием времени окаменели и стали настоящими камнями, а в них накоплена такая невъебенная информация, что это как суперкартридж такой… там записано до хуй… то есть до хуя всего, про все… разные события, разные люди, все, что происходило, все есть в камнях… и компьютеров не надо, только умей пользоваться камнем, найди к нему подход… нормальный компетентный подход… и тогда все будет пиздец, человек станет властелином мира.
– У тебя верхняя губа классная. – Илона счастливо коснулась пальцем его губы.
Песок
12.09.
Склад торговой фирмы «Каргос». Новоясеневский проспект, д. 2
Большой полукруглый ангар, множество ящиков и упаковок с продуктами питания. На четырех упаковках с овощными консервами лежал метровый лист толстой фанеры. Вокруг листа на ящиках сидели и курили:
Володя Солома – 32 года, среднего роста, плотного телосложения, брюнет, хмурое, малоподвижное лицо с маленьким сломанным носом, короткая дубленка.
Дато – 52 года, пухлый, маленький, лысый, с круглым, всегда усмехающимся лицом, белый плащ нараспашку, белый свитер тонкой вязки, шелковая бежевая рубашка с высоким воротом, брюки белой кожи, золотые часы «Tissot», золотой браслет, золотой перстень с рубином.
Хмелев – 42 года, среднего роста, худощавый, шатен, лицо худое, узкое, спокойно-озабоченное, серо-стальная куртка, синяя тройка, белая рубашка, голубовато-красный галстук.
Зазвонил мобильный Хмелева.
– Да. – Он приложил его к уху.
– Подъехали, – сообщил голос.
– Сколько?
– Шесть… семь человек на двух машинах.
– Значит, пропусти только Слепого и пару быков.
– Понял.
Дато кинул окурок на бетонный пол. Наступил лакированным черным ботинком:
– Они вдвоем не дотащат.
– Это их проблема, – пробормотал Хмелев.
– Чего, по-нормальному? – шмыгнул носом и встал Солома.
– По-нормальному, Вова, – шлепнул себя по пухлым коленям Дато.
Дверь отворилась. В ангар вошел Гасан Слепой : 43 года, маленький, щуплый, смуглый, лысоватый, горбоносый, в черном кожаном пальто. Вслед за ним с трудом вошли двое крепышей с увесистым металлическим кофром.
Дато встал. Шагнул навстречу Гасану. Они обнялись. Дважды коснулись щеками:
– Здравствуй, Дато.
– Здравствуй, дорогой.
Двое опустили кофр на пол.
– Ставьте сюда. – Дато показал маленькой пухлой рукой на фанеру.
Двое подняли кофр. Поднесли. Поставили. Фанера треснула. Но выдержала.
– Садись, дорогой, – кивнул Дато.
Солома придвинул к ногам Слепого ящик с макаронами.
– Дато, пусть все уйдут. – Слепой расстегнул пальто.
– Почему, дорогой?
– Есть базар.
– Это мои люди, Гасан. Ты же знаешь их.
– Я знаю их, Дато. Но пусть они уйдут.
Дато переглянулся с Хмелевым. Тот кивнул.
– Хорошо, дорогой. Сделаем, как ты хочешь. Идите, подышите.
Хмелев, Солома и те двое вышли. Гасан опустился на ящик. Устало потер щеки. Дато стоял молча.
– Я передумал, Дато, – проговорил Гасан.
– Не понял. Что ты передумал?
– Я не продаю.
– Почему?
Гасан сцепил замком руки. Тронул большими пальцами кончик острого горбатого носа:
– Так… не продаю. И все.
Дато усмехнулся сильнее обычного:
– Я не понимаю тебя, Гасан. Почему ты не продаешь? Цена не устраивает? Ты хочешь больше?
– Нет. Цена старая. Она меня всегда устраивала.
– Так в чем же дело?
– Ни в чем. Просто – не хочу.
Дато внимательно посмотрел на него:
– Что с тобой, брат? Ты что, заболел? Или у тебя проблемы?
– Я не заболел, братан. И проблем у меня нет. Но продукт я не продаю.
Дато помолчал. Достал золотой портсигар. Достал сигарету. Неторопливо закурил. Прошелся. Повернулся к Гасану:
– А зачем же ты принес продукт, если не хочешь продавать?
– Чтобы показать тебе, братан.
– Я видел его раньше. И не раз.
– А ты пасматри еще раз. Пасматри внимательно.
Гасан встал. Открыл замки на кофре. Откинул металлическую крышку. Под ней была белая пластмассовая крышка. Гасан потянул ее. Она открылась. Под ней находился холодильник. Он был полностью засыпан песком.
Дато на миг замер с сигаретой в губах.
– Теперь ты понимаешь, Дато, почему Гасан не хочет продавать тебе продукт?
Дато смотрел на песок:
– Теперь понимаю.
Гасан подошел к нему вплотную.
– У нас крысы завелись, братан. Жирные, блядь, крысы.
– Трактор знает? – спросил Дато.
– Нет пока. На хера ему знать?
Дато сунул руку в песок. Пошарил. Зачерпнул горсть. И с силой швырнул на пол:
– Басота!
– Но это точно не пильщики.
– А кто тогда? Твои?
– Моих я знаю. И они меня. Я руку отрежу.
– Руку… руку… – Дато гневно сплюнул. – Свои тоже крысятничают. Бляди! Басота! Гасан, ищи сам. Я к блондинам не поеду. Я деньги верну. И все.
– Погоди, братан.
– Чего годить? У тебя закосили – твоя проблема. Поедешь к ним сам на терку.
– Не пыли, братан. Это не моя проблема. Это наша проблема.
– Ни хуя! У тебя зацепили, а я при чем?
– При том, что крыса живет в твоем доме.
– Чего? Какая, бля, крыса?
– Жирная. И спит у тебя. И хлеб твой ест.
Дато в упор посмотрел на него.
Гасан порылся по карманам. Достал круглую деревянную табакерку. Закрыл крышку холодильника. Открыл табакерку. В ней был кокаин. Он отсыпал кокаина на крышку. Достал костяную трубочку и пластиковую карту.
– Давай попылесосим, братан. Я уже третьи сутки не сплю.
– А что же тогда… крыса? У меня? Ты за базар отвечаешь?
– Отвечаю, Дато.
– И кто это?
– Не спеши.
– Чего, бля, не спеши? Кто это?
Гасан быстро растер кокаин картой. Отделил две толстые линии. Протянул Дато трубочку:
– Давай, братан.
Дато взял трубку. Наклонился. И быстро втянул ноздрей свою линию. Вернул трубку Гасану. Тот вставил ее в свой горбатый нос. Медленно втянул половину линии в одну ноздрю. Затем остаток – в другую.
– А как ты узнал? – шмыгал носом Дато. – Ты же с моими никогда не терся. Как ты узнал? У меня что, стукло сидит?
– У тебя нормальные пацаны, Дато.
– Ну, кто, ёптеть?!
– Погоди. – Гасан отделял еще две линии. – Давай добьем. И я скажу, как делать надо.
– Делать… делать… На! – Дато пнул картонный ящик. Из дыры посыпалась гречневая крупа. Гасан втянул свою линию. Дато махнул рукой:
– Не хочу.
Гасан втянул вторую линию. Убрал табакерку с трубкой. Вытер нос платком.
– Значит, давай так сделаем. Это закроем. И ты понесешь к себе.
– На хера мне песок?
– А пусть твои думают, что все нормально.
– А бабки?
– Ты мне дашь кейс. А бабки вынешь.
– Ну?
– Ящик отвезешь к себе. А потом начнем охоту на крысу.
– Так ты знаешь или нет – кто?
Гасан приблизился. Шепнул ему на ухо.
– А лед у него?
– Нет.
– А где лед? У блондинов уже?
– Нет. Нет, Дато. Лед у тебя дома.
Дато в упор смотрел на него:
– Чего? Где?
– В морозилке.
– У меня?
– У тебя, у тебя, Дато.
– И кто это сделал?
– Твоя Наташа.
Bosch
21.00.
Квартира Дато. Малая Бронная, д. 7
Просторная кухня. Белая мебель. Дорогая утварь. Позолоченная кастрюля с водой на огне.
На мраморном полу лежал связанный Апельсин: 29 лет, рыжеволосый, с массивным телом бывшего спортсмена.
В углу сидела Наташа: 26 лет, красивая, длинноногая, в разорванном розовом платье. Ее рука была прикована наручниками к батарее.
За столом сидели Дато и Гасан Слепой. Рядом стояли Лом и Пека: широкоплечие, мускулистые, с небольшими бритыми головами и толстыми шеями.
Перед Дато стояла ополовиненная бутылка водки «Юрий Долгорукий». Гасан растирал на тарелке порцию кокаина.
Дато налил себе водки. Выпил. Неторопливо закурил. Посмотрел на Наташу:
– Я, бля, одного не пойму. Хоть убей ты меня, хоть зарежь. Что тебе не хватало?
Наташа молчала. Смотрела на ножку стула.
– Из говна тебя поднял, брату твоему помог, матери помог. На Карибы возил, одел как, блядь, принцессу Диану. Ебал каждый день. Чего не хватало?
Наташа молчала.
– Да. Бабы – загадка, – выпустил дым Дато. – А, Гасан? Третий раз на крысу нарываюсь. Что такое?! Судьба, блядь?
– Не знаю, брат. – Гасан втянул носом порцию. – Может, и судьба.
– Потом, я, бля, ни хера в понятие не возьму: ну, запарила бы ты лед в объезд, ну, срубила бы полсотни. Но а потом что? Что потом? Куда б ты делась? В землю, что ли, зарылась? Или что, полсотни – это такие большие бабки для тебя?
Наташа молчала.
– Дато, оставь ее, – вытер нос Гасан. – Баба всегда на вторых ролях.
– Век живи – век учись… – Дато стряхнул пепел. Посмотрел на кастрюлю: – Ну, чего, закипела?
Пека заглянул в кастрюлю:
– Закипает.
Апельсин заворочался на полу. Лом прижал его ногой:
– Лежать.
– Дато, гадом буду, это не моя идея. Гадом буду, – забормотал Апельсин.
– Гадом ты не будешь. – Дато покосился на его рыжую вспотевшую голову. – Гадом ты уже стал.
– Мне Шакро пушку к башке дважды приставлял. Тогда, в Дагомысе, и после свадьбы. Он про блондинов от Аверы слышал.
– От Аверы? – усмехнулся Гасан. – Авера в земле.
– Он на Шакро наезжал, тот был ему должен еще по «Тибету», – приподнял голову Апельсин. – И тогда прогнал ему про блондинов и про лед. Говорит: вот маза кусошная, бери. Нарубишь – отдашь.
– И что, Шакро велел тебе у Гасана зацепить? – спросил Гасан.
– Шакро хочет мазу взять на лед.
– Чего? – усмехнулся Дато. – Ты что, падло, гонишь? Аверу же завалили, какой, бля, долг, какой «Тибет»?
– Он и без Аверы хочет. Бля буду, Дато. Мне пацаны его терли, он голый щас, они с Рыбой в плохих, а на тебя навалятся.
– И мазу возьмут? – улыбался Дато.
– Хотят взять.
– По-грубому? Без терки?
– Он мне сказал: давай дерни порцию, я посмотрю. Не дернешь – завалим.
– И чего ему смотреть?
– Ну, как ты напаришься.
Дато потушил окурок. Встал. Подошел к Апельсину. Сунул руки в карманы. Качнулся на носках.
– М-да… Ты, пес, совсем взбесился. Совсем понятие потерял.
Он кивнул Пеке. Тот снял с огня кастрюлю. Лом прижал ботинком голову Апельсина к голубоватому мраморному полу.
– Бля буду, Дато… Гасан… клянусь… – бормотал Апельсин. Пека сел ему на ноги. И стал лить кипяток на спину. Апельсин заревел и задергался.
Лом и Пека навалились на него.
– Правду, пес, правду, – качался на носках Дато.
– Клянусь! Клянусь! – рычал Апельсин.
Пека плеснул ему на спину. Апельсин забился.
– Правду, правду.
– Дато! Не надо! – закричала Наташа.
– Правду, пес!
– Клянусь! Клянусь!
– На рожу плесни ему, – посоветовал Гасан.
Пека плеснул Апельсину на голову. Он завыл.
– Не надо, Дато! Оставьте его! – кричала Наташа.
– До тебя, крыса, дойдет дело! – Дато пнул ее ногой.
– Говори, а то сварим как рака. – Гасан спокойно смотрел на дергающееся тело Апельсина.
– Шакро мазу хочет взять на лед! – прорычал Апельсин.
– Не пизди, басота! Не пизди, басота! Не пизди! Не пизди! – Дато стал бить его ногой по лицу.
– Крысятник… – сплюнул Гасан. – Лей ему на яйца!
Пека и Лом стали стягивать с Апельсина штаны.
– Дато! Дато! Дато! – кричала Наташа.
– Молчи, крыса!
– Дато, не надо, не надо! Я все скажу! – кричала Наташа.
– Молчи, крыса!
– Пусть скажет, Дато. – Гасан подошел к Наташе. – Скажи правду.
– Все скажу, не надо!
Дато сделал знак Пеке. Тот перестал плескать кипяток на Апельсина.
– Говори, сука.
Наташа вытерла свободной рукой нос. Всхлипнула:
– Врет он все. Это не Шакро. Это я.
Дато смотрел на нее:
– На хера?
– Ты меня все равно бросишь. Как Женьку. Я знаю про твою эту… балерину. А я… а у меня… вообще ничего нет. Мать при смерти.
– И чего?
– Ну… хотела бабок срубить… просто…
– И его подбила?
Она кивнула.
– За сколько?
– Пополам.
Дато перевел взгляд на Гасана. Тот молчал. Наташа всхлипывала. Апельсин стонал на полу. Дато глянул на Апельсина:
– Переверните его.
Пека и Лом положили его на спину. Дато присел. Заглянул в серые глаза Апельсина:
– Правда.
Выпрямился. Гасан протянул руку. Дато хлопнул по ней ладонью. Облегченно выдохнул:
– Пошли перетрем.
Они вышли в соседнюю комнату. Здесь был полумрак. И стояло много дорогой мебели.
– Я так и думал, что это не Шакро. – Гасан зябко потянулся. Сцепил худые пальцы. Треснул ими.
– Мазу, блядь! – Дато нервно усмехнулся. Открыл бар. Достал бутылку коньяка. Налил себе. Выпил.
– Каждая басота, блядь, только и ждет, чтоб меня с Шакро стравить. Шакалы, блядь!
– Он слышал просто… может, от Аверы, от пацанов его… может, от Дырявого…
– Слушай, Гасан, а почему все в курсе? Почему каждый клоп, блядь, знает про лед?
– Ты у меня спрашиваешь?
– А у кого мне спросить? У Аверы? У Жорика? Они, бля, червей кормят. А ты живой.
– Ты тоже живой, брат, – серьезно посмотрел Гасан. – Мы оба живые. Пока.
– Пока что?
– Пока понимаем, что в гробу карманов нет.
Дато отвернулся. Отошел к окну. Покачался на носках. Гасан подошел к нему. Положил руку на плечо:
– Ты меня знаешь, брат. Мне чужого не надо. Мне своего на порошок хватает.
Дато смотрел в окно на вечернюю Москву:
– Говно!
– С ними что-то делать надо, брат.
– Что-то… – качнулся на носках Дато. – Что-то, блядь…
Он резко повернулся. Пошел на кухню. Гасан неторопливо двинулся за ним.
В углу кухни возвышался массивный белый холодильник «Bosch». Дато открыл морозильную камеру. Она была завалена продуктами. Он стал выкидывать их на пол. С сухим стуком они падали на мрамор. Под продуктами лежал большой куб льда. Дато злобно посмотрел на него:
– Потому что я никогда не жру ничего мороженого… да, сука?
Он приблизился к Наташе.
Она всхлипывала. Отвернулась.
– Надежное место, да? – мрачно смотрел Гасан.
– Ну почему бабье такое, блядь, умное пошло? – Дато шлепнул себя по ляжкам. – Не понимаю, что творится!
– Эмансипация, – неожиданно произнес Пека.
– Чего? – повернулся к нему Дато.
– Ну… это когда у баб с мужиками равные права, – пробормотал Пека. Дато внимательно посмотрел на него. Повернулся к Гасану:
– Давай ящик.
Гасан достал мобильный. Позвонил:
– Подъезжай.
Через несколько минут в квартиру вошли двое с кофром. Надели резиновые перчатки. Переложили куб льда из морозилки в кофр. И осторожно унесли кофр. Дато налил себе водки. Выпил залпом.
– Так. Апельсина – на помойку.
Апельсин дернулся изо всех сил. Закричал что-то нечленораздельное. Пека и Лом навалились на него. Лом накинул удавку на толстую веснушчатую шею Апельсина.
Наташу вырвало. Голова ее бессильно повисла.
Апельсин долго хрипел и ворочался. Выпускал газы.
Наконец затих.
Пека привез из гардеробной большой синий пластиковый чемодан. Они положили в него труп Апельсина. Вывезли из кухни. И из квартиры.
Дверь за ними закрылась.
Гасан присел к столу. Достал свою табакерку. Насыпал на тарелку кокаина. Стал растирать пластиковой карточкой.
Дато вынул из кармана ключ. Отстегнул руку Наташи от батареи. Наташа бессильно распласталась на полу. Дышала быстро. Тряслась.
Дато открыл дверь морозилки:
– Лезь.
Наташа подняла голову.
– Лезь, крыса!
Она послушно залезла в морозилку. Дато захлопнул дверь. Привалился спиной:
– Заморожу, на хуй. Все.
Гасан усмехнулся. Втянул носом кокаин. Потом еще.
Дато достал сигареты. Закурил.
Наташа еле слышно заскулила в морозилке.
Дато курил. Гасан натер кокаином десну.
– Найду себе новую блядь, – проговорил Дато.
Гасан встал. Подошел к нему:
– Отправь ее в Турцию. К Рустаму.
– Какой Рустам, на хуй?! – злобно тряхнул головой Дато. – В морг, бля. В Турцию!
– Брат, не делай.
– Иди на хуй. Моя баба.
– Баба твоя. А дело наше.
Наташа подвывала и стучала в дверь.
– Спишу, на хуй. – Дато упрямо тряс головой. – Пизда позорная!
– Не делай, Дато.
– Отвали!
– Не делай, брат.
– Отлезь, Гасан, не дразни, на хуй!
– Не делай! Всех завалишь, баран! – Гасан вцепился в Дато.
– Куда ты… убери лапы… – боролся Дато.
– Баран…
– Лапы., убери… козел…
Они боролись у большого белого холодильника.
– Я беременна! – донеслось из морозилки. Борьба прекратилась.
Дато отпихнул Гасана. Открыл дверцу:
– Чего?
Наташа сидела согнувшись.
– Ты чего сказала?
– Я беременна, – тихо произнесла она.
– От кого? – буркнул Дато.
– От тебя.
Дато тупо посмотрел на нее. На ее голые колени. Потом на пальцы ног с темно-синим педикюром. Возле ее ноги лежал заиндевевший пельмень.
Дато уставился на пельмень.
Наташа вывалилась из морозилки на пол. Поползла по мрамору.
– Когда… сколько? – произнес Дато.
– Второй месяц… – Она выползла из кухни. Вползла в ванную.
Дато устало потер переносицу. Гасан хлопнул его по плечу:
– Ну вот, брат, а ты заморозить хотел!Блокада
4.15.
Съемная квартира Комара и Вики
Зашарпанная ванная комната, голубая, местами отколовшаяся плитка, ржавые потеки в ванне и раковине, тусклый свет старой лампочки, замоченное в тазу грязное белье.
Лапин и Илона лежали голые в переполненной ванне. Илона сидела на Лапине и курила. Его член был у нее во влагалище. Она медленно двигалась. Лапин в полузабытьи закрывал и открывал глаза.
– А главное… он это… ничего не понимает в мастерстве… в актерском мастерстве… – быстро бормотала Илона сухими губами. – Кеану Ривз тоже классный, я от него прусь, потому что он может сыграть любовь по-честному, а тот вроде такой крутой… весь в шоколаде… а я вот вообще… ну вот не верю ему… вот ни на грош… а на хер я деньги плачу, если я актеру не верю, если веры нет… ой, какие яйца у тебя твердые!
Она резко задвигалась. Вода выплеснулась через край ванны.
Облупленная дверь открылась. Вошел голый Комар. Член его торчал.
– Давайте махнемся, крутые вокеры!
– Давай. – Илона полезла из ванны.
– Ой, бля, а воды налили… – Комар посмотрел на пол. – Соседи опять припрутся…
– У вас приблизительно одинаковые. – Илона взяла Комара за член.
– Размер имеет значение? – хрипло усмехнулся он.
– Еще бы.
– Тогда пошли.
– А вмазать?
– Кончу – и вмажемся.
Они вышли. Лапин вынул из воды руку. Посмотрел на свои ногти. Они были голубые. Как плитка.
Вошла голая Вика.
– Чего, в воде прямо?
Лапин открыл глаза. Вика полезла к нему. Взяла его член, вставила себе во влагалище.
– Холодно… – разлепил губы Лапин.
– Давай эту выпустим, а новую нальем, – стала двигаться Вика.
– Давай…
Она дотянулась до пробки. Дернула за цепочку. Вода стала утекать.
– У меня парень был, тоже наркоша, он любил яйца в эту дыру засовывать, когда вода стекала, ну, это он когда еще мальчиком был.
– Как?
– Н у, мы рассказывали, кто как дрочил в детстве… я… это… ой, классный член у тебя… я… любила на угол стола сесть и ноги так вот крест-накрест… а он прямо садился в ванну на корточки, воду наливал, пробку вынимал и яйца засовывал. А сам дрочил. И думал про коммунизм.
– Зачем?
– Ну, это не про сам коммунизм, сам коммунизм на хуй ни кому не нужен… не горячо? – Она пустила горячую воду.
– Нормально.
– А там, в том коммунизме были общие жены… и он… ой, ой, ой… он… это… ой, ой, ой… это… ой, ой, ой…
– Ебал их всех? – Лапин взял Вику за грудь.
– Ой, ой, ой… – морщилась она. – Ой, я кончаю… о-о-о-о-о…
– А я чего-то это… не могу кончить никак…
– Ой… ой… – перестала двигаться она. – Сейчас Кома нас вмажет – и кончишь.
– Я сейчас хочу, – двигался Лапин.
– Хочешь – вставь мне в жопу. Кома тоже, когда кончить не может, мне в жопу вставит – и сразу потекло. Хочешь?
– Не знаю… никогда в жизни не пробовал… там же говно.
– Мудило, какое там говно! Ну, будешь или нет?
– Тогда давай я тебе подрочу.
– Ты?
– Я классно дрочу. Давай, повернись на бок… а я сзади лягу. Горячо уже.
Она закрыла кран. Вставила пробку.
Лапин повернулся на бок. Вика легла сзади. Взяла правой рукой его за член. Левую просунула между ног. Сжала его яйца:
– Во как напряглись… бедный.
Она стала мастурбировать ему член.
Лапин прикрыл глаза. И провалился в сон.
Он старик. Восьмидесятидвухлетний, худой и высохший. Он спускается по лестнице жилого многоквартирного дома, сумрачной и холодной. На лестнице валяются куски штукатурки и битого стекла. Он одет в тяжелое зимнее пальто, на ногах валенки, на руках варежки. Очень холодно. Озноб пронизывает его до костей. Слабый пар вырывается из сухих губ. Правая рука его полусогнута. На локтевом сгибе ручка медного чайника. Пустой чайник болтается у бедра. Спускаясь, он держится за деревянное перило. Каждый шаг дается с трудом. Сердце его стучит, как старый мотор – загнанно и тяжело. Ему не хватает воздуха. Он жадно втягивает его ртом. Холодный воздух обжигает горло. Голова мелко трясется, отчего все, что он видит, тоже трясется и качается. На лестничной площадке второго этажа он останавливается, приваливается спиной к серой, потрескавшейся стене. Придерживает чайник левой рукой. Стоит, тяжело дыша. Смотрит на простенок между двумя дверями. На простенке нацарапано: КУЗОВЛЕВЫ – КУЛАКИ! и СЛОНИК – КЛЕЩ. Одна из дверей выломана. Черный провал выгоревшей квартиры зияет за ней. На другой двери чернильным карандашом нарисована эмблема футбольной команды «Зенит». Он стоит, полуприкрыв глаза. Дышит. Снизу кто-то поднимается по лестнице. Он открывает глаза. Сгорбленная фигура в сером ватнике возникает перед ним. Человек ставит на грязный бетонный пол обледенелое ведро с водой. Распрямляется со слабым стоном. На человеке черная флотская ушанка, перевязанная рваным серым платком, огромные варежки; засаленные ватные штаны заправлены в валенки. Серо-желтое, худое, заросшее бородой лицо без возраста возникает перед ним. Белесые глаза смотрят на него:
– Вторую перегородило начисто. Там полдома снесло.
– А и… это? – спрашивает он.
– Теперь надо через 12-й дом ходить.
Бородатый заглядывает в дверь выгоревшей квартиры:
– Пока мы рты разевали, истопник с Янко все повынесли. Я вчера зашел с утра – ни щепки. Гады. Хоть бы поделились. Заперлись в котельной – и все. Не достучишься. Вот расстрелять кого бы. Хуже фашистов.
Бородатый берется за ведро, стонет, приподнимая. Он вдруг очень хочет спросить бородатого о чем-то важном. Но тут же забывает – о чем. Волнуясь, он отталкивается от стены:
– А и… Андрей Самойлович… я же… беспартийный. У вас фанеры нет?
Но бородатый уже тащит ведро наверх, далеко отставив левую руку.
Он провожает его долгим взглядом. И движется вниз. Выйдя из полутемного подъезда, он сразу слепнет: все кругом залито ярким солнцем. Постояв, открывает глаза. Двор все тот же: громадные сугробы, пни от двух спиленных тополей, остов сгоревшего грузовика. Через сугробы на улицу ведет узкая тропа. Он осторожно движется по ней. Над головой его проплывает черная арка. Здесь подворотня. Опасно. Очень опасно! Он движется вдоль стены, опираясь на нее левой рукой. Но впереди просвет: улица. Он ширится, еще шаг – и он на проспекте. Здесь широко. Середина проспекта расчищена. Но возле домов – горы сугробов. По проспекту двигаются люди. Их немного. Они двигаются медленно. Кто-то везет что-то на санках. Санки! Они были. Но их украли Борисовы. Деревянное сиденье сожгли в буржуйке. А на железном остове возят воду. А он носит ее в чайнике. Далеко до Невы. Можно, конечно, топить снег. Но его нужно много. И он тоже тяжелый…
Он готовится выйти на середину проспекта. Поодаль дворничиха разговаривает с Лидией Константиновной из восьмого дома. Они стоят возле трупа, лежащего ничком в снегу. У трупа срезаны обе ягодицы.
– Вона, у всех мертвых-то жопы повырезаны! – хрипит замотанная в ком тряпья дворничиха. – А почему, спрашивается? Банда! На Пряжке! Котлеты из мертвяков вертют на солидоле! И на толчке на хлеб меняют!
Лидия Константиновна крестится:
– Надо патрулю показать.
Он подходит к ним:
– А и нет ли щепочек?
Они отворачиваются, бредут прочь.
– Как эту белую сволочь земля носит… – слышит он.
Он жует губами и выходит на проспект. О чем они говорили? Котлета! Он вспоминает свиные котлеты в ресторане «Вена» на Большой Морской, в московском трактире Тестова. И в «Яре». В «Яре»! Их подавали с картофельными крутонами, красной капустой и зеленым горошком. А еще там были трюфели, дивная шестислойная кулебяка, стерляжья уха, крем-брюле, а Лизонька капризничала, хотела еще ехать к этим… к этому… ну… усатый и картавит… стихи, стихи, господи, как пробирает мороз-то… котлета. Котлета.
Вдруг мимо него, едва не задев, медленно проезжает грузовик. В грузовике сидят закутанные в шинели красноармейцы с винтовками. На колесах грузовика позвякивают цепи. Он останавливается. Провожает грузовик взглядом слезящихся глаз. Что? На торце грузовика вместо номера большая белая надпись: КОТЛЕТЫ. Котлеты! Там котлеты! Он вдруг понимает это остро, ярко, каждой клеткой слабого тела.
Отбросив чайник и размахивая руками, он начинает бежать за грузовиком. Мосластые колени его подбрасываются, варежки слетают с костлявых черных рук, повисают на резинках. Он бежит за грузовиком. Тот ползет медленно. Можно догнать его. Там котлеты! Он видит их, насаженных на штыки красноармейцев. Сотни, тысячи котлет!
– И дай котлету! – вскрикивает он по-петушиному.
– Ко…ко…тлету!
– И… кот… лету!
– Кот!..кот!..кот!..ле!..ту!..
Сердце его бьется, бьется, бьется. Широко и огромно. Как дом № 6. Как Иртыш в мае 1918 года. Как Большая Берта. Как блокада. Как Бог.
Ноги его заплетаются. Он кренится. Скрипит. Трескается. И рушится по частям на укатанный грузовиками снег, как гнилое дерево. Белесое марево глотает грузовик. Сердце стучит:
пдум
пдум
пыдум
И останавливается. Навсегда.Лапин открыл глаза. Он плакал. Из члена его ползли в воду сгустки спермы. Рука Вики помогала. Ноги Лапина конвульсивно дергались.
– Как сметана густая. – Огромные, мокрые Викины губы зашевелились возле уха Лапина. – Редко ебешься?
Девушка плачет
14.11.
Ресторан «Балаганчик». Трехпрудный пер., д. 10
Полупустой зал ресторана. Николаева вышла из туалета, подошла к столику. За ним сидела и курила Лида: 23 года, стройная фигура модели, обтянутая кожаным комбинезоном, средних размеров грудь, длинная шея, маленькая голова с совсем короткой стрижкой, смазливое лицо.
– Сортир здесь внизу. – Николаева села напротив Лиды. – Неудобно.
– Зато готовят классно, – жевала Лида.
– У них повар – француз. – Николаева разлила красное вино по бокалам. – Так, на чем я остановилась?
– Чин-чин. – Лида подняла бокал. – На голом блондине с голубыми глазами.
– Чин-чин, – чокнулась с ней Николаева.
Они выпили. Николаева взяла маслину, пожевала, сплюнула косточку:
– Да это и не важно даже, голый – не голый. Понимаешь, я ни хера ничего подобного не испытывала, никогда так ничего не вставляло. Я просто… как провалилась… и так сладко в сердце… как-то… как будто… не знаю… словно… не знаю. Ну как с мамкой в детстве. Я обревелась вся потом. Понимаешь?
– А он тебя точно не трахнул?
– Абсолютно.
Лида покачала головой:
– М-да. Одно из двух: или это наркоманы какие-то, или сатанисты.
– Они мне ничего не вкалывали.
– Но ты же отрубилась, говоришь.
– Да, но нет следов-то! Вены целы.
– Ну, можно и не в вену. У меня был один клиент, он кокаин в жопу вставлял себе. И торчал. Говорил, что так носовая перегородка не разрушается.
Николаева отрицательно замотала головой:
– Да нет, Лид, это вообще никакие не наркомы. Там что-то другое. У них активы знаешь какие? Фирма серьезная. Это чувствуется.
– Значит, сатанисты. Ты с Бирутей поговори. Ее сатанисты ебали однажды.
– И чего? По-жесткому?
– Да нет, но они ее кровью петушиной так измазали, она потом мылась, мылась…
– Да тут моя кровь брызгала, не петушиная.
Лида потушила окурок:
– Ну, вот это я чего-то понять не могу.
– Я тоже.
– Аль, а ты бухой не была?
– Что ты!
– М-да… А вот с сердцем, ты говоришь… ну… чувство острое. Это как если влюбишься в кого-то?
– Сильнее… это… черт его знает как объяснить… ну… когда кого-то очень жалеешь и он очень родной. Уж такой родной, такой родной, что готов все отдать ему, все, ну… ну… это…
Николаева всхлипнула. Губы ее задрожали. И вдруг она разрыдалась легко и сильно, словно ее вырвало. Рыдания обрушились на нее.
Лида схватила ее за плечи:
– Аль, котя моя, успокойся…
Но Николаева рыдала сильней и сильней.
Редкие посетители ресторана смотрели на нее. Голова ее тряслась. Она вцепилась пальцами в рот, стала сползать со стула.
– Алечка, Аля! – поддерживала ее Лида.
Тело Николаевой корчилось и содрогалось. Лицо побагровело. Подошел официант.
Рыдания рвались изо рта Николаевой вместе со слюной, она трясла головой, слезы летели в стороны. Она бессильно сползла на пол. Лида склонилась, стала шлепать ее по щекам. Потом глотнула из бутылки с минеральной водой, прыснула на уродливо-розовое лицо с искаженными чертами.
Николаева рыдала. До хрипа. До икоты. Выгибалась на полу, трясясь как эпилептик.
– Господи, что с ней? – испуганно держала ее Лида.
– Нашатыря дайте! – громко посоветовал полноватый мужчина. – Истерика типичная.
Официант склонился, стал гладить Николаеву. Она яростно выпустила газы. Зарыдала с новой силой.
Подошла женщина:
– У нее что-то случилось?
– С ней плохо обошлись, – испуганно смотрела Лида. – Ужас! Я никогда ее такой не видела… Аль, котя… ну, Аль! Ой, давайте врача вызовем!
Женщина достала мобильный. Набрала 03:
– А что сказать-то?
– Какая разница! – замахала рукой Лида. – Не могу это видеть!
– Ну… надо же сказать что-то…
– Скажите просто… – Официант озабоченно пожевал маленькими губами. – Девушка плачет.
Бубновые
21.40.
Пустырь в районе проезда Карамзина.
Серебристая «Ауди-А8» стояла с погашенными фарами. В кабине: Дато, Володя Солома и Лом. С проезжей части свернул темно-синий внедорожник «Линкольн-Навигатор». Подъехал. Остановился в двадцати метрах. Из него вышли Уранов и Фроп. В руке Уранова был кейс.
Дато, Солома и Лом вылезли из машины. Дато поднял руку. Уранов ответно поднял свою. Уранов и Фроп подошли к Дато.
– Здравствуй, дорогой. – Дато протянул короткую руку с пухлыми пальцами.
– Здравствуй, Дато. – Уранов протянул свою, длинную и худую.
Они обменялись коротким рукопожатием.
– В чем причина задержки? – спросил Уранов. – Есть проблемы?
– Была одна проблема, дорогой. Но мы ее устранили. Теперь все в порядке.
– Что-то с доставкой?
– Да нет. Внутренние дела.
Уранов кивнул. Оглянулся по сторонам:
– Ну что, потрогаем?
– Трогай, дорогой.
Уранов поднял руку. Фроп открыл заднюю дверь джипа. Из машины вышла Мэр. Подошла к машине Дато.
Лом открыл багажник. В нем лежал кофр-холодильник. Лом открыл его. В кофре поблескивал лед.
Мэр сняла с рук перчатки синей кожи, убрала их в карман. Постояла, глядя на лед. Потом положила на него руки. Глаза ее закрылись.
Все замерли.
Прошло 2 минуты 16 секунд.
Губы Мэр раскрылись. Изо рта вместе с выдохом вырвался стон. Она сняла руки со льда и прижала к своим заалевшим щекам:
– Норма.
Мужчины облегченно зашевелились. Уранов передал Дато кейс. Дато открыл, глянул на пачки долларов. Кивнул, закрыл. Мэр повернулась и пошла к своей машине. Лом закрыл кофр, вынул из багажника, передал Фроп. Фроп понес его к машине. Лом захлопнул багажник.
– Когда следующую? – спросил Дато.
– Недели через две. Я позвоню. – Уранов сунул руки в карманы бежевого плаща.
– Хорошо, дорогой.
Уранов стремительно пожал ему руку, повернулся, широко зашагал к машине.
Дато, Лом и Солома уселись в свою машину.
– Пересчитай. – Дато передал кейс Соломе. Тот открыл, стал считать деньги.
Внедорожник резко развернулся и уехал.
Лом проводил его долгим взглядом:
– Все-таки не врублюсь я, Дато.
– Чего? – закурил Дато.
– Ну, блондины эти… чего это за лед?
– Какое твое дело? Товар сдал – и все. Поехали.
Лом завел машину, вырулил на шоссе:
– Да это понятно. А чего, нельзя им другой лед подсунуть? А то, бля, жалко. Кусок льда какой-то и такой крутняк вокруг: лед, лед, лед. А что за лед? Никто не знает. Да еще сто штук стоит. Пиздец какой-то.
– Я и не хочу знать, – выпустил дым Дато. – Каждый дрочит, как он хочет. Главное, что он не радиоактивный. И не токсичный.
– А ты проверял?
– А как же.
– Тогда тем более – подложить можно куклу. Чего – заморозим два ведра воды. И пиздец! – хохотнул Лом.
– Зеленый ты. Хоть и парился, – зевнул Дато.
– Им уже подкладывали, – пробормотал Солома, считая доллары.
– Кто? – спросил Лом.
– Вовик Шатурский. А потом его нашли. На помойке, блядь. С перерезанным горлом.
– Бля! – удивился Лом. – Так это… погоди! Он что, и лед возил тоже?
– Возил. До нас с Гасаном. Они с Жориком вместе и возили.
– А теперь вместе подземным бизнесом занимаются. – Солома захлопнул кейс, передал Дато.
– В акционерном обществе «Мать сыра земля». Слыхал про такое? – улыбался Дато. – Перспективная контора. Хочешь, телефончик дам?
Дато с Соломой засмеялись.
– Бля, – удивленно качал головой Лом, не отрываясь от дороги. – А я думал, Вовика пиковые загнули.
– Нет, братан, – положив кейс на колени, Дато забарабанил по нему короткими пальцами, – это не пиковые. Это бубновые.
– А как же? А это… Дато, скажи, а вот этот лед, он вообще… – продолжал Лом.
Дато перебил:
– Какой, блядь, лед! О чем ты со мной трешь, пацан? Лед! Пиковые! Жорик! У меня более серьезные вещи в башке!
– Чего такое? – притих Лом. – Мэрия опять, что ли?
– Какая, блядь, мэрия!
– Шишка опять нагадил?
– Какой, на хуй, Шишка!
– С Тарасом, значит?
– Ка-а-а-акой, блядь, Тарас?! – гневно выкатил глаза Дато. – Детское питание, еб твою мать! Вот, блядь, самая важная вещь на свете!
Мгновение все ехали молча.
Потом заржал Солома. Лом непонимающе уставился в зеркальце на Дато.
Дато откинулся назад и залился восточным мелко-переливчатым смехом.
Проехали метро «Теплый Стан».
Потом метро «Коньково».
Лом тоже заржал.
След
22.20.
Офис фирмы «ЛЁД». Малая Ордынка, д. 7
«Линкольн-Навигатор» въехал в ворота прилегающего двора, остановился. Ирэ, Мэр и Фроп вышли из машины. Фроп и Ирэ несли кофр-холодильник со Льдом. Мэр подошла к двери, нажала кнопку. Дверь открыл охранник в синей униформе. Мэр, Фроп и Ирэ вошли, поднялись на лифте, двинулись по коридору. В дальнем конце возле массивной двери сидели двое вооруженных охранников. Завидя идущих, они встали со своих пластиковых стульев, взялись за короткоствольные автоматы, замерли у двери. Мэр приблизилась к двери, произнесла, глядя в камеру слежения:
– Мэр.
Дверь отворилась. Трое вошли в большой кабинет, отделанный в стиле хай-тэк. Посередине кабинета на большом голубовато-белом ковре с изображением двух скрещенных ледяных молотов и пылающего алого сердца стояли брат Лаву: 33 года, высокий голубоглазый блондин в светло-синем костюме; сестра Ц: 41 год, невысокая синеглазая, с темно-русыми волосами, в черно-белой тройке; брат Борк: 48 лет, высокий, худощавый с редкими светло-каштановыми волосами и темно-синими глазами, в больших очках, в пепельного цвета свитере и светлых брюках.
Как только дверь за вошедшими закрылась, Фроп и Ирэ поставили на ковер кофр.
– Мэр! – воскликнула Ц, делая шаг навстречу.
– Ц! – Мэр шагнула к ней.
Они обнялись со стоном, крепко, качнулись и замерли.
Фроп открыл кофр.
Лаву и Борк подошли, положили руки на лед, закрыли глаза. Ирэ подошел к стеклянной барной стойке, налил себе воды, открыл холодильник. Прозрачные полки холодильника были полны свежих фруктов. Ирэ взял помидор и большую смокву, закрыл холодильник. Залпом выпил воды и стал жадно есть помидор и смокву. Фроп подошел к низкому креслу из матовой стали, обтянутой черной кожей, сел, в изнеможении вытянув ноги и откинувшись на подголовье.
Лаву и Борк открыли глаза, глубоко вдохнули.
– Предпоследний, – произнес Фроп, закрывая глаза.
– Еще куб? – спросил Лаву.
– Из того, что украли мясные, – еще один, – ответил Ирэ, чавкая.
– Кто контролировал?
– Мэр… – Ирэ открыл холодильник, достал еще помидор и смокву.
Лаву глянул на Мэр, неподвижно стоящей с Ц.
– А кто ведал ? – спросил он.
– Ведали Ма и Ну. У мясных больше нет Льда. Все, что они украли тогда в Усть-Илимске, мы выкупили.
– Восемнадцатый куб. – Лаву закрыл кофр.
– Восемнадцатый, – подтвердил Ирэ и впился зубами в смокву. – Через пару недель мясные поставят последний.
– И мы закроем, – сказал Борк.
– Мы закроем, – кивнул Лаву.
– Что делать с этими мясными после всего? – спросил Ирэ.
– Дато нам не нужен. – Лаву подошел к стальному столу, нажал кнопку на панели селектора. – А вот Гасан пригодится. Для следа.
– След требует расчета. – Борк приблизился к полуприкрытым жалюзи, глянул на вечернюю улицу.
– Здесь не нужен расчет, брат Борк. – Лаву сел за свой стол, открыл папку с документами. – След верхний. Все возможности очевидны.
Борк задумался, гладя пальцем жалюзи.
– Правильно, Лаву, – согласился Ирэ, доедая помидор. – Верхний след не требует затрат . Не требует силы Мощных. Мясные всегда готовы убивать друг друга.
– Но их ярость нужно правильно направлять, Ирэ, – произнес Борк.
– Борк, Братство не первый день использует мясных. – Вытерев руки платком, Ирэ подошел к Борк. – Их ярость предсказуема.
– Мясо непредсказуемо только в одном случае, – вставил Лаву, перебирая бумаги. – Только когда оно клубится.
– Сейчас мясо спокойно, – вздохнул Ирэ, кладя руку на грудь Борк. – Нет причины для помощи Мощных.
– Лучше всегда быть наготове. – Борк ответно положил свою руку на грудь Ирэ.
– Энергия Мощных не бесконечна.
– Энергия Мощных нужна для Круга, – произнес дремлющий в кресле Фроп.
– Энергия Мощных нужна для Круга, – кивнул Лаву.
Дверь открылась, в кабинет вошли двое охранников, подняли кофр и вынесли. Дверь за ними закрылась.
Застывшие в объятии Мэр и Ц вздрогнули, разжали руки, глубоко вдохнули.
– Энергия Мощных нужна не только для Круга, – проговорила Мэр. – Братство не скрывает главного от мясных. Только пленка требует тайных слоев. Энергия Мощных держит пленку.
– Считать следы можно и Малым Кругом, – завершила Ц.
Братья замерли. Они старались понять новое.
– Считать следы можно и Малым Кругом, – повторила Мэр, глядя в глаза Ц. – А уже потом просить помощи Круга Мощных.
Братья поняли новое. Ц была сильнее всех их сердцем. Она могла ведать. Новое шло от ее сильного сердца.
Мэр первая стряхнула оцепенение, опустилась на колени, протянула руки. Ц опустилась рядом с ней, взяла ее за руку. Лаву вышел из-за стола, подошел, встал на колени рядом с Ц, сжал ее пальцы своими. Борк опустился рядом с Лаву, Ирэ – рядом с Борк. Фроп встал с кресла, занял свое место в круге. Круг замкнулся.
Глаза стоящих в круге закрылись. Сердца их заговорили.Покой
10.02.
Кабинет вице-президента «Тако-банка». Мосфильмовская ул., д. 18
Узкое и длинное пространство кабинета, серовато-коричневые стены, итальянская кабинетная мебель. За изогнутым волной столом из испанской черешни сидел Матвей Виноградов : 50 лет, маленький, черноволосый, узкоплечий, остроносый, худощавый, в хорошо сидящем костюме из лилово-серого шелка.
Напротив сидел Боренбойм.
– Моть, ты извини, ради бога, что я тебя затеребил с утра пораньше, – потянулся Боренбойм. – Но сам понимаешь.
– Да ну что ты, – отпил кофе Виноградов. Взял со стола ту самую карту VISA Electron:
– 69 тысяч, да?
– 69, – кивнул Боренбойм.
– И пин-код написан. Круто. Дело серьезное, Боря. Такие подарки плохо пахнут.
– Очень.
– Слушай, и никто ничего тебе не звонил, не наезжал, да?
– Абсолютно.
Виноградов кивнул.
Вошла Соколова с бумагой в руке: 24 года, стройная, в салатовом костюме, с непримечательным лицом. Протянула бумагу. Виноградов взял, стал читать:
– Я так и думал. Свободна, Наташенька.
Она вышла.
– Ну и чего? – нахмурился Боренбойм.
– Они сделали совсем по-простому. Вполне легально, в соответствии с ЦБ и Гражданским кодексом. Значит: даритель оформляет основную карточку на паспорт какого-нибудь бича, а одновременно в заявлении указывается желание оформить и дополнительную карточку. На твое имя. При получении карточек основная карточка на подставного бича изымается и уничтожается. Остается только твоя. Найти этого бича, в твоем случае – Курбашаха Радия Автандиловича, родившегося в городе Туймазы 7 августа 1953 года, практически невозможно. В каких мирах обретается сейчас этот Курбашах – один Аллах знает. Сделано с толком, в общем. Хотя…
– Что?
– Я бы сделал еще проще. Есть уж совсем анонимный продукт: VISA Travel Money. Там вообще нет имени владельца. Не пользовался?
– Нет… – недовольно отвел глаза Боренбойм.
– Любой Петров может завести эту карточку и отдать ее Сидорову. У меня был прецедент. Одна баба продала в Киеве шесть квартир, и чтобы не везти бабки через хохляцкую таможню, попросила сделать себе эту VISA Travel Money. Но есть одна проблема: лимит одноразовых операций в наших русских банкоматах – не более 340 баксов в день. Короче, эта баба почти пять месяцев доила автоматы, как коз, а потом кончилось тем, что один автомат проглотил ее карту, а она…
– Моть, что мне делать? – перебил его теряющий терпение Боренбойм.
– Знаешь что, Борь, – Виноградов почесал свой лоб костяным ножом, – надо тебе с Толяном переговорить.
Соколова вышла.
– Он у себя? – нервно качался в кресле Боренбойм.
– Нет. Он сейчас плавает.
– Где?
– В «Олимпийском».
– С утра пораньше? Молодец.
– В отличие от нас с тобой Толя правильный человек! – засмеялся Виноградов. – Утром плавает, днем работает, вечером нюхает и трахается, ночью спит. А у меня все наоборот! Поезжай. Днем ты его не поймаешь. Это нереально.
– Не знаю… удобно ли. Я его встречал пару раз. Но близко мы не знакомы.
– Не важно. Он человек дела. Ну, сошлись на меня или на Савку, если хочешь.
– Думаешь?
– Поезжай, поезжай, прямо сейчас. Не теряй время. Твои эфэсбэшники ни хера не знают. А он тебе все расскажет.
Боренбойм резко встал, морщась, схватился за грудь.
– Чего такое? – насупил красивые брови Виноградов.
– Да… что-то вроде… остеохондроза, – расправил худые плечи Боренбойм.
– Плавать надо, Борь, – серьезно посоветовал Виноградов. – Хотя бы два раза в неделю. Я такой развалиной был раньше. А сейчас вот даже курить бросил.
– Ты сильный.
– Не сильней тебя. – Виноградов встал, протянул руку. – Ты мне позвони потом, ладно?
– Конечно. – Боренбойм пожал худые, но жесткие пальцы Виноградова.
– Да и вообще, Борьк. Чего-то редко мы видимся. Как бессердечные какие-то.
– Что? – настороженно спросил Боренбойм.
– Редко вместе бухаем, Борь. Бессердечные мы с тобой стали!
Боренбойм стремительно побледнел. Губы его задрожали. Он схватился за грудь.
– Нет. У меня… есть сердце, – твердо произнес он. И разрыдался.
– Борь… Борь… – привстал Виноградов.
– У… меня… е… есть… се… сердце! – рыдая, проговорил Боренбойм и рухнул на колени. – Есть… ееесть… е… е… е… е… ааааа!!
Рыдания сотрясли его, слезы брызнули из глаз. Он согнулся. Упал на ковер. Забился в истерике. Виноградов нажал кнопку селектора:
– Таня, быстро сюда! Быстро!
Обежав вычурный стол, склонился над Боренбоймом:
– Борьк, дорогой, что с тобой?.. ну найдем мы этих гадов, не бойся ничего…
Боренбойм рыдал. Прерывистые всхлипы слились в хриплый вой. Лицо Боренбойма побагровело. Он сучил ногами.
Вошла секретарша.
– Воды дай! – крикнул ей Виноградов.
Она выбежала. Вернулась с бутылкой минеральной. Виноградов набрал воды в рот, прыснул на воющего Боренбойма. Тот продолжал выть.
– У нас успокоительное есть? – Виноградов придерживал голову воющего.
– Анальгин только… – пробормотала секретарша.
– Валерьянки нет?
– Нет, Матвей Анатольич.
– Ничего у тебя нет… – Виноградов намочил носовой платок, попытался приложить ко лбу Боренбойма.
Тот выл и корчился.
– Еб твою… что это за… – растерянно причмокивал Виноградов, стоя на коленях.
Стал лить воду из бутылки на побагровевшее лицо Боренбойма.
Не помогло. Корчи сотрясали тело.
– Чего-то не то, – качал головой Виноградов.
– У него горе?
– Да, горе. Шестьдесят девять тысяч долларов перевели, и не знает кто! Горе горькое, блядь! – зло усмехнулся Виноградов, теряя терпение. – Борьк! Н у, хватит, в самом деле! Хватит!! Боря!! Стоп! Молчать!!
Он стал бить Боренбойма по щекам. Тот завыл сильнее.
– Нет, это черт знает что! – Виноградов встал с колен, сунул руки в карманы.
– А может, коньяку? – предложила секретарша.
– Черт, щас все сбегутся! Тань, вызывай «неотложку». Пусть ему вколют в жопу чего-нибудь… я не могу это слышать. Я не могу это слышать!
Он сел на стол. Оглянулся, ища сигареты. Вспомнил, что бросил. Махнул рукой:
– Начался денек, еби твою…
Секретарша взяла трубку телефона:
– А что сказать, Матвей Анатольич?
– Скажи, что… человек потерял…
– Что?
– Покой! – раздраженно выкрикнул Виноградов.
Мальчик хочет в Тамбов
14.55. Моховая улица
Лапин брел от метро «Библиотека имени Ленина» к старому зданию МГУ. На плече висел рюкзак. С хмурого неба сыпалась мелкая снежная крупа.
Лапин вошел в решетчатые ворота, глянул в сторону «психодрома» – небольшой площадки возле памятника Ломоносову. Там стояла группа студентов с бутылками пива. Двое из них, худощавый сутулый Творогов и маленький длинноволосый Фильштейн , заметили Лапина.
– Лапа, иди к нам! – махнул Фильштейн. Лапин подошел.
– Чего это ты так рано? – спросил Творогов.
Фильштейн засмеялся:
– Лапа по нью-йоркскому времени живет! Господин Радлов спрашивал про тебя.
– Да. Типа: где зажигает мой любимец? – вставил Творогов.
– Чего? – хмуро спросил Лапин.
– У тебя похмелье, Лап? Курсовик принес?
– Нет.
– И мы нет!
Фильштейн и Творогов засмеялись.
– Дай глотнуть. – Лапин взял бутылку у Творогова, отпил. – Рудик здесь?
– Не знаю, – закурил Творогов.
– В «Санта-Барбаре» посмотри.
– Слушай, это правда, что у него предки в какой-то секте?
– Кришнаиты, по-моему, – выпустил дым Творогов.
– Не, не кришнаиты, – мотнул кучерявой головой Фильштейн. – «Брахма Кумарис».
– А это чего такое? – Лапин вернул бутылку Творогову.
– Брахма – один из богов индийского пантеона, – пояснил Фильштейн. – А что такое «Кумарис» – спроси у Рудика. Они каждый год в Гималаи ездят.
– И он тоже?
– Ты что! Ему это до фонаря. Он на металле торчит. С Пауком туcуется. А чего ты? Интересуешься?
– Так, немного.
– Ты чего, Лап, поддавал вчера или трахался?
– И кололся тоже. – Лапин направился ко входу.
Вошел. Поднялся на второй этаж. Прошел пустую курилку. Зашел в распахнутую дверь мужского туалета. Там никого не было, кроме горбатой уборщицы неопределенного возраста. На грязном полу в луже мочи лежала перевернутая урна. Окурки, банки из-под пива и другой мусор валялись рядом. Уборщица шваброй сдвигала мусор к помойному ведру. Лапин недовольно прищелкнул языком. Заметив его, горбунья укоризненно покачала головой:
– Вот свиньи-то. Гадят и гадят. Сердца у вас нет.
Лапин вздрогнул. Рука, придерживающая лямку рюкзака, разжалась. Рюкзак соскользнул с плеча, упал на пол. Лапин всхлипнул. Глаза его стремительно наполнились слезами.
– Нет! – выдохнул он.
Открыл рот и издал протяжный жалобный вопль, зазвеневший в пустом туалете и вырвавшийся в коридор. Ноги Лапина подкосились. Он схватился за грудь и рухнул навзничь.
– Оооо! Оооо!! Ооооо! – протяжно завыл он, суча ногами.
Уборщица злобно уставилась на него. Поставила швабру в угол. Обошла Лапина, проковыляла в коридор. К туалету шли трое студентов, привлеченные криком.
– Бабуль, чего там? – спросил один.
– Опять наркоман! – возмущенно смотрела на них уборщица. – Кто теперь тут учится? Пидарасы да наркоманы!
Студенты обступили Лапина. Он стонал и плакал, изредка протяжно вскрикивая.
– Бля. Ломка типичная, – заключил один из студентов. – Вов, позвони 03.
– Я мобилу не взял. – Жевал другой. – Эй, у кого мобила есть?
– Ой, чего это с ним? – заглянула девушка, вышедшая из женского туалета.
– Есть мобильный?
– Да.
– Набери 03, вишь, ломает его.
– Жень, а может, не надо? – засомневался один из студентов.
– Вызывай, дура, он тут загнется! – зло вскрикнула уборщица.
– Пошла ты… – Девушка набрала 03. – А чего сказать-то?
Студент выплюнул жвачку:
– Скажи: мальчик хочет в Тамбов.
Восемь дней спустя
12.00.
Частная клиника. Новолужнецкий пр., д. 7
Просторная белая палата с широкой белой кроватью. Белые жалюзи на окнах. Букет белых лилий на низком белом столе. Белый телевизор. Белые стулья.
В кровати спали Лапин, Николаева и Боренбойм. Лица их были сильно измождены: синяки под глазами, желтоватый цвет ввалившихся щек.
Дверь бесшумно отворилась. Вошел тот самый полноватый и сутулый врач. Стал приоткрывать жалюзи. Вслед за ним вошли Мэр и Уранов. Встали возле кровати.
Дневной свет заполнил палату.
– Но они еще крепко спят, – произнесла Мэр.
– Сейчас проснутся, – с уверенностью произнес врач. – Цикл, цикл. Слезы, сон. Сон и слезы.
– Была проблема с парнем? – спросил Уранов.
– Да. – Врач сунул руки в карманы голубого халата. – Этих двух, как обычно, отправили в пятнадцатую. А его приняли сперва за наркомана. Ну и пришлось повозиться с переводом.
– Он правда кололся?
– На левой руке след от укола. Нет, он не наркоман.
Помолчали.
– Слезы… – произнесла Мэр.
– Что – слезы? – Врач поправил одеяло на груди Боренбойма.
– Изменяют лица.
– Если плакать всю неделю! – усмехнулся врач.
– До сих пор не понимаю, почему, когда человек начинает безостановочно рыдать, все всегда вызывают «неотложку»? А не пытаются сами успокоить… – задумчиво произнес Уранов.
– Страшно становится, – пояснил врач.
– Как это… прекрасно, – улыбнулась Мэр. – Первый сердечный плач. Это как… первая весна.
– Себя вспомнили? – покачивал массивной головой врач. – Да. Вы ревели белугой.
– Вы помните?
– Ну, голубушка, всего каких-то девять лет назад. Я и бородача вашего помню. И девочку с сухой рукой. И близнецов из Ногинска. Хорошая память у доктора. А? – Он подмигнул и засмеялся.
Мэр обняла его.
Боренбойм пошевелился. Застонал.
Бледная рука Лапина вздрогнула. Пальцы сжались. И разжались.
– Прекрасно. – Врач взглянул на белые часы. – Когда они вместе, цикл выравнивается. Так! Поторопитесь, господа!
Мэр и Уранов быстро вышли.
Врач постоял, повернулся и вышел следом.
Медсестра Харо бесшумно ввезла в палату кресло-коляску.
В кресле сидела худенькая старушка.
На ней было голубое старомодное платье. Голову покрывала таблетка голубого шелка с голубой вуалью. Голубые чулки обтягивали невероятно худые ноги, оканчивающиеся голубыми лакированными сапожками.
Старушка разжала сложенные на коленях морщинистые высохшие руки и подняла вуаль.
Ее узкое, худое, морщинистое лицо было исполнено невероятного блаженства. Большие голубые глаза сияли молодо, умно и сильно.
Харо вышла.
Старушка смотрела на пробуждающихся.
Когда все трое проснулись и заметили ее, она заговорила тихим ровным и спокойным голосом:
– Урал, Диар, Мохо. Я – Храм. Приветствую вас.
Урал, Диар и Мохо смотрели на нее.
– Ваши сердца рыдали семь дней. Это плач скорби и стыда о прошлой мертвой жизни. Теперь ваши сердца очистились. Они не будут больше рыдать. Они готовы любить и говорить. Сейчас мое сердце скажет вашим сердцам первое слово на самом главном языке. На языке сердца.
Она замолчала. Большие глаза ее полузакрылись. Впалые щеки слегка порозовели.
Лежащие в постели вздрогнули. Глаза их тоже полузакрылись. По изможденным лицам прошла слабая судорога. Черты этих лиц ожили, поплыли, сдвинулись со своих привычных мест, обусловленных опытом прежней жизни.
Лица их мучительно раскрывались.
Словно бутоны диковинных растений, проспавшие десятилетия в холоде и безвременье.
Прошло несколько мгновений преображения.
Урал, Диар и Мохо открыли глаза.
Лица их светились восторженным покоем.
Глаза сияли пониманием.
Губы улыбались.
Они родились.
Часть вторая
Когда война началась, мне двенадцать лет исполнилось. Мы с маманей жили в деревне Колюбакино, деревня такая небольшая, всего сорок шесть домов.
Семья совсем маленькая была: маманя, бабушка, Герка и я. А отец сразу 24 июня на войну ушел. И где он там был, куда попал, жив или нет – никто не знает. Писем от него не было.
Война шла и шла где-то. Ухало иногда по ночам.
А мы жили в деревне.
Дом так стоял с краю, у нас фамилия была Самсиковы, а по-деревенски звали нас Крайные, потому как издавна мы на краю жили, и прадед и дедушка, все жили и жили с краю, тут хаты и ставили, по краям.
Ну, а я росла вообще такой смышленой девчонкой, все делала по дому, помогала старшим, там, если что надо убрать или приготовить. В деревне тогда все работали – от мала до велика. Порядок такой был, белоручек не было.
Я понимала, что мамане тяжело без отца. Хотя с ним было еще тяжелее: пил он сильно. До войны еще как начал, когда в лесничестве работал. Они там с лесничим лес налево продавали и пропивали. Загульный он был. И была у него любовница в соседней деревне. Такая толстая, большеротая. Полина.
Ну, и немцы как пришли в сентябре 41-го, так и встали в деревне. И простояли до октября 43-го. Два года стояли.
Это были тыловики, обозники, не боевые части. Боевые-то дальше пошли – Москву брать. Но не взяли.
А у нас в основном немцы, ну лет по сорок им было, тогда для меня они вообще как старики были, чего мне, девчушке. Они стояли по избам, по всей деревне. А в сельсовете у них жили офицеры. Ну и с немцами с этими как-то было нормально, они за два года никого не убили, правда, когда отступали, деревню нашу сожгли. Ну так это приказ у них такой был, это не по их воле.
Они вообще были люди толковые, хозяйственные.
Как только пришли, к нам в избу вселились, на второй день стали строить нужник. У нас в деревне сроду до этого не было нужников. Все ходили, что называется «на двор» – где-нибудь присядешь, и все дела. Бабушка ходила в хлеву, там, где корова стояла. Мама – на огороде. А мы, ребятня – где придется. Под кустик присел – и все! И ни у кого в деревне не было нужника, никому и в голову не пришло бы строить специально. Они строили, а бабушка смеялась: чего трудятся зря, ведь все равно говно в землю уходит!
Но немцы есть немцы: порядок любят.
И как пришли – и сразу стали строить нужники и лавочки возле домов, будто жить долго у нас собирались.
Ну и вообще – они нам еды подбрасывали, это помогло. У них кукуруза была, мука, консервы мясные. И хлеб даже себе они сами выпекали – нам не доверяли. Может, боялись, что отравим?
Шнапс у них был. Но я его не пробовала, я ж девчушка была. А вот пиво попробовала первый раз в жизни тогда зимой.
У них было их Рождество, они все собрались в сельсовете. А мама с другими бабами им еду готовила: свинину, кур, нажарили картошки на сале, напекли булок белых из ихней муки. И на стол все поставили. А мы с девчонками на печку залезли и смотрели. И тут немцы выкатили бочонок, вставили в него такой краник медный и стали наливать по кружкам и стаканам пиво. Оно желтое такое было и пенилось. И стали они пить, а потом пели и раскачивались. И так до самой ночи. И шнапс тоже пили. А я смотрела сверху. И немец один дал мне кружку: пей! И я попробовала пиво. Непонятный вкус был такой. Но запомнился. Вот так.
Вообще с немцами было весело. Как-то интересно: немцы! Совсем другие. Смешные они. У нас трое жили: Эрих, Отто и Петер. Они в избе встали, а мы в баню переселились. Баня-то совсем новая была, отец из толстенных бревен сложил, по-белому топилась.
А немцы избу оккупировали. Смешные! Всем уже под сорок. Отто толстый, Эрих горбоносый, маленький, а Петер в очках, белобрысый и худой, как жердь. Самый говнистый был Эрих: все время недоволен. То ему сделай, это принеси. Молчит или бубнит что-то. Очень пердеть любил. Пёрнет, пробубнит что-то и пойдет по деревне.
А Отто был самый добрый и смешной. Мы с мамой им завтрак с утра готовим, а он проснется, потянется, на меня посмотрит:
– Нун, вас гибтс нойес, Варка?
Я сначала просто улыбалась. А потом меня Петер-очкарик подучил, и я отвечала всегда:
– Юбехауптнихтс!
А он заржет и пойдет по малой нужде.
Ну, а Петер был такой задумчивый, «подушкой оглоушенный», как бабуля говорила. Выйдет, сядет на новую лавочку, закурит трубочку такую длинненькую. Сидит, курит и ногой качает. Впялится во что-нибудь, сидит-сидит, как чурбан, потом вдруг выдохнет и скажет:
– Шайс дер хунд драуф!
Еще он любил ворон стрелять. На огороды выйдет с ружьем – и давай. Лупит, лупит, аж стекла дрожат.
В нашей деревне немцы делали три вещи: веревки лыковые, санный полоз и деревянные клинья.
То есть делали-то это все наши деревенские, а немцы следили и отправляли куда-то. Мама с бабами ходила лыки драть, плести веревки, а старики с парнями гнули санный полоз и клинья рубили. И клинья эти для чего были немцам нужны – никто в деревне не понимал. До тех пор, пока Илюха Кузнецов, дезертир безрукий, не объяснил: это чтоб бомбы в ящиках не болтались и не взорвались.
Наши трое немцев очень любили молоко. Это у них просто до помешательства было: как мать или бабуля подоят корову, еще процедить не успеют, а немцы с кружками прямо в хлев прут:
– Айн шлюк, Маша!
Хотя маму звали Гаша. А меня – Варя. Но они всех наших девок звали Машками… А молоко для них просто как помешательство какое-то! Лезут чуть ли не под корову с кружками. Причем спешки нет никакой – все равно все молоко они выпивали! Но спешат, чтоб молоко не простыло парное, чтобы еще теплого напиться. Суетятся. Мы смеемся.
Ну и прошел этот год, Красная армия стала наступать, немцы побежали.
И у них было два приказа: деревни все сжигать, а молодых людей всех забирать с собой, в Германию на работу. И нас собрали по всей деревне всего 23 человека. Остальные разбежались или попрятались. А я чего-то не стала. Не знаю почему, но вот как-то не хотелось никуда бежать. И куда бежать-то? Везде немцы. Партизан у нас не было. А в лесу страшно.
И мама тоже мне ничего не сказала. Она даже и не плакала: привыкла ко всему. Она ревела, когда дом поджигали. А за детей тогда как-то не очень боялись. Да и мы тоже были как деревянные – не знали же, что и где, куда повезут и зачем. Никто не ревел. А бабушка все молилась и молилась. Чтоб не убили. Так они и отпустили меня. А Герка с ними остался, ему и семи лет не было.
Собрали нас быстро в колонну. Мать мне ватник отцов напялила, сала успела сунуть. А я то сало потеряла по дороге! Вот умора!
Как оно из кармана-то выскользнуло – ума не приложу! Там фунта три кусок…
Мне это сало потом приснилось. Будто я его хватаю, а оно как кисель овсяный, что на поминки варят, – промеж пальцев проскальзывает!
И мы дошли с немцами пешком до Ломпади, где железная дорога была. Там нас поселили в такой большой ферме, в ней раньше колхозный скот держали, но немцы скотину тоже увезли в Германию. И мы там сбились со всей округи, человек триста жили, все молодые ребята и девки. Они поставили часовых, чтоб мы не сбежали. Выводили только по нужде. Прожили там трое суток.
Немцы ждали эшелона, чтоб нас погрузить и отправить. А этот эшелон шел с Юхнова и всех собирал, таких, как мы. Он был специальный, для молодых только.
А в этой ферме было холодновато – поздняя осень, снег уже повалил, крыша дырявая, окна досками позабиты. Никакой печки не было. И кормили они нас печеной картошкой. Бак внесут, поставят посередке, мы картошку таскаем, смеемся, едим, все чумазые! И как-то всем было весело: молодые все! Ничего не боялись, о смерти вообще не думали.
Фронт-то уже рядом был. Ночью лежим, слышим канонаду: бух! бух! бух!
А потом пришел эшелон. Большой такой состав, тридцать два вагона. Он давно уж полз и был сильно набит. И тут нас всех стали запихивать в вагоны: девок отдельно, парней отдельно. А там уж своих полно толпится. И тут только как-то всем стало страшно, девки стали реветь: непонятно, что с нами будет? Может, побьют всех!
И я тоже заревела. Хотя вообще редко плакала.
Запихнули, значит, нас, дверь задвинули. И пошел эшелон на запад. В вагоне нас человек пятьдесят девок, ни лавок, ни нар. На полу солома обосцанная, в углу куча говна. Окошко небольшое с решеткой. Вонища. Слава богу, хоть морозец ударил, говно в углу смерзлось, а летом все б задохнулись от вони.
Полз эшелон медленно, часто останавливался. Мы – кто сидит, кто стоит, как сельди в бочке.
Стали разговаривать. Как-то легче стало. Девки постарше рядом стояли, мне стали рассказывать про свою жизнь. Они с Медыни были, городские. У всех отцы погибли, а у одной дезертировал, потом работал полицаем и сам себя гранатой подорвал: не то что-то в ней тронул, и все. И двоим еще по глазу выбил.
А одна девушка, восемнадцать лет, жила с немцем. У нее и мать с немцем жила, они поэтому и жили нормально. А эта Таня сильно в немца влюбилась, и когда часть его снялась и в Белоруссию двинула, она шесть верст рядом бежала и все ревела: Мартин! Мартин! Потом офицеру надоело, он пистолет достал и ей под ноги выстрелил. Три раза. Тогда она отстала.
У нас в деревне тоже две бабы жили с немцами. И были довольны. У одной всегда были консервы и кукурузная мука. Она забеременела потом.
Девки в вагоне говорили, что нас повезут работать в Польшу или в Германию. И половина девчат хотели в Германию, а половина в Польшу. Те, кто в Германию хотел, думали, что там фронта нет и много еды. А те, что в Польшу, говорили, что немцев все равно разобьют и война будет везде, так лучше в Польшу, откуда легко сбежать. И сильно заспорили.
Там были четыре девки из Малоярославца, такие комсомолки убежденные, они все хотели к партизанам податься, да не успели. И теперь все время только и думали: как бы деру дать с поезда. Но немцы по нужде не выводили, да и не кормили совсем: где уж прокормить такую ораву!
Сцали мы прямо на пол, на солому. Это все через щели вытекало. А срать пробирались в угол, где куча. К ней все спиной стояли, теснились от нее. И кидали соломы на говно. А рядом только одна девка сидела полоумная. И пела песни разные. Она дурочка была деревенская, но ее тоже угнали как молодую. И ей запах говна был совсем не страшен. Сидела возле кучи этой, вшей вычесывала и пела.
Хуже всего было, что стояли подолгу на полустанках. Да и просто в чистом поле. Едем, едем, потом – дерг! И стали. И стоим – час, другой. Потом поползем дальше.
Так и проползли всю Белоруссию.
Спали мы сидя. Друг к другу привалимся и спим себе…
Потом девки разбудили, говорят: в Польшу въехали. Рано-рано утром. Я к окошку пролезла, смотрю: там как-то почище, покрасивее. Войск поменьше. Домики аккуратные. И горелых совсем мало.
Все заговорили, что где-то возле Катовице есть большой лагерь для рабочей силы. Там одни русские и оттуда распределяют по всей-всей Европе. И что Европа вся очень большая, и везде-везде немцы, во всех странах. А я вообще про Европу ничего тогда не знала: я только четыре класса школы кончить успела. Знала только, что Берлин – столица Германии.
Но девки из Медыни знали все про Европу, и разные города называли, хотя там и не были никогда. А эта Таня, что за Мартином бежала, говорила, что лучше всего – это Париж. Ее Мартин там воевал. И рассказывал, как там красиво и какое там вино вкусное. Он ее поил шнапсом. И подарил шарф. Но она его оставила. По глупости.
Одна девка говорила, что нас всех загонят на большую-пребольшую подземную фабрику, где шьют для немцев одежду. И что сейчас по всей Германии срочный секретный приказ: пошить один миллион ватников для Восточного фронта. Потому что готовится наступление на Москву, а у немцев шинели не очень теплые. Поэтому они отступают. А как только будет миллион ватников, их наденут на самые отборные части, и те сразу сядут на новые танки и попрут на Москву. Это ей все рассказал знакомый полицай.
Тогда те самые комсомолки стали орать на нее, что она тварь и предательница, что Москву немцы не смогли взять в 41-м, их там поморозило с их шинелями – и поделом. А когда Красная армия разобьет немцев, то Гитлера привезут в Москву на Красную площадь и там повесят за ноги напротив Мавзолея, а рядом повесят предателей и предательниц, таких, как она. И что товарищ Сталин со всех спросит: и с тех, кто в плен сдавался, и с тех, кто немцам сапоги лизал. И с баб, которые под немцев ложились.
Но здесь Таня им крикнула, чтоб они заткнулись со своим Сталиным. Потому что у нее двоих дядьев покулачили, а отца сгноили непонятно где и что они с матерью перебивались с хлеба на воду, а при немцах хоть впервые наелись нормально, да еще она влюбилась так, что чуть с ума не сошла.
И эти комсомолки ей крикнули:
– Проблядь фашистская!
А она им:
– Собаки сталинские!
И полезли они друг на друга драться. А другие девки вступились: кто за Таню, кто за комсомолок.
И началось! Все кругом дерутся, я хочу к стенке пробиться, а сил нет. Они все клубками сцепились, а еще поезд шибко пошел и без них кидает в стороны. Страсть! Откуда только силы взялись – ведь не кормили двое суток!
Ну и пару раз мне по сопатке попало, аж искры из глаз. У нас в деревне редко дрались. Только по весне, когда сев. Или на свадьбу. Весной – это из-за межей. Обязательно кому-нибудь шкворнем голову проломят. А на свадьбах – от самогону. Нагонят из картошки, поставят на столы, выпьют – и драться.
Дедуля покойный рассказывал: однажды свадьба была, сели, выпили, все спокойно, едят, молодые целуются. И как-то всем скучно. И один сидел-сидел, потом вздохнул и говорит:
– Ну, кому-то надо начинать!
Размахнулся и соседа напротив – по роже. Тот – кубарем. И понеслась драка.
В общем, не знаю, чем бы все кончилось, если бы не эта дурочка полоумная. Она там возле своей кучи дремала, а как задрались все девки – проснулась. И как завоет! Верно, перепугалась спросонья. Зачерпнула говна из кучи – и в девок! И еще раз! И еще!
Все как заверещат! Но драться перестали.
А потом встали мы где-то под Краковом. И стоим, стоим, стоим. Почти ночь простояли. Тошно. Кто плачет, кто спит. Кто смеется.
А мы вчетвером в угол пробились, сидим. Темно, только где-то далеко снаружи кто-то на губной гармошке играет. И я сразу стала дом вспоминать, маманю, бабулю, Герку. И слезы сами потекли. Но в голос не ревела.
Конечно, жили мы неплохо: отец в лесничестве деньги получал, а не трудодни, как в колхозе. Не потому что он не деревенский был – просто повезло. Он лесничего, Матвея Федотовича, из трясины вытащил. Он, когда объездчиком работал, охотиться приучился. А как же? Ведь все время с ружьем да на лошади. Что выскочит – бах! А лесничий наш большую страсть к охоте имел. И вот они вместе и охотились. И однажды, когда по уткам ходили на Бутчинские болота, лесничий в трясину и провалился. А отец его вытащил. И как лесника, Кузьму Кузьмича, цыгане зарезали, место пусто было. А лесничий – раз и назначил отца! И стал он лесником. И получал каждый месяц 620 рублей.
А с деньгами-то прожить можно. Это другие мужики как зима – на приработок в город подаются, чтоб денег заработать и купить что-то. На трудодни-то ничего не купишь. Картошки дадут али ржи. Ну, овес еще давали. Парят, парят его в котлах всю зиму и едят. Как лошади.
А мы хорошо ели. Лошадь держали, корову, двух свиней, гусей да курей. Сало у нас всегда было. Маманя как, бывало, утром яишню зажарит на большой сковороде – в сале все так и плавает! Хлебушко возьмешь, как начнешь макать – страсть! А после – блины грешневые с творогом. Намакаешься, молоком топленым запьешь – ух как вкусно! Да и мед у нас был, на базаре покупали. И сапожки мне отец на базаре купил, и куклу Принцесс у, и четыре книжки, чтоб читать училась.
У всех девок только буквари, а у меня и книжки с картинками были: «Конек-горбунок», «Москва Советская», «Колобок» и «Волк и семеро козлят».
А базар – это страсть как хорошо! Как, бывало, отец утром скажет:
– Ну чо, Варюша, на базар поедем?
Так я вперед матери на конюшню лечу запрягать. Ох, любила я лошадей запрягать! Отец с малолетства приучил: пацанов-то взрослых в семье не было! Да и верхом хорошо ездила – а как же? Всю жизнь с лошадями: сперва Резвый был, потом Зоя, которую украли, потом Мальчик.
Выведу, поскребу, запрягу в тележку со спинкою расписной. Отец сапоги хромовые наденет, картуз новый напялит, сядет вперед, мы с маманей сзади. Хлесь кнутиком! И покатим.
До базара у нас тридцать шесть верст. Он в Жиздре. Чего там только не было! И посуды всякой, и ковриков, и хомутов. А я игрушки любила. Один дядечка свистульки продавал. Другой игрушки: мужик и медведь в кузнице куют. И куклы были разные. Хорошие.
Все б хорошо, если б отец не пил. Мама говорила, что от этого и детей больше нет…
С другой стороны – чего вспоминать-то прошлое, все равно немцы деревню сожгли.
Ну и ревела я по-тихому.
Вот. Значит, постояли-постояли. Потом утром дернули – проехали и стали: Краков. Девки стали подыматься – приехали! Тут дверь оттянули – стоят немцы. Смотрят на нас, говорят что-то. Один нос зажал, отвернулся. И захохотали: вонь-то у нас в вагоне сильная. Тут подошел поляк с ведром воды. Немцы:
– Тринкен!
Поляк нам ведро передал. Стали пить по очереди. Ведро выпили, он еще одно подал. Выпили и второе. И третье подал! Я пить-то не очень хотела, а как до меня дошло – припала и оторваться не могу, будто заснула. Еле оттянули.
В общем, наш вагон выпил четыре ведра воды.
Потом подвозят двое поляков тележку. А на ней – конина сырая, рубленая. И один лопатой стал куски эти нам в вагон метать. Закинул. Немец крикнул:
– Эссен!
И опять дверь задвинули. Постояли мы, а потом – чего делать? Промеж себя потолковали: если кормят, значит, дальше повезут, в саму Германию. А сколько туда ехать? Никто не знает. Может, недели две или больше? Может, месяц? Европа-то большая. Может, и больше России.
Да и жрать охота. Стали эту сырую конину рвать помаленьку да жевать.
А поезд тем временем дальше пошел. И больше уже мы долго не стояли. Наверно, в Польше дороги-то получше, вот эшелон наш и пер быстро.
Я конины пожевала и заснула надолго. Спала-спала, как убитая. Утомилась, понятное дело. Да и страшно. А мне всегда, когда страшно было – в сон тянуло. Как отец мать бить начинает – я прямо зеваю со страху. Голова дурная, легла бы на пол и не вставала, спала, пока не кончится все.
А однажды в лесу заблудились с Авдотьей Куприяновой. Пошли по грибы, а она: идем, Варь, я заветную поляну грибную знаю, там только белые грибы и растут. Ну и повела она на эту поляну. Вела-вела и завела в такую чащобу, что жуть взяла: деревья огромадные, солнца не видать, темно, как ночью.
И заплутались. Страшно! У нас и волки водятся, и медведь в 39-м двух коров задрал. А эта Авдотья, дура валяная, как увидала, что заплуталась, – сразу в рев! А мне чего делать? Пошли, тащу ее за руку. Потом так страшно стало, что легла под куст да заснула. Она рядом. А проснулась – нас и нашли. Там дорога рядом была, шли мужики на покос, мы услыхали. Закричали им. Они подошли. Мать говорила – чудо…
В общем, проснулась, когда дверь сдвинули.
И закричали:
– Штейн ауф! Аусштайген! Шнель! Шнель!
И мы повставали и из вагона полезли.
Вылезли на огромадный майдан такой. Не то что вокзал, а такое место, где поезда стоят, подъезжают и отъезжают. Я такого сроду не видала: много-много железной дороги и стоят рядом поезда товарные. И цистерны стоят. И с лесом эшелоны, и просто пустые. Вокруг солдаты ходят.
Нас вдоль поезда построили. В дороге четверо умерли непонятно от чего. Их сразу убрали прочь.
И немец встал на ящик и стал говорить по-русски. Он сказал, что мы теперь находимся в Великой Германии. Это для нас большая честь. Поэтому мы все должны хорошо работать на благо Великой Германии. И что сейчас мы пойдем в фильтрационный лагерь, где нам дадут есть, дадут хорошую одежду и оформят документы для проживания в Германии. А потом мы поедем на разные заводы и фабрики, где будем жить и работать. И что нам всем там будет хорошо. И главное – чтобы мы поняли, что Германия – культурная страна и все в ней живут счастливо. А молодые люди счастливее других.
И потом нас построили в колонны и повели.
И пошли мы от этого места. Шли верст семь. Подошли к большому лагерю с забором с колючкой и с вышками. Ходят немцы с овчарками, машины стоят.
Нас завели туда и распределили по баракам: девок отдельно, парней отдельно. В нашем бараке были нары. И были еще девки – с Польши, Белоруссии и Украины. Но их было совсем мало. Они нам сказали, что здесь больше трех дней не задерживают: пропустят через лагерь и повезут на место работы.
Мы стали их расспрашивать – куда нас пошлют? Они говорили – кого куда. Никто точно не может знать. А если кто заболел – в трудовой лагерь. Там хуже всего. Там щебень бьют.
Мы там немного посидели, и нас повели на санобработку.
Это такая баня огромадная – страсть! Я таких никогда не видала. В большущем таком бараке, он новый совсем, тесом пахнет. Я как туда вошла, как этот запах-то почуяла, сразу лесопильню нашу на Кордоне вспомнила. Как за доской ездили, когда дядя Миша строился. Построили ему дом такой красивый, отец лучшего тесу достал. А дядя Миша возьми да и удавись. Вот как бывает…
В этом бараке там сперва нас в очередь построили. И стали по трое заводить.
Завели меня с еще двумя девками. Там столы, за ними сидят немки военные и пишут. А одна стоит с таким прутиком. И она говорит по-русски:
– Раздевайтесь.
Мы разделись. Догола. И она нас спереди и сзади смотрела. Потом в волосы смотрела. А вши тогда у всех были. Да и у меня тоже, а чего такого? Она двоим девкам прутиком показывает на стулья, где волосы:
– Стричься!
Одна девка – в рев. Немка ей прутиком – по заднице. И засмеялась. Они на стулья сели, и на них эти бабы с машинками навалились. А мне стричься не сказала. Мне показала прутиком на дверь в баню:
– Иди туда.
Я вошла. Там как бы парная. Но шаек нет никаких, а просто поверху трубы железные, а в них дырочки. И из дырочек прыщет вода чуть теплая. Я смотрю на эти трубки – чего делать-то? Постояла, потом дальше пошла. А там как бы предбанник. И снова немки военные. И столы. А на них – белье разное.
Мне немка дала чистую нательную рубаху и платок синий. И на выход кивает. Я вышла, а там тоже как бы предбанничек маленький. А в нем наша одежда. Но от нее чем-то воняет. И это, оказывается, то место, где мы раздевались. Этот барак у них как бы по кругу, как карусель на ярмарке. И та же самая немка с прутиком мне говорит:
– Одевайся.
Я ту новую исподнюю напялила, потом чулки шерстяные, платье свое зеленое. Потом фуфайку. Потом и ватник. И платка моего старого нет. Забрали. Да и исподней рубахи старой тоже нет. Я голову новым платком повязала. А те девки, уж постриженные, пошли мыться.
А немка мне говорит:
– Садись к столу.
Я села. Напротив тоже немка. Она тоже по-русски заговорила:
– Как тебя зовут?
Я говорю:
– Самсикова Варя.
– Сколько лет?
– Четырнадцать.
Она все записала. Потом говорит:
– Протяни руку.
Я не поняла сперва. Она опять:
– Давай руку!
Я протянула. Она мне на руку такую печать – раз!
А там чернильный номер: 32-126.
И говорит:
– Иди туда.
А там дверь. Я пошла, открыла. А там уж двор. И стоит солдат с автоматом. И он мне на другой барак показывает. Я пошла туда. Как подходить стала – сразу едой запахло. Господи, думаю, неужели накормят? Иду, а ноги сами побежали. А сзади еще девки вышли. И тоже побежали.
Вошли мы туда. Это не барак, а навес дощатый. А под ним большие котлы стоят, штук десять, а в них еда варится. А вокруг немцы с мисками и с черпаками. И наши тоже, уже кто вышел. Немцы всем по миске пустой дают. И мне тоже дали – и в очередь. Достояла, мне немец в миску черпаком – плюх! Суп гороховый. Густой, как каша. А ложки-то нет ни у кого. Все сосут через край.
Я тоже быстро высосала, рукой миску вытерла, облизала руку.
А немец смотрит:
– Вильст ду нох?
А я говорю:
– Яа, яа. Битте!
Он мне еще – плюх! Я вторую миску уже помедленней высасывала. Смотрела на все вокруг: наши толкаются, немцы. Совсем все по-другому, совсем другая жизнь началась.
Съела я вторую порцию – и опьянела. Привалилась к этому котлу. А он теплый, блестит. А немец смеется:
– Альзо, нох айнмаль, мэдл?
А я вспомнила, как Отто говорил, когда молоком напивался досыта. И отвечаю:
– Их бин зат, их маг каин блат.
Немец заржал, что-то спросил. Но я не поняла.
И пошла в барак.
К вечеру всех с нашего эшелона обработали и накормили. Но постригли почему-то не всех. Из нашего барака не постригли только меня и еще трех девок. Таня мне объяснила:
– Это потому, что у вас вшей нет.
Я говорю:
– Как нет? Глянь-ка!
Она мне волосы раздвинула:
– Есть! Значит, забыли. Ты волосы-то спрячь под косынку, а то опомнятся да обкорнают наголо.
Я так и сделала: повязалась потуже, волосы спрятала.
А как стемнело, вошла та самая немка с прутиком и говорит:
– Теперь всем спать. Утром вас повезут на рабочие места. Там будете жить и работать.
И двери в бараке заперли на засов.
Кто заснул сразу, а кто нет. Мы с Таней и с Наташкой с Брянска рядом пристроились да всё разговоры разводили: что да как будет. Они-то меня постарше, многое чего слыхали. И про Европу, и про немцев.
Наташка рассказывала, как у них в Брянске немцы кино крутили для своих. А ее два раза с подругой немец приглашал. И она видела в кино Гитлера и голую женщину, которая все время пела, танцевала и хохотала. А вокруг этой женщины ходили по кругу немцы в белом. И смотрели на нее и улыбались. А Гитлер, она говорила, симпатичный такой, с усиками. И культурный, сразу видно. И он очень громко говорит.
А я кино видала всего шесть раз. У нас клуб-то только в Кирове. А это двадцать пять верст. Два раза отец свозил на Мальчике. Потом Степан Сотников с ихними детьми возил. И смотрела я «Чапаева» два раза, потом «Волга-Волга», «Мы из Кронштадта», «Семеро смелых» и еще одно кино, забыла, как называется. Там про Ленина, как в него женщина одна стреляла. А он в кепке убегал. А потом упал. Но не умер.
А внизу на нарах девки все время гадали: кто победит – наши или немцы?
А Тане с Наташкой было все равно – лишь бы не бомбили.
Нас три раза бомбили. Но все бомбы упали не в деревню, а на огороды. Только стекла повыбило и коров посекло. И еще на мине одна баба из деревни подорвалась. Ее в деревню принесли на рогоже: без ноги, кишки вылезли. А она все повторяла:
– Мамечина моя родимая, мамечина моя родимая.
И померла.
А я заснула.А когда проснулась – все уж поднялись. Побежали мы с девками сцать. Там нужник большой, чистый. Посцали, а некоторые и посрали. Потом пошли есть к котлам этим. И опять этот суп гороховый. Но уже пожиже, не как вчера. И добавки не дали. Выпила я его через край. Только миску облизала – кричат:
– Строиться!
И пошли все на майдан.
Построили нас – парней отдельно, девчат отдельно. Стоят немцы, смотрят на нас. Молчат. Один на часы поглядывает. Ну, стоим. А немцы и не говорят ничего. Час простояли, стали ноги затекать. Наташка говорит:
– Грузовиков ждут, чтоб нас везти.
Вдруг слышим – машины едут. И въезжают прямо в лагерь. Но не грузовые, а легковые. Три машины. Черные, красивые. Подъехали. Из них вышли немцы. Как и машины, во все черное одетые. А один, самый главный – высокий такой, в черном кожаном пальто. И в перчатках. И ему все немцы честь отдали.
А он тоже честь отдал, подошел к нам, руки на животе сложил и смотрит. Красивый такой, белобрысый. Посмотрел и говорит:
– Гут. Зер гут.
И что-то немцам сказал. И эта немка, что по-русски говорила, говорит:
– Снять головные уборы.
А я не поняла. А потом поняла, когда парни кепки и шапки поснимали. И девки тоже платки стали развязывать да снимать.
Я думаю: вот, сейчас и обстригут меня. И точно, немка говорит:
– Кто с волосами – выходи вперед.
Делать нечего – пошла. Вышло еще человек пятнадцать: ребята и девки. Все, кого не остригли. И главное – все белобрысые, как и я! Даже смешно стало.
А немка:
– В шеренгу становись!
Ну, встали все рядом.
А немец этот главный подошел и смотрит. И смотрит как-то… я и не знаю, как сказать. Долго и медленно. А потом стал подходить к каждому из нас. Подойдет, двумя пальцами подбородок поднимет и смотрит. Потом дальше идет. И молчит.
Подошел ко мне. Подбородок мне поднял и в глаза уставился. А у самого лицо такое… я таких и не видала. Как Христос на иконе. Худой такой, белобрысый, глаза синие-синие. Чистый очень, ни пылинки, ни грязинки. Фуражка черная, а на ней наверху – череп.
Посмотрел он меня, потом остальных. И показал на троих:
– Дизес, дизес, дизес.
Потом нос свой перчаткой тронул, будто задумался. И на меня показал:
– Унд дизес.
Повернулся и пошел к машинам.
А немка:
– Всем, кого выбрал господин оберфюрер, – марш за ним!
И мы пошли, четверо.
А немец этот к машине первой подошел, ему дверь открыли, он сел. А нам другой немец на вторую машину кивает. И дверь открыл. Подошли мы, залезли в нее. Он дверь закрыл, сел вперед, с шофером.
И поехали.
Я в легковой машине ни разу не ездила. Только в грузовых. Когда зерно возили. И когда у нас в Колюбакино падеж коровий был, нам телят в двух машинах привозили на племя. А райком машины выделил. И мы с маманей и со скотником Петром Абрамычем за теми телятами на машинах и поехали в Ломпадь. А легковую машину я видала в Кирове. Когда мы в кино приезжали. Эта машина легковая стояла, потому что въехала в грязь и увязла. И все вокруг стояли и думали, как ее вынимать. А дядечка толстый, который приехал в этой машине, ругался на другого, который из райкома был. И этот толстый говорил громко:
– В твою жопу, Борисов, только по заморозкам ездить.
А тот Борисов молчал и на машину смотрел.
Вот. А у немцев в машине я осмотрелась. Красиво все! Впереди шофер с немцем, мы сзади сидим. Все кругом блестит, все чистое, сиденья из кожи, разные ручки кругом. И пахнет самолетами. Как в городе.
И прет эта машина так легко! И не чуешь, как едет, только качает на ухабах, как в люльке. Поняла я тогда, почему эти машины легковыми называют.
Со мной еще две девки и парень один. Едем, едем. Куда – неясно.
Версты две проехали, свернули в лес и встали. Немец выскочил, дверь открыл:
– Аусштайген!
Вылезли. Смотрим – те две машины тоже рядом стоят. Кругом лес такой нестарый.
И немец этот главный выходит из машины. И другим немцам что-то говорит. И те сразу стали нам руки за спиной вязать. Да так ловко, что я и не поняла ничего, а мне уж – раз! И веревкой руки стянули. И подводят они нас к четырем деревьям и начинают привязывать.
Девки тут завыли, я тоже. Ясное дело – в этом лесу и останемся. Воем, одна молиться стала, парень постарше нас, он кричит:
– Панове, я ш не жид пархатай! Опометнайтесь, панове!
А они прикрутили нас к деревьям. А после рты нам завязали, чтоб мы не кричали. И встали вокруг. А главный посмотрел – на парня показал. И двое немцев к машине пошли.
И поняла я: вот сейчас нас и кончать будут. А за что – неясно. Господи, неужели за то, что мы не стрижены?! Так в том разве ж наша вина? Это ж та гадина немецкая забыла постричь-то, а не я не захотела! Мне ж все равно! Неужели из-за волос в землю ложиться?! Родимая моя мамушка! Вот оно как обошлось-то все! Здесь в сырую землю пойду, и не узнает никто, где могилка Варьки Самсиковой!
Стою так и думаю. Слезы глаза застят.
А немцы ворочаются и несут в руках ящик такой железный. Поставили его, открыли. И достают из него не то топор, не то кувалду – не поняла сперва. Значит, не стрелять будут, а прямо так зарубят, по-живому. Ой, лихо!
Подходят они к парню. А тот забился, сердешный, как птаха. А немец у него на груди пальто в стороны – дерг! Рубаху – раз! Разорвал. И исподнюю тоже – раз! Грудь ему заголили.
А главный кивнул:
– Гут.
И руку в перчатке протянул. И немец ему кувалду эту дал. И я гляжу – это не то чтобы кувалда, а непонятно что. Словно она изо льда. Или из соли, которую коровам на ферме лизать дают. Не железная. И главный размахнулся да со всей мочи парню этой кувалдой в грудь – плесь! Тот аж дернулся весь.
А немец другой к груди парня такую трубочку приставил, как дохтур, и слушает. А главный стоит с этой кувалдой. И немец головой покачал:
– Нихтс.
Тогда главный опять – плесь! И тот немец опять послушал. И снова:
– Нихтс.
И снова главный по грудям парня. Так и забили до смерти. Он на веревке-то и повис. А немцы ту кувалду кинули, достали новую из ящика – и к девке, которая со мной рядом, к березе притянутая. Та ревет бессловесно, дрожит вся. Они ей пинжак плюшевый расстегнули, фуфайку разрезали ножом, исподнее разорвали. Гляжу – у нее крестик на шее. Мне тоже бабушка повесила, да в школе Нина Сергевна сняла. Вы, говорит, пионеры, а Бога нет. Так что предрассудки религиозные будем с корнем вырывать. И у всех, кого крестики были, сорвала их и в лопухи выбросила. А бабушка говорила: безбожники никогда сами не помирают. Вот и правда, думаю.
И главный немец опять кувалду эту нежелезную взял, размахнулся и девке по груди – хрясь! Аж косточки хрустнули. Отступил, гад, а другой с этой трубочкой – приставил и слушает. Слушает, как девка кончается. А та уж после первого удара без чувства на веревках повисла, голова заболталась. Тогда третий немец ей голову поднял, придержал, чтоб не мешала по грудям садить. И снова хрясь! хрясь! хрясь! Забили так, что кровь мне на щеку брызнула.
Вот гады проклятые.
И потом – другую девку забили. Ей, как и мне, годков пятнадцать, наверно, было. И росту такого же, как я. А груди большие уже, не то что у меня. Били ее, били, пока носом кровь не хлынула. Рот-то у нее завязан был.
Осталась я.
Они как грудастую девку забили – кувалду бросили. Сигареты достали, встали в кружок и закурили, чтоб отдохнуть. И разговаривали промеж себя. А главный был недоволен. Молчал. Потом головой покачал и сказал:
– Шон видер таубэ нус…
И остальные немцы закивали.
А я стою, вижу, как они курят. И думаю – вот сейчас, вот сейчас. Докурят эти гады – и все. И так прямо на душе стало не то чтоб страшно или тоска взяла. А как-то все ясно, как на небе, когда облаков нет. Словно во сне. Будто и не жила я вовсе. А все приснилось: и маманя, и деревня, и война. И немцы эти.
Докурили они, окурки побросали. Обступили меня.
Ватник расстегнули, фуфайку, что бабуля из козьей шерсти связала, – раз ножом. Раздвинули. А у меня под фуфайкой – платье зеленое. Отец в Ломпади в райторге купил. Они и платье ножом разрезали. И исподнюю немецкую, что мне в лагере дали. Немец так концы порезанные платья да фуфайки закатал, чтоб грудь голая была, затолкал их под веревки.
А главный взял кувалду, глянул на меня. Пробормотал что-то. И кувалду другому немцу протянул. А сам фуражку свою с черепом снял, передал немцу сзади. И справа от меня встал.
А немец размахнулся, ухнул, как дрова рубят, да как мне даст в самую грудину! У меня аж искры из глаз. Дух захватило.
А главный вдруг на колени передо мной опустился и приложил свое ухо к моей груди.
Ухо у него холодное. А щека теплая. И голова-то совсем-совсем рядом, белобрысая, гладкая такая, словно постным маслом намазана. А волосы-то один к одному лежат. И духами воняет.
И я сверху-то смотрю на его голову, и смотрю, смотрю, смотрю. Как во сне. Помираю ведь, а так спокойно. Даже реветь перестала.
А он немцу с кувалдой:
– Нох айнмаль, Вилли!
И Вилли этот опять-ух!
Главный прижался ухом, послушал:
– Нох айнмаль!
Ух! Как дал, и от кувалды этой куски полетели. И поняла я, что она ледяная.
И поплыло у меня все перед глазами.
А главный опять прижался. У него уж и ухо все в крови моей. И вдруг крикнул:
– Йа! Йа! Херр Лаубэ, зофорт!
И немец с трубкой дохтурской – ко мне. И трубку эту мне в грудь упер, послушал. И забормотал что-то, рожу корчит кислую.
А главный оттолкнул его:
– Нох айнмаль!
И еще раз меня вдарили. И я словно засыпать стала: губы будто свинцом налились, и рот весь как-то онемел и тяжелый такой стал, чужой какой-то, шершавый. Как печка. И будто я совсем-совсем легкая, как облак. А в груди у меня только сердце и осталось и ничего другого нет. Совсем ничего – ни живота, ни дыхала, ни глотки. И это сердце будто зашевелилось. То есть прямо как… непонятно что. Как зверушка какая-то. Зашевелилось и стало как бы трепыхаться. И забормотало так сладко-пресладко: хр, хр, хр. Но не так, как раньше – от страху или там от радости. А совсем по-другому. Словно только и проснулось, а раньше спало – прислало. Меня-то убивают, а сердце проснулось. И нет в нем ни страха, ни оторопи. А есть только бормотание сладкое. Только все хорошее, честное и такое нежное, что я аж вся замерзла. Волосы на голове зашевелились: так мне хорошо стало. И страх весь прошел враз: чего бояться, если сердце со мной!
Никогда со мной еще такого не было.
Застыла я и не дышу.
А этот с трубкой опять слушать меня стал. И говорит громко:
– Хра. Хра. Храм!
И голос у него такой противный, хриплый какой-то.
А главный трубку у него вырвал, сам приложил мне к груди:
– Храм! Генау! Храм!
И весь от радости затрясся:
– Хершафтен, Храм! Храм! Зи ист Храм! Хёрэн зи! Хёрэн зи!
Они все залопотали, вокруг меня засуетились. Стали веревки резать. А мне все ихнее вдруг противно стало – и голоса гадкие, и руки, и морды, и машины эти, и лес этот сопливый, и все кругом. Застыла я, чтоб только сердце не вспугнуть ничем, чтоб оно все так же бормотало сладко, чтоб меня всю от сладости сердечной пробирало до кишок. Но они меня, как куклу, из веревок вытащили, на руки подхватили. И сердце враз смолкло.
И сразу я без памяти сделалась.Не знаю, сколько времени прошло.
Очнулась.
Еще глаз не разлепила, чую – качается все. Везут куда-то.
Открыла глаза: вижу, как комната маленькая. И качается слегка. Глянула – рядом со мной окно, а на нем занавеска. А в занавеске-то прощелина, а там лес мелькает.
Поняла: везут в поезде.
И как только я это поняла, у меня в голове как-то пусто стало. Так, словно это не голова, а сарай сенной по весне – ни соломинки, ни травинки. Все скотина за зиму сожрала.
Пустота в голове. Большая такая, ей и конца не видно. И она – во все стороны. Но пустота эта какая-то хорошая, не то чтоб она меня напугала до смерти. А как-то – раз! Как с горки ледяной на санках – раааз! И уже внизу. Так и пустота эта – раз! и ко мне в голову съехала. И пусто стало. И главное, пусто-то пусто, а я все понимаю. И делаю, как надо.
Взяла – и руку из-под одеяла выпростала. Гляжу на нее – рука моя левая. Тыщу раз видала. А смотрю – будто первый раз вижу. Но знаю про нее все! Все шрамики помню, когда серпом обрезалась, когда на гвоздь напоролась. Да так хорошо помню, будто кино мне крутят: вот на мизинце точка синяя. От чего? А от того, что когда дядя Семен из армии вернулся, он там себе на груди наколку сделал: сердце со стрелой. И подучил ребят, как наколки делать: надо картинку гвоздями на деревяшке набить, потом каблук от сапога пожечь да сажей эти гвозди натереть. А после – раз! И деревяшку на грудь. Колька-сосед делал, а отец его заругал да деревяшку выкинул, а я мизинцем потом на ту деревяшку с гвоздями и накололась. На один гвоздь.
Вот.
А комнатка эта такая славная, вся деревянная. И шурупы в стенах сверкают. Две кровати, стол маленький посередке, потолок желтый. Тепло. И пахнет чистотой, как в больнице.
А на кровати другой лежит кто-то. В форме. К стене отвернулся.
Я руки из-под одеяла выпростала, приподнялась. И вижу – я в одном исподнем. А грудь перевязана бинтами.
Тут я только сразу все и вспомнила. А до этого словно вообще память отшибло: кто я, где я – ничего не понимала: везут и везут.
Поглядела: на столе лежит коробка железная. И книга.
Я занавеску приподняла: лес, лес и лес. Только деревья мелькают.
Села я, ноги свесила. Глянула вниз – сапог моих яловых нет. И одежды нигде нет. Свесила я голову вниз, гляжу по углам. Тут в горле запершило. И закашлялась. И сразу в грудь больно отдало.
Застонала я, за грудь взялась.
Тут, этот, который дремал, вскочил – и ко мне. Тот самый немец, что кувалды ледяные подносил. Засуетился, обнял меня за плечи, забормотал:
– Руэ, ганц руэ, швестерхен…
Уложил на кровать, одеялом покрыл. Вскочил, ворот застегнул, китель одернул, дверь отпер и выбежал. И дверь закрыл. И едва я что-то подумать успела, как входит главный немец.
Все такой же – высокий, белобрысый. Но уже не в черном. А в халате синем.
Сел ко мне на кровать. Улыбнулся. Взял мою руку. К губам своим поднес. И поцеловал.
Потом снял свой халат. А под халатом у него рубаха и штаны. Он рубаху снял. Тело белое такое. И начал штаны снимать. А я отвернулась.
Думаю: вот сейчас и сделает меня бабой. И как-то лежу, слышу, как его брюки шуршат, а мне совсем и не страшно. Лежу как бесчувственная. А чего мне? Такое пережила в той роще, теперь уж все равно.
Он разделся. Одеяло с меня скинул и стал исподницу с меня снимать.
Я лежу, в стену гляжу, на шурупы новые.
Раздел меня догола. А потом лег рядом. Погладил по голове меня. И стал к себе поворачивать. Я глаза закрыла.
Он меня тихонько повернул к себе, руками длинными своими оплел. И прижался ко мне ко всей. И грудью к моей груди прижался.
И все! Лежит, и все. Я думаю – это у них так, у немцев, с девками по-осторожному делают, сперва успокоют, а потом уж – раз! У нас-то в деревне – сразу, мне рассказывали.
Лежу. И вдруг я вся как бы передернулась, как от молнии. И сердце опять зашевелилось. Как зверушка. И сперва беспокойно так стало, непонятно все, будто меня подвесили, как окорок в погребе. А потом так хорошо стало. И я будто по речке поплыла. Понесло, понесло, как на волне. И я его сердце вдруг почувствовала, как и свое.
И его сердце стало мое сердце теребить. Так сладко-пресладко. По-родному.
Аж прожгло меня всю.
Мне так маманя – и то не была родней. И никто.
И я совсем дышать перестала, провалилась, как в колодец.
А он все теребит и теребит мое сердце своим. Как рукой. То сожмет, то разожмет. И я вся захожусь. Думать совсем перестала. Одного хочу – чтоб это никогда не кончилось.
Господи, как же это сладко было! Он как теребить сердце начнет, я прямо зайдусь, зайдусь и словно умираю. И сердце мое трепыхнется и остановится. И стоит, как лошадь спящая. А потом – торк! Опять оживет, затрепыхается, а он снова теребит.
Но все конец имеет на земле.
Перестал он. И мы будто померли оба. Лежим, как два валуна. И пошевелиться не можем.
А поезд все – тук-тук, тук-тук.
Потом он руки разжал. И на пол скатился, как бревно.
Я полежала, полежала. А потом села. Смотрю – он на полу совсем как мертвый. Но зашевелился. И вдруг обнял меня за ноги. И так по-родному!
А у меня даже сил нет заплакать.
Он встал, оделся. Уложил меня в постель, одеялом накрыл. И ушел.
А я не могу лежать. Встала. Шторы с окна отдернула, гляжу. А там лес, поля, деревни. Я на них гляжу, будто впервые вижу. И страха нет никакого. И такой в груди покой радостный. И все понятно!
Тут он вернулся. Уже одетый в черную свою форму. И мне одежду дает: платье красивое, белье разное, ботиночки, пальто, шарф и беретку. И стал меня одевать. А я на него смотрю. С одной стороны – стыдно, а с другой – в душе поет все!
Одел он меня.
Сел рядом. И смотрит своими глазами голубыми. И я на него смотрю.
И так хорошо!
Как бы не то что я его полюбила. Совсем по-другому хорошо. И словом-то это не выразишь. Как будто меня замуж выдали. Но только за что-то большое и хорошее. И на веки вечные родное.
И это вовсе никакая не любовь, как у девок с парнями. Про любовь я знала.
Я вообще-то дважды влюблялась раньше. Сперва в Гошку-пастушонка. Потом в Колю Малахова, уже в женатого. С Гошкой мы целовались, и он меня за сиськи тискал. На сеновал заберемся – и давай. А ниже хотел он меня полапать – а я не давала.
А в Колю Малахова я влюбилась сама. Он и не знал ничего и до сих пор не знает, если жив. Его, как и отца, 24 июня на войну погнали.
До войны его на Настехе Полуяновой женили. Ему семнадцать было, а ей шестнадцать. Мы на покосе вместе работали. Он косил, а я сушила да гребла. И в него втюрилась. Кудрявый он, красивый, веселый. Как его завижу – так сердце стынет. И стыд прошибает до костей. Вся так краскою и зальюсь. Даже есть перестала на два дня. А потом как-то и прошло. А после – опять. О нем только и думала. Все плакала: вот Настехе-дуре повезло! Ну, а потом как-то отпустило. Да и хорошо. А то чего мне по чужому парню сохнуть? Вот это – любовь.
А тут совсем другое.
И мы так целый день молча ехали. Рядом сидели.
А потом – остановился поезд. Встал немец, надел на меня пальто. И повел за руку через весь вагон. А там полно немецких офицеров. И сошли мы с ним с поезда на вокзале. Я глянула – ну и вокзал, не видала таких никогда! Огромадный, железный весь, нет ему ни начала, ни конца! Поездов – тьма! Народу – тьма! И все с вещами, все одетые хорошо. И все чисто кругом! Как в кино.
И повел он меня по вокзалу. А за ним те самые немцы идут. А за ними на тележке усатый мужик чемоданы везет.
Я иду, иду рядом. Все вокруг другое. И пахнет все по-другому. По-городскому.
И вдруг вокзал кончился. И мы вошли прямо в город. Такой красивый! И дома красивые. И здесь войны совсем нет – все дома целые, по улицам спокойно люди ходят. И с собачками даже. И на лавках сидят, газеты читают.
А мы подходим к машинам. Такие же черные машины, как тогда. И все сверкают. И все садятся в них. А я и главный немец – в первую машину. И машины поехали. Через весь город.
И я смотрю в окно и вдруг говорю:
– Вас ист дас?
А он засмеялся:
– О, ду шприхст дойч, Храм! Дас ист шёне Вин.
И быстро заговорил. Но я ничего не поняла. Я за два года, что у нас немцы стояли, знала разные немецкие слова. Даже ругательства знала. Но я же никогда в школе немецкий не учила.
И просто улыбнулась. Тогда он сделал знак немцу, который сидел впереди. Он встречал нас на вокзале. И был тоже белобрысым, голубоглазым. Но не в черной форме, а в обычной одежде. И в шляпе.
И он заговорил со мной по-русски. И мне показалось, что он поляк. Он сказал:
– Этот город называется Вена. Это один из самых красивых городов в мире.
И стал рассказывать мне про город: когда его построили и что в нем хорошего. Но я ничего не запомнила.
И вдруг главный командует шоферу:
– Стоп!
Остановились. Главный что-то сказал. И немцы закивали:
– Айне гуте идее!
И главный вышел, открыл дверь и мне делает знак. И я вышла. Посмотрела: улица. И магазин с красивой вывеской прямо перед нами. И от этого магазина такой запах! Я прямо обмерла!
И мы с главным заходим внутрь. А там зеркала кругом. И – тысячи конфет! И пирожков разных, и каких-то сладких загогулин. И стоят девушки милые-премилые в белых фартуках. И этот поляк сзади:
– Что ты хочешь?
Я говорю:
– Не знаю даже.
Тогда главный показал на что-то за стеклом. И девушка лопаточкой что-то стала делать, как тесто месить, а потом – раз! И подает мне такой фунтик с розовым шаром. Я взяла. От шара так сладко пахнет. Я попробовала – а он холодный. Даже зубы свело. Я на немца гляжу.
А он кивает: мол, ешь.
И я стала есть. Это как снег сладкий, но только поплотнее. Вкусно, но странно.
Ела, ела. И остановилась.
Вообще я тогда, после всего, что было, есть как-то не хотела. Но запахи нравились. Я говорю:
– Холодное. Много не съешь. Можно я подожду, пока оттает?
Немцы засмеялись. И поляк этот говорит:
– Это мороженое. Его надо есть холодным. Понемногу. Ты можешь не спешить и доесть в машине.
Я кивнула. И мы опять сели и поехали. По этим красивым улицам. А я смотрела в окно и ела потихоньку.
Но если по-честному говорить – мне мороженое не понравилось. Петухи карамельные, что батя с ярмарки привозил, вкуснее. Я их готова была день и ночь сосать.
Выехали мы из города. И поехали по холмам. И холмы эти становились все выше и выше, прямо расти стали до небес! Таких я сроду не видала. У нас было два холма между Колюбакино и Поспеловкой. Мы с девчатами, когда в поспеловское сельпо ходили, через эти холмы шли. На макушку взойдешь, встанешь – далеко видать! И дом наш виден как на ладони. Даже нашего петуха видала.
Но тут – дух захватывает. Дорога узкая пошла, заюлила, как змея, а вниз глянешь – ямы огромадные! И все это елками поросло.
Я спросила:
– Чего ж это такое?
– Это горы Альпы, – поляк мне ответил.
И едем мы по этим горам Альпам. Все выше и выше. Так высоко, что уже до облаков достали. И въехали в облака! Я вниз все поглядываю, а там и не видать ничего – высота такая!
И все мы едем и едем. И нет этому конца. И меня качает из стороны в сторону. А тут еще грудь саднить стала. И задремала я.Очухалась.
Кругом уже смеркается. Глядь – а меня на руках несут! И несет главный немец. Неловко так! Меня уж давно на руках никто не носил.
Я молчу. Несет он меня по дороге. Вокруг лес весь в снегу стоит. На небе звезды горят. А сзади остальные немцы идут. Я направо глянула: куда он меня несет-то? А там огромадный домина! Весь каменный, свет в окнах, башенки какие-то, красота!
И пошел он наверх по ступенькам. Как бы к дому этому на крыльцо. А там уж ждут его, дверями лязгают. И двери – тяжеленные, железом окованные.
Вошел он со мной на руках, все вокруг каменное, потолок поплыл, светильники горят. А его сапоги – цок, цок, цок.
Идет, идет.
И вдруг двери другие распахнулись, света много сразу.
И немец остановился. И меня осторожно, как куклу, поставил. Но не на пол. А на такой камень белый и большой, как сундук. У нас в Жиздре на таком камне до войны Ленин железный стоял. Потом его немцы сломали.
И я торчу на этом камне. Гляжу – кругом люди стоят, человек сорок. Мужчины, женщины. И на меня молча смотрят.
А немец им что-то сказал по-немецки. И они все ко мне пошли со всех сторон. Идут, как овцы, улыбаются. И все – ко мне! Даже оторопь взяла. А они подошли к камню этому и вдруг все стали на колени. И поклонились мне.
Я моего немца ищу глазами – чего делать-то? А он тоже до пола согнулся в своем мундире черном. И все немцы, что с нами приехали. И поляк этот.
Все вокруг меня!
А потом они головы подняли. И смотрят. И я вижу – все они белобрысые. И у всех глаза голубые.
И повставали они с колен. И подошел ко мне старик один. И руку протянул. И сказал совсем по-русски:
– Сойди к нам, сестра.
И я с камня того сошла.
А он говорит мне:
– Храм! Мы рады, что нашли тебя среди мертвых. Ты наша сестра навеки. Мы твои братья и сестры. Сейчас каждый из нас сердечно поприветствует тебя.
Он обнял меня и сказал:
– Я Бро.
И мне в сердце торкнуло от его сердца. Словно его сердце с моим поздоровкалось. И опять мне сладко стало, как в поезде. Но он быстро руки свои расплел и отошел.
И стали они все ко мне подходить. По очереди. Называться и обнимать меня. И в сердце мне каждый раз торкало. И совсем по-разному: от одного – так, от другого – эдак.
И так это сладко было, так пробирало меня. Как будто стаканы с вином на сердце опрокидывают. Раз! Раз! Раз!
Я стою как во сне. Глаза закрылись. Одного хочу – чтоб это вечно было.
Но последний подошел, назвался, обнял, протеребил сердце – и отошел. И вокруг меня сразу пустота – они все, теплые, поодаль встали. И улыбаются мне так хорошо.
А этот старик взял меня за руку и повел. Через разные комнаты с разными вещами дорогими. Потом наверх по лестнице. Приводит меня в комнату большую, деревянную всю. А посреди комнаты кровать. Вся белая, чистая, пуховая, так и дышит. Он меня к кровати подвел и стал раздевать. А сам весь так и сияет. Улыбка у него такая удивительная, словно он всю жизнь только добро видал и с добрыми людьми дело имел.
Раздел меня догола, уложил в постель. Одеялом накрыл. И сел рядом.
Сидит, смотрит на меня. И руку мою держит. Глаза у него голубые-преголубые, как вода.
Подержал мне он руку, потом убрал ее под одеяло. И говорит:
– Храм, сестра моя. Ты должна отдохнуть.
А мне так хорошо. Все тело поет. Я говорю:
– Да что вы! Я и так всю дорогу проспала, как клуша. Теперь спать совсем не хочу.
Он говорит:
– Ты потратила много сил. У тебя впереди новая жизнь. Надо подготовиться к ней.
Я хотела с ним поспорить, что, мол, совсем не устала. Но тут и впрямь на меня такая усталость навалилась, словно мешки таскала. И провалилась я враз.Очнулась: где я?
Та же комната, та же кровать. Солнце скрозь занавеску в щель лупит.
С кровати слезла, подошла к окну. Занавески отдернула: мама родная, вот красотища-то! Кругом горы эти самые. Уже совсем без леса, голые, только в снегу. И они до самого неба. Синие такие. А небо-то совсем близко.
А в горах этих – ни души.
И сразу я страшно сцать захотела. И вспомнила – отчего проснулась! Мне сон приснился, будто я ребенок, в пеленки запеленутый. И какой-то чужой человек меня на коленях держит. И я сильно-пресильно сцать хочу. Но должна попроситься, чтобы его не обмочить. А слов-то я еще не знаю! И вот я в пеленках ерзаю и думаю, как сказать: «Я хочу сцать»? С этим и проснулась.
И так сильно хочется, словно все эти дни только воду одну и ела. А куда пойти посцать – не знаю. Пошла к двери, открыла. Там коридор. Вышла. Иду коридором, думаю, может, ведро где стоит. Потом вижу – лестница вниз, красивая, деревянная, с шишечками резными. Спустилась по ней немного, гляжу – двери разные. Торкнулась в одну – не заперта. Вошла.
А там три пары стоят на коленях, обнявшись. Голые. И молчат.
И на меня вообще никто не оглянулся.
Я как их увидала – сразу вспомнила все, что в поезде было. И так мне хорошо стало, что не сдержалась и обосцалася вся. Так из меня и хлынуло на пол. Да так много – льет и льет! А я стою и смотрю на них, аж в глазах мутится. А лужа-то – прямо к ним! А мне и не стыдно вовсе – застыла как каменная, хорошо, сил нет. Гляжу на них как на пряники, и все. А они в моче моей стоят! И не шелохнутся!
Тут сзади меня позвали:
– Храм!
Очнулась – там женщина. Заговорила со мной, а язык странный – вроде слова какие-то понятны, а вместе трудно. Но не украинский и не белорусский. Да и не польский. Я по-польски-то в лагере понимала.
А женщина взяла меня за руку и повела. Иду за ней голая, мокрыми ступнями шлепаю.
Привела она меня в большую комнату, всю камнем блестящим обложенную. А посреди комнаты стоит как бы большая шайка такая белая с водой. Женщина у меня с груди бинт смотала, вату от раны подсохшей отодрала. И меня в эту шайку тянет. Залезла я и легла. Вода теплая. Приятно.
И тут входит еще одна женщина. И стали они меня мыть, как младенца. Всю вымыли, потом встать приказали. Встала я. А надо мной такая бляха железная. И из этой бляхи вдруг вода на меня полилась, как дождик! Так хорошо! Стою и смеюсь.
Потом они меня вытерли. На рану новый бинт наложили. Посадили на табуреточку такую мягкую и стали мазать чем-то. Запах такой приятный. Намазали всю, волосы расчесали, укутали в халат такой мягкий. Подхватили, как мешок, и понесли.
Принесли в большущую комнату. Там шкафы разные, а посередке три зеркала стоят, а возле них такой столик, а на нем пузырьков – тьма-тьмущая. И духами воняет. Посадили меня за этот столик. И я себя в трех зеркалах сразу увидала. Господи боже мой! Неужели это я? Совсем другой стала за последнее время-то. И не знаю, что случилось – или постарела, или поумнела, только от прежней меня там уж только волосы да глаза остались. Страховито даже как-то… А что делать? В таких случаях дедушка мой покойный так говорил: «Живи да ничего не бойся».
Сперва они меня подстригли. Волосы причесали красиво, чем-то намазали пахучим. Потом подстригли ногти на руках и на ногах. И таким напилком мне ногти ровнять стали. Прямо как лошади копыто, когда куют! Я чуть от смеха сдержалась, но поняла: Германия!
А после эти женщины меня наряжать принялись: халат сняли, из шкафов да комодов повынимали разную одежду, платья, исподницы разные, порты да лифы. И разложили. Такое все красивое, чистое, белое!
Сперва мне на сиськи лиф примерили. У меня сисечки-то еще маленькие были. Они лиф самый маленький выбрали, надели. Господи! У нас и бабы-то в деревне сроду лифов не носили, не то что девки! Я и видала-то лифы эти только в Жиздре да в Хлюпине в сельпо, где платья да мануфактура.
Потом порты мне надели беленькие. Коротенькие, хорошенькие, как на куклу. После к портам чулки пристегнули. И сразу поверх – коротенькую беленькую исподницу. А она! Вся в кружевах, духами сладкими воняет! Красиво все – слов нет. А поверх платье надели, голубое, с белым воротничком. Потом обувку мне стали подбирать. Как они коробки пораскрыли, как глянула я – мама родная! Не ботинки, не сапожки, а туфли настоящие, от лаку все блестят! Поднесли они мне три коробки на выбор. У меня чуть голова не закружилась. Ткнула пальцем – и надевают мне туфли на ноги. А туфли-то на каблуках!
Накрасили они мне губы, щеки напудрили. На шею нитку жемчугу повесили. Встала я, глянула на себя в зеркало – аж глаза зажмурила! Красавица какая-то стоит, а не Варька Самсикова!
А они меня за руки – и ведут дальше. Спустились мы вниз.
Внизу огромадная комната, вся каменная. И в ней большущий стол. А за столом сидят все, кто меня тогда встречал. И немцы те, что со мной приехали. Но только они не в форме, а в обычной одежде. И все едят. И еда красивая такая, разная.
Посадили меня на мое место. Все мне улыбаются, как родной. И тот самый старик, Бро, сказал:
– Храм, сестра наша, раздели с нами трапезу. Правило нашей семьи: не есть живое, не варить и не жарить пищу, не резать ее и не колоть. Ибо все это нарушает ее Космос.
И взял грушу, протянул мне. Я взяла и стала есть. И все за столом тоже.
Посмотрела я на стол: мяса нет, рыбы нет, яиц нет, молока нет. И хлеба нет. Зато разных плодов – навалом. И не только груш – арбузы, дыни, помидоры, огурцы разные, яблоки, даже черешня! И еще много-много всяких других плодов. Которых я и не видала никогда.
И все едят руками. Ни ножей, ни вилок, ни ложек нет.
Я на дыню смотрю – никогда ж не ела, только на базаре видала. А один мужчина заметил, что я гляжу, взял дыню самую большую. И подвинул к себе такой камень острый. Размахнулся – и хрясь дыню о камень! Аж куски да брызги во все стороны! Все улыбаются. А он кусок выбрал и мне протянул. А остальные другим роздал. И стала я впервые дыню есть. Вкуснотища!
Потом клубнику съела, перец сладкий, еще какие-то три плода разные. И черешни наелась до отвала.
Они все поели, встали и разошлись кто куда.
А старик Бро ко мне подошел. Взял меня за локоть и повел. В такую маленькую комнату. И там полно книг. Посадил он меня за столик небольшой, сел напротив. Говорит:
– Храм, что ты чувствуешь?
Я говорю:
– Немного грудь ноет.
– А еще что?
– Ну, – говорю, – не знаю… непонятно все.
– Тебе было хорошо с нами?
– Да, – говорю.
– Твоему сердцу было приятно?
– Очень, – отвечаю. – Мне так никогда хорошо не было.
Он так посмотрел на меня с улыбкой и говорит:
– Таких, как мы, очень мало. Всего сто пятьдесят три человека на всей земле.
Я говорю:
– Почему так?
– Потому что, – говорит он, – мы не такие, как все. Мы умеем говорить не только ртом, но и сердцем. А остальные люди говорят только ртом. И никогда они не заговорят сердцами.
– Почему?
– Потому что они живые трупы. Абсолютное большинство людей на нашей земле – ходячие мертвецы. Они рождаются мертвыми, женятся на мертвых, рожают мертвых, умирают; их мертвые дети рожают новых мертвецов, – и так из века в век. Это круговорот их мертвой жизни. Из него нет выхода. А мы живые. Мы избранные. Мы знаем, что такое язык сердца, на котором уже с тобой говорили. И знаем, что такое любовь. Настоящая Божественная Любовь.
– А что такое любовь?
– Для сотен миллионов мертвых людей любовь – это просто похоть, жажда обладания чужим телом. У них все сводится к одному: мужчина видит женщину, она нравится ему. Он совершенно не знает ее сердца, но ее лицо, фигура, походка, смех притягивают его. Он хочет видеть эту женщину, быть с ней, трогать ее. И начинается болезнь под названием «земная любовь»: мужчина добивается женщины, дарит ей подарки, ухаживает за ней, клянется в любви, обещая любить только ее одну. Она начинает испытывать к нему интерес, потом симпатию, потом ей кажется, что это тот самый человек, которого она ждала. Наконец они сближаются настолько, что готовы совершить так называемый «акт любви». Закрывшись в спальне, они раздеваются, ложатся в постель. Мужчина целует женщину, тискает ее грудь, наваливается на нее, вгоняет в нее свой уд, сопит, кряхтит. Она стонет сначала от боли, потом от похоти. Мужчина выпускает в лоно женщины свое семя. И они засыпают в поту, опустошенные и уставшие. Потом начинают жить вместе, заводят детей. Страсть постепенно покидает их. Они превращаются в машины: он зарабатывает деньги, она готовит и стирает. В этом состоянии они могут прожить до самой смерти. Или влюбиться в других. Они расстаются и вспоминают о прошлом с неприязнью. А новым избранникам или избранницам клянутся в верности. Заводят новую семью, рожают новых детей. И снова становятся машинами. И эта болезнь называется земной любовью. Для нас же это – величайшее зло. Потому что у нас, избранных, совсем другая любовь. Она огромна, как небо, и прекрасна, как Свет Изначальный. Она не основана на внешней симпатии. Она глубока и сильна. Ты, Xрам, почувствовала малую толику этой любви. Ты только прикоснулась к ней. Это лишь первый луч великого Солнца, коснувшийся твоего сердца. Солнца по имени Божественная Любовь Света.
Я хотела что-то спросить, но он вдруг руки мне протянул. И взял мои руки в свои. И я даже сказать ничего не успела, а он глаза закрыл. И словно заснул.
А меня вдруг в сердце – торк!
И все как тогда в поезде накатило. Только еще сильнее. Прямо как в омут с головой – аж искры в глазах. Словно он мне в сердце выстрелил.
А потом началось совсем другое. Как бы он мое сердце стал волочь по ступенькам вверх. И о каждую ступеньку оно стукалось. Но стукалось каждый раз по-разному, как бы каждая ступенька совсем другая, совсем из другого сделана.
И это так было сладко и жутко, что я просто умерла от счастья.
А он все волочет мое сердушко да волочет.
Выше и выше.
И это все слаще и слаще.
А после – раз! Последняя ступенька. Самая сладкая.
И я вдруг сердцем поняла, что этих ступенек всего 23.
Но я их не считала. А поняла сердцем.
И тут он перестал. А я – как сидела, так и сижу. Все плывет вокруг, а сердце просто огнем горит. И говорить не могу.
Тогда он мне говорит:
– Сейчас я с тобой говорил на языке сердца. Раньше все тебе говорили сердцем только несколько слов. Но всего сердечных слов двадцать три. Я их все сказал тебе. Теперь ты все знаешь.
А я сижу – пошевелиться не могу, так мне хорошо. Никогда в жизни мне так хорошо не было. И я вдруг все поняла. И заревела. Да так, что меня аж скрутило всю: на пол повалилась и реву ревмя. А он встал, мне голову погладил:
– Плачь, сестра.
Я реву. Да так реву, как никогда не ревела: всю наизнанку выворачивает.
А он позвал кого-то, они меня в спальню понесли. А я у них в руках ужом вьюсь, слезы ручьем хлещут!
Отнесли они меня в спальню, раздели, уложили. А я так разревелась, что остановиться не могу. Захожусь, захожусь вся до бесчувствия, словно помираю. А потом очнусь – где я? Лежу пластом в постели. Только отойду чуть – и опять в слезы. И опять меня всю корежит. И опять нарыдаюсь до бесчувствия.
И так семь дней я прорыдала.
Потом очнулась. Полежала. Плакать уж не хочется. В сердце покой настал. И такой славный! Так спокойно, так хорошо. Но слабость такая. Что и рукой пошевелить не могу. Лежу, в окошко гляжу. А там – елки в снегу. И такие эти елки славные, такие стройные. А снег на них лежит и на солнце блестит.
Не знаю, сколько так я пролежала.
Потом вошла женщина. Принесла мне пить. Я попила.
И вошел старик Бро. Сел ко мне на кровать, руку мою взял. И говорит:
– Все позади, Храм. Твое сердце плакало от стыда за прошлую жизнь. Это нормально. Так случалось с каждым из нас. Отныне ты больше никогда не будешь плакать. Ты будешь только радоваться. Радоваться, что живешь.
И началась моя новая жизнь.
Можно ли пересказать ее? Конечно нет. Память выхватывает только яркое и дорогое. Но вся новая жизнь моя состояла из яркого и дорогого.
Три года я провела в нашем Доме в Австрийских Альпах. Потом, когда война добралась и до наших гор, мы покинули Дом и перебрались в Финляндию. Там, в лесу, на озере нас ждал другой Дом. Я провела в нем еще четыре года.
Я помню все: лица сестер и братьев, их голоса, их глаза, их сердца, учащие мое сердце сокровенным словам.
Помню…
Появлялись новые голубоглазые и русоволосые, чьи сердца разбудил ледяной молот, они вливались в наше братство, узнавали радость пробуждения, плакали слезами сердечного раскаяния, открывали божественный язык сердец, заменяя опытных и зрелых, тех, кто до конца познал все 23 слова.Наконец для меня наступил судьбоносный день: 6 июля 1950 года.
Я встала с восходом солнца, как и другие братья и сестры. Выйдя на поляну перед домом, мы встали попарно, как всегда, обнялись и опустились на колени. Наши сердца заговорили на сокровенном языке. Это продолжалось несколько часов. Затем мы разжали объятия. Вернулись в дом, привели себя в порядок и совершили трапезу.
После трапезы Бро уединился со мной. Он сказал:
– Храм, сегодня тебе предстоит покинуть наше братство. Ты отправишься в Россию. И будешь искать живых среди мертвых. Будить их и возвращать к жизни. Ты прошла с нами долгий путь. Ты овладела языком сердца. Ты познала все двадцать три сердечных слова. Ты готова к служению великой цели. Я расскажу тебе то, что ты должна знать. Это предание живет только в устах, его не существует на бумаге. Слушай же: сначала был только Свет Изначальный. И свет сиял в Абсолютной Пустоте. И Свет сиял для Себя Самого. Свет состоял из двадцати трех тысяч светоносных лучей. И это были мы. Времени не существовало для нас. Была только Вечность. И в этой Вечной Пустоте сияли мы. И порождали миры. Миры заполняли Пустоту. Так рождалась Вселенная. Каждый раз, когда мы хотели создать новый мир, мы образовывали Божественный Круг Света из 23 тысяч лучей. Все лучи направлялись внутрь круга, и после 23 импульсов в центре круга рождался новый мир. Это были звезды, планеты и галактики. И однажды мы сотворили новый мир. И одна из девяти планет его была вся покрыта водой. Это была планета Земля. Раньше мы никогда не сотворяли таких планет. Это была Великая Ошибка Света. Ибо вода на планете Земля образовала шарообразное зеркало. Как только мы отразились в нем, мы перестали быть лучами света и воплотились в живые существа. Мы стали примитивными амебами, населяющими бескрайний океан. Наши мельчайшие полупрозрачные тела носила вода, но в нас по-прежнему жил Изначальный Свет. И нас по-прежнему было двадцать три тысячи. Но мы были рассеяны по просторам океана. Затем потекли миллиарды земных лет. Мы эволюционировали вместе с другими существами, населяющими Землю. Мы стали людьми. Люди размножились и покрыли Землю. Они стали жить умом, закабалив себя в плоти. Уста их говорили на языке ума, и язык этот как пленка покрыл весь видимый мир. Люди перестали видеть вещи. Они стали их мыслить. Слепые и бессердечные, они становились все более жестокими. Они создали оружие и машины. Они убивали и рожали, рожали и убивали. И превратились в ходячих мертвецов. Потому что люди были нашей ошибкой. Как и все живое на Земле. И Земля превратилась в ад. И мы, разобщенные, жили в этом аду. Мы умирали и воплощались снова, не в силах оторваться от Земли, которую сами же создали. И нас по-прежнему оставалось 23 тысячи. Свет Изначальный жил в наших сердцах. Но они спали, как спят миллиарды человеческих сердец. Что могло разбудить их, чтобы мы поняли – кто мы и что нам делать? Все миры, созданные нами до Земли, были мертвыми. Они висели в Пустоте, как елочные игрушки, радуя нас. В них пела Радость Изначального Света. Только Земля нарушала Космическую Гармонию. Ибо она была живой и развивалась сама по себе. И развивалась как уродливая раковая опухоль. Но Космическая Гармония не может нарушаться долго. Кусочек сотворенной нами елочной игрушки упал на Землю. Это был один из самых больших метеоритов. И произошло это в 1908 году, в Сибири, возле реки Подсменная Тунгуска. Метеорит назвали Тунгусским. В 1927 году люди ума снарядили к нему экспедицию. Они прибыли на место, увидели поваленный лес, но метеорита не нашли. В этой экспедиции было пятнадцать человек. Среди них – один двадцатилетний студент, белобрысый парень с голубыми глазами, фанатично верующий в прогресс. Прибыв на место падения метеорита, он испытал странное чувство, которое не испытывал никогда: его сердце затрепетало. Как только это произошло, он замолчал. И перестал разговаривать с членами экспедиции. Он чувствовал сердцем, что метеорит где-то здесь. И от метеорита шла энергия, потрясающая юношу. Эта энергия за два дня перевернула его жизнь. Члены экспедиции сочли, что он сошел с ума. Экспедиция ушла ни с чем. Он отстал от экспедиции. И вернулся на место падения. И нашел метеорит. Это была громадная глыба льда. Она ушла в болотистую почву, гнилая вода сомкнулась над ней, скрыв от людей. Юноша погрузился в болото, поскользнулся и сильно ударился грудью о лед. И сердце его заговорило. И он понял все. Он отколол кусок льда, засунул в рюкзак и пошел к людям. Лед был тяжелый, идти было тяжело. Лед таял. Когда он дошел до ближайшей деревни, ото льда остался небольшой кусок, помещающийся в ладони. Подходя к деревне, он увидел девушку, спящую в траве. Она была русоволоса, голубые глаза ее были полуприкрыты. Он поднял с земли палку, шнурком прикрутил к ней кусок льда и со всей силы ударил ледяным молотом девушку в грудь. Девушка вскрикнула и потеряла сознание. Он лег возле нее и заснул. Когда он проснулся, она сидела рядом и смотрела на него как на брата. Они обнялись. И сердца их заговорили друг с другом. И они поняли все. И пошли искать себе подобных…
Он помолчал и добавил:
– Этим юношей был я.
Потом Бро продолжил:
– Я никогда прежде не говорил с тобой о целях нашего братства. Их чувствует каждый, кто полностью овладел языком сердца. Ты почти близка к этому. Но у нас нет времени для ожидания, ибо ты должна как можно скорее отправиться в Россию. И искать там наших братьев и сестер. Тех, кто не принадлежит адскому миру. В чьих сердцах еще живет память о Свете.
Он замолчал, глядя на меня.
– Что я должна делать? – спросила я.
– Просеивать человеческую породу. Искать золотой песок. Нас – 23 тысячи. Не больше и не меньше. Мы голубоглазые и светловолосые. Как только будут найдены все 23 тысячи, как только все они будут знать язык сердца, мы встанем в кольцо и наши сердца произнесут одновременно 23 сердечных слова. И в центре кольца возникнет Свет Изначальный, тот, что творил миры. И ошибка будет исправлена: мир Земли исчезнет, растворится в Свете. И наши земные тела растворятся вместе с миром Земли. И мы снова станем лучами Света Изначального. И вернемся в Вечность.
Едва Бро сказал это, как в моем сердце произошло движение. И я ПОЧУВСТВОВАЛА все, что он сообщил мне на земном языке. Я увидела нас, стоящих в круге, держащихся за руки и говорящих сердечные слова.
Бро почувствовал это. И улыбнулся:
– Теперь, Храм, ты знаешь все.
Я была потрясена. Но один вопрос мучил меня:
– Что такое лед?
– Это идеальное космическое вещество, порожденное Изначальным Светом. Внешне оно похоже на земной лед. На самом деле структура его другая. Если его сотрясать, в нем поет Музыка Света. Ударяясь о нашу грудную кость, лед вибрирует. От этих вибраций пробуждаются наши сердца.
Он сказал, и я сразу почувствовала. И поняла, что такое ЛЕД.
– В России есть трое наших братьев, – продолжал Бро. – Они помогут тебе. И вместе вы сделаете великое дело. Ступай же, Храм.
Так началось мое возвращение на родину.На следующее утро возле озера Инари я перешла границу СССР. В лесу меня ждала легковая машина. В ней сидели двое мужчин в форме офицеров ГБ. Один из них молча открыл дверь машины, я села. И мы поехали сначала по лесной дороге, потом по шоссе. Ехали молча. Трижды нас останавливали военные патрули. Мои сопровождающие предъявляли им документы, они сразу пропускали нас.
Через четыре часа мы въехали в Ленинград.
Мы остановились возле какого-то дома на Морской. Один из офицеров предложил мне следовать за ним. Мы с ним вошли в дом и поднялись на четвертый этаж. Офицер позвонил в квартиру № 15, повернулся и пошел по лестнице вниз.
Дверь открылась. На пороге стоял среднего роста блондин в форме подполковника госбезопасности. Он был очень взволнован, но изо всех сил держал себя в руках. Неотрывно глядя на меня, он стал отступать в глубь квартиры. Я тоже затрепетала: мое сердце почувствовало брата. Я притворила дверь и пошла к нему. В квартире был полумрак из-за сдвинутых штор. Но несмотря на это, я различила синеву его напряженных глаз.
Мы обнялись, опустились на колени. Наши сердца заговорили. Это продолжалось до вечера. Его сердце явно истосковалось по сокровенному и трепетало неистово. Но оно было достаточно неопытно и знало всего шесть сердечных слов.
Наконец мы разжали объятия.
Придя в себя, он сказал:
– Мое земное имя Коробов Алексей Ильич.
Его сердечное имя было Адр.
Он снова замолчал. И долго смотрел на меня. Но я привыкла к этому. У нас в Доме братья и сестры разговаривали на земном языке только по необходимости. Потом он поднял трубку телефона и сказал:
– Машину.
Мы вышли с ним на улицу. Было уже темно.
Возле подъезда ждала машина с шофером и охранником. Нас отвезли на Московский вокзал. Там мы сели в поезд Ленинград – Москва и затворились в купе. Адр выложил на столик фрукты. Но есть не смог, а по-прежнему смотрел на меня.
Я же проголодалась и с удовольствием съела несколько плодов. Затем он рассказал мне свою историю. Он кадровый офицер МГБ, в 1947 году был направлен Министерством госбезопасности в Германию по делам ГУСИМЗ (Главное управление советского имущества за границей).
В Дрездене на праздничном банкете в честь двухлетия победы над Германией он близко познакомился со своим прямым начальником, генерал-лейтенантом Влодзимирским, возглавляющим отдел ГУСИМЗ. Раньше они встречались только по долгу службы. Влодзимирский, считающийся на Лубянке человеком жестким и малообщительным, внезапно проявил симпатию к Коробову, познакомил его с женой, пригласил в свой особняк, где он обычно останавливался.
В особняке они с женой привязали Коробова к колонне и простучали ледяным молотом. Он потерял сознание. Затем его положили в местный госпиталь, где он приходил в себя в отдельной охраняемой палате. На третий день Влодзимирский пришел к нему, лег в постель, обнял и поговорил сердечно.
Так Коробов стал Адр.
Он расспрашивал меня о братстве, я рассказывала ему все, что знала. Время от времени он плакал от умиления, обнимал меня, прижимал мои ладони к груди. Но я сдерживала свое сердце, чтобы не потрясти Адр слишком сильно.
Я понимала свою мощь.Утром мы прибыли в Москву на Ленинградский вокзал. Там нас ждала машина.
Мы поехали за город и через некоторое время оказались на даче Влодзимирского.
Был теплый солнечный день.
Адр взял меня за руку и ввел в большой деревянный дом. Окна в нем были занавешены. Посреди гостиной стоял Влодзимирский. Он был тоже среднего роста, плотного телосложения; пижама золотистого шелка облегала его коренастую фигуру; редкие темно-русые волосы были зачесаны назад, в зеленовато-голубых глазах стояли слезы восторга. Я почувствовала на расстоянии его большое и горячее сердце. И затрепетала в предвкушении.
Чуть поодаль стояла жена Влодзимирского – худощавая миловидная женщина. Но она была не наша, поэтому я не сразу заметила ее.
Влодзимирский подошел ко мне. Голова его вздрагивала, сильные руки тряслись. Издав гортанный звук, он опустился на колени и прижался ко мне.
Адр подошел ко мне сзади и тоже прижался.
Они разрыдались.
Жена Влодзимирского тоже заплакала.
Затем Влодзимирский подхватил меня на руки и понес на второй этаж. Там в спальне он положил меня на широкое ложе и принялся раздевать. Адр и жена помогали ему. Затем он разделся сам. Влодзимирский оказался поистине атлетического сложения. Он прижался своей широкой белой грудью к моей. И сердца наши слились. Он не был новичком в сердечном языке и знал четырнадцать слов.
Мое маленькое сердце девушки погрузилось в его мощное сердце. Оно дышало и трепетало, горело и содрогалось.
Мне ни с кем, даже со стариком Бро, не было так хорошо.
Наши сердца давно искали друг друга. Они неистовствовали.
Время остановилось для нас…Мы разжали объятия через двое суток. Наши руки затекли и не слушались, мы еле шевелились от слабости. Но лица наши сияли от счастья.
Моего нового брата звали Ха.
Адр и жена Влодзимирского отнесли нас в ванную комнату и посадили в горячую ванну. Массируя мне онемевшие руки, жена представилась:
– Меня зовут Настя.
Я ответила ей теплым взглядом.
Когда мы окончательно пришли в себя, Ха заговорил:
– Храм, в России нас всего четверо: ты, я, Адр и Юс. Адр и я – высокопоставленные офицеры МГБ, самой могущественной организации в России. Юс – машинистка в Министерстве среднего машиностроения. Меня простучали в 1931 году в Баку братья, уехавшие потом вместе с Бро. Юс нашли мы. Ты знаешь, что только лед помогает нам найти братьев. Все наши усилия направлены сейчас на обеспечение регулярной доставки льда. И тайной перевозки его за границу, где идет наиболее активный поиск наших братьев и сестер. Самый активный поиск ведется в скандинавских странах. В Швеции в трех Домах живут сто девятнадцать братьев. В Норвегии – около пятидесяти. В Финляндии – почти семьдесят. До войны в Германии насчитывалось сорок четыре наших. Некоторые из них занимали ответственные посты в НСДАП и СС. К сожалению, в России все было сложнее. Четверо братьев, сотрудников НКВД, погибли в конце тридцатых во время «большой чистки». Одна сестра из московского горкома партии была арестована и казнена по доносу. Двое других погибли в ленинградской блокаде, я не сумел помочь им. И еще один, мой ближайший брат Умэ, обретенный в 1934 году, генерал-полковник танковых войск, погиб на фронте. Слава Свету, это не отразилось на доставке льда. Но искать новых братьев нам очень трудно. Ты должна помочь нам.
– Как доставляют лед? – спросила я.
– До 1936 года мы организовывали отдельные экспедиции. Их проводили тайно. Каждый раз мы нанимали сибиряков, местных охотников, они шли по болотам до места падения, в тяжелейших условиях выпиливали лед, доставляли его в тайное место. Там их ждали офицеры НКВД. Лед доставляли на вокзал, и в рефрижераторе как ценный груз он отправлялся в Москву. Доставить его за границу было гораздо легче. Но такой способ был крайне рискованным и ненадежным. Две экспедиции просто исчезли, в другой раз нам подсунули обыкновенный лед. Я решил радикально изменить способ доставки льда. По моей инициативе и при помощи влиятельных братьев из НКВД в Сибири было создано специальное управление со спецполномочиями для подъема Тунгусского метеорита. Двое братьев, погибших в Ленинграде, были заметными людьми в Академии наук. Они обосновали научную важность этого проекта, доказав, что лед метеорита содержит неведомые химические соединения, способные произвести революцию в химическом оружии. В семи километрах от места падения был организован исправительно-трудовой лагерь. Заключенные этого не очень большого лагеря и добывают наш лед. Происходит это только зимой, когда по болотам легко пройти.– Но как же они зимой отличают наш лед от обычного льда?
– Отличают не они, а мы, – улыбнулся Ха. – Здесь, в Москве. Они долбят ломами на месте падения, выпиливают кубометры льда, волокут их на себе в лагерь. Там куски льда грузят на сани, и лошади тянут их по тундре до самого Усть-Илимска. Там их грузят в вагоны и везут в Москву. Здесь мы с Адр заходим в вагоны, кладем руки на лед. Нашего льда оказывается не более 40 процентов.
– А сколько льда в метеорите?
– По внешним оценкам – около семидесяти тысяч тонн.
– Слава Свету! – улыбнулась я. – А он не растает?
– Во время падения глыба влипла в вечную мерзлоту. Верх ее скрыт болотом. Конечно же верхняя часть глыбы подтаивает летом. Но лето в Сибири короткое: мелькнуло – и нет его! – ответно улыбнулся Ха.
– Слава Свету, льда хватит сполна для великой цели, – добавил Адр, массирующий нас.
– А кто изготовляет ледяные молоты? – спросила я.
– Сперва это делали мы сами, но потом я понял, что каждый должен заниматься своим делом. – Ха с наслаждением подставил свою крепкую и красивую голову под струю воды. – В одной из так называемых «шарашек» – закрытых научных лабораториях, где работают зеки-ученые, был создан небольшой отдел по изготовлению ледяных молотов. Всего из трех человек. Они производят пять-шесть молотов в день. Больше нам не нужно.
– А они не спрашивают – для чего нужны эти молоты?
– Милая Храм, этим инженерам, отбывающим свои двадцатипятилетние сроки за «вредительство», не у кого, да и незачем спрашивать. У них есть только инструкция по изготовлению молота. Ей они и должны следовать неукоснительно, если хотят получать свою лагерную пайку. Начальник «шарашки» сказал им, что ледяные молоты нужны для укрепления оборонной мощи советского государства. И этого вполне достаточно.
На широкой белой груди Ха виднелись старые шрамы от ледяного молота. Я осторожно коснулась их пальцами.
– Нам пора, Храм, – решительно вздохнул он. – Поедешь со мной.
Мы вылезли из ванны. Адр и Настя обтерли нас, помогли одеться. Ха облачился в свой генеральский мундир, а на меня надели форму лейтенанта госбезопасности. Адр передал мне документы:
– По паспорту ты Варвара Коробова. Ты моя жена, живешь в Ленинграде, мы с тобой приехали сюда в командировку. Ты сотрудница иностранного отдела Ленинградского ГБ.
У ворот дачи ждала черная машина. Мы втроем сели в нее и поехали в Москву. Настя осталась дома.
– Это трудно – жить с пустышкой? – спросила я Ха.
– Да, – серьезно кивнул он. – Но так надо.
– Она все знает?
– Не все. Но она чувствует величие нашего дела.
В Москве мы подъехали к массивному зданию МГБ на Лубянке. Вошли, предъявили документы, поднялись на третий этаж. В коридоре несколько встречных офицеров подобострастно отдали честь Ха. Он вяло ответил. Вскоре мы вошли в его громадный кабинет, где в секретарской комнате нас стоя приветствовали трое секретарей. Ха прошел мимо них, распахнул двойные двери кабинета. Мы проследовали за ним, Адр притворил двери.
Ха бросил кожаную папку на свой большой рабочий стол, подошел ко мне, обнял:
– Здесь нет подслушивающих устройств. Как я счастлив, сестра! Вместе с тобой мы сделаем большие дела. Ты одна из нас знаешь все 23 сердечных слова. Твое сердце умное, сильное и молодое. Мы скажем тебе, что делать.
– Я сделаю все, Ха, – гладила я его атлетические плечи.
Сзади ко мне приблизился Адр, обнял, прижался.
– Я ужасно хочу твое сердце, – с дрожью в голосе прошептал он в мой затылок.
– Оно твое, Адр. – Я протянула назад руку и коснулась его теплой щеки.
– И мое, и мое… – горячо бормотал Ха.
Зазвонил один из четырех черных телефонов.
Недовольно зарычав, Ха разжал объятия, подошел к столу, снял трубку:
– Влодзимирский. Чего? Не, Борь, я занят. Да. Ну? Чего ты не можешь? Борь, ну что ты муму ебешь?! Валится, валится, бля! Стоило мне с отдела уйти, у вас все повалилось! Доложи Серову. Ну? И что? Так и сказал? Ёпт… – Он недовольно вздохнул, почесал тяжелый подбородок, усмехнулся. – Разгильдяи вы! Правильно вас Виктор Семеныч жучит. Ладно, давай сюда. Двадцать минут у тебя есть.
Он бросил трубку на рычажки, посмотрел на меня своими зеленовато-голубыми глазами:
– Это моя работа, Храм. Извини.
Я кивнула с улыбкой.
Дубовая дверь кабинета робко приоткрылась, просунулась плешивая голова:
– Разрешите, Лев Емельянович?
– Валяй! – Ха уселся за стол.
В кабинет вошел маленький худощавый полковник с некрасивым лицом и тонкими черными усиками. За ним два дюжих лейтенанта втащили под руки полного человека в изорванной и окровавленной униформе с сорванными погонами. Лицо его посинело и оплыло от побоев. Он бессильно упал на ковер.
– Здравия желаю, Лев Емельянович. – В полупоклоне плешивый пошел к столу.
– Приветствую, Боря. – Ха лениво протянул ему руку. – Что ж ты субординацию нарушаешь? Вон перед ленинградцами нас позоришь!
– Лев Емельянович! – виновато заулыбался полковник и заметил нас с Адр. – А! Здравствуй, товарищ Коробов!
Они пожали друг другу руки.
– Вот, Боря, бери пример с Коробова. – Ха вытянул папиросу из папиросницы, не зажигая, сунул в рот. – Женился. А ты все с актрисами путаешься.
– Поздравляю. – Полковник протянул мне маленькую руку.
– Варвара Коробова. – Я дала ему пожать свою.
– Видишь, какие гарные дивчины водятся на Литейном, 4? Не то что наши зассыхи позвонковые.
Ха перевел взгляд на избитого толстяка, сцепил замком тяжелые руки:
– Ну и что?
– Да вот уперся, гад, с Шахназаровым. – Полковник со злобой посмотрел на толстяка. – На Алексеева – дал показания, на Фурмана – дал. А с Шахназаровым – не знаю, и все. Забыл, сволочь, как вместе родину японцам продавали.
Ха кивнул, положил папиросу в пепельницу:
– Емельянов. Почему вы упорствуете?
Толстяк молчал, шмыгая разбитым носом.
– Отвечай, вредитель! – вскрикнул полковник. – Я из тебя печень выну, шпион японский!
– Вот что, Боря, – спокойно заговорил Ха, – сядь-ка вооон туда. В уголок. И помолчи.
Полковник притих и сел на стул.
– Поднимите генерала. И посадите в кресло, – приказал Ха.
Лейтенанты подняли толстяка и посадили в кресло.
Лицо Ха внезапно погрустнело. Он посмотрел на свои ногти. Потом перевел взгляд в окно. Там на фоне залитой солнцем Москвы чернел памятник Дзержинскому.
В кабинете наступила тишина.
– Вы помните Крым сорокового? Июнь, Ялта, санаторий РКК? – тихо спросил Ха.
Толстяк поднял на него остекленевшие глаза.
– Ваша жена, Саша, да? Она любила купаться рано утром. А мы с Настей – тоже. Однажды мы втроем так далеко заплыли, что у Саши свело ногу. Она испугалась. Но мы с Настей люди морские. Я ее поддержал под спину, а Настя нырнула и укусила вашу жену за икру. А назад мы ей помогли доплыть. Она плыла и рассказывала про вашего сына. Павлик, кажется? Что он сам сделал паровоз из самовара. Паровоз ехал. А Павлик топил его карандашами. Сжег две коробки цветных карандашей. Которые вы ему привезли из Ленинграда. Было такое?
Толстяк тупо молчал.
Ха снова сунул в рот папиросу, но не зажег:
– Я ведь был тогда простым майором НКВД. Меня премировали путевкой в санаторий. А вы тогда командовали корпусом. Легендарный комкор Емельянов! Смотрел я на вас в столовой и думал: до него как до неба. А вы выгораживаете Шахназарова. Да эта гнида мизинца вашего не стоит.
Подбородок толстяка стал подергиваться, круглая голова качнулась. И слезы хлынули из глаз. Он обхватил голову руками и зарыдал в голос.
– Отведите генерала в триста первый. Пусть он отоспится, поест нормально. И напишет. Все как надо, – проговорил Ха, глядя в окно.
Притихший полковник кивнул лейтенантам. Они подхватили рыдающего Емельянова и вывели из кабинета. Зазвонил телефон.
– Влодзимирский, – снял трубку Ха. – Здорово, Богдан! Слушай, я тут «Правду» вчера открываю, глазам своим не верю! Да! Молодец! Вот так кадры Лаврентия Павловича! Знай наших, а?! Слушай, это какой же у тебя по счету? Уууу! Поздравляю! Меркулов вам с Амаяком теперь по бюсту отлить должен!
Ха раскатисто расхохотался.
– Ну, бывай здоров, Коробов, – протянул руку полковник и, покосившись на Ха, покачал головой. – Другого такого, как наш Лев Емельянович, нет.
– Абсолютная память, чего ж ты хочешь! – улыбнулся Адр.
– Если бы только это. Гений… – с завистью вздохнул полковник и вышел.
Договорив, Ха повесил трубку:
– Вам надо оформить командировки. У Радзевского на шестом. Потом мы отправимся к сестре Юс.
Мы с Адр поднялись на шестой этаж, нам оформили командировки в Магадан. Мы получили деньги, документы. Вместе с Ха вышли из здания, сели в машину и поехали на улицу Воровского. Оставив машину с водителем на улице, мы прошли дворами, попали в обшарпанный подъезд, поднялись на третий этаж. Адр постучал в дверь. Она тут же распахнулась, и на нас с воем кинулась пожилая высокая дама в пенсне. Она буквально выла от радости и тряслась.
Адр зажал ей рот. Мы вошли в квартиру. Она была большой, пятикомнатной, но коммунальной. Однако четыре комнаты были опечатаны. Как мне объяснил потом Ха, он сделал так, чтобы соседей сестры Юс арестовали. Так было удобней встречаться.
Завидя меня, Юс сразу оплела мои плечи своими длинными подагричными руками, прижалась большой отвислой грудью, и мы с ней рухнули на пол. Адр и Ха в свою очередь обнялись и опустились на колени.
Сердце Юс, несмотря на ее солидный возраст, было совсем по-детски неопытным. Оно знало только два слова. Но вкладывало в них столько силы и желания, что я была потрясена. Ее сердце жаждало словно путник, заблудившийся в пустыне. Оно пило мое сердце отчаянно и безостановочно.
Прошло почти девять часов.
Руки Юс разжались, она без чувств распласталась на старом паркете.
Я чувствовала себя опустошенной, но удовлетворенной: я учила сердце Юс новым словам.
Вид Юс был ужасный: побелевшая и худая, она лежала без движения, вперившись остекленевшими лиловыми глазами в потолок; из приоткрытого рта торчала вставная челюсть.
Но она была жива: я прекрасно чувствовала ее тяжко бьющееся сердце.
Ха принес из ее комнаты кислородную подушку, поднес резиновую трубку с раструбом к ее посеревшим губам, Адр открыл вентиль.
Кислород постепенно привел ее в чувство. И она глубоко, со стоном вдохнула.
Ее подняли, перенесли в комнату. Адр прыснул ей в лицо водой.
– Великолэ-э-эпно, – устало произнесла она и протянула ко мне трясущуюся руку.
Я взяла ее в свою. Старческие пальцы ее были мягки и прохладны. Юс прижала мою руку к своей груди.
– Дитя мое. Как мне не хватало тебя! – сказала она и с трудом улыбнулась.
Адр принес всем воду и абрикосы.
Мы стали есть абрикосы, запивая их водой.
– Расскажи мне про Дом, – попросила Юс.
Я рассказала. Она слушала с выражением почти детского восторга. Когда я дошла до разговора с Бро и его напутствия, слезы потекли по морщинистым щекам Юс.
– Какое счастье, – прижимала она к груди мою руку. – Какое счастье обрести еще одно живое сердце.
Мы все обнялись.
Затем Ха рассказал о ближайших планах. Нам предстояло сложное дело. Мы с Адр слушали Ха затаив дыхание. Но Юс не могла слушать более десяти секунд: она вскакивала, бросалась ко мне, обнимала мои колени, прижималась, бормоча нежные слова, потом отбегала к окну, стояла, всхлипывая и тряся головой.
В комнате ее был настоящий хаос из вещей и книг, посреди которого как скала возвышалась большая немецкая печатная машинка с заправленным листом. В прежней жизни Юс подрабатывала дома машинописью, а днем печатала в своем министерстве. Теперь у нее не было материальных проблем. Как у всех нас.
Юс умоляла Ха взять ее в командировку, но он запретил ей.
Она разрыдалась.
– Я хочу говорить с тобой… – всхлипывала она, целуя мои колени.
– Ты нужна нам здесь, – обнимал ее Ха.
Юс бил озноб. Вставные челюсти ее клацали, колени тряслись. Мы успокоили ее валерьянкой, уложили в постель, накрыли пуховым одеялом, в ноги сунули грелку. Лицо ее сияло блаженством.
– Я нашла вас, я вас нашла… – беспрерывно шептали ее старческие губы. – Только бы сердце не разорвалось…
Я поцеловала ее руку.
Она с умилением глянула на меня и тут же провалилась в глубокий сон.
Мы вышли, сели в машину и через час езды были на военном аэродроме в Жуковском. Там нас ждал самолет.
Мы разместились в небольшом салоне. Пилот отрапортовал Ха о готовности, и мы взлетели.
До Магадана мы добирались почти сутки: дважды дозаправлялись и переночевали в Красноярске.
Когда я летела над Сибирью и видела бескрайние леса, прорезанные лентами великих сибирских рек, я думала о тысячах голубоглазых и русоволосых братьев и сестер, живущих на необъятных просторах России, ежедневно совершающих механические ритуалы, навязанные цивилизацией, и не догадывающихся о чуде, скрытом в их грудных клетках. Их сердца спят. Проснутся ли они? Или, как миллионы других сердец, отстучав положенное, сгниют в русской земле, так и не узнав опьяняющей мощи сердечного языка?
Я представляла тысячи гробов, исчезающих в могилах и засыпаемых землей, я чувствовала адскую неподвижность остановившихся сердец, гниение в темноте божественных сердечных мышц, проворных червей, пожирающих бессильную плоть, и живое сердце мое содрогалось и трепетало.
– Я должна разбудить их! – шептала я, глядя на проплывающий внизу лесной океан…В Магадан мы прилетели ранним утром.
Солнце еще не встало. На аэродроме нас ждали две машины с двумя офицерами МГБ. В одну машину погрузили четыре продолговатых цинковых ящика, во вторую сели мы.
Проехав через город, показавшийся мне не лучше, но и не хуже других городов, мы свернули на шоссе и после получаса не очень плавной езды подъехали к воротам большого исправительно-трудового лагеря.
Они сразу же открылись, мы въехали на территорию. Там стояли деревянные бараки, а в углу белело единственное кирпичное здание. Мы подъехали к нему. И нас сразу встретило начальство лагеря – трое офицеров МГБ. Начальник лагеря, майор Горбач, радушно приветствовал нас, стал приглашать в здание администрации. Но Ха сообщил ему, что мы очень торопимся. Тогда он засуетился, отдал распоряжение:
– Сотников, приведи их!
Вскоре привели десятерых изможденных грязных заключенных. Несмотря на теплую летнюю погоду, на них были рваные ватники, валенки и шапки-ушанки.
– У тебя летом в валенках ходят? – спросил Ха Горбача.
– Никак нет, товарищ генерал, – бодро отвечал Горбач. – Я же этих в БУРе держал. Вот и выдал им зимнюю одежду.
– Зачем ты их посадил в БУР?
– Ну… так надежней, товарищ генерал.
– Мудак ты, Горбач, – сказал ему Ха и повернулся к зекам. – Снять головные уборы!
Они сняли свои шапки. Все они выглядели стариками. Семеро были блондинами, один альбиносом, у двоих были совершенно седые волосы. Голубыми глаза были только у четырех, включая седого.
– Слушай, майор, у тебя с головой все в порядке? Контузий не было? – спросил Ха Горбача.
– Я не был на фронте, товарищ генерал, – бледнея, ответил Горбач.
– Тебе каких было приказано найти?
– Блондинистых и светлоглазых.
– Ты цвета нормально различаешь?
– Так точно, нормально.
– Какое, блядь, нормально? – закричал Ха и ткнул пальцем в голову седого зека. – Это что, по-твоему, блондин?
– Он в показаниях написал, что до 1944 года был блондином, товарищ генерал, – ответил Горбач, стоя навытяжку.
– Со смертью играешь, майор, – кольнул его взглядом Ха. – Где помещение?
– Сюда… здесь, прошу вас… – засуетился Горбач, показывая на здание. Ха вынул из портсигара папиросу, размял, понюхал:
– Этих четверых веди туда, делай по инструкции.
– А остальных куда? – робко спросил Горбач.
– На хуй. – Ха кинул папиросу на землю.
Через некоторое время мы вошли в здание. Самую большую комнату отвели под простукивание. Окна в ней были забраны ставнями, горели три яркие лампы, из стен торчали наручники. Четверых пристегнули к ним. Голые по пояс, с завязанными ртами и глазами, они стояли у стен.
Внесли цинковый ящик. Ха распорядился, чтобы все покинули здание.
Адр открыл ящик. Он был с толстыми стенками и весь засыпан искусственным льдом, в котором хранят мороженое. Из-под дымящихся кусков льда торчали ледяные молоты. Я положила на них руки. И сразу же почувствовала невидимую вибрацию небесного льда. Она была божественна! Руки мои трепетали, сердце жадно билось: ЛЕД! Я не видела его так долго!
Адр надел перчатки, вытянул один молот и приступил к делу. Он простучал того самого седого. Он оказался пуст. И быстро умер от ударов. Потом молот взял Ха. Но в этот день нам не повезло: другие тоже оказались пустышками.
Отшвырнув разбитый молот, Ха достал пистолет и добил покалеченных.
– Не так просто найти наших. – С усталой улыбкой Адр вытер пот со лба.
– Зато какое это счастье – находить! – улыбнулась я.
Мы обнялись, кусочки льда хрустели у нас под ногами. Мое сердце чувствовало каждую льдинку.
Выйдя из здания, мы услышали выстрелы неподалеку.
– Это что такое? – спросил Ха у майора.
– Вы же приказали, товарищ генерал, остальных – к высшей мере, – ответил майор.
– Болван, я сказал – на хуй.
– Виноват, товарищ генерал, не понял, – заморгал Горбач.
Ха махнул на него рукой, пошел к машине:
– Всех вас чистить надо, разгильдяи!
За две недели мы объездили восемь лагерей, простучали девяносто два человека. И нашли только одного живого. Им оказался сорокалетний вор-рецидивист из Нальчика Савелий Мамонов по кличке Домна. Кличка эта была дана ему за татуировку на ягодицах: двое чертей с лопатами угля в руках. Во время ходьбы черти как бы закидывали уголь ему в анус. Но это была не единственная татуировка на полноватом, коротконогом и волосатом теле Домны: грудь и плечи его покрывали русалки, сердца, пронзенные ножами, пауки и целующиеся голуби. А посередине груди был вытатуирован Сталин. От ударов ледяного молота лик вождя стал обильно кровоточить. К этому окровавленному Сталину я прижала ухо и услышала:
– Шро… Шро… Шро…
Сердце мое почувствовало пробуждение другого сердца.
Это переживание ни с чем не сравнимо.
Слезы восторга брызнули из моих глаз, и окровавленными губами я прижалась к некрасивому, грубому, иссеченному шрамами лицу обретенного брата:
– Здравствуй, Шро.
Мы разрезали его путы, сняли повязку со рта. Тело его бессильно сползло на пол, глаза закатывались, а из губ слышался слабый, но злобный шепот:
– Сучары рваные…
Потом он потерял сознание. Ха и Адр целовали ему руки. Я плакала, трогая его коренастое тело, десятки лет носившее в себе запечатанный сосуд Света Изначального. Отныне этому телу суждено было жить.
Через месяц мы сидели с Шро в ресторане наверху гостиницы «Москва». Стоял теплый и сухой августовский день. Слабый ветерок колебал полосатый тент. Мы ели виноград и персики. Внизу раскинулся главный русский город. Но мы не смотрели на него. Шро держал мои руки в своих татуированных грубых руках. Наши голубые глаза не могли расстаться ни на секунду. Даже когда я вкладывала виноградину в губы Шро, он продолжал смотреть на меня. Мы почти не разговаривали на земном языке. Зато сердца наши трепетали. Мы готовы были оплести друг друга руками и упасть где угодно – здесь, над Москвой, в метро, на тротуаре, в подъезде или на помойке. Но наши чувства были столь высоки, что самосохранение было частью их.
Мы берегли себя.
И наши сердца.
Поэтому давали говорить им только в укромных местах. Где не было живых мертвецов.
– А мы могем помереть? – вдруг спросил Шро после многочасового молчания.
– Это уже не важно, – ответила я.
– Почему?
– Потому что мы встретились.
Он прищурился. Задумался. И заулыбался. Стальные зубы его засверкали на солнце.
– Я понял, сестренка! – радостно прохрипел он. – Я все, бля на хуй, понял!
Мы все понимали всё: и юная я, и угловатый Шро, и мудрый Ха, и беспощадный Адр, и старая Юс.
Мы делали великое дело.
И время отступало перед вечностью. А мы проходили сквозь время, как лучи света сквозь ледяную толщу. И достигали дна…В сентябре и октябре мы посетили восемнадцать лагерей в Мордовии, Казахстане и в Западной Сибири. Почти двести ледяных молотов было разбито о худые грудины заключенных, но только два сердца заговорили, назвав свои имена:
– Мир.
– Софре.
Нас стало семеро.
И мы продолжали поиски в низших слоях. Новая установка Ха была во многом продиктована временем: репрессивный аппарат слишком быстро и непредсказуемо уничтожал советскую элиту. Уцелеть в сталинской мясорубке высокопоставленным людям было трудно. Никто не был уверен в своей безопасности, никто не был защищен от репрессий. Даже те, кто пил со Сталиным по ночам и пел с ним грузинские песни.
Поэтому мы даже не делали попыток найти своих среди партийных и военных бонз. Потери 30–40-х навсегда отрезвили Ха.
Но лагеря тоже не решали проблему поиска. Трое найденных там братьев были жалкой наградой за огромный риск и скрупулезную подготовку.
Ха и Адр разработали новый план поиска: надо было ехать на север России, в Карелию, на Белое море, в земли, богатые русыми и голубоглазыми.
При поддержке своего патрона, всесильного Лаврентия Берия, в МГБ Ха создал спецотряд «Карелия» якобы для поиска дезертиров и немецких пособников, скрывающихся в лесах Карелии. Это было небольшое, но мобильное подразделение, состоявшее из бывших оперативников СМЕРШа, призванных во время войны бороться с немецкими шпионами и диверсантами. Однако следуя традиционной практике НКВД, смершевцы в основном занимались фабрикацией фальшивых дел, арестовывая невинных красноармейцев и выбивая из них необходимые показания, после чего новоиспеченных «немецких шпионов» благополучно расстреливали.
Шестьдесят два головореза-смершевца, отобранные Ха в спецотряд «Карелия», подчиняющийся лично Берия, были готовы выполнить любое приказание. Эти воистину беспощадные люди воспринимали род человеческий как мусор и получали высшее удовлетворение от простреленных затылков. Отрядом руководил Адр.
В апреле 1951 года отряд приступил к выполнению секретной операции «Невод»: прибыв в Карелию, в городок Лоухи, оперативники принялись арестовывать голубоглазых блондинов и блондинок. Их доставляли в Ленинград, где в подвалах «Большого Дома» мы с Ха, Шро и Софре простукивали их.
Это была тяжелая работа. Иногда нам приходилось простукивать до 40 человек в день. К вечеру мы валились с ног от усталости. Лаборатория, в которой трое зеков-инженеров раньше изготовляли молоты, не справлялась. К инженерам посадили еще пятерых, увеличив план втрое, они работали по 16 часов в сутки, делая по 30 молотов ежедневно. Самолетом их доставляли в Ленинград, чтобы в сумрачном подвале МГБ мы разбивали их о белокожие карельские груди.
Руки и лица наши были иссечены осколками разлетающегося льда, мышцы рук стали железными, ныли и болели, из-под ногтей временами сочилась кровь, ноги распухали от многочасового стояния. Нам помогала жена Ха. Она обтирала наши лица, забрызганные карельской кровью, подавала теплую воду, массировала руки и ноги.
Мы работали как одержимые: ледяные молоты свистели, трещали кости, стонали и выли люди. Внизу, этажом ниже непрерывно гремели выстрелы – там добивали пустышек. Их было как всегда – 99 %. И только один процент составляли живые. Но сколько радости доставляли нам эти единицы из сотен!
Каждый раз, прижимаясь к окровавленной, трепещущей груди и слыша трепыхание пробуждающегося сердца, я забывала обо всем, плакала и кричала от радости, повторяя сердечное имя новорожденного:
– Зу!
– О!
– Карф!
– Ык!
– Ауб!
– Яч!
– Ном!
Их было совсем немного. Как золотых самородков в земле. Но они были! И они сверкали в наших натруженных, окровавленных руках.
Живых наших сразу доставляли в тюремный госпиталь МГБ, где проинструктированные Ха врачи оказывали им необходимую помощь.
Число их медленно росло.
Спецотряд завершил операцию в Лоухи и двинулся на юг по железной дороге – через Кемь, Беломорск, Сегеж – к Петрозаводску. Пока оперативники прочесывали очередной город, на станции стоял спецпоезд, предназначенный для перевозки заключенных. После прочесывания города поезд наполнялся русоволосыми и шел в Ленинград.
За два с половиной месяца неустанной работы мы нашли 22 брата и 17 сестер.
Это была Победа Света! Россия поворачивалась в сторону Светоносной Вечности.Спецотряд «Карелия» приблизился к Петрозаводску – старинному русскому порту, крупному городу со стапятидесятитысячным населением, северной карельской столице, изобилующей голубоглазыми и русоволосыми.
Для осуществления операции «Невод – Петрозаводск» спецотряд был усилен двадцатью офицерами-оперативниками и пятнадцатью тюремщиками из лубянской тюрьмы.
Десятки ледяных молотов ждали в холодильниках своего часа.
Но наступил зловещий июль 1951 года. Сфабрикованное в недрах Лубянки «дело кремлевских врачей-убийц», якобы готовящихся отравить Сталина и других партийных бонз, обернулось против МГБ: был арестован министр госбезопасности Абакумов. И над Лубянкой нависла угроза новой чистки.
Оживились старые враги Берия в ЦК и в Министерстве обороны. В Политбюро посыпались доносы на заместителей Абакумова, одним из которых был Ха.
И Ха принял решение приостановить карельскую операцию.
Спецотряд был отозван, пустой спецпоезд вернулся в Ленинград.
Необходимо было переждать, «уйти на дно», как сказал Ха. Мы с Адр получили месячный отпуск и отправились в один из санаториев МГБ, расположенный на крымском побережье неподалеку от Евпатории. Ха с женой улетели в Венгрию на озеро Балатон. Шро жил у Юс. Мир и Софре проводили лето подсобными рабочими в одном из пионерских лагерей МГБ.
Оказавшись после подвалов «Большого Дома» в жарком и ленивом Крыму, где все рассчитано на примитивный советский «отдых», подразумевающий почти растительное существование, я сперва не могла найти себе места. Тридцать девять новообретенных братьев и сестер не давали мне покоя. За сотни километров от них я чувствовала их сердца, я помнила имя каждого, я говорила с ними.
Адр, понимая мое состояние, старался помочь. Рано утром, до восхода солнца мы заплывали к диким скалам, сплетались там и застывали на многие часы, подобно древним ящерам.
Но мне было мало сердца Адр. Я рвалась в тюремный госпиталь, где лежали все мои братья и сестры. Я хотела их. Я умоляла и плакала.
– Это невозможно, Храм, – шептал мне Адр.
И я била о скалы свои бесполезные руки.
Адр скрежетал зубами от бессилия.
Вскоре со мной стало что-то происходить. Это началось в воскресный вечер, когда Адр, всячески старавшийся помочь мне побороть тоску, решил сводить меня в кино. Кино показывали только по воскресеньям в простом летнем кинотеатре. Вместо обещанной новой кинокомедии в тот вечер стали крутить «Чапаева». Кто-то выкрикнул, что он уже видел «Чапаева» двадцать раз. Ему возразил какой-то пожилой мертвец:
– Ничего, посмотришь в двадцать первый!
Я смотрела «Чапаева» девочкой. Тогда этот фильм потряс меня. Я прекрасно помнила его. Но когда пошли первые кадры и на простыне появились люди, я не смогла их разглядеть. Это были какие-то серые пятна, мелькание, всполохи света и тени. Сначала я подумала, что ошибся киномеханик. Но чередующиеся с изображением надписи я могла нормально прочесть. Все остальное плыло и мелькало. Я глянула в зал: все молча смотрели, никто не кричал «резкость!» или «кинщика на мыло!».
Адр тоже смотрел.
– Ты хорошо видишь? – спросила я его.
– Да. А ты?
– Мне ничего не видно.
– Наверно, мы сидим слишком близко, – решил он. – Давай пересядем подальше.
Мы встали, прошли к последней лавке и сели. Но для меня ничего не изменилось: я по-прежнему читала надписи, но другого не различала. Адр подумал, что у меня просто плохое зрение. Когда на простыне появилась очередная надпись, он спросил:
– Что там написано?
– «В штабе белых», – прочла я.
Он задумался. Рядом с нами сидела пьяноватая пара. Они непрерывно целовались. Я стала смотреть на них. Похоть мертвецов мне казалась такой дикой. Я смотрела на целующихся как на двух механических кукол. Женщина заметила мой взгляд.
– Чего пялишься? Гляди туда! – показала она на экран, и мужчина, тискающий ее пухлое тело, засмеялся.
Я перевела взгляд на экран. Там Петька рассказывал Анке об устройстве пулемета. Но я видела лишь два дрожащих темных пятна.
– А это что? – спросила Анка.
– А это щечки, – ответил невидимый Петька.
И два пятна слились.
Зал засмеялся.
– Идем отсюда, – встала я.
Мы с Адр вышли. Вокруг стояла черная южная ночь. Пели цикады. В здании санатория, утопающего в акациях и каштанах, горели редкие окна. Мы вошли в вестибюль.
За стойкой дремали двое консьержек. Над ними на стене висел большой портрет Сталина. Я никогда не обращала на него внимания. Но что-то заставило меня взглянуть на портрет. Вместо Сталина в белом кителе в раме расплывалось бело-коричневатое пятно с золотистыми вкраплениями.
Я уставилась на портрет. Подошла ближе. Пятно переливалось и плыло.
Я зажмурилась, тряхнула головой, открыла глаза: то же самое.
– Что с тобой? – спросил Адр.
– Не знаю, – тряхнула я головой.
Консьержки проснулись и с интересом смотрели на меня.
– Скажи, кто это? – спросила я, неотрывно глядя на портрет.
– Сталин, – напряженно ответил Адр. Консьержки переглянулись.
– Варя, пошли спать, ты устала. – Адр взял меня под руку.
– Погоди. – Я оперлась руками о стойку и вперилась в портрет.
Потом перевела взгляд на консьержек. Они настороженно смотрели на меня. Я заметила стопку открыток, лежащую на стойке. Взяла одну. Внизу открытки было написано синим: ПРИВЕТ ИЗ КРЫМА! Над надписью клубилось что-то зеленовато-красное.
– Что это? – спросила я Адр.
– Это розы. – Адр с силой взял меня под локоть. – Идем. Прошу тебя.
Я положила открытку. И повиновалась.
Поднимаясь с Адр по лестнице, услышала шепот консьержек:
– Приезжают сюда, чтоб напиваться.
– А как же – начальство в Москве, приструнить некому…
В номере Адр обнял меня:
– Скажи, что с тобой происходит?
Вместо ответа я достала наши паспорта. Открыла. Вместо фотографий я видела только серую рябь. Но все надписи прочла нормально.
Я вынула из сумочки зеркальце, посмотрела на себя. В зеркале черты моего лица плыли и сливались. Я навела зеркало на лицо Адр: то же самое. Я не могла разглядеть в зеркале его лица.
– Я не вижу картинок. И отражений, – произнесла я, бросив зеркальце. – Я не знаю, что это…
– Ты просто устала, – обнял меня Адр. – Эти два месяца были очень тяжелые.
– Они были прекрасные. – Я повалилась на кровать. – Ждать и ничего не делать мне гораздо тяжелее.
– Храм, ты понимаешь, что мы не можем рисковать.
– Я все понимаю, – закрыла я глаза. – Поэтому терплю.
Я быстро провалилась в сон.
С момента пробуждения моего сердца я не видела снов. Последние мои яркие, но короткие сны я видела в поезде, когда нас как скот увозили из России: мне снилась мама, отец, деревня, шумные деревенские праздники, когда мы все вместе и счастливы, но все быстро обрывалось на самом милом и родном, и я просыпалась в том жутком вагоне.А самый последний сон я видела ночью в фильтрационном лагере: мне снился пожар – большой и страшный. Горело все кругом, люди носились как тени. А я искала нашу собаку Леску. Я очень любила ее. И чем дольше я ее искала, тем явственней понимала, что она сгорела, потому что никто из взрослых не догадался ее отвязать. Они спасали какие-то мешки, сундуки и хомуты. Ужаснее всего в том сне было чувство бессилия, невозможности вернуть все назад. Я проснулась в слезах, повторяя:
– Леска! Леска!
В ту ночь в санатории мне впервые за восемь лет приснился сон. Вернее, он не приснился. Я его не видела, но прочувствовала.
Я просто сидела в саду возле Дома и трогала сестру Жер, которая спала. Стояло лето, было тепло и безветренно. Мы только что закончили говорить сердцами. Я любила сердце Жер. Оно было подвижным и активным. И было быстрее моего. После двух часов сердечного разговора во рту было, как всегда, сухо и слегка ныли онемевшие руки. Жер спала как ребенок – раскинувшись на спине, приоткрыв рот. Лицо ее источало усталое блаженство. Я стала трогать ее маленький подбородок. Его покрывали крохотные веснушки. На переносице их было больше. Я коснулась ее переносицы. Но рыжие ресницы Жер даже не вздрогнули: сон ее был крепок. Вдруг сзади раздалось слабое поскуливание. И я сердцем почувствовала, что за спиной у меня стоит наша собака Леска. Я оглянулась. Лохматая серо-черная Леска стояла, вывалив розовый язык и радостно дыша. Зеленоватые глаза ее лучились радостью. Сердце мое затрепетало от счастья: моя любимая Леска жива, она не погибла на пожаре! На шее Лески болтался обрывок веревки, шерсть с правого бока была опалена.
– Леска, ты жива! – воскликнула я и потянулась к ней.
Но собака вдруг резко отпрянула и побежала к Дому. Я вскочила и, зовя ее, кинулась следом. Леска вбежала по ступеням, юркнула в приоткрытую дверь южной веранды, увитой диким виноградом. Я вбежала вслед за ней. Веранда была пуста. И в ней было сумрачно и прохладно, как всегда летом. Посередине стояло кресло, в нем сидел старик Бро. Леска сидела возле. Они оба внимательно смотрели на меня. Бро показал мне пальцем, я повернула голову и увидела на противоположном конце террасы свое изображение в полный рост. Это была не картина и не фотография, а нечто потрясающее по совершенству: абсолютная копия меня. Я пошла к своему двойнику. Но чем ближе я подходила, тем сильнее я чувствовала ПУСТОТУ внутри моей копии. Это было чистое изображение, поверхность, повторяющая мои формы. Внутри изображения не было ничего. Я приблизилась. Копия Варьки Самсиковой была абсолютная. Я разглядела мельчайшие поры на коже лица, шрамик над бровью, влагу в уголках голубых глаз, золотистый пушок под скулами, трещинки на губах, родинку на шее. Моя копия тоже внимательно разглядывала меня. Наконец мы обе повернулись к Бро. Леска привстала и, возбужденно поскуливая, навострив уши, смотрела на нас.
– Позовите собаку, – произнес Бро.
– Леска! – позвала я.
– Леска! – повторила моя копия.
Собака подбежала сперва к копии, понюхала, взвизгнула и, зарычав, отпрянула ко мне. Я присела и с наслаждением запустила пальцы в собачью шерсть. Моя копия стояла и, улыбаясь, смотрела на нас. Леска снова зарычала на нее. И копия исчезла.
– Почему собака узнала тебя? – спросил Бро.
– Она почуяла, – ответила я.
– Да. Собака живая, как и все животные. Она увидела тебя сердцем, а не глазами. Но живые мертвецы видят мир глазами и только глазами. Мир, увиденный сердцем, другой. Храм, ты готова увидеть мир сердцем.
Я проснулась. Открыла глаза.
Было утро.
Мир был таким же, как и вчера. Я лежала в нашей кровати. Адр в номере не было. Я протерла глаза, села. Затем приняла душ, привела себя в порядок, оделась и вышла из номера.
Спустившись вниз, я вошла в столовую, где завтракали отдыхающие, и замерла в изумлении: вместо людей за столами сидели МЯСНЫЕ МАШИНЫ! Они были АБСОЛЮТНО мертвы! В их уродливых, мрачно-озабоченных телах не было ни капли жизни. Они поглощали пищу: кто мрачно-сосредоточенно, кто бодро-суетливо, кто механически-равнодушно.
За нашим столом сидела пара. Они ели живые фрукты: груши, черешню и персики.
Но эти чудесные персики не могли и на толику оживить их тела!
Зачем же они их ели? Это было так смешно!
Я расхохоталась.
Все прекратили есть и уставились на меня. Их лица повернулись ко мне. И впервые в жизни я не увидела человеческих лиц. Это были морды мясных машин.
И вдруг эту массу мертвого мяса рассек луч света: через столовую ко мне шел Адр. Он был СОВСЕМ ДРУГОЙ! Он был живым. Он не был машиной. Он был моим БРАТОМ. И у него было СЕРДЦЕ. Оно сияло Светом Изначальным.
Я двинулась ему навстречу. И мы обнялись посреди мира чудовищ.
По телам мясных машин как черви поползли смешки. Одна из жующих машин открыла рот и громко изрекла:
– А еще говорят, что в МГБ не умеют любить!
И столовая наполнилась жирным хохотом мясных машин…
С этого дня я стала видеть сердцем.
С мира спала пленка, натянутая мясными машинами. Я перестала видеть только поверхность вещей. Я стала видеть их суть.
Это не значит, что я ослепла. Я прекрасно различала вещи и ориентировалась в пространстве. Но любые изображения – картины, фотографии, кино, скульптуры – для меня исчезли навсегда. Картины стали для меня простыми холстами, покрытыми краской, на экране в кинотеатре я видела только игру световых пятен.
Сердцем я могла видеть человека или вещь изнутри, знать их историю.
Открытие это было равносильно пробуждению моего сердца под ударами ледяного молота.
Но если после тех ударов мое сердце просто ожило и стало чувствовать, то теперь оно умело ЗНАТЬ.
И я успокоилась.
Мне незачем было волноваться.
Месяц отпуска прошел.
В Москве на место арестованного министра ГБ Абакумова был назначен Игнатьев – партийный функционер, для Лубянки человек совершенно новый. Поэтому – непредсказуемый. Но его первым заместителем стал Гоглидзе – выдвиженец Берия, старый приятель Ха. Это успокоило нас. Под прикрытием Гоглидзе мы могли бы завершить операцию по поиску живых в Карелии.
Ха вызвал нас из Крыма. Мы прилетели в дождливую сентябрьскую столицу, готовые к новым подвигам во имя Света…Но случилась непредвиденное.
Игнатьев, начавший расследование «преступной деятельности Абакумова», получил донос от заместителя начальника лагеря, где добывали драгоценный Тунгусский лед. Лейтенант ГБ Волошин писал, что «лагерь № 312/500 по добыче никому не нужного льда в нечеловечески тяжких условиях вечной мерзлоты был создан Абакумовым для прикрытия японских шпионов, пробирающихся на территорию СССР и наносящих вред нашему трудовому народу».
Вероятно, Волошин просто решил воспользоваться очередной чисткой в ГБ, чтобы получить новое назначение или повышение по службе за «бдительность».
Несмотря на явную абсурдность, донос возымел действие: работы в лагере было велено прекратить. Игнатьев назначил комиссию по расследованию. К счастью, ее возглавил полковник Иванов из Главного экономического управления МВД, жизнью обязанный Ха, спасшего его в 39-м от ареста.
Ха заставил Иванова включить в комиссию Адр и меня, в качестве секретарши.
Перед командировкой Ха вызвал Иванова и нас к себе в кабинет.
Мы стояли перед его массивным столом.
– Летите, соколы, летите, – напутствовал он нас, гоняя незажженную папиросу в своих красивых суровых губах. – Разберитесь – что и как. Вы парни въедливые. Ройте землю, как кабаны.
– Там, товарищ генерал-лейтенант, вечная мерзлота, – деликатно улыбнулся Адр.
– Шутник, ебеныть! – кольнул его быстрым взглядом Ха и постучал пальцем по столу. – Чтоб все там наизнанку вывернули! Ясно?
– Так точно! – хором ответили мы.
– Есть у меня подозреньице. – Ха с прищуром посмотрел в окно, выдержал паузу. – Этот самый лейтенант Волошин – сам японский шпион.
– Вы… так думаете, товарищ генерал-лейтенант? – настороженно спросил Иванов.
– Интуиция. Мутит воду, гад. А сам делает свое черное дело. Их там в тундре – хоть жопой ешь. Окопались, самурайское отродье. Агентура, блядь, такая – не ленись разгребай. Мы в сороковые стольких пересажали, а все равно ползут к нам, сволочи, с Дальнего Востока. Так что, Иванов, смотри. Не ошибись.
Ха внушительно посмотрел на Иванова.
И Иванов не ошибся.
Он знал, что Влодзимирский – человек Берия, а не опального Абакумова. А Берия стоял ближе всех к Сталину. Значит, стоило прислушаться к намеку.
Едва мы добрались до занесенного снегом и продуваемого ледяными ветрами лагеря № 312/500, Иванов приказал арестовать лейтенанта Волошина.
Глухой полярной ночью при свете трех керосиновых ламп в бревенчатом БУРе голого Волошина положили навзничь на лавку и привязали. Иванов, как человек обстоятельный, прихватил с собой двух плечистых лейтенантов-костоломов из оперативного отдела. Один лейтенант сел Волошину на грудь, другой принялся стегать его плеткой по половым органам.
Волошин выл в ночи.
Вой его слышали 518 зеков, затаившихся в своих бараках и ожидающих вердикта московсой комиссии: они уже месяц не работали. Это пугало их.
Начальник лагеря месяц пил в своем домике.
– Рассказывайте, Волошин, все рассказывайте. – Иванов пилочкой неторопливо обрабатывал свои холеные ногти.
Я сидела с листом бумаги, готовая записывать показания подследственного. Адр прохаживался вдоль стены.
Рябой лейтенант с оттяжкой сек Волошина по стремительно распухающей мошонке, бормоча:
– Говори, пиздюк… говори, пиздюк…
Волошин выл часа три. За это время он много раз терял сознание, и его отливали водой и терли снегом. Потом он признался, что еще в 41-м году пятнадцатилетним юношей в глухой сибирской деревне был завербован японской контрразведкой. Когда он, захлебываясь слезами и соплями, трясущейся рукой подписывал свои «показания», составленные Ивановым и записанные мной, я сердцем видела его сущность. Он понимал, что подписывает себе приговор. Все мясо-машинное существо его в этот миг было заполнено образом матери – простой сибирской крестьянки. Мать сидела в его голове, как каменное ядро, повторяя одно и то же:
– Я ж тибе в муках родила, я ж тибе в муках родила…
С каменной мамой в голове он мог подписать что угодно.
На следующее утро тройка укутанных попонами лошадей повезла в Усть-Илимск скованного наручниками Волошина с двумя конвойными и долговязого фельдъегеря с портфелем. В портфеле лежал отчет следственной комиссии и показания лейтенанта Волошина.
А мы задержались в лагере, ожидая комфортную машину с печкой.
Иванов и лейтенанты запили с начальником лагеря, который от радости, что дело обернулось хорошо, готов был целовать им ноги.
Мы же с Адр велели заложить сани и поехали «покататься». На самом деле понятно, КУДА нас тянуло.
Выехав из ворот лагеря, Адр направил лошадь по большаку, ведущему к месту добычи ЛЬДА. Большак, по которому гоняли колонны зеков и возили добытый лед, был припорошен снегом, за месяц простоя его никто не чистил. Сытая кобыла начальника лагеря легко тянула сани, в них сидели мы, укрытые медвежьей полостью. Было солнечно и морозно.
Я и Адр почувствовали ЛЕД сердцами еще в лагере. Но теперь это чувство усиливалось с каждым шагом лошади.
Вокруг простирались покатые невысокие сопки, покрытые редкой растительностью. Местный лес был повален ударной волной в 1908 году при падении метеорита, а новый рос плохо, клочьями. Снег блестел на ярком солнце, громко скрипел под полозом.
От лагеря до места падения было семь верст.
Мы проехали версты три, и мое сердце затрепетало. Оно почувствовало ЛЕД, как компас чувствует железную руду.
– Гони! – сжала я руку Адр.
Он стегнул лошадь кнутом. Лошадь побежала, сани понеслись.
Большак вильнул вокруг сопки, широкой лентой вполз на другую сопку и понесся вниз – к котловану. А мы понеслись по нему.
Я закрыла глаза. Я уже увидела ЛЕД сердцем. Он надвигался на меня, как Материк Света.
Сани встали.
Я открыла глаза.
Мы стояли на краю котлована. Перед нами лежала громадная глыба льда, местами припорошенная снегом. Она сияла на солнце, отливая голубым.
Да! Лед был голубой, как наши глаза!
По краям ледяной глыбы лепились деревянные постройки – сваи, мостки, сарайчики для инвентаря, вышки охраны. Все это – жалкое, убогое, человеческое – меркло и терялось рядом с потрясающей мощью льда.
Это был НАШ ЛЕД! ЛЕД, посланный Светом, ЛЕД, ударивший в грудь заснувшей земли и разбудивший ее.
Сердца наши трепетали от восторга.
Мы взялись за руки и спустились в котлован. По деревянному мосту подошли к глыбе. Трясущимися руками я стала срывать с себя одежду, пока на мне не осталось ничего.
Я ступила на лед.
Крик восторга вырвался из моей груди. Слезы брызнули из глаз. Я упала на лед, обняла его. Мое сердце чувствовало и понимало эту божественную глыбу. Подо мной лежало огромное сердце. Оно говорило со мной.
Адр тоже разделся. Я вскочила, шагнула к нему.
Рыдая от восторга, мы обнялись и упали на лед.
И время остановилось для нас.Очнулись мы ночью.
Разжали объятия.
Над нами висело черное небо с яркими звездами. Они были так низко, что казалось, можно их потрогать. Вокруг яркой и большой луны желтели два мутных полукруга. И где-то совсем за горизонтом беззвучно полыхало северное сияние.
Мы лежали в теплой воде. Нам совершенно не было холодно. Наоборот – тела наши горели. Мы растопили во льду лунку, повторяющую контуры наших сплетенных тел. Над нам и стояло облако пара.
Неподалеку раздался выстрел.
Еще один.
Потом кто-то закричал:
– Эге-геееей!
Я поняла, что нас ищут.
Мы встали. И вышли из нашей «ванны». Нашли нашу одежду, оделись. Пора было прощаться со льдом. И возвращаться в жестокий мир мясо-машин и затерянных среди них братьев. Мы поцеловали лед.
И двинулись по промерзлым мосткам на выстрелы и голоса.В Москве все сложилось благополучно: результат расследования удовлетворил нового министра госбезопасности. Лейтенант Волошин был расстрелян как японский шпион, вместе с ним расстреляли и восьмерых людей Абакумова, на которых он под пытками дал показания. Очередное «шпионское гнездо» в системе исправительно-трудовых лагерей было ликвидировано.
Лагерь № 312/500 снова заработал, зазвенели кирки зеков, закричали бригадиры, залаяли сторожевые псы, кубометры ЛЬДА повезли в столицу. А оттуда – в другие страны, где спящие сердца ждали пробуждающих ударов ледяных молотов.
Мы работали сосредоточенно и четко.
За два года было найдено 98 братьев.
Это была огромная победа Света.
Но наступил зловещий 1953 год.
В марте умер Сталин.
На следующую ночь Ха собрал нас у себя на даче. Шесть братьев и шесть сестер расположились в полутемной просторной гостиной у горящего камина. Ха сидел в кресле-качалке. Он был в лиловом китайском халате с серебристыми драконами. Пальцы его перебирали бухарские четки. Сполохи огня играли на суровом и красивом лице, поблескивали в голубых глазах. Ха заговорил:
– В СССР грядет передел власти. Вслед за ним последуют большие перемены. Они коснутся многих из нас. Необходимо быть наготове. Мы должны позаботиться о братьях и о льде. Большую часть наших необходимо переправить из Москвы и Ленинграда в провинцию. Так будет безопасней. Надо заняться этим безотлагательно. Техническую сторону дела возьмем на себя мы с Адр. Что же касается добычи льда – здесь трудно что-либо предсказать. Непонятно, что будет с лагерем и с проектом. Они могут уцелеть, а могут и быть закрыты.
Он помолчал и перевел свои глаза на меня:
– Храм, ты единственная из нас знаешь все сердечные слова и видишь сердцем. Что говорит тебе сердце?
– Только одно – на нас надвигается что-то большое и грозное, – честно отвечала я.
– На что это похоже? – спросил Адр.
– На красную волну.
– Значит, надо действовать.
Мы замолчали надолго. Затем Ха улыбнулся и заговорил:
– Сегодня утром я получил радостную весть – первая партия льда достигла Америки. Скоро мы узнаем имена американских братьев!
Все вскочили с мест. Мы ликовали. Скинув одежды, мы встали попарно, обнялись, прижавшись грудями, опустились на колени.
Камин погас. Но горячие сердца наши трепетали в темноте.
Весна и начало лета прошли в напряженной работе. Для отправки наших в разные города нужны были деньги, много денег. Ха посоветовал нам ограбить инкассатора. Мне было просто выследить машину и людей, охраняющих мешок с пачками бумаги, которую так ценят мясо-машины. Про инкассатора мое сердце знало все, – от сломанной в детстве ключицы до страсти к игре на аккордеоне. Еще он любил: нюхать женские пальцы ног, говорить о футболе и читать книги про войну. В нужный момент по моему сигналу Зу застрелил охранника, Шро перерезал горло инкассатору, а Мир выхватил из его рук мешок с деньгами.
Полмиллиона рублей вполне хватило на переезд ста человек.
Параллельно с этим главным делом мы совершали много другого: размещали неприкосновенный запас льда в трех холодильных комбинатах, внедряли своих в различные перспективные организации и уничтожали свидетелей. В последнем я была просто незаменима. Мне достаточно было подойти к двери квартиры, чтобы знать, кто дома и чем занимается. Остальное было делом Мир, Зу и Шро. Их ножи почти ежедневно прерывали бессмысленное существование очередной мясной машины, память которой могла навредить нам.
Мы были безжалостны к живым мертвецам.
И вдруг.
Как удар невидимого меча: 26 июня был арестован Берия.
Из Кремля дохнуло жаром. У соратников Берия испарились иллюзии: кто-то застрелился, кто-то запил. Кто-то спешно писал доносы на вчерашних друзей. Но Ха был спокоен.
– Мы успели, – повторял он.
После ареста патрона он, как и многие генералы ГБ, стал уязвим. У нас больше не было тыла, поддержки наверху. Я умоляла Ха и Адр скрыться.
– Необходимо бороться здесь, – возражал Ха.
– Мы прошли через три чистки, с помощью Света пройдем и через хрущевскую, – улыбался Адр.
Но мое сердце беспокоилось. На нас наползало что-то. Я кричала им о близкой беде. Но все мои доводы разбивались об их мужество.
Зато они оба постоянно хотели мое сердце, предчувствуя, что нам осталось не много времени. Днем мы делали дело. Ночью застывали грудь с грудью, сердце с сердцем.
Их сердца неистовствовали.
Мои руки не успевали обвиваться вокруг их шей, колени дрожали, тело пылало.
Жена Ха обливала меня водой, била по бледным щекам.
Я была счастлива.
За эти душные июльские ночи Ха и Адр узнали от моего сердца все 23 сердечных слова.
И обрели Свет.
Навеки.
17 июля они были арестованы.
Это произошло днем. Я спала в захламленной комнате старой Юс, которую мы отправили в Крым с двумя молодыми братьями. Меня разбудило мое сердце. Оно было НИКАКОЕ.
Цепенящий ужас охватил меня. Я встала, оделась, вышла на улицу. Пошла пешком через залитую солнцем Москву к Белорусскому вокзалу. Пожалуй, впервые за время моего возвращения в Россию я почувствовала сосущую пустоту в сердце.
Я двигалась как машина – без чувств и идей.
Добредя до Белорусского, я постояла на шумной платформе, глядя на поезда, потом прошла к кассам поездов дальнего следования. Отстояла очередь.
– Вам куда? – спросила меня кассирша.
– Мне… – Я с огромным трудом заставила себя подумать и решила ехать туда, где ЛЕД, где наш ЛЕД. А где наш божественный ЛЕД? В бескрайней Сибири.
– Мне в Сибирь, – твердо сказала я, протягивая деньги в окошко.
– Ну, Варвара Федотовна, зачем же за это деньги платить? – раздался насмешливый голос у меня над ухом. – Мы вас в Сибирь за казенный счет отправим.
Меня с силой взяли под руки двое мужчин.
– Гражданка Коробова, вы арестованы, – произнес другой голос.
Через пару часов меня уже допрашивали в Лефортово…В тот день были арестованы шесть сподвижников Берия, шесть высокопоставленных генералов МГБ, одним из которых был Ха. Параллельно шли аресты гэбистов невысокого ранга, так или иначе связанных с Берия и его людьми.
– Что вас связывало с генералом Влодзимирским? – первое, что спросил меня следователь Федотов.
– С генералом меня ничего не связывает, – честно ответила я, видя Федотова сердцем: ранние роды на сенокосе, сирота, трудное детство, слезы, побои, морской флот, любит воду, любит коньяк, любит сношать толстух и заставлять их повторять матерные слова, любит пляжный волейбол, любит во время испражнения думать о Сатурне, боится пауков и ножниц, боится опаздывать на работу, боится потерять документы, любит харчо, любит вспоминать наркома Ежова, любит делать кораблики весной, любит Гагры, любит бить по лицу и почкам.
– А это что такое? – он показал мне фотографию.
Я по-прежнему не видела никаких изображений. Посреди глянцевой бумаги мерцали два слившихся пятна.
– Это что, я вас спрашиваю?
– Я не вижу, – призналась я.
– Будем дурочку валять? – зло засопел Федотов.
– Я действительно не вижу изображений на фотоснимках, не только на этом. Вот у вас висит портрет. – Я кивнула на темное пятно в красной рамке. – Я не вижу, кто это.
Федотов зло смотрел на меня. Полноватое лицо его медленно наливалось кровью:
– Это Владимир Ильич Ленин. Не слыхали про такого?
– Слышала.
– Неужели? – всплеснул он сильными руками и зло захохотал.
Я молчала.
– Влодзимирский и ваш муж Коробов – друзья Берия. А Берия, да будет вам известно, агент иностранных разведок. Он уже дал показания. На Влодзимирского в том числе. Я предлагаю вам честно рассказать о преступной деятельности Влодзимирского и Коробова.
– Генерала Влодзимирского я не знала близко.
– Вы не знали близко Влодзимирского? А на этом фото он вас лапает. Голую.
– Я повторяю, генерала Влодзимирского я не знала. Зато я хорошо знала его сердце.
– Чего?
– И на этой фотографии запечатлен момент, когда наши сердца говорят на тайном языке.
– То есть вы признаете, что были его любовницей?
– Ни в коем случае. Я была его сердечной сестрой.
– И ни разу не спали с ним?
– Спала много раз. Но не как земная женщина. А как сердечная сестра. Сестра Вечного и Изначального Света.
– Сестра Света? – зловеще усмехнулся Федотов. – Что ж ты врешь, пизда гнилая?! Сестра, блядь! Да на тебе пробы негде ставить, подстилка! В какие дыры он тебя харил, проблядь полковая?! Вы же все из одной банды, шпионы бериевские! Свили гнездо гадючье в МГБ, сплелись, гады ползучие! Говори, блядь, правду!
Он ударил меня по лицу.
Я молчала. И смотрела на него.
Он деловито засучил рукава:
– Щас ты у меня все вспомнишь, манда.
Вышел из-за стола, схватил меня левой рукой за волосы. Правой стал умело бить по щекам. Наверно, он ждал, что я, как большинство мясо-машинных женщин, закричу и, закрывая лицо, начну молить о пощаде.
Но я даже не подняла рук.
Я смотрела ему в глаза.
Он размашисто бил меня по щекам. Его грубые ладони пахли табаком, одеколоном и старой мебелью.
– Гово-ри! Гово-ри! Гово-ри! – бил он.
Голова моя моталась, в ушах звенело.
Но я не отводила взгляда от его маленьких рысьих глазок.
Он перестал бить, вплотную приблизил свое раскрасневшееся лицо к моему:
– Что, смелая? Я из тебя отбивную сделаю, посолю, поперчу и тебя же сожрать заставлю! Чего молчишь, зассыха?
Внутри он был абсолютно счастлив. Сердце его пело, в лысоватой голове вспыхивали и гасли оранжевые сполохи.
Я молчала.
На двух первых допросах он орал и хлестал меня по щекам. Потом появился второй следователь – Ревзин. Поначалу тот пытался разыграть «доброго», вел задушевные разговоры, просил «помочь органам разоблачить бериевскую банду». Я же говорила только правду: братство, Ха и Адр, двадцать три слова.
Я это делала, потому что мое сердце было абсолютно уверено – наши тайны им не пригодятся. Мясным машинам не нужна была правда – они в упор не видели ее, не различали Божественного Света.
Мне же было невероятно приятно говорить правду, наслаждаться ею.
Они матерились и посмеивались.
Наконец им надоело слушать про пение сердец. Они раздели меня, привязали к скамье и принялись сечь резиновым жгутом. Секли по очереди, не торопясь. Один сек, другой орал или тихо уговаривал одуматься.
Конечно, я чувствовала боль.
Но не как раньше, когда я была мясной машиной. Раньше от этой боли некуда было деться. Потому что боль была хозяином моего тела. Теперь моим хозяином было сердце. А до него боль не могла дотянуться. Она жила отдельно. Я ощущала ее сердцем в виде красной змеи. Змея ползала по мне. А сердце пело, дурманя змею. Когда она ползала слишком долго, сердце сжималось, вспыхивая фиолетовым. И я теряла сознание.
Они обливали меня водой.
Пока я приходила в себя, они курили.
Потом простые руки их снова брались за жгут.
Все повторялось.
Я молчала. Сердце пело. Красная змея ползала.
Вода текла.
Потом следователи устали.
Меня отнесли в камеру. И я заснула.Я очнулась от лязга. Дверь открылась, в камеру вошли трое: Ревзин, врач и какой-то подполковник. Врач осмотрел мои распухшие и посиневшие от побоев бедра и ягодицы, деловито кивнул:
– Нормально.
Ревзин позвал двух конвоиров. Они подхватили меня под руки и поволокли по коридору, потом по лестницам – наверх, в тот же кабинет. Там было светло – солнечные лучи били в окно, сияли в хрустальной чернильнице, в медной дверной ручке, в глазах и пуговицах Ревзина. А на стене в красной рамке клубился невидимый Ленин.
Вошел маленький злой Федотов со жгутами. Они снова привязали меня к скамейке. Взяли два жгута и стали сечь одновременно по распухшим бедрам.
Две красные змеи поползли по мне. Они стали оранжевыми. Потом ослепительно желтыми. В голове моей запело желтое солнце:
– Говори правду! Гово-ри! Гово-ри! Гово-ри!
Но я уже сказала им правду.
Чего же они хотели от меня?
Янтарные змеи свивались в свадебные кольца. Им было хорошо на моем теле.
Мой пот залил мне глаза.
Сердце вспыхнуло фиолетовой радугой: оно почувствовало, что мое тело разрушается.
И сердце помогло телу: мозг отключился, я потеряла сознание.Очнулась на полу.
Надо мной нависала Настя Влодзимирская. Ее держали под руки и за волосы, чтобы голова не упала на грудь. Она была не просто избита, а измочалена.
– Подтверждаешь? – спросил ее какой-то толстый майор, любитель кошек, пюре и золотых часов.
Из разбитого рта Насти раздался клекот. И что-то капнуло мне на голову.
– Ну вот! – Майор с радостной злобой переглянулся с Ревзиным.
– А ты говоришь – сестра! – пнул меня новым сапогом Федотов.
– Тут, Коробова, не дубы сидят, – смотрел сверху Ревзин. – Забыла, что мы профессионалы. Все раскопаем.
– Они дома только по-английски говорили, – доверительно сообщил Федотову майор. – Ай го ту слип, май суит леди!
Они захмыкали. И заскрипели портупеями.
Я закрыла глаза.
– Чего ты прикидываешься? – пнул меня Федотов.
Я открыла глаза. Толстого майора и Насти не было.
– В общем, Коробова, вот твои показания, – Ревзин поднес мне листы, исписанные детским почерком. – Подпишешь – пойдешь в больничку, потом в лагерь. Не подпишешь – пойдешь на тот свет.
Я закрыла глаза. Прошептала:
– Цель моей жизни – пойти на тот свет. На Наш Свет…
– Заткнись, падло! Не прикидывайся сумасшедшей! – прорычал Федотов. – Прочти ей, Егор Петрович.
Ревзин забормотал:
«Я, Коробова Варвара Федотовна, 29-го года рождения, вступив в половую связь с генерал-лейтенантом Влодзимирским Л. Е., была завербована им в 1950 году в качестве связной между военным атташе американского посольства Ирвином Пирсом и бывшим министром МГБ Абакумовым В. С. Моим первым заданием было встретиться с Пирсом 8 марта 1950 года на лодочной станции в парке им. Горького и передать ему чертежи…»
– Это не про меня, – перебила я его.
– Про тебя! Про тебя, пизда!! – зарычал Федотов.
– Подписывайте, Коробова, не валяйте дурочку!
– Я не Коробова. Мое настоящее имя – Храм. Я закрыла глаза.
И янтарные змеи снова поползли по мне.Очнулась я на гинекологическом кресле. Оглушительно пахло нашатырем.
– Она девственница, – раздалось у меня между ног.
Врач выпрямился, стал сдирать резиновые перчатки. Он был большой и в очках. Боялся матери, собак и ночных звонков. Любил щекотать жену до икоты. Любил крабы, бильярд и Сталина.
– А чего ж… делать-то? – пробормотал Федотов у меня над ухом.
– Не знаю. – Врач исчез.
– Я не вас спрашиваю! – злобно прошипел Федотов.
– А кого же? Себя? – засмеялся врач, гремя инструментами.
Мне в плечо вонзилась игла. Я скосила глаза: сестра делала укол.
Разведенные ноги мои были сине-желтого цвета. Кровоточили ссадины.
Глаза наполнились влагой. И я захотела спать.
– Ну что? – страшно зевнул врач.
– В больничку, – задумчиво кивнул Федотов.В тюремной больнице я пролежала неделю.
В палате находились еще шесть женщин. Двое после пыток, четверо с воспалением легких. Они непрерывно говорили между собой о родственниках, еде и лекарствах.
Меня лечили: мои ноги и ягодицы мазали пахучей мазью.
Врачи и медсестры почти не разговаривали с больными.
Я смотрела в окно и на женщин. Про каждую я знала все. Они были не интересны мне.
Я вспоминала НАШИХ.
И их СЕРДЦА.
Когда я встала, меня повели на допрос.
Кабинет был тот же, но следователь новый. Шереденко Иван Самсонович. Тридцатипятилетний, стройный, подтянутый, с красивым лицом. Больше всего на свете он боялся: видеть во сне белую башню и умереть на службе от сердечного приступа. Очень любил: охоту, яичницу с салом и дочь Аннушку.
– Варвара Федотовна, ваши бывшие следователи были мерзавцами. Они уже арестованы, – сообщил он мне.
– Неправда, – ответила я. – Федотов сейчас обедает в буфете на Лубянке, а Ревзин идет по улице.
Он внимательно посмотрел на меня:
– Варвара Федотовна, давайте поговорим как чекист с чекистом.
– Я никогда не была чекистом. Я просто носила вашу форму.
– Не говорите глупости. Вы работали с подполковником Коробовым…
– Я работала не с ним, а с его сердцем. Теперь оно знает все двадцать три слова.
– Вы ездили в командировку по заданию министра ГБ, вы посещали лагерь № 312/500, где добывают…
– Лед, посланный нам Космосом, для пробуждения живых.
– Начальник лагеря, майор Семичастных, арестован и дал показания на полковника Иванова, вас и вашего мужа. Вы втроем выбили фальшивые показания у лейтенанта Волошина, чтобы скрыть истинные дела Абакумова и Влодзимирского. Это нужно было для того…
– Чтобы лагерь продолжал добывать Божественный Лед, которого ждут тысячи наших братьев и сестер во всем мире. Тысячи ледяных молотов будут изготовлены из этого льда, они ударят в тысячи грудей, тысячи сердец проснутся и заговорят. И когда нас станет двадцать три тысячи, сердца наши двадцать три раза произнесут двадцать три сердечных слова и мы превратимся в Вечные и Изначальные Лучи Света. А ваш мертвый мир рассыплется. И от него не останется НИЧЕГО.
Он внимательно посмотрел на меня. Нажал кнопку звонка. Вошел конвойный.
– Увести, – сказал следователь Шереденко.Меня освидетельствовал психиатр – маленький, круглый, с мясистым носом и женскими руками. Он очень многого боялся: детей, кошек, разговоров о политике, сосулек, начальства, даже старых шляп, которые «на что-то упорно намекают». А по-настоящему любил только: играть в нарды, спать и писать доносы.
Мягким бабьим голоском он просил меня вытягивать перед собой руки, смотреть на его молоточек, считать до двадцати, отвечать на дурацкие вопросы. Потом он постучал молоточком по моим коленкам и снял трубку черного телефона:
– Товарищ Шереденко, это Юревич. Она абсолютно здорова.
После этого Шереденко заговорил со мной по-другому:
– Коробова, два вопроса: почему у вас с вашим мужем не было половых отношений? И что вы с мужем так часто делали на даче генерала Влодзимирского?
– Нам с Адр не нужны половые отношения. У нас есть сердечные. На даче у Ха мы предавались сердечному общению.
– Хватит прикидываться сумасшедшей! – Он стукнул ладонью по столу. – Когда вас с мужем завербовал Влодзимирский? Что вы должны были делать?
– Будить братьев и сестер.
– Будить? – зловеще переспросил он. – По-хорошему, значит, не хочешь. Ладно. Тебя сейчас тоже разбудят.
Он снял трубку телефона:
– Савельев, давай овощи-фрукты.
Появились конвойные. Меня вывели во двор. Шереденко шел следом.
Во дворе стояли машины. И грело солнце.
Меня подвели к темно-зеленому фургону с надписью «Свежие фрукты и овощи». Я с конвойными села внутрь фургона, Шереденко – в кабину с водителем. Фургон тронулся. Внутри было темно, свет проникал только сквозь щели.
Ехали недолго. Остановились. Дверь открыли, конвойные вывели меня. И сразу повели вниз по лестнице в подвал. Шереденко шел следом.
Подошли к металлической двери с глазком, конвойный стукнул в нее. Дверь отворилась. Дохнуло холодом. Нас встретил усатый надзиратель в тулупе до пола. Повернулся, пошел. Меня повели следом. Он открыл еще одну дверь, меня втолкнули внутрь небольшой квадратной, совершенно пустой камеры. Дверь захлопнулась, лязгнула задвижка. И Шереденко сказал сквозь дверь:
– Поумнеешь – стучи.
Камеру освещала тусклая лампа. Одна из стен камеры была металлической. На ней белел налет инея.
Я села в угол.
В металлической стене что-то слабо гудело. И еле слышно переливалось.
Поняла: холодильник.
Закрыла глаза.
Холод нарастал медленно. Я не сопротивлялась.
Если красные змеи порки ползали по поверхности моего тела, холод проникал внутрь. Он забирал мое тело по частям: ноги, плечи, спину. Последними сдались руки и кончики пальцы.
Осталось только сердце. Оно билось медленно.
Я чувствовала его как последний бастион.
Очень хотелось провалиться в долгий белый сон. Но что-то мешало. Я не могла заснуть. И грезила наяву. Мое сердечное зрение обострилось. Я видела коридор подвала с прохаживающимся конвоиром. В других холодильниках сидели еще восемь человек. Им было очень плохо. Потому что они сопротивлялись холоду. Двое из них непрерывно выли. Трое приплясывали из последних сил. Остальные лежали на полу в эмбриональных позах.
Время перестало существовать.
Был только холод. Вокруг моего сердца.
Иногда дверь отворялась. И усатый конвоир что-то спрашивал. Я открывала глаза, смотрела на него. И снова закрывала.
Однажды он поставил рядом со мной кружку с кипятком. И положил кусок хлеба. Из кружки шел пар. Потом он перестал идти.
Узники в камерах менялись: мясные машины не выдерживали холода. И признавались во всем, чего от них требовали следователи. Их выносили из камер как мороженых кур.
В холодильники загоняли новых, они приплясывали и выли.
Мое сердце билось ровно. Оно было само по себе. Но чтобы не остановиться, ему нужна была работа.
И я помогала ему работать.
Я непрерывно смотрела сердцем во все стороны: иней, железная стена, коридор, камеры, стены, крысы на помойке, улица, троллейбус, мясные машины, едущие на работу и с работы, карманник, вытаскивающий кошелек у старухи, пьяный, падающий на тротуар, шпана в подворотне с гитарой, пожар на заводе, выпускающем утюги, заседание парткома автодорожного института, половые акты в женском общежитии, раздавленная трамваем собака, молодожены, выходящие из загса, очередь за вермишелью, футбольный матч, гуляющая в парке молодежь, хирург, зашивающий теплую кожу, ограбление продуктовой палатки, стая голубей, кондуктор, жующий бутерброд с копченой колбасой, инвалиды на вокзале, улица, железная стена, иней.
Вокруг меня со всех сторон окружал город.
Город мясных машин.
И в этом мертвом месиве красными угольками горели сердца НАШИХ:
Ха.
Адр.
Шро.
Зу.
Мир.
Па.
Уми.
Все те, кто остался в Москве.
Я видела их. И говорила с ними. О Царстве Света.
Вошел Шереденко.
Он говорил и кричал. Его каблуки топали по мерзлому полу. Он тряс бумагами. И сморкался. А я смотрела на его мертвое сердце. Оно работало как насос. Перекачивало мертвую кровь. Которая двигала мертвое тело следователя Шереденко.
Я закрыла глаза. И он исчез.
Потом я снова увидела НАШИХ. Их сердца светились. И плыли вокруг меня. Их становилось все больше. Я дотягивалась до новых и новых, до совсем далеких. И наконец, я увидела сердца ВСЕХ НАШИХ на этой угрюмой планете. Мой квадратный холодильник парил в пространстве. А вокруг созвездиями плыли сердца. Всего их было 459. Так мало! Зато они светили мне и говорили со мной на НАШЕМ языке.
И я была счастлива.Мне больно прижгли щеки.
Я очнулась. Больничная палата. Потолок с шестью плафонами. Сестра прикладывала мне что-то к лицу. Полотенце, смоченное горячей водой. Запах спирта. След от укола на локтевом сгибе. Бесшумно вошел какой-то полковник. Сестра и полотенце исчезли. Скрипнул стул. И сапог.
– Как вы себя чувствуете?
Я закрыла глаза. Видеть мир сердцем мне было приятнее.
– Вы можете говорить?
– О чем? – с трудом произнесла я. – О том, что вы боитесь утонуть? Вы же дважды тонули, правда?
– Откуда вы знаете? – неловко усмехнулся он.
– Первый раз в Урале. Вы поплыли с тремя мальчиками, отстали и у моста попали в водоворот. Вас спас какой-то военный. Он тянул вас за руку и повторял: «Держись, залупа конская, держись, залупа конская…» А второй раз вы тонули в Черном море. Вы нырнули с пирса. И поплыли к берегу, как обычно. Вы никогда не плыли в море, от берега. Но вслед за вами нырнула бездомная собака, любимица пляжа. Она почувствовала, что вы боитесь утонуть, и с лаем поплыла рядом, стараясь помочь. Это вызвало у вас панику. Вы замолотили руками по воде, рванулись к берегу. Собака лаяла и плыла рядом. Страх парализовал вас. Вы были уверены, что она хочет утопить вас. И вы стали захлебываться. Вы видели свою семью – жену в шезлонге и дочь с мячом. Они были совсем рядом. Вы глотали соленую воду, пускали пузыри. И вдруг коснулись ногами дна. И встали. Тяжело дыша и кашляя, вы заорали на собаку: «Пошла вон, тварь!» И плескали на нее водой. Она вышла на берег, отряхнулась и побежала к палатке, где однорукий Ашот жарил шашлыки. А вы стояли по пояс в воде и плевались.
Он одеревенел. В зеленовато-серых глазах его стоял ужас. Он сглотнул. Вдохнул. И выдохнул:
– Вам надо…
– Что?
– Поесть.
И быстро вышел.
А я впервые вспомнила про еду. В камере и в больнице мне совали миски с чем-то серо-коричневым. Но я не ела. Я привыкла есть только фрукты и овощи. Хлеб я не ела с сорок третьего года.
Хлеб – это издевательство над зерном.
Что может быть хуже хлеба? Только мясо.
Пожалуй, впервые за эти две недели я захотела есть. Позвала медсестру.
– Я не могу есть кашу и хлеб. Но я съела бы неразмолотое зерно. Есть оно у вас?
Она молча вышла, чтобы донести полковнику. Сквозь кирпичную толщу стен я видела, как он, сгорбленный и мрачный, снял телефонную трубку в своем кабинете:
– Зерна? Ну… и дайте, если просит. Только? Дайте овса.
Они принесли мне миску овса.
Я лежала и жевала. Потом спала.
Ночью ко мне пришел полковник. Притворил за собой дверь, присел на краешек койки.
– Я не представился тогда, – тихо заговорил он.
– В этом нет необходимости. Вы – Лапицкий Виктор Николаевич.
– Я понял, я понял… – махнул он рукой. – Вы все знаете про меня. И… про всех, наверно.
Я смотрела на него. Он расстегнул ворот кителя, судорожно вздохнул и зашептал:
– Не бойтесь, здесь не подслушивают. Вы… вы можете сказать: меня арестуют или нет?
– Не знаю, – честно ответила я.
Он помолчал, потом скосил глаза в сторону и быстро зашептал:
– Я уже восемь суток не спал. Восемь! Не могу заснуть. С барбиталом засыпаю на час и вскакиваю как сумасшедший. У нас большие перемены. Идут аресты. Метут всех, кто работал с Берия и Абакумовым. А кто с ними не работал? Вы же тоже работали.
– Я работала на нас.
– Двое моих друзей из третьего отдела арестованы. Масленников покончил с собой. Масленников! Понимаете? Метет хрущевская метла… М-да…
Я молчала. Сердце знало, чего он хочет. Он вспотел:
– Я пережил две чистки – в 37-м и в 48-м. Чудом уцелел, не попал под колесо. Переживать еще одну у меня просто сил нет. Знаете, я не спал восемь суток. Восемь!
– Вы уже говорили.
– Да, да.
– Чего вы хотите от меня?
– Я… я хочу… я знаю – вы реальный разведчик. Реальный агент. Кого – не знаю. Думаю – американцев. Но – реальный, настоящий разведчик! Не те липовые, которых сотнями пекут наши костоломы, чтобы сдать дело. Я предлагаю вам договор: я вывожу вас отсюда, а вы помогаете мне уйти за границу.
– Я согласна, – быстро ответила я.
Он был удивлен. Вытерев пот со лба, он зашептал:
– Нет, вы поймите, это не дешевая провокация и не… не бред невыспавшегося чекиста. Я реально предлагаю вам это.
– Понятно. Я же сказала – согласна.
Лапицкий глянул пристально. В лихорадочных глазах его появился смысл.
– Я был уверен! – прошептал он с восторгом. – Не знаю… не понимаю – почему, но я был уверен!
Я посмотрела в потолок:
– Я тоже была уверена, что выйду отсюда.
И это была правда.Полковник Лапицкий вывел меня из следственного изолятора в Лефортово 18 августа 1953 года.
Шел мелкий дождь. На служебной машине полковника мы доехали до Казанского вокзала, где он ее навсегда бросил. Потом сели на электричку и поехали в подмосковный поселок Быково. Там на даче родственников сестры Юс жили Шро и Зу.
Они встретили меня восторженно, но не как умершую и воскресшую: их сердца знали, что я жива.
Задушив полковника Лапицкого, мы на двое суток предались сердечному общению. Мое истосковавшееся сердце неистовствовало. Я пила и пила своих братьев. До изнеможения.
Закопав ночью труп Лапицкого, мы утром покинули Москву.
Через трое суток в Красноярске на вокзале нас встречали Ауб, Ном и Рэ. Всех их мы с Адр вернули к жизни в подвале Большого Дома.
Так я оказалась в Сибири.
Темным декабрьским утром мое сердце дважды содрогнулось от боли: в далекой Москве расстреляли Ха и Адр. Мясные машины навсегда остановили их горячие и сильные сердца.
И мы не смогли помешать этому.Прошло шесть лет.
Я вернулась в Москву.
Трое братьев умерли своей смертью. Умерла и старая Юс. Свет Изначальный, сиявший в них, воплотился в другие тела, только появившиеся на земле. И нам предстояло найти их заново.
Лагерь по добыче ЛЬДА распустили. Профессоров, обосновавших важность изучения «тунгусского ледяного феномена», посмертно окрестили лжеучеными, секретный проект «Лед» был ликвидирован. Ликвидировали и «шарашку», где изготовляли ледяные молоты.
Тем не менее братство крепло и росло. Запасов льда, добытого еще в сталинские времена, хватало на все. В 1959-м мы были благодарны зекам лагеря № 312/500. Своими кирками они заложили необходимую ледяную базу. Кубометры льда спали в холодильниках и подземных хранилищах, ожидая своего часа. Часть льда уходила за границу по старым каналам МГБ. Из оставшегося льда мы делали ледяные молоты.
Их пускали в дело редко, так как поиск НАШИХ сузился. Он стал более локальным. Теперь без поддержки МГБ мы искали своих осторожно, тщательно готовясь к простукиванию. Вокзалы, кинотеатры, рестораны, концертные залы и магазины были главными местами нашего поиска. Русых людей с голубыми глазами выслеживали, похищали и простукивали. Но больше всего нам везло почему-то в библиотеках. Там всегда сидели тысячи мясных машин и занимались молчаливым безумием: внимательно перелистывали бумажные листы, покрытые буквами. Они получали от этого особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Толстые потертые книги были написаны давно умершими мясными машинами, портреты которых торжественно висели на стенах библиотек. Книг были миллионы. Их непрерывно размножали, поддерживая коллективное безумие, чтобы миллионы мертвецов благоговейно склонились над листами мертвой бумаги. После чтения они становились еще мертвее. Но среди этих оцепеневших фигур были и наши. В громадной Библиотеке имени Ленина мы нашли восьмерых. В Библиотеке иностранной литературы – троих. В Исторической – четверых.
Братство росло.
К зиме 1959-го в России нас было уже 118.Наступили бурные шестидесятые.
Время потекло быстрее.
Появились новые возможности, открылись перспективы.
Наши стали продвигаться по службе, занимать ответственные посты. Братство снова проникало в советскую элиту, но теперь снизу. У нас появились три новых брата в Совете Министров и один в ЦК КПСС. Сестра Чбе стала министром культуры Латвии, братья Энт и Бо заняли руководящие посты в Министерстве внешней торговли, сестра Уг вышла замуж за командующего войсками ПВО, брат Не стал директором Малого театра.
И самое главное – братья Ауб, Ном и Мир организовали в Сибири научное общество по изучению ФТМ (феномена тунгусского метеорита). Оно было поддержано в Академии наук и существовало на государственные деньги. Почти ежегодно к месту падения снаряжались экспедиции.
И ледяные глыбы снова потекли в Москву.
Мы работали.В семидесятые могущество братства усилилось.
Обретенный брат Леч стал директором СЭВ. Самое поразительное, что его дочь и внук тоже оказались нашими. Это был первый случай, когда семья была живой. Леч, Март и Борк стали оплотом братства в советской номенклатуре. СЭВ заработал на нас. Благодаря Леч мы установили тесные контакты с нашими в Восточной Европе. Мы стали поставлять им лед напрямую, минуя сложно законспирированные каналы, созданные Ха еще при Сталине.
Я заняла небольшую руководящую должность в СЭВ.
Это позволило мне часто выезжать в соцстраны. Я увидела лица наших европейских братьев. Я познала их сердца. Говоря на разных земных языках, мы прекрасно понимали друг друга.
Мы знали, ЧТО делать и КАК.
Братство росло.
В 1980-м в России нас стало 718.
А в мире – 2405.Восьмидесятые принесли много хлопот и неприятностей.
Умер Брежнев. И началось традиционное для России перераспределение власти. Четверо наших потеряли большие посты в ЦК КПСС и в Совмине. Трое из Госплана были понижены в должности. Брат Ёт, видный функционер ВЦСПС, был исключен из партии «за протекционизм» (он слишком активно продвигал наших в руководство профсоюзами). Двое братьев из Внешторга попали под кампанию борьбы с коррупцией и были осуждены на длительные сроки. Сестры Фэд и Ку потеряли посты в ЦК комсомола за «аморальное поведение» (их застали за сердечным разговором). А Шро, мой верный и решительный, был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений (один из простукиваемых вырвался, убежал и донес).
Но Леч уцелел.
И двое наших, Уы и Им стали полковниками КГБ.
Лед добывали и экспортировали в 28 стран.
И ледяные молоты стучали в сердца.Умерли Андропов и Черненко.
Пришел Горбачев.
Началась эпоха Гласности и Перестройки.
СССР стал разваливаться. Был упразднен СЭВ. И почти сразу умер Леч. Это была большая потеря для нас. Наши сердца горячо простились с великим Леч. Для братства он сделал очень много.
Партия все больше и больше теряла власть в стране. В верхних эшелонах власти началась паника: советская номенклатура чувствовала в надвигающейся демократизации смертельную опасность, но сделать ничего не могла.
Возникло частное предпринимательство. Наиболее умные представители номенклатуры стали переходить в бизнес. Пользуясь старыми связями, они быстро делали деньги.
НАШИ тоже быстро сориентировались. Было решено создавать торговые фирмы, банки и акционерные общества.
В августе 1991-го рухнул СССР.
По иронии судьбы в тот день мы с тремя братьями оказались на Лубянской площади и наблюдали за сносом памятника Дзержинскому. Когда его обвязали стальными тросами и подняли в воздух, я вспомнила арест, мою камеру-холодильник, допросы, янтарных змей, злые лица и мертвые сердца следователей.
Демонтажем памятника руководил белобрысый парень в тельняшке и танкистском шлеме. У него были голубые глаза. Мы познакомились, а через пару часов в специально оборудованном подвале мы простучали Сергея. И сердце его назвало истинное имя: Дор.
Так Дзержинский помог нам найти брата.Понеслись стремительные девяностые.
Началась веселая и страшная эпоха Ельцина.
Для братства настало золотое время. Мы добились того, о чем мечтали: прочно вошли во власть, создали мощные финансовые структуры, основали ряд совместных предприятий.
Но главным успехом братства стало проникновение наших в высшие властные структуры.
Брат Уф, обретенный в конце семидесятых в Ленинграде, за два года сумел сделать фантастическую карьеру: от доцента инженерно-экономического института до вице-премьера в российском правительстве. Он руководил экономическими реформами и приватизацией государственной собственности. Продажа сотен заводов и фабрик шла через руки Уф. Практически в первой половине 90-х он был хозяином недвижимости России.
Невозможно переоценить его вклад в дело братства. Благодаря рыжему Уф мы стали по-настоящему экономически свободными. Вопрос денег для нас был навсегда решен. А деньги на планете мясных машин двигали все.
Я боготворила рыжего Уф.
Его небольшое, но неистовое сердце часто говорило с моим.
Уф возглавил радикальное крыло братства. Радикалы старались любыми средствами увеличить количество наших и дожить до Великого Преображения.
В отличие от них, мы не были столь эгоистичны и работали на грядущие поколения.
Но Уф своим великим экономическим рывком приблизил будущее: к 1 января 2000 года НАС во всем мире стало 18 610.
И я впервые поверила, что ДОЖИВУ!
Узким кругом мы справляли Новый год в загородном доме Уф. Это был единственный приемлемый для нас праздник из всех праздников мясных машин: ведь каждый новый год приближал час Великого Преображения.
После недолгого сердечного разговора мы сидели на ковре вокруг горы фруктов и молча ели. Мы вообще старались не разговаривать на языке мясо-машин.
И вдруг Уф замер со сливой в руке. Серо-синие глаза его прищурились, маленький упрямый рот приоткрылся:
– Через год и восемь месяцев мы все станем лучами света!
Я замерла. Замерли и остальные.
Уф обвел нас пронзительным взглядом. И добавил твердо:
– Я знаю!
Вмиг глаза его увлажнились, губы задрожали, слива выпала из пальцев. Слезы потекли по его щекам.
Я бросилась к нему, обняла.
И, обливаясь слезами, стала целовать его веснушчатые руки.Я проснулась, как обычно, утром.
От нежных прикосновений сестры Тбо. Ее руки гладили мое лицо.
И я сразу вспомнила: сегодня особый день. День Приветствия.
Я открыла глаза: моя просторная спальня с нежно-голубыми стенами и золотистым потолком, голубоглазое лицо Тбо, ее мягкие руки. Зазвучала тихая музыка. Тбо сняла с меня одеяло. Я перевернулась на живот. Руки сестры стали массировать мое немолодое тело.
Неслышно вошли братья Мэф и Пор. Дождавшись окончания массажа, они подняли меня и понесли в ванную комнату. Там мне помогли освободить кишечник и мочевой пузырь. Затем меня погрузили в ванну из бурлящего коровьего молока. Минут через десять меня вынули, смыли молоко, растерли грудь кунжутным маслом, наложили на лицо маску из спермы юных мясных машин. Сестра Вихе уложила мои волосы, сделала макияж. Я переместилась в платяную комнату, где Вихе помогла мне выбрать платье на сегодняшний день.
Для особого дня я одеваюсь во все голубое. Я выбрала платье сдержанно-голубого крепдешина, таблетку голубого шелка с голубой вуалью, голубые лакированные сапожки, серьги и браслет из бирюзы.
Меня перенесли в столовую.
Большая, полукруглая, она была выдержана в тех же золотисто-голубых тонах. Белые розы и лилии стояли в четырех золотых вазах. За широкими окнами зеленел еловый лес.
Восседая за сервированным золотом столом, я протянула руки. Мэф и Пор сразу же обернули их теплыми влажными салфетками. Брат Рат подал блюдо с тропическими фруктами. Вошел один из шести моих секретарей – брат Га. Стал читать сводки.
Слушая его, я неторопливо ела.
Он кончил читать и удалился.
Завершив трапезу, я снова протянула руки. И снова две влажные салфетки бережно обтерли их.
Меня перенесли в зал для сердечного общения. Он был круглым, без окон. Стены в зале были отделаны голубой яшмой.В центре зала на коленях стояли трое голых братьев. Я опустилась на колени рядом с ними. Руки их обняли меня.
Сердца наши заговорили.
Я учила их словам.
Но не долго: объятия наши разжались со сладостным стоном, меня перенесли в комнату отдыха.
Тихая, с золотисто-голубой мягкой мебелью, комната была пропитана восточными благовониями. Пока я полулежала в мягком кресле, мне массировали руки. Затем я выпила чай из алтайских трав.
Вошел секретарь.
Я поняла: пора.
Меня вынесли из дома. Перед мраморным крыльцом стояла моя темно-синяя бронированная машина и две машины охраны. Было солнечно и по-весеннему свежо. Остатки снега сошли, зеленая травка пробивалась на газонах. Дятел стучал по сухой ветке. Садовник Эб восстанавливал пирамиду в каменном саду. Охранник с автоматом прогуливался возле ворот.
Меня усадили в машину.
И мы поехали в Москву.
Тяжелый лимузин бесшумно несся, мягко покачивая меня. Я смотрела в окно. Я обожала Подмосковье, это удивительное сочетание дикой природы и дикого жилья. Здесь земная жизнь казалась мне менее ужасной. Дорога неслась сквозь массивы леса, среди деревьев мелькали силуэты дач. Так они мелькали и сорок лет назад. В Подмосковье ничего не изменилось с тех самых сталинских лет. Только заборы стали повыше и побогаче.
Зато Москва сделалась совсем другой. Она расползлась. Ее стало слишком много.
По Рублевскому шоссе мы ехали мимо белых панельных домов. Мясо-машины считают их уродливыми, предпочитая дома из кирпича. Но что вообще такое – дом человеческий? Страшное ограниченное пространство. Воплощенное в камне, железе и стекле желание спрятаться от Космоса. Гроб. В который человек вываливается из материнской утробы.
Они все начинают свою жизнь в гробах. Ибо мертвы от рождения.
Я смотрела на окна панельных домов: тысячи одинаковых гробиков.
И в каждом готовилась к смерти семья мясных машин.
Какое счастье, что МЫ другие.
Проехав по Мосфильмовской улице, лимузин свернул к Воробьевым горам. Здесь было, как всегда, пусто и широко. Только памятником сталинскому времени высился МГУ.
Несколько плавных поворотов – и мы подъехали к нашей реабилитационной клинике. Ее построили пять лет назад. В ней лежали обретенные братья и сестры. Здесь им врачевали раны от ледяных молотов.
Сестра Харо подкатила к моей машине кресло. Мне помогли сесть в него и повезли в клинику. В коридоре меня встретили опытные Мэр и Ирэ. Я приветствовала их сердца всполохом.
– Они готовы, – сообщила Мэр.
Меня отвезли в палату.
Там, на большой белой кровати лежали трое обретенных. Они были измождены сердечным плачем, неделю сотрясавшим их сердца.
Мое сердце стало осторожно теребить эти три проснувшихся сердца.
За полминуты я узнала про них все. Когда они проснулись, я заговорила:
– Урал, Диар, Мохо. Я – Храм. Приветствую вас. Ваши сердца рыдали семь дней. Это плач скорби и стыда о прошлой мертвой жизни. Теперь ваши сердца очистились. Они не будут больше рыдать. Они готовы любить и говорить. Сейчас мое сердце скажет вашим сердцам первое слово на самом главном языке. На языке сердца.
Трое обретенных смотрели на меня.
И мое сердце заговорило с ними.Часть третья
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «LЁD»
1. Распакуйте коробку.
2. Достаньте из коробки видеошлем, нагрудник, мини-холодильник, компьютер, соединительные шнуры.
3. Сразу же включите мини-холодильник в сеть, чтобы лед в нем не растаял. Помните, что аккумулятор способен поддерживать необходимую температуру в мини-холодильнике не более 3-х суток!
4. Ознакомившись с пунктом Противопоказания и убедившись в том, что оздоровительная система «LЁD» не противопоказана Вам, уединитесь в тихой комнате и заприте дверь, чтобы никто не смог Вас побеспокоить во время сеанса. Обнажите верхнюю часть Вашего тела, наденьте нагрудник, застегните крепежные ремни на спине и плечах. Механический ударник должен находится ровно по центру Вашей грудной кости. Откройте мини-холодильник, достаньте один из двадцати трех ледяных сегментов. Освободив сегмент от полиэтиленовой упаковки, вложите лед в гнездо ударника, закрепив его держателем. Соедините комплекс «LЁD» шнурами. Включите штекер питания компьютера в розетку. Сядьте поудобней. Расслабьтесь. Постарайтесь не думать о постороннем. Возьмите в правую руку шнур с кнопками управления . Нажмите кнопку ON. Убедившись, что ударник бьет вас ледяным наконечником в центр грудины, наденьте на голову видеошлем. Сеанс оздоровительной системы «LЁD» продолжается от 2-х до 3-х часов. Если во время сеанса вы почувствуете дискомфорт, нажмите кнопку OFF , она отличается от кнопки ON шероховатым покрытием.
5. После завершения сеанса снимите видеошлем и нагрудник, отключите систему. Приняв горизонтальное положение, постарайтесь расслабиться, думая о Вечности. Успокоившись, встаньте, отсоедините от шлема слезоотсосы, промойте их теплой водой, протрите и вставьте в видеошлем.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Оздоровительная система «LЁD» категорически противопоказана людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами нервной системы, психическими заболеваниями, беременным, кормящим матерям, алкоголикам, наркоманам, инвалидам войны, а также детям, не достигшим 18-летнего возраста.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
1. Мы не рекомендуем Вам проводить более двух сеансов в сутки.
2. Если Вы почувствовали после сеанса дискомфорт, обратитесь в фирму «LЁD». Наши врачи и технологи дадут Вам необходимые рекомендации. Помните, что оздоровительный комплекс предусматривает индивидуальную коррекцию.
3. Если Вы прервали сеанс, удалите неизрасходованный лед из ударника полностью. Для продолжения сеанса Вам необходимо вставить новый сегмент льда.
4. Не подвергайте оборудование воздействию прямого солнечного облучения, влаги и низких температур.
5. Лед для пополнения Вашего мини-холодильника Вы можете приобрести в фирменных магазинах «LЁD».ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ ПЕРВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «LЁD»
Леонид Батов, 56 лет, кинорежиссер.
До сегодняшнего дня я был убежденным и принципиальным врагом прогресса и с подозрением относился ко всем сомнительным новшествам нашего века высоких технологий, которые обещают нам «счастье и быстрый рай». Это было вовсе не из-за моих «зеленых» убеждений. Скорее, это вытекало из самой логики моей жизни и из моего творчества. Я вел довольно уединенный образ жизни, жил в деревне, общался с узким кругом единомышленников. Раз в четыре года я снимал фильм. Мои фильмы многие кинокритики называли «элитарными», «закрытыми», даже «высокомерно маргинальными». Они правы: я всегда ратовал за элитарность в искусстве, за «кино не для всех». Главным врагом своим я считал Голливуд, этот большой «Макдоналдс», заваливший мир кинематографическим фаст-фудом сомнительного качества. Моими кумирами и учителями были Эйзенштейн, Антониони и Хичкок. По политическим убеждениям я был анархистом, поклонником Бакунина и Кропоткина, этих борцов против безликой машины государства. Я активно поддерживал «зеленых», даже принимал участие в двух их акциях. Я родился и вырос в тоталитарном государстве и всегда был внутренне напряжен, ожидая агрессию извне. Почему я говорю сейчас о моих политических убеждениях? Потому что в человеке все взаимосвязано. И этика и эстетика, и еда и отношение к животным. Точно так же я был напряжен и сегодня утром, когда курьер доставил мне систему «LЁD». Представители фирмы-производителя несколько раз звонили мне и долго уговаривали принять этот подарок. Сначала я, естественно, отказался. Я был сыт по горло рекламой этой системы и вообще той шумихи, которая сотрясала наши СМИ последние месяцы. Я повторяю, что я никогда не верил в «быстрый рай» ни в жизни, ни в искусстве. С другой стороны, вопли в СМИ о «крахе мировой киноиндустрии» после выхода системы, сравнение ее с торпедой, способной потопить Голливуд, вызывали у меня некоторое профессиональное любопытство. Короче, получив коробку с системой, я позавтракал, выпил традиционную чашку фруктового чая, сдвинул свое старое кожаное кресло на середину комнаты, сел в него и исполнил все, что написано в инструкции. Надел шлем и нажал кнопку «ON». Перед глазами сначала была тьма непроглядная. Но молоточек со льдом стал равномерно постукивать меня в грудину. Прошла минута, другая. Я сидел, вперясь во тьму. А ледяной молоточек долбил меня в грудь. В этом было что-то трогательное и смешное. Я вспомнил, как в детстве, когда я жил в провинции, у нас в роще жил громадный дятел. Таких больших дятлов никто не видел – ни отец, ни соседи. Большой, черный, с белыми мохнатыми лапами и белой головой. Все ходили в рощу смотреть на громадного дятла. Наконец, кто-то сказал, что это канадский дятел, в России он нигде не водится. Видимо, он улетел из зоопарка или кто-то привез его и не уберег. Работал он как заводной – стучал непрерывно. И так громко, звонко! Я просыпался от его стука. И бежал смотреть на него. А он никого не боялся, был занят своим делом. Мы так привыкли к черному дятлу, что стали звать его Стаханов. А потом кто-то из шпаны с соседней улицы убил дятла камнем. И повесил его вниз головой на дереве. Я так плакал. Может, в тот самый день я и стал «зеленым»… И вдруг, вспоминая мертвого дятла и глядя по-прежнему во тьму, я заплакал. И в сердце стало так горячо и остро, как бывало только в детстве, когда все переживаешь непосредственно. Мне было ужасно жалко дятла и вообще всех живых существ. Слезы потекли из глаз. И в шлеме сразу заработали слезоотсосы. Это было такое приятное чувство, они нежно засасывали слезы. А я содрогался от приступов вселенской жалости. А молоточек все стучал и стучал, и я уже ощущал не удары, а мягкое давление посередине груди. Эти приступы жалости к живому накатывали волнами, как прибой. И каждая волна завершалась слезами, которые тут же исчезали в слезоотсосах. Молоточек застучал быстрее, волны стали накатывать чаще, и на меня обрушилась непрерывная лавина. Водопад жалости. Я просто затрясся в рыданиях. Это было феноменально. Последний раз я так рыдал шестнадцать лет назад, когда умерла мама. Не помню, сколько это продолжалось – полчаса или час. Но у меня не было никакого страха или дискомфорта. Наоборот, было очень приятно рыдать, это очищало душу. Я целиком отдавался этим приступам. Наконец рыдания постепенно закончились, я успокоился. Молоточек стучал так быстро, что казалось, в грудине у меня отверстие до самого сердца. Чувство вселенской жалости сменилось чувством невероятного покоя и благодати. Мне НИКОГДА в жизни не было так спокойно и хорошо! И в этот момент на внутреннем экране шлема перед моими глазами появилось изображение. Вернее, не появилось, а вспыхнуло – ярко, широко и сильно. Передо мной раскинулся скалистый остров в океане. Он воздымался из океана, как плато, и был почти круглой формы, а в диаметре несколько километров. И на краю этого острова стоял я, держась руками за руки рядом стоящих голых людей. За левую руку держалась девушка, за правую пожилой мужчина. В свою очередь, они держались за руки других людей. И все мы образовывали громадный круг, идущий по периметру острова. И я почему-то понял, что нас в круге ровно двадцать три тысячи. Мы стояли, замерев. Внизу плескался океан. Солнце сияло в зените. Ослепительно голубое небо простиралось над нами. Мы все были голые, голубоглазые и русоволосые. И мы с ВЕЛИЧАЙШИМ благоговением ждали чего-то. И это мгновение ожидания величайшего события длилось и длилось. Казалось, время остановилось. И вдруг в моем сердце что-то проснулось. И сердце заговорило на совершенно новом языке. Это было потрясающе! Мое сердце говорило! Я впервые в жизни почувствовал его ОТДЕЛЬНО, как самостоятельный орган. Оно чувствовало всех людей, стоящих в кольце, ощущало сердце каждого из них. И все сердца, все ДВАДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ НАШИХ СЕРДЕЦ заговорили в унисон! Они повторяли некие новые слова, хотя это были не слова в речевом смысле, а некие энергетические всполохи. Эти всполохи нарастали, множились, словно выстраивая невидимую пирамиду. И когда их стало двадцать три, произошло самое потрясающее. Это невозможно передать никаким языком. Весь видимый мир, окружающий нас, стал вдруг таять и бледнеть. Но это было вовсе не как в кино, когда кадр бледнеет из-за широко открытой диафрагмы. Мир действительно ТАЯЛ, то есть распадался на атомы и элементарные частицы. И наши тела вместе с ним. Это было НЕВЕРОЯТНО приятно: великое облегчение после десятилетий земной жизни. Исчезали, исчезали – и вдруг потоки светаГалина Уварова, 38 лет, депутат Государственной думы. Вчера я получила неожиданный подарок от фирмы «LЁD» – комплекс с одноименным названием. Девятимесячная шумиха вокруг этого проекта закончилась благополучными родами – новый ребенок высоких технологий появился на свет. В присутствии мужа, сына и друзей я попробовала на себе действие этого «чуда XXI века», при помощи которого его создатели собираются «решить проблему человеческой разобщенности в нашем сложном мире». Надев шлем и включив аппарат, я стала ждать. «Чудо-лед», заправленный в механический молоток, стал долбить меня в грудь. Первые минуты прошли в тишине и в темноте. В состоянии ожидания в кромешной тьме человек обычно начинает что-то вспоминать. Я почему-то вспомнила, как отец однажды повез меня в деревню, к своим родственникам. Мне было лет десять. И там эти родственники специально для нас зарезали теленка. Его звали Борька. И я видела в чулане его голову. И мне было жутко и страшно. Я убежала из чулана. А за обедом моя деревенская тетя вдруг меня спросила с улыбкой: «Ну что, вкусный Борька?» И я заплакала. Потом мне вдруг стало жутко тоскливо. И я в этом чертовом шлеме стала рыдать. Видимо, сказались последствия нервного напряжения во время избирательной кампании. Муж стал теребить меня за плечо, но я грубо оттолкнула его, чего никогда себе не позволяла. Потом слезы хлынули еще сильнее, потоком. Я просто изнемогла. Когда это кончилось, возникла картинка – мы все стоим в круге, взявшись за руки. Голые. И все вокруг вдруг стало исчезать. И мы превратились в лучи света
Сергей Кривошеев, 94 года, пенсионер. Меня очень порадовала и обнадежила система «LЁD», подаренная мне безвозмездно. Благодаря ей я ощущаю бодрость и оптимизм. Я испробовал ее 18 октября. Подробно: в 14.30 я подключил все, сел на стул. Мне помогали: сын, жена сына. Сначала ничего не было. И я ждал. И потом я почувствовал беспокойство. Но оно было приятным. И главное: я многое вспомнил, что совсем забыл. Я вспомнил 1926 год, как я мальчиком пошел с отцом на охоту. Это было под Вышним Волочком на озерах. Отец и трое его приятелей-сослуживцев охотились на уток. И за утро они настреляли почти полную лодку уток. Лодка была в камышах у берега. Я сидел в этой лодке. А две наши собаки, Антанта и Колчак, плавали за подбитыми утками, если те падали в воду, или искали их в камышах. А потом охотники позвали собак к себе, и я остался один в лодке с мертвыми утками. И мне непонятно отчего стало очень жалко уток. Они были такие красивые. Но самое страшное понял я тогда: их уже никогда и никто не сможет оживить. И я ужасно плакал. Плакал и терял сознание. И опять плакал. И очень устал. А очнулся я на берегу огромного озера. Я стою с людьми. И мы все легко переходим в совсем чистый свет
Андрей Соколов, 36 лет, временно безработный. Вас бы, гадов, перевешать за члены, чтоб вы людям не гадили. Этот ЛЕД вонючий изобретение жидо-масонов, которые хотят поработить все человечество. Россию и так унизили, распяли и хотят распилить на куски и продавать, как медвежью тушу, а тут еще и гадят в ментальной сфере. Выбирают «нужных» людей, раздают эту гадость даром. Но я не удобный человек для блядства! Эта система ебаная – опиум для русского народа. На него хотят подсадить всех нас, а когда мы станем как дебилы – введут войска ебаной ООН и приставят нам пушки к Кремлю. И будем по-английски говорить. Система блядская: сначала я весь обрыдался, потому что вспомнил, как сестренку хоронил, когда ее током на ферме убило, а потом хуйнища пошла – с голыми блядями и лидерами стою! И не стыдно никому. А главное – и мне не стыдно. А потом – все исчезает, и что-то вроде такого яркого света
Антон Белявский, 18 лет, студент. 10 сентября сестра сказала мне, что я – один из 230, кому фирма «LЁD» дарит свою суперсистему. Я сначала не поверил, но сестра показала мне газету, где было это написано. Это было классно! Я столько слышал про эту систему, о ней постоянно говорили по ТВ, писали в газетах и журналах. Я видел репортаж о фирме «LЁD», про ее необычную историю, про то, как они в Сибири организовали мощное производство синтезированного Тунгусского льда и что фирма очень богатая, а русская доля там всего 25 % и что они хотят произвести революцию в видео– и киноиндустрии, разрушить старое кино, сделать что-то совсем крутое, что всем посносит крыши. И мне позвонили, а потом привезли коробку. Мы с сестрой открыли ее, там был компьютер, шлем и нагрудник. И еще такой кейс-холодильник. А в нем 23 кусочка льда. Я снял майку, сел на диван, сестра мне помогла надеть нагрудник. Я вставил в молоток кусочек льда, подсоединил компьютер, шлем, включил все в сеть, надел шлем и врубил систему. Шлем вообще по дизайну классный, прямо как у Дарта Вейдера. И внутри так голове комфортно, мягко. Сначала ничего не было. Только молоток стал долбить меня льдом в грудь. Но это было совсем не больно. Я расслабился, сижу, в шлеме темно, как в танке. Минута, две, пять. Ничего! И я уже подумал – точно, это наебалово. Сестра сидела рядом, я уже сказал ей: «Машка, нас обули!» А потом вдруг почему-то вспомнил один случай. Я в 14 лет впервые заболел астмой. И самый первый приступ у меня случился под утро. У нас под окнами прокладывали какую-то трубу, и эти козлы начинали долбить асфальт чуть ли не с пяти утра. А у них был компрессор для отбойных молотков, они его врубали, и он начинал так ритмично тарахтеть – тук, тук, тук! И вот тогда мне утром приснился сон: будто эти козлы запустили компрессор, а шланг подсоединили к нашей форточке. И сосут у нас воздух из квартиры. У нас была однокомнатная квартира, мама с Машкой спали у окна, а я на раскладушке у серванта. И будто я просыпаюсь и вижу, что мама и маленькая Маша уже почти задохнулись. И лежат как мертвые под этой форточкой. И я вскакиваю и ползу к ним, потому что сам еле дышу, и начинаю их трясти. А они умирают на моих глазах. И это так страшно, что я ничем не могу помочь, а этот чертов компрессор высасывает воздух и стучит: тук, тук, тук! И я хватаю стул и кидаю в окно. А оно не разбивается. И я стучу кулаками по стеклу изо всех сил, но разбить не могу. И вдруг понимаю – все! Они обе умерли! И их никогда уже не оживить. И я так рыдаю, так рыдаю! И я начал рыдать. Так сильно, так долго, что сестре даже страшно стало, она потом рассказала, что меня всего корежило просто. И это продолжалось, продолжалось, а потом я как бы стал уставать, и совсем устал, и мне так стало хорошо и спокойно, и будто ничего не колышет, все по барабану, и так кайфово внутри. И – раз! Картинка засветилась: я стою на охренительном острове. Он такой большой, как скала. Вокруг море. Солнце, небо яркое голубое, свежий такой воздух. И я стою в таком огромном круге с голыми людьми, и мы все держимся за руки, как дети. И нас много-много. А потом вдруг я точно понимаю: нас ровно 23 000. Ровно! И это меня прямо как-то вставило – хоп! И в сердце так стало сосать как-то, но по-хорошему, кайфово. И понеслось, словно в сердце такая труба, понеслось со свистом. И вдруг я почувствовал сердца всех этих людей. И это такое странное, но очень классное чувство, что мы все – единственные, которые есть на земле. И начали как бы разговаривать сердцами. Но это не такой обычный разговор, когда сообщаешь что-то, а тебе отвечают, типа: «Ты кто?» – «Я Антон». – «А я Володя, привет». Не в таком духе. А такое общение без слов, но очень сильное. И потом мы все стали сердцами так вибрировать: раз, два, три… Это было так классно! И когда дошло до двадцати трех – вот тут… у меня просто слов нет! Вдруг все вокруг стало растворяться, как бы исчезать навсегда, и мы тоже – раз и растворились в таком нежном свете.
Макс Алешин, 20 лет, анархист. Когда я получил систему «LЁD», то сразу решил пробировать ее в нашей коммуне. Это такой крутой выселенный дом. Его будут реставрировать и потом заселят буржуями. Там нет ничего, даже электричества. Но мы эту проблему решили – подсосались ночью к соседнему ларьку. И я влез в этот шлем, подключился. Сначала – охуенно темно и молоток этот ледяной хуярит меня в грудную кость. Чувство такое обломное, не в кайф. Потом какая-то хуйнища полезла в голову: воспоминания совсем древние. Будто я еще в Электростали, пацан маленький, выбегаю утром в наш двор, а там зима охуенная, сугробы, дети разные гуляют с мамашами. А моя мать – дворничиха. И она возле третьего подъезда ломом колет лед: хуяк! хуяк! хуяк! Приятный звук такой. А я иду по двору, как космонавт, на хуй: меня бабка одела в кучу одежи, как кочан капусты. А на ногах валенки с галошами, под ними снег хрустит, как сахар. А в руке у меня лопатка, и я подхожу к сугробу и начинаю из него лопаткой делать космический корабль – копаю, копаю, а мать все колет и колет. И вдруг я дико хочу ссать, потому что перед выходом не поссал, потому что дико хотел гулять. А идти ссать домой не хочется – подниматься на четвертый этаж, потом бабка меня распакует, поведет в сортир, дико все долго. И я копаю, копаю, а мать все колет и колет. А потом я начинаю ссать в валенки, даже не ссать, а так понемногу подпускать. И так тепло в валенках. Но потом вдруг как-то хуево. И я копаю палубу, а сам начинаю хныкать от злости. А мать колет и улыбается мне. И я вдруг начинаю рыдать. Блядь, так сильно, что ничего не вижу, в сугроб валюсь и реву, реву, реву. А мать думает, что я играю. И все колет свой ебаный лед, а я реву до изнеможения. А потом так устаю, что лежу, блядь, в этом сугробе, как в гробу. И пальцем не могу пошевелить. И тут вдруг – хуяк! И я на острове. Остров, на хуй, в море. И я стою в круге, где двадцать три тысячи людей стоят и молча за руки держатся. И я тоже держу левой рукой руку какой-то девки, а правой – старика. Пиздец, на хуй! А потом – хуяк, в сердце толчок такой, как приход, – один, другой, третий… двадцать третий! И раз – мы все в нирвану, блядь, уплываем, и свет
Владимир Кох, 38 лет, бизнесмен.
По-моему, это все очень сомнительно. Я испытал только:
1. жалость, тоску, печаль (когда я почему-то вспомнил, как мы с тремя школьниками забили камнями кошку).
2. слабость, смертельную усталость (когда я перестал рыдать).
3. эйфорию (когда я очутился в громадном круге себе подобных, затрепетал сердцем и вдруг стал исчезать и все кругом тоже, становясь светомОксана Терещенко, 27 лет, менеджер. Я очень хотела попробовать систему «LЁD». Даже не потому, что много слышала про нее. Еще давно, кажется года три назад, когда японцы нашли Тунгусский метеорит, вернее, то, что от него осталось, а русские и шведские ученые открыли «эффект Тунгусского льда», я была очень заинтригована этим событием. Это открытие обещало революцию в сенсорике. И вообще, мне нравилась вся история с Тунгусским метеоритом, что это – огромная глыба льда, причем лед с особой кристаллической решеткой, которого нет в природе. Лед, упавший с неба, глыбища, которую никак не могли найти, но оказывается, кто-то ее нашел и втихаря ковырял. Куда девали этот лед? Что с ним происходило? Кто были эти люди? Так и осталось загадкой. Зато теперь, когда ученые синтезировали этот необыкновенный лед, стало еще интересней. И когда мне в нашей фирме сообщили, что я попала в двести тридцать первоиспытателей, я просто обалдела! Это был большой сюрприз для меня. Включил меня в список 230 наш коммерческий директор, даже не спросив моего согласия. Просто он видел, как я шарю в Интернете и слежу за «ТФ». И когда я по воле рока оказалась среди первоиспытателей, он сказал, что я должна попробовать приставку здесь, в нашей фирме, на глазах у сотрудников. И все это поддержали! Делать нечего, вчера я приехала как всегда к 9.30 вместе с коробкой. Там уже все ждали. В зале упаковки сдвинули пачки к стенам, поставили посередине директорское кожаное кресло. Две сотрудницы помогли мне надеть нагрудник, вставили в молоточек кусок льда, все включили в сеть, я подключила к ней шлем, надела его, нащупала пальцем на проводе кнопку пуска и нажала. И сразу же молоточек стал клевать меня льдом в грудь. А в шлеме было темно. Это было смешно и немного щекотно: тук, тук, тук, тук, как птица стучит и стучит мне между грудей! А смешно было потому, что я представила себя со стороны: сидит в купальнике и шлеме менеджер фирмы, что-то клюет ее в грудь, все стоят и смотрят – чего будет! Но ничего не происходило – в шлеме темнота. И я стала волноваться. Дело в том, что я вообще-то не люблю темноту. И когда сплю одна – всегда включаю свет. Это у меня с детства, по-моему, лет с десяти. Дело в том, что мой отец выпивал и, когда приходил пьяный домой, грубо обращался с мамой. Мы жили в военном городке, в двухкомнатной квартире, в маленькой комнате спали они, а в большой – я. И я несколько раз слышала, как отец ночью насиловал мать, то есть она не хотела, а он брал ее, пьяный, силой. И она плакала. А я однажды не выдержала, встала и включила в своей комнате свет. И отец сразу затих. Он даже не ругался на меня. А потом я просто стала часто это делать. И стала бояться спать в темноте. И когда я про это думала, сидя в темном шлеме, я вдруг очень ярко вспомнила один случай из детства. Как-то летом меня мама уложила спать днем, а сама ушла в магазин. И я проснулась – никого нет дома. Только холодильник стучал. Он был большой и пузатый, громко работал и всегда стучал и качался: стук, стук, стук. Я оделась, пошла к двери, а она заперта. Я подошла к окну и увидела во дворе маму. Она стояла с соседкой. Они разговаривали о чем-то веселом, обе смеялись. И я стала бить по стеклу и кричать: «Мама, мама!» Но она не слышала меня. А холодильник все стучал и стучал. А я ревела и смотрела на маму. И самое ужасное было то, что она меня не слышит. И мне стало так ужасно грустно от этого яркого воспоминания, что начала плакать. А потом просто зарыдала в голос, как девочка. Но в этом рыдании было что-то очень приятное, родное, чего уже никогда не вернешь. Поэтому я совсем не стеснялась, даже наоборот, рыдала как можно откровенней. Это тянулось долго, у меня сладко сердце замирало, слезы текли и куда-то засасывались так приятно. Так это было горько-горько, но очень приятно. И я одного боялась: что кто-то из сотрудников испугается да и стащит с меня шлем! Но все оказались политкорректными! В общем, я вдоволь нарыдалась, молоточек со льдом все бил и бил меня в грудь. И наступил какой-то удивительный покой, просто чудо какое-то, словно душа полетела над землей и все увидела и поняла, что людям некуда спешить. И это так здорово, что я просто замерла вся, чтобы что-то не нарушить, чтобы это не кончилось. А покой все плыл и плыл, и в сердце просто как будто цвели цветы. И вдруг все ярко засверкало: появилось изображение на внутреннем экране шлема. Это был океан и кусок суши в этом бескрайнем синем океане, и на этой суше стояли мы – 23 тысячи прекрасных людей! Мы все держались за руки, образуя огромный круг, в несколько километров. Нам было хорошо и комфортно стоять так. Мы ждали какой-то решающей минуты, чего-то важного, я просто вся превратилась в ожидание чего-то, словно Бог должен сойти с неба к нам. И вдруг наши сердца как бы проснулись разом. Это было потрясение! Как будто громадный орган заиграл в нас. И наши сердца стали как бы петь по нотам, поднимаясь все выше и выше. Это сердечное пение в унисон было ни с чем не сравнимо. У меня просто все тело отнялось и из головы все вылетело. А ноты все шли и шли наверх, как хроматическая гамма – выше, выше, выше! И когда они дошли до самой высшей точки, случилось настоящее чудо. Мы стали терять свои тела. Они просто куда-то утекали, исчезали. И все вокруг тоже – и берег, и волны, и небо, и воздух свежий морской – все как бы рассасывалось, как облако. Но в этом не было никакого ужаса, наоборот, вся моя душа радовалась этому исчезновению. Это было незабываемое мгновение. Я растворялась, растворялась, как кусочек сахара. Но не в воде. Там свет
Михаил Земляной, 31 год, журналист. Можно смело сказать: сегодня мы живем в эпоху системы «LЁD». Вчера мы еще жили в эпоху кино. Момент, когда я стоял в круге и вдруг стал исчезать, и засиял свет
Анастасия Смирнова, 53 года, химик-органик, профессор. «Феномен Тунгусского льда» (ФТЛ) заинтересовал меня сразу, как и многих ученых. Потрясала воображение принципиально новая кристаллическая решетка космической ледяной глыбы, упавшей сто лет назад в Сибири. Этот сложный многогранник мы всем отделом изготовили из картона, раскрасили под цвет льда и подвесили к люстре. Он висел над нашими головами, кружился, сверкал гранями, обещая научную революцию. И она пришла. Открытие Самсонова, Эндквиста и Камеямы – это не просто Нобелевская премия и международное признание. Открытие SEK-вибраций – это мост в будущее новых биотехнологий. Система «LЁD» – первая ласточка. Это всего лишь пробный шар, пущенный человеческим гением. Я не удивилась, что попала в число двухсот тридцати счастливцев. Получив систему, мы всем отделом каждый день испытывали ее. Но я была первой. И могу честно сказать: потрясающе! Сначала были слезы и чрезвычайно острые детские воспоминания, потом опустошение, покой и – полет! И какой полет! Это что-то сродни коллективному оргазму, я почувствовала, что свет
Николай Барыбин, священник. Воистину, мир наш катится в пасть дьявола. Так называемая система «LЁD» – еще одно адское изобретение, ускоряющее падение современной урбанистической цивилизации. Получив этот «данайский дар» от фирмы «LЁD», я хотел вначале просто отказаться, так как православное сердце мое шепнуло мне: «Этот «LЁD» – от лукавого». Но как пастырь я должен знать врага в лицо. И я честно попробовал эту систему на себе. Вначале я испытал жуткий страх, перешедший в скорбь. Но о чем же я скорбел? Стыдно сказать – о сломанном велосипеде. Это произошло, когда мне было десять лет. Случай этот совершенно ушел из моей памяти, но система «LЁD» болезненно напомнила мне об этом. Потом началось абсолютное блудодейство: я увидел себя обнаженным в огромном круге «избранных», стоящих над миром и ожидающих чуда. Но ожидали они не милость Господа, не покаяния, не прощения грехов, не наступления Царства Божия. Они жаждали просто превратиться в потоки света
Казбек Ачекоев, 82 года, пенсионер. Когда была Советская власть и наша республика была частью СССР, в нашем райцентре был кинотеатр. Я проработал почти 34 года киномехаником. Крутил кино для народа. И сам очень уважал кино. Театр я вот совсем не понимал и не понимаю, – зачем это? А кино очень уважал. Мои любимые фильмы были – не перечесть! Много. Но самые любимые – настоящие кинокомедии. И любимые комедийные киноактеры – Чарли Чаплин, мистер Питкин, Луи Дефюнес, Фернандель, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Женя Моргунов, Джигарханян, Этуш и Аркадий Райкин. Это все наша золотая обойма. Но когда СССР умер, республика получила независимость, с кино стало хуже. Новых фильмов почти не было. А потом началась война. Вообще было не до кино. И мы с женой и сыновьями ушли в горы к родственникам. Жили там 6 лет и 8 месяцев. Но мой сын Ризван все равно погиб. А мой внук Шамиль исчез. Когда вернулись в райцентр, там все разрушено. А в кинотеатре был госпиталь. Но жизнь налаживалась. Появилось электричество. Стали порядок наводить. И мой внук Бислан мне вдруг сказал, что я выиграл через газету новую приставку. Он вписал нас всех в анкету и послал в редакцию. И через полгода пришел ответ: Казбек Ачекоев. И через фирму нам привезли прямо на дом приставку. Мы все на нее смотрели. И я говорю – а что она делает? А Бислан говорит – это новое чудо техники. Во-первых: она покажет кино прямо в глаза. Во-вторых: она делает очень приятное. Я говорю – вот ты и испробуй на себе. А Бислан ответил – дедушка, ты выиграл, ты должен первый и испробовать. Я говорю – я плохо вижу, у меня дальнозоркость. Он прочитал инструкцию, говорит – твоя дальнозоркость в пределах. Все будет хорошо. Я говорю – нет, я стар для этих экспериментов. Сыновья меня стали уговаривать. Я отказываюсь. Тогда пришел сосед наш, Умар и сказал: Казбек, ты всю жизнь крутил нам кино, давай смотри теперь сам. Ну и я согласился. Посадили меня на стул, сняли рубашку, надели на грудь такую штуку, в нее вставили лед, как патрон в ружье. А на голову надели шлем. И все включили в сеть. И этот лед стал меня как бы расстреливать в грудь. А в шлеме ничего не показывали. Я спрашиваю: Бислан, здесь ничего не крутят. А он: дедушка, потерпи. Н у, я стал сидеть молча. Лед этот стреляет в меня и стреляет. Я сижу. Делать нечего – стал думать про кино, вспоминать. Как крутил, какие фильмы, разные фрагменты. А потом почему-то вспомнил Великую Отечественную войну. Мы были новобранцы, попали сначала под Харьков, а потом под Вязьму. Это было в сентябре 1941-го. Немцы две наши пехотные дивизии наголову разбили, и мы стали отступать. И от нашего полка осталось почти 200 человек. И мы, как рассвело, стали выходить из окружения через болото. И попали под их пулеметы. Немцы нас там ждали. И на моих глазах поубивало всех вокруг, кто шел. Просто выкосило, как косой. И мне пуля расщепила приклад винтовки. И я упал в болото. И те, кто живы остались, тоже попадали в болото. И лежали в нем. А немцы смотрели – кто пошевелится. И сразу добивали. Там было три пулемета. И они стреляли очень точно и короткими очередями – только по пять пуль – так! так! так! так! так! И не больше. Потом подождут, и опять – так! так! так! так! так! Некоторые наши стали потихоньку ползти по болоту, но немцы сразу их поубивали. Потому что все видели в бинокли. И все вокруг меня погибли. А двое плакали, раненые. И я понял, что я должен притвориться мертвым и до ночи так пролежать. А потом выползти. А это было самое утро, часов шесть. И я закрыл глаза. И лежал. А немцы стреляли в тех, кто шевелился. Всех перебили. А я лежал и даже не дышал. У меня лицо было наполовину в жиже болотной, а левая часть наруже. И я так чуть-чуть воздух в себя сосал носом и в жижу его ртом потихоньку выпускал. Немцы затихли. А потом опять – тук! тук! тук! тук! тук! А я все лежу. И солнце потом стало припекать. Там где-то бой идет. Кто-то опять через эти болота рвется, а тут их косят и косят с пулеметов. Ну и как-то мне совсем страшно стало. Мне ведь тогда и девятнадцати не было. Лежу, а вокруг одни мертвецы. И вдруг мне на руку из воды выбралась лягушка. Совсем рядом с моим лицом. И я вижу – у нее лапка одна оторвана. Видимо, пуля оторвала. И она сидит на моем кулаке, дышит и смотрит на меня. А я на нее смотрю. И мне так жалко стало нас с лягушкой, что слезы потекли из глаз. И я начал плакать. Да так, как никогда не плакал. Все сильней и сильней. А потом вдруг – хоп! И я вдруг где-то стою голый, совсем голый, меня держат за руки, и так приятно, и свободно как-то, и мы все поем, а потом начинает все течь как-то, и все будто, и ничего, и только свет
Виктор Евсеев, 44 года, мясник. Я раньше слышал, что изготовили такой искусственный лед, который, когда им в грудь стучат, возбуждает разные сердечные центры. А тут раз – получил этот комплекс бесплатно, потому что они проводили рекламную кампанию. И попробовал. В общем, это интересно. Хотя довольно долго все тянется. Там в конце такой кайф хороший, все мы стоим в круге и вдруг – раз! и пропадаем в свете
Лия Мамонова, 22 года, продавщица. Это вообще что-то такое… не знаю, как и сказать. Сначала все темным-темно, тишина гробовая, только ударник этот лупит в грудь, как отбойный молоток. И сразу так какая-то жалость на душе, засосало так по-грустному. И сразу в голову разные жалкие мысли полезли, типа – все в облом, люди – говно, жить тяжело, и все такое. А после я увидела роддом, а там лежит целая палата младенцев, брошенных матерями. И будто я ночью вошла туда и стою. А они все спят. И мне так стало их жалко, что я просто заревела в три ручья. Круто реву и реву, не могу остановиться. Ножки и ручки их крохотные вижу – и реву. И так изревелась, что на пол рухнула и отрубилась – все! сил нет. И прямо потеряла там сознание от бессилия или просто заснула. А очнулась – остров такой необитаемый, а на нем мы стоим, и нас двадцать три тысячи человек. И все голые. Но мы не трахаемся, а стоим и ждем. И вдруг Бог прямо с неба сошел и взял нас. Этот свет
Анатолий ОМО, 27 лет, WEB-дизайнер. Реальная культовая штука. Новое. Принципиально. Никакая это не оздоровительная система, а типичный симулятор нового поколения. Который нам впаривает фирма «LЁD» со страшной силой. Классный движок, отпадная картинка. Охуительный квест. Эффект присутствия полный. Плюс сам «ЛЁД», о суперкачествах которого так долго терли СМИ. Лед этот делает 50 % погоды. Вставляет так, что хочется еще. И сразу. Но трезвым умом понимаешь – это начало нового огромадного материка. Пока плыли, поигрывали в наши милые игрушечки: «QUAKE», «MYTH», «SUB COMMAND», «ALIENS VERSUS PREDATOR». Сошли на берег и наступили босой ногой на реальный LЁD. Ауч! Хочется сказать: пиздец, приплыли! Стоим в братском круге и переходим в свет
Аня Шенгелая, 33 года, поэтесса. Это божественно во всех смыслах! Это готовит нас к смерти, к переходу в другие миры. Я давно не испытывала такого восторга, давно так не забывала себя, не отключалась полностью от нашей убогой серой действительности. Наша земная жизнь – это подготовка к смерти, к трансформации, к великим путешествиям. Мы, как куколки, вынуждены дремать в наших земных оболочках, пока Высшие Силы не разбудят нас в гробах и не воскресят. Как сказал Лао Цзы: «Тот, кто не может полюбить смерть, и жизнь не любит». Этот чудесный аппарат учит нас полюбить смерть. И это действительно очень оздоравливает. Потому что истинно здоровые люди – те, кто не боится смерти, кто ждет ее как избавления, кто жаждет пробуждения и начала нового рождения, в других мирах. Мы все в один миг засияли светом
Часть четвертая
Солнечный луч полз по голому плечу мальчика.
Пластмассовые часы со смеющимся волком громко тикали на тумбочке. Поток воздуха из полуоткрытой форточки колебал полупрозрачную занавеску. Во дворе нехотя лаяла собака.
Мальчик спал, открыв рот. Из-под края одеяла торчала зеленая голова плюшевого динозавра.
Луч скользнул на пухлую щеку мальчика. Высветил краешек носа.
Губы дрогнули, переносица сморщилась. Он чихнул и открыл глаза. Снова закрыл их. Зевнул, потянулся, сдвигая ногами одеяло. Динозавр упал на ковер. Мальчик сел. Почесал вихрастую голову. Позвал:
– Мам!
Никто не отозвался.
Он посмотрел вниз. Динозавр лежал кверху брюхом между тапочкой и водяным ружьем. Мальчик свесил ноги с кровати. Снова зевнул. Встал и зашлепал на кухню.
Там никого не было. На столе лежал апельсин, под ним записка. Приподнявшись на цыпочках, мальчик вытянул записку из-под апельсина. Апельсин покатился по столу. Упал на пол. Покатился по полу.
Шевеля губами и большими пальцами ног, мальчик прочел по слогам:
– Ско-ро бу-ду.
Положил записку на стол. Сел на корточки, огляделся. Апельсин лежал под буфетом.
Мальчик пукнул. Встал. Прошлепал в ванную. Спустил трусы. Долго писал, шевеля губами. Подтянул трусы, подошел к раковине. Подвинул деревянный ящик. Встал на ящик. Взял зубную щетку, выдавил пасты. Пустил воду. Набрал воды в рот, прополоскал. Посмотрел на щетку. Подставил ее под струю воды. Вода стала смывать пасту со щетки.
– Кот и пес… – пробормотал мальчик и потряс щеткой.
Паста упала в раковину. Мальчик плескал на нее водой:
– Котыпес, котыпес, котыпес! Уплыли, и все!
Промыл щетку, поставил в стакан. Спрыгнул с ящика.
Побежал на кухню. Заглянул под шкаф. Показал апельсину кулак:
– Котыпес!
Открыл холодильник. Взял творожный сырок в шоколаде. Развернул обертку. Откусил. Жуя, прошел в мамину комнату. Взял пульт от телевизора. Сел на пол, включил телевизор. Поедая сырок, прошелся по программам. Облизал пальцы, вытер о майку.
– Вот. – Мальчик подполз к стеллажу с видеокассетами, вытянул одну. – Динозаврики. Стойте.
Стал вставлять кассету в видеомагнитофон, но вдруг заметил новый предмет. В углу стояла синяя картонная коробка с большой белой надписью «LЁD». Коробка была распакована. Мальчик подошел. В ней лежали синие предметы. Мальчик взял верхний. Это был шлем. Он повертел его, потом надел себе на голову. В шлеме было темно.
– Уду-ду-ду-ду! – Мальчик дал пулеметную очередь двумя пальцами.
Потом снял шлем, положил на стул. Достал из коробки нагрудник. Повертел, бросил на пол:
– Не-а…
Вынул из коробки синий кейс. Шнур от кейса тянулся к розетке. На торце кейса горел голубоватый огонек. Мальчик положил кейс на пол. Потрогал защелку. Пукнул.
Нажал на защелку замка.
Кейс раскрылся. Внутри в нежно-голубых пластиковых ячейках лежал единственный сегмент льда. Двадцать две ячейки были пусты.
– Холодильник…
Мальчик взял сегмент:
– Холодная.
Лед был упакован в заиндевелый целлофан. Мальчик поковырял голубоватую полоску. Потянул. Полоска разорвала целлофановую упаковку. Он выдавил лед из целлофана себе в руку. Рассмотрел. Лизнул раз, другой:
– Не мороженое.
Зазвонил телефон. Мальчик подошел, снял трубку:
– Але. А ее нет дома. Я не знаю.
Положил трубку. Постучал по ней льдом:
– Лед замерз. И пришел погреться.
Стукнул льдом по стеклу серванта:
– Это я, лед!
Посасывая лед, пошел к себе в комнату. Там в углу на деревянной стойке для компакт-дисков стояли маленькие пластмассовые Супермен, X-мен и Трансформер. Мальчик поставил лед между ними:
– Эй, крутые, к вам пришел я, лед!
Взял Трансформера, сжимающего в руке лазерное копье. Тюкнул лед кончиком копья:
– Лед, а лед, ты кто?
Ответил голосом льда:
– Я холодный!
Спросил голосом Х-мена:
– Что тебе надо, холодный лед?
Ответил голосом льда:
– Погрейте меня!
За окном залаяли собаки.
Мальчик посмотрел на окно. Угрожающе насупился:
– Так! Опять!
Выбежал на балкон. Там было тепло и солнечно. Внизу три бездомные собаки облаивали добермана, гуляющего с очкастым хозяином. Доберман не обращал на них внимания.
– Котыпес! – Мальчик погрозил собакам кулаком.
Вернулся к себе в комнату. Лед лежал под копьем Трансформера.
– Уходи отсюда, толстый лед! – прорычал мальчик и ударил в лед копьем.
Лед скатился на ковер. Мальчик сел рядом. Запищал тоненьким голоском:
– Пожалейте меня, мне холодно!
Взял лед двумя пальцами и пополз вместе с ним по ковру, пища и хныкая. Наткнулся на плюшевого динозавра:
– Мне холодно!
– Пойдем, лед, я тебя погрею.
Помог льду забраться на спину динозавра. Дополз вместе с динозавром до кровати. Помог динозавру вскарабкаться на кровать. Уложил динозавра на свою подушку. Рядом положил лед. Прикрыл их одеялом. Прорычал:
– Тут, лед, тебе будет тепло.
Вспомнил про апельсин. Убежал на кухню.
Лед лежал рядом с динозавром, высовываясь из-под одеяла. Солнечный свет блестел на его мокрой поверхности.
23 000
Мясо клубится
Апельсин по-прежнему лежал под буфетом.
Мальчик лег на пол, засунул под буфет руку и потянулся к апельсину. Но рука не доставала. Пальцы нащупали пыль и высохшую вишневую косточку.
– Котыпес! – сердито пробормотал мальчик в подбуфетную темноту.
Отбросил косточку и погрозил апельсину кулаком. Приподнялся на коленках. Посидел, ковыряя в носу. Встал, огляделся. На столешнице буфета рядом с сахарницей, бутылкой кетчупа и банкой растворимого кофе лежала забытая мамой розово-серебристая пудреница. Мальчик взял ее, повертел, открыл. Из круглого зеркальца на мальчика глянул белобрысый мальчик с большими, слегка выпученными светло-синими глазами, большими оттопыренными ушами, маленьким приплюснутым носом и маленьким, всегда мокрым и вопросительно открытым ртом олигофрена.
– С добрым утром, Микки Рурк, – произнес мальчик, закрыл пудреницу и положил. Выдвинул ящик буфета. В ящике лежали столовые приборы. Мальчик взял ложку, лег на пол и попытался ложкой достать апельсин. Не получилось.
– Я тебя арестакну, чечен! – прорычал мальчик в пыльный линолеум и застучал ложкой под буфетом. – Комон! Комон! Комон!
Недосягаемый апельсин лежал в полумраке.
Мальчик сел. Посмотрел на ложку. Стукнул ею по буфету. Встал и слегка задел головой о выдвинутый ящик.
– М-м-м! Котыпес… – Он недовольно потер голову, кинул ложку в ящик.
Взял столовый нож. Повертел в руках. Сравнил с ложкой:
– Ты такой же котыпес.
Бросил нож в ящик. Задвинул ящик. Подошел к электрической плите. Над ней на стене висели: дуршлаг, двузубая вилка, шумовка, половник и скалка. Мальчик остановил взгляд на скалке:
– Вот!
Он поднялся на цыпочках, потянулся к скалке. И с трудом коснулся пальцами ее шершавого деревянного конца. Скалка закачалась. Мальчик посмотрел на нее. Потом подвинул стул к плите, влез на него. Выпрямился. Взялся рукой за скалку. Но до ее верха с дырочкой и веревкой по-прежнему было не близко.
– Сейчас, котыпес… – Не отпуская скалку, мальчик поднял левую босую ногу и поставил ее на конфорку плиты.
Подергал скалку. Но короткое веревочное кольцо не хотело сниматься с деревянного штырька. Пыхтя, мальчик стал подтягивать правую ногу. Это было неудобно. Он ухватился за скалку сильнее, помогая правой ноге:
– Апгрейд, толстая…
Оттолкнулся ногой от стула, резко встал на плиту, закачался, балансируя, и обеими руками ухватился за скалку. Веревочное кольцо натянулось. И соскочило со штырька. Мальчик пукнул. И со скалкой в руках стал падать навзничь.
– Оп-ля… – Его мягко подхватили чьи-то сильные руки.
И тут же поставили на стул.
Мальчик повернул назад голову. Там стоял незнакомый мужчина.
– Миша-Миша… – укоризненно покачал он головой. – Разве можно так?
Мужчина был высокий, широкоплечий, с загорелым добродушным лицом. Изумрудно-голубые глаза его смотрели приветливо. Сильные руки осторожно поддерживали мальчика. От этих рук приятно пахло.
– Решил каскадером стать? – спросил мужчина и широко улыбнулся крепкими белыми зубами.
– Не-а… – настороженно буркнул мальчик, сжимая в руках скалку.
Мужчина снял его со стула и поставил на пол. Присел рядом. Улыбающееся лицо мужчины оказалось напротив лица мальчика. На скуле у мужчины был небольшой шрам. Коротко подстриженные рыжеватые волосы топорщились ежиком.
– Если ты хочешь достать из-под буфета апельсин, то это лучше сделать не скалкой, а шваброй. Знаешь, почему?
– Не-а. – Мальчик исподлобья смотрел на незнакомца своими прозрачно-синими большими глазами.
– Потому что скалкой твоя бабушка раскатывает тесто для пирожков. А шваброй мама протирает пол. Ты же любишь пирожки с яйцом?
– Ага. И тефтели люблю.
– Вот и пусть скалка пирожки катает.
Мужчина вытянул скалку из рук мальчика и повесил ее на место.
– А апельсин твой мы сейчас достанем.
Незнакомец уверенно вышел из кухни, открыл дверь в туалет, взял швабру и вернулся с ней в кухню. Наклонившись к самому полу, он легко выкатил апельсин из-под буфета. Ополоснул его в мойке, вытер кухонным полотенцем и протянул мальчику:
– Ешь, Миша. И одевайся. Тебя мама ждет.
– А где она? – спросил мальчик.
– У тети Веры. На Пятницкой. Помнишь тетю Веру? Которая тебе динозавра подарила?
– Да.
– Того динозавра я купил. В «Детском мире».
– А вы… кто?
– Я муж тети Веры. Михаил Палыч. – Мужчина протянул большую ладонь. – Будем знакомы, тезка!
Мальчик протянул ему руку. Сильные загорелые пальцы бережно сомкнулись вокруг кисти мальчика.
За окном залаяли собаки. Мужчина подошел к окну, глянул за занавеску.
Мальчик стал чистить апельсин.
– Ты одеваешься сам или мама помогает? – спросил мужчина, глядя в окно.
– Сам.
– Правильно. – Мужчина задернул занавеску. – Я в шесть лет тоже сам одевался. И уже умел на велосипеде кататься. У тебя есть велосипед?
– Угу. На даче, у бабушки. Но там восьмерку Толик сделал. Он плюется. – Мальчик ковырял апельсин.
– Толик? – спросил мужчина.
– Велосипед. А Толик не плюется. Он к Мохначу через забор лазает. И все у них ворует.
Мужчина вдохнул и выдохнул:
– Знаешь что, Миша, давай я тебе апельсин почищу. А ты пока пойди оденься.
– А мы что, к тете Вере на дачу поедем?
– Точно так. – Мужчина забрал у мальчика апельсин. – Так что давай время терять не будем. Купаться надо. Жарища вон такая… Да и в пробках стоять не хочется. Давай, давай, Мишань!
Мальчик побежал в спальню. В прихожей возле входной двери стоял большой синий чемодан.
– А это ваш чемодан? – крикнул мальчик.
– Мой, – отозвался мужчина.
– А там чего?
– Ничего! – засмеялся мужчина. – Одевайся, каскадер!
Мальчик вошел в спальню.
Снял со спинки стула шорты и стал надевать их. Но увидел лежащего на подушке и полуприкрытого одеялом плюшевого динозавра. Рядом с динозавром лежал кусочек льда. От тающего льда на подушке расплывалось пятно.
– Ах ты, толстый лед! – Путаясь в шортах, мальчик подбежал к кровати и сбросил лед на пол. – Ты описался, лед! Апгрейд, апгрейд!
Мальчик натянул шорты, надел рубашку и сандалии. Потом поднял кусочек льда и побежал с ним на кухню:
– Лед описался!
На кухне мужчина сидел на стуле и с улыбкой смотрел на вбегающего мальчика. Рядом на столе лежал неочищенный апельсин. Мальчик кинул лед в мойку. Мужчина приподнялся со стула:
– Оделся? Молодец.
Он достал мобильник, набрал номер:
– Да.
Спрятал мобильный в карман:
– Нам пора, Миша.
– А апельсин? – Задрав голову, мальчик посмотрел на него.
– Потом. Все потом… – Мужчина достал из кармана крохотный газовый баллончик, стремительно зажал себе нос рукой и прыснул на мальчика из баллончика.
Мальчик тряхнул головой, зажмурился. Отвернулся, закрывая руками лицо. Всхрапнул. И побежал из кухни. В коридоре его ноги подкосились, и он стал падать. На руки вошедшего в дверь другого мужчины. Который подхватил мальчика и сразу понес в спальню. Из кухни, все еще зажимая нос, заспешил мужчина, пришедший раньше. Они склонились над мальчиком. Первый мужчина был повыше ростом. Братья Света звали его Дор. Второго, пышноволосого блондина с маленькой русой бородкой, звали Ясто. У обоих были сильные, загорелые и мускулистые руки. Эти руки проворно заработали: достали маленький шприц с коричневатой жидкостью, сделали мальчику быстрый укол в плечо, раздели его догола, натянули памперс.
Дор принес синий чемодан, открыл. В чемодане лежало верблюжье одеяло. Мальчика бережно завернули в одеяло, оставив лицо. И положили в чемодан. Ясто осторожно приподнял веко мальчика. Голубой, прозрачный по краям глаз задумчиво и неподвижно глянул на них.
– Спит, – пробормотал Ясто.
– Те двое внизу? – прошептал Дор.
– Да.
– Лифт?
– По-прежнему.
– Тогда ты понесешь.
– Я.
Они взяли безвольные, побледневшие руки мальчика и на минуту замерли, прикрыв глаза. Затем, очнувшись, закрыли чемодан. Ясто мягко поднял чемодан, поднес к двери. Поставил. Приоткрыв дверь, они замерли, прислушиваясь. На лестнице было тихо. Дор и Ясто глянули в изумрудно-голубые и серовато-синие глаза друг друга. И стремительно обнялись, со взаимной яростной силой прижались грудью. Из губ их вырвались слабые утробные звуки, сильные руки стиснулись, напряглись, замерли. Головы их задрожали. Сердца заговорили.
– Дор… – прохрипел Ясто.
– Ясто… – выдохнул Дор.
Они застонали и резко оттолкнулись, отстранились.
И мгновенно пришли в себя. Успокоились. Вдохнули. И плавно выдохнули.
Дор шагнул за дверь. И стал спускаться по лестнице: лифт не работал. Чуть погодя Ясто с чемоданом в руке двинулся за ним. Дор неспешно бежал вниз по ступенькам, легко неся свое сильное, пластичное тело.
Между первым и вторым этажами этого шестнадцатиэтажного панельного дома периодически ночевал бомж Валера Соплеух. Последнюю ночь он провел на лестничной клетке со своей подругой Зульфией. Только что она разбудила Соплеуха, требуя пива. Стоя на коленях и хрипло бранясь, Соплеух шарил по грязным карманам, выгребая мелочь, оставшуюся со вчерашнего дня. Услышав, что кто-то спускается сверху, Соплеух поднял голову и привычно затянул:
– Земляки, подайте бывшему водолазу на утоление жажды!
Спускаясь к ним по лестнице, Дор сунул руку в карман. Бомжи увидели его.
– Землячок, не будь жлобом, я же тоже… – заговорил Соплеух, но не закончил фразу: Дор стремительно и со страшной силой ударил его кастетом в голову. Раздался треск черепа. Зульфия отшатнулась, открыв беззубый рот. Дор шагнул к ней и ударил ее в переносицу. Голова ее сильно стукнулась об исписанную граффити стену. Соплеух беззвучно повалился на пол. Дор перешагнул через него, обернув кастет носовым платком, убрал в карман, двинулся дальше вниз. Ясто спускался не так быстро, осторожно неся чемодан. Проходя между лежащими на полу бомжами и косясь на дергающиеся и подплывающие мочой ноги Зульфии, он инстинктивно поднял синий чемодан повыше, спустился на первый этаж, миновал лифт с доской объявлений и вышел во двор, зацепившись левой рукой за стальной заусенец на косяке входной двери.
Во дворе было жарко и солнечно. У подъезда стояли пыльные «Жигули». За рулем сидел лысоватый голубоглазый блондин в серой майке и смотрел на трех бездомных собак, настороженно рычащих на него. Как только собаки увидели Ясто, они зарычали сильнее и отошли подальше от машины. Ясто положил чемодан на заднее сиденье, сел рядом с водителем. «Жигули» тронулись, стали выезжать из двора.
– Всё? – спросил водитель.
– Всё, – ответил Ясто.
– Собаки… – пробормотал водитель.
– Чуют нас, да? – нервно улыбнулся Ясто.
– Я не знал этого раньше.
– Ты молод сердцем, Мохо. – Ясто поднес к губам оцарапанную руку и отсосал выступившую каплю крови.
«Жигули» выехали на улицу Островитянова. И сразу за ними пристроился массивный темно-синий внедорожник «Линкольн-Навигатор». За рулем сидел худощавый Ирэ, рядом с ним – Дор.
– Где? – произнес Ирэ.
– Они решат сами, – Дор в изнеможении сжал ладонями свое мужественное лицо.
«Жигули» свернули на Профсоюзную, проехали немного и остановились. Внедорожник остановился рядом. Дор выбежал, открыл заднюю дверь. Ясто, выйдя из «Жигулей», передал ему чемодан. Дор положил чемодан на заднее сиденье, сел рядом, Ясто снаружи захлопнул дверь внедорожника. «Линкольн-Навигатор» сразу тронулся, резко вырулил из-за «Жигулей». Вслед за ним тронулся черный «Мерседес S 500» с затемненными стеклами и с синим милицейским номером. В нем сидели Обу, Трыв и Мэрог, в форме офицеров милиции. Обу приложил к уху мобильник:
– Я.
– Иду, – ответил по своему мобильнику Ирэ, пропуская «Мерседес» вперед. Дор открыл наборный замок синего чемодана, приподнял крышку. Мальчик спал в одеяле. Лицо его слегка порозовело. Дор взял руку мальчика. Она была прохладной и безвольной. Он склонился над мальчиком, приложил его руку к своей груди и на мгновение закрыл глаза.
Внезапно в правом ряду столкнулись две машины, и одна из них задела внедорожник. «Линкольн» тряхнуло, он завилял. Дор обхватил руками чемодан, удерживая на сиденье.
– А-а-а! – прорычал Ирэ, роняя мобильник и удерживая руль.
– Не останавливайся! – глянул назад Дор.
– Кто они?
– Мясо, мясо… – успокоил его Дор, глядя на остановившиеся машины. – Простая авария.
Внедорожник понесся вперед. Поврежденное заднее крыло у него торчало. На светофоре он остановился рядом с «Мерседесом». Дор открыл дверь и передал чемодан Мэрог, который уложил его рядом с собой на заднем сиденье. «Мерседес» рванулся с места на красный свет. Мэрог открыл чемодан, глянул на спящего мальчика. Закрыл свои каштаново-голубые глаза. Лицо его сразу словно окаменело.
Свернули на МКАД.
Внезапно «Мерседес» качнуло. И слабо застучало спущенное колесо.
Обу стал выруливать вправо и встал на обочине. «Мерседес» накренился на правую сторону.
Сидящие в машине напряженно переглянулись. Мэрог закрыл чемодан, вынул из спортивной сумки пистолет с глушителем. Трыв достал из-под сиденья короткоствольный автомат, снял с предохранителя.
Обу выглянул в окно:
– Оба колеса справа. Это не случайность.
– Есть два запасных? – спросил Мэрог.
– Есть, слава Свету, – ответил Обу и забрал автомат у Трыв. – Меняй колеса.
И сразу же связался с Дор:
– Мы стоим. Два колеса спустило. Это не случайно. Нужны братья.
– Я иду, – ответил Дор.
– Нет! Это опасно. У тебя торчит крыло.
– Это не страшно.
– Ты притянешь мясо.
– Я верю сердцу , Обу. Я иду к вам.
– Дор, нам нужны братья! Мясо клубится. Я ведаю .
– Я зову Щит.
– Это опасно! Мясо чувствует их. Нам нужны просто братья!
– Я зову их.
Трыв вышел, принялся менять первое колесо. Внедорожник с торчащим крылом проехал мимо и остановился в десяти метрах. Обу опустил темное стекло. К «Мерседесу» подъехала белая «Тойота» ДПС с мигалкой. Из нее вышел полноватый лейтенант с одутловато-недовольным лицом, незажженной сигаретой в пухлой руке, козырнул:
– Здорово живете!
Продолжая крутить домкрат, Трыв поднял голову:
– Здоров.
– Оба сразу? Дела! Как говорится, и на мерина бывает проруха. Помочь?
– Помоги, коль не торопишься. – Мэрог ответил вместо Трыв, опуская темное стекло и держа пистолет наготове. – А то я руку вчера ошпарил, а у старлея Варенникова (он кивнул на Обу) грыжа левого яйца от половой натуги!
Обу, Мэрог и Трыв рассмеялись.
– Бывает и такое в нашем трудном деле… – усмехнулся лейтенант и нервно зевнул, захлопал по карманам. – Сейчас, парни, подсобим. Помочь своим – святое дело… Блин, куда же я ее… как всегда в машине…
Он обернулся:
– Леха, кинь огня!
Дверь «Тойоты» открылась, из нее выпрыгнул сержант ДПС с «калашниковым». В руке у лейтенанта щелкнул, раскрываясь, узкий нож.
– На! – в секунду покрасневший от волнения лейтенант метил в шею, а всадил лезвие в плечо увернувшегося Трыв, но тут же меткая пуля, выпущенная Мэрог из окна «Мерседеса», прошила полноватому лейтенанту голову. Сержант открыл шквальный огонь. Пули задели Трыв, срикошетили от бронированного «Мерседеса». Дор, открыв багажную дверь внедорожника, дал длинную очередь по «Тойоте». Брызнуло лобовое стекло, прошитый пулями лейтенант повалился. Из вильнувшего серебристого джипа высунулся «калашников» со снаряженным подствольником. Подствольник выстрелил по синему внедорожнику. Взрыв разнес машину, отшвырнул отбегающего Дор. Опустив стекло задней двери, Обу дал длинную очередь по джипу. Джип врезался в «Газель», из его разлетающихся окон стали стрелять. Несколько машин в левом ряду автотрассы столкнулись, одна загорелась. Обу, Мэрог из окон «Мерседеса» и поднявшийся на дороге Дор открыли стрельбу по джипу. Молоковоз на большой скорости стал тормозить, объезжая загоревшиеся машины, но шальная пуля попала в горло водителю. Молоковоз вильнул вправо и врезался в черный «Мерседес». Желтая цистерна с синей надписью «Молоко» стала сминаться и треснула. Молоко хлынуло в кабину «Мерседеса» через открытые окна. Захлебываясь молоком, Обу и Мэрог стали вытаскивать из машины чемодан с мальчиком. Обу был ранен в шею и стремительно терял силы. Молоко моментально заполнило машину, Мэрог нащупал ручку задней двери, открыл и вместе с чемоданом вывалился на дорогу. Обу захлебнулся молоком и остался в машине. Молоко хлестало на асфальт из открытой задней двери «Мерседеса». Мэрог схватил чемодан, присел, оглядываясь. Движение на МКАД прекратилось. Две машины и взорванный внедорожник горели. В серебристом джипе никто не подавал признаков жизни. От горящего внедорожника к Мэрог шел, пошатываясь, Дор. Он был сильно покалечен взрывом и делал свои последние шаги по земле, сжимая правой рукой автомат, а левой придерживая кишки, готовые вывалиться из разорванного живота. Окровавленное и обожженное лицо его было неузнаваемо.
– Собери Круг Силы… – прохрипел Дор и рухнул.
Его кровь смешалась с молоком.
Мэрог вздрогнул всем телом, скрипнул зубами, подхватил автомат, выпавший из окровавленной руки Дор, поднял чемодан, перемахнул металлический бортик ограждения и, разбрызгивая молочные капли, кинулся в кювет, а из него по траве и кустам – к маячащим неподалеку многоэтажкам Теплого Стана.
Из стоящих машин высунулись осмелевшие люди:
– Вон, вон он!
– Задержите его, мужчины!
– Ты куда, сука, а ну стой!
– Какой ужас!
– Никита, звони в милицию!
– Так он же сам – мент! Оборотень, блядь!
– Держи гада!
– Да здесь же пост ГАИ – рукой подать!
– Они слышали стрельбу, уже едут, наверно!
Многие звонили по мобильным телефонам.
Мэрог пробежал через кусты, миновал гаражи и оказался на улице Генерала Тюленева. В этот воскресный день улица была полупустой, редкие машины проезжали по ней. Прохожих тоже было мало. В основном они не шли, а стояли, прислушиваясь к происходящему на Кольцевой. Встав за серебристым гаражом-«ракушкой», Мэрог поставил чемодан на землю, вытер мокрое от молока лицо и огляделся. Три женщины у подъезда дома оживленно переговаривались, пытаясь сквозь деревья и кусты разглядеть то, что творится на Окружной. Группа подростков выскочила из другого подъезда и побежала в ту сторону. Там послышался глухой взрыв – видимо, взорвался бензобак горящей машины. Проезжающая мимо зеленая «Дэу-Нексия» остановилась. Худощавый, хмурый и сутулый водитель с сигаретой в губах вышел, приподнялся на цыпочках и посмотрел в сторону Кольцевой.
– Чего там за херня? – громко спросил он у улицы.
– Террористы, – ответил Мэрог, выглядывая из-за «ракушки», и навел на мужчину автомат. – Застыл на месте.
Мужчина хмуро посмотрел на Мэрог. И на его сочащиеся молоком милицейские погоны.
Мэрог поднял левой рукой чемодан, подошел к машине:
– Открыл заднюю дверь.
При ходьбе молоко громко хлюпало в его полуботинках. Мужчина хмуро-напряженно смотрел на облитого с головы до ног и сочащегося молоком Мэрог.
– До одного считаю. – Короткое дуло ткнулось в худощавый живот мужчины.
Мужчина очнулся. И открыл заднюю дверь.
– Садись за руль. Только медленно.
Дуло уперлось в худую спину. Мужчина стал садиться за руль. Со стороны МКАД послышались сирены милицейских машин. Мэрог положил чемодан на заднее сиденье, подождал, пока мужчина сядет за руль, и сам сел сзади, рядом с чемоданом.
– Вперед. – Мэрог просунул ствол автомата между передними сиденьями.
Мужчина взялся за рычаг переключения передач. Из дула выкатилась молочная капля. И упала на костлявый кулак водителя. Кулак включил первую передачу. Машина тронулась.
– Быстрее, – приказал Мэрог.
Сутулый водитель прибавил ходу.
Мэрог вынул у него изо рта дымящуюся сигарету и выбросил в окно. Машина доехала до развилки дороги.
– Направо, – скомандовал Мэрог.
«Нексия» свернула на улицу Теплый Стан. Мэрог приоткрыл чемодан: мальчик все так же спал в одеяле. Мэрог закрыл чемодан, сунул руку в левый мокрый карман брюк. Карман был пуст – мобильник остался в машине.
– Дай твой мобильный, – приказал он водителю.
Мужчина вынул телефон из нагрудного кармана безрукавки, не оборачиваясь, передал назад. Мэрог взял, стал набирать номер.
– Там у меня… денег нет, – произнес водитель.
Мэрог бросил мобильник себе под ноги. Доехали до новой развилки.
– Направо, – скомандовал Мэрог.
Поехали по улице Академика Виноградова. В небе послышался стрекот вертолета. Мэрог открыл свое окно, высунул голову, глянул вверх: вертолет парил неподалеку. Тополиный пух зацепился за ресницы сине-карего глаза Мэрог. Он стер тополиный пух рукой, огляделся по сторонам. Улица кончалась, упираясь в тупик. Слева по ходу стояли многоэтажки, справа зеленел лесопарк.
– Налево. К дому, – приказал Мэрог.
Сутулый свернул.
– Запарковался.
«Нексия» подъехала к дому и встала рядом с другими машинами.
– Заглушил мотор.
Сутулый заглушил двигатель. Мэрог стал закрывать свое окно:
– Закрыл окно.
Мужчина исполнил.
– Теперь снимай с себя одежду.
– Что?
– Рубашку, джинсы. Только плавно, понял?
Мужчина снял рубашку. Под ней оказалось худое бледное тело с вытатуированным на плече якорем. Мэрог забрал рубашку. Извиваясь на сиденье, мужчина стянул шорты. Мэрог забрал их. Мужчина покосился назад. На висках и носу у него выступил пот.
– Посмотрел вперед.
Сутулый посмотрел вперед на заставленный машинами и ракушками двор. Мэрог сильно ударил его кулаком в шею. Голова с редкими, плохо подстриженными волосами дернулась назад, зубы мужчины лязгнули. Он повалился головой на сиденье рядом. Мэрог стянул с себя мокрые рубашку и брюки, надел рубашку сутулого. Она была мала и сильно обтянула мускулистый торс Мэрог. Шорты тоже были тесноваты. Мэрог нашел кнопку, открывающую багажник, открыл. Вышел, порылся в багажнике, достал большой пластиковый пакет. В кабине положил автомат в пакет. Взял чемодан в одну руку, пакет с автоматом в другую и неспешно двинулся к домам. Неожиданно в затылок его с силой ударился пролетающий голубь. Мэрог присел. Голубь упал на асфальт и забился, разгоняя крыльями клочья тополиного пуха. Оглянувшись на голубя, Мэрог ускорил шаг. Обойдя две многоэтажки, он направился к подъезду третьей, нажал первую попавшуюся кнопку.
– Кто там? – спросил голос.
– Пустите рекламу положить, – ответил Мэрог.
Железная дверь запищала, он вошел и двинулся вверх по лестнице. Миновав три этажа, остановился. Опустил чемодан. Глянул в приоткрытое окно лестничной площадки: во дворе было спокойно. Издали доносились вой сирен и стрекот вертолета. Мэрог закрыл глаза и прижал лоб к недавно вымытому стеклу. Губы его раскрылись. Он сосредоточенно замер, перестав дышать. Сердце его заговорило.
Наверху послышались шаркающие шаги.
Мэрог открыл глаза. Стукнула крышка мусоропровода. И женский голос что-то недовольно забормотал. Звякнули бутылки.
Мэрог вдохнул. Подхватил чемодан и быстро побежал наверх по лестнице. Между четвертым и пятым этажами полноватая женщина в розовом халате возилась со сломанной крышкой мусоропровода.
– Вот свиньи-то, а… – бормотала она, закрывая и открывая крышку.
Ствол автомата уперся ей в бок.
– Ай! – взвизгнула она и зло обернулась.
– Застыла на месте.
Женщина открыла рот, но увидев автомат, смолкла. И сразу сильно побледнела. Полные ненакрашенные губы ее побелели.
– Чего… – попятилась она.
– Кто дома?
– Мама… и… это… дочка.
– Пошла назад.
– У нас денег… только полторы тысячи…
– Мне не нужны деньги. – Он подтолкнул ее.
– А чего… что нужно? – пятилась она.
– Спрятаться на час. Будешь правильно вести себя – никого не трону. Заорешь – положу всех.
Женщина пошла к приоткрытой двери. Вошла в двухкомнатную квартиру. Громко звучали голоса из телевизора. На кухне жарили курицу. Мэрог поставил чемодан в прихожей, захлопнул дверь. Женщина пошла в большую комнату. Выключила телевизор. Что-то произнесла шепотом. Мэрог заглянул в комнату: женщина стояла с десятилетней девочкой, прижав ее к себе.
– Все в ванную, – приказал Мэрог. – Посидите там, пока я не уйду.
Женщина и девочка попятились из комнаты. Девочка с любопытством глядела на Мэрог.
– Я маме скажу… слышит плохо… – пробормотала женщина.
– Скажи. Только быстро.
Женщина с девочкой пошли на кухню. Мэрог двинулся следом. На кухне полноватая и низкорослая старуха жарила на сковороде куриные грудки. Женщина подошла и выключила электроплиту.
– Ты чего? – громко удивилась старуха.
– Мама, к нам пришли с оружием! – прокричала ей в ухо женщина.
Старуха обернулась. Мэрог стоял в дверном проеме с автоматом. Старуха уставилась на него.
– Мы посидим в ванной, пока он не уйдет! – прокричала женщина в ухо старухе.
Держа в коротких руках вилку и нечистое кухонное полотенце, старуха смотрела на Мэрог. Он распахнул дверь в ванную комнату, зажег свет:
– Быстро!
– Мама, пойдем быстро! – прокричала женщина, подтолкнув старуху.
С вилки упала капля куриного жира.
Таращась на незнакомца и не выпуская из рук вилку и полотенце, старуха вошла в ванную. Следом вошли мать и дочь.
– А вы из Чечни? – спросила девочка.
– Нет, – ответил Мэрог. – Где инструмент?
– Какой? – спросила женщина.
– Слесарный.
– А у нас… и нет… здесь, в стенном шкафу, что-то осталось.
Мэрог закрыл за ними дверь, пошарил в стенном шкафу, нашел молоток и пару гвоздей. Положив автомат на зашарканный паркет, он быстро забил гвоздями дверь ванной.
Девочка заплакала.
Мать стала ее успокаивать. Потом заплакала сама.
– Ему чего? Чего ему надо? Они что – взрывают? – громко спрашивала старуха.
Мэрог поднял чемодан, перенес в большую комнату. Смахнул со стола вазу с букетом ромашек, стопку женских журналов и аппарат для измерения кровяного давления. Поставил чемодан на стол. Открыл. Мальчик спал ничком в одеяле. Мэрог осторожно перевернул его на спину. Не обратив внимания на лицо спящего, внимательно разглядел его грудь. Кончиками пальцев провел по ключицам и коснулся грудины. Пальцы Мэрог замерли. И задрожали. Он весь вздрогнул, отшатнулся от мальчика. Упал на колени. Его вырвало на ковер.
Быстро вытерев рот, он вдохнул, выдохнул. Встал. Нашел телефон, снял трубку, набрал номер:
– Я один.
– Он с тобой? – спросил голос.
– Да. Академика Виноградова. В самом конце.
– Жди.
Мэрог положил трубку. Облегченно вздохнул, подошел к окну, выглянул. Во дворе и на улице все было тихо и спокойно. Солнце припекало, тополиный пух парил в воздухе, редкие прохожие неторопливо шли. Проехал «Фольксваген» и два велосипедиста.
Мэрог нервно зевнул, вытер свои мокрые волосы занавеской. Вернулся к чемодану. Снова приблизился к мальчику, но, скрипнув зубами, застонал, отшатнулся, ударил кулаком по спинке стула. Спинка треснула и разлетелась. Потирая руку, Мэрог прошел на кухню. В ванной тихо всхлипывали и подвывали женщины. Брезгливо покосившись на сковороду с жареной курятиной, Мэрог взял со стола-тумбы помидор и яблоко. Глядя в окно, стал попеременно откусывать и есть. По улице Академика Виноградова медленно поехал широкий шестиколесный тягач. На его площадке стоял гусеничный экскаватор оранжевого цвета с огромным ковшом. Тягач с большим трудом двигался, едва не задевая припаркованные машины. В лесопарке послышался нарастающий рев дизельных двигателей. Два мощных бульдозера, ломая молодые деревья и калеча старые, выползли из лесного массива на улицу и поехали навстречу тягачу. Вслед за ними, страшно буксуя, треща кустарником, стал выезжать подъемный кран с телескопической стрелой. Мэрог резко перестал жевать. Отшвырнул недоеденные помидор и яблоко. Через двор к подъезду пятились задом две бетономешалки. Миксеры их крутились. Еще одна бетономешалка выехала из-за угла соседнего дома, стала поворачивать на улицу и встала перед наползающим бульдозером. Бульдозерист, высунувшись из кабины, что-то крикнул водителю бетономешалки. Тот заглушил мотор, вылез, спрыгнул на землю, закурил и улыбчиво глянул на бульдозер. Бульдозерист тоже вылез, подошел:
– Ты откуда?
– Я с шестого, – ответил улыбчивый парень.
– Ну? – непонимающе сощурился бульдозерист. – Чего ты вперся? Как я в поворот впишусь?
– Не парься, зёма. Там еще до хера чего едет!
– А нам куда?
– Хохряков все скажет. Давай покурим.
– Да чего мне Хохряков… у меня еще три ходки! – раздраженно почесался водитель бетономешалки.
– Начальству виднее! – с улыбкой зевнул другой.
– Умники, бля… – вздохнул водитель, беря сигарету.
Из-за угла соседнего дома во двор въехал грузовик. В кузове сидели рабочие в желтых робах с лопатами. Грузовик остановился.
– Давайте, ребята, быстро, быстро! – раздался голос.
Рабочие попрыгали из кузова и тут же с остервенением стали рыть землю двора лопатами. Две женщины с детскими колясками недоумевающе уставились на них. Из кабины грузовика вылез толстый коротышка с бензопилой, семеня короткими ногами, завел ее, подбежал к липе и впился ревущим зубчатым полотном в ствол. Посыпались опилки.
– Вот так, ёптеть… – пробормотал коротышка и надсадно закричал: – Бобров, Егорыч, надрубайте!
Двое с топорами подбежали к другим липам и умело затюкали по стволам.
– Они деревья рубят! – ужаснулась женщина с коляской.
– Эй, вы чего делаете? – крикнула ее подруга.
Не отвечая, рабочие продолжали. Раскрылось окно на втором этаже, высунулась старушка. Вслед за ней высунулся жующий, голый по пояс мужчина:
– Чего это они?
– Я говорила – наши гады гараж отстоят! – уверенно отчеканила старушка.
Во двор въехали два крытых фургона. Из кузовов не спеша полезли таджики с ломами. Поплевав на руки и нехотя переговариваясь, они взялись за ломы и принялись долбить асфальт. Из леса на улицу выехали две асфальтодробилки, их стальные наконечники впились в асфальт. В доме жильцы стали выглядывать в открытые окна. Подпиленная липа качнулась и рухнула, макушкой снеся качели детской площадки. Жильцы дома негодующе закричали. Коротышка с подвывающей пилой подбежал к старому тополю и принялся яростно пилить его. Оранжевый экскаватор пополз со станины, задевая переполненные мусорные контейнеры. Они опрокинулись, мусор высыпался на улицу. К бетономешалкам подрулил носатый и крайне недовольный старик на стареньком «БМВ», скомандовал:
– Сливайте там, где стоите!
Водители, матерясь, полезли в кабины. Телескопическая стрела крана стала раздвигаться. Между двумя «ракушками», обдирая их, задом протиснулась «Газель» с длинным кузовом. В кузове стояла стальная корзина с десятью азербайджанцами в красных касках и рабочих спецовках. Кран подхватил корзину и стал быстро поднимать. Корзина раскачивалась, азербайджанцы покрикивали на крановщика. Бетон потек из вращающихся миксеров на площадку перед домом. Ползущий экскаватор зацепил две машины, запели сигнализации. Старый тополь качнулся, громко затрещал и стал медленно рушиться, цепляясь ветками за провода, деревья и балконы. Макушка его сильно ударила по застекленному балкону квартиры, в которой оказался Мэрог. Рамы треснули, посыпались стекла. Из открытых окон раздались крики.
Глядя на все происходящее вокруг дома, Мэрог побледнел. Метнулся к чемодану, закрыл его, схватил, подбежал к входной двери, открыл и тут же захлопнул: по лестнице вниз бежали негодующие жильцы. В дверь позвонили. Мэрог замер. Потом застучали. И женский голос забормотал:
– Нина Васильевна, вам балкон разбили! Нина Васильевна!
Снова стали звонить в дверь.
Мэрог на цыпочках, с чемоданом в руке прошел на кухню, осторожно посмотрел в окно. Внизу под грохот асфальтодробилок растущая толпа соседей перебранивалась с водителями техники, кто-то пытался лезть к ним в кабины; выливающийся из миксеров бетон полз к дому, в него вляпывались людские ноги; таджики долбили ломами, землекопы копали, коротышка пилил следующий тополь, злобно выкрикивая что-то. Мэрог всмотрелся: лицо коротышки раскраснелось, голова тряслась, на губах выступила пена. Женщина в синем халате с серебристыми драконами подбежала к нему, вцепилась обеими руками в рыжеватые, ершистые волосы и потянула его от тополя. Коротышка уперся, сопротивляясь, пила в его руках взревела. Он дернулся всем телом, размахнулся и резко полоснул пилой женщину по лицу. Вскрикнув, женщина схватилась за лицо и осела на землю. Толпа ахнула. Коротышка, бормоча и втягивая голову в плечи, дико посмотрел на женщину. Всхлипнул. Мужчины из толпы с криками кинулись к нему. И вдруг тот самый носатый и крайне недовольный старик, приехавший на пыльном «БМВ», вложил пальцы в рот и свистнул неожиданно так сильно, что свист этот перекрыл рев механизмов и крики толпы. Толпа вздрогнула и на секунду оцепенела. Даже кинувшиеся к коротышке мужчины остановились. Как по команде перестали крошить асфальт машины. Все уставились на старика. Он же явно не рассчитал своих сил: сильнейший свист оказался разрушительным для его сухопарого тела. Из большого носа старика брызнула кровь, глаза его закатились, он поднял кверху худую руку, сжал костлявый кулак, всхрапел, зашатался и рухнул навзничь. И сразу же с яростными криками землекопы и таджики кинулись на жильцов дома. Ломы и лопаты замелькали над толпой, раздались крики покалеченных. Ковш экскаватора, сокрушив балкон на втором этаже, с размаху врезался в окно, погрузился в квартиру, зачерпнул со скрежетом и хрустом, вылез и высыпал обломки домашней утвари на газон перед домом. Асфальтодробилки подползли к дому, приставили стальные наконечники к стенам и стали с грохотом крушить их. Из соседнего двора подползла красная пожарная машина, из пожарной пушки по окнам дома ударила струя воды. Пожарные в касках сноровисто раскатывали брандспойты. Таджики и землекопы, сокрушив и разметав толпу, с окровавленными ломами и лопатами ворвались в подъезд. Одновременно азербайджанцы электропилами вспарывали крышу.
Мэрог вздрогнул всем телом, облизал пересохшие губы. В дверь зазвонили и замолотили кулаками.
– Нина! Ниночка! Нина! Спасите! – вопил женский голос.
Мэрог схватил автомат, распахнул дверь. За дверью толпились три женщины. Они, воя и причитая, полезли в дверь. Мэрог дал по ним очередь в упор. Клочья мяса полетели на лестничную площадку, женщины попадали. Схватив левой рукой чемодан, Мэрог пробежал по их агонизирующим телам, кинулся наверх. Сверху по лестнице бежали соседи. У некоторых в руках были топоры и ножи. Мэрог стал расстреливать их, поднимаясь выше, расчищая себе дорогу. Грохот, скрежет и крики стояли в доме. Стены тряслись. Мэрог поднялся на несколько пролетов и увидел четверых азербайджанцев с пистолетами, проникнувших в дом с крыши. Они открыли по нему огонь. Уворачиваясь, он дал последнюю длинную очередь. Азербайджанцы с криками и стонами повалились, но за ними лезли другие. Раздались выстрелы, пуля попала Мэрог в шею. Он бросил пустой автомат, зажал рану и с чемоданом кинулся вниз. Еще одна пуля впилась ему в бок. Постанывая, он бежал вниз. Азербайджанцы не отставали. Нижние этажи дома сильно сотрясались, трещины змеились по стенам, вода, пущенная пожарными, била в окна, оставшиеся в живых жильцы визжали. Мэрог глянул вниз – толпа таджиков с ломами в руках поднималась со второго этажа.
– Канед! [4] – закричали они, увидав его. Обхватив чемодан обеими руками, он кинулся в первую попавшуюся распахнутую дверь квартиры и замер: перед ним возник ковш экскаватора, загребающий квартиру. Мэрог прижал чемодан к груди. Ковш со скрежетом надвигался. В нем крошились сервант с посудой, трещали книжные полки, лопалась кожа дивана, мягко взорвался телевизор. Громадные зубья ковша приближались. Мэрог попятился, кинулся назад. Но потные темнолицые таджики были уже совсем рядом.
Ломом ударили по голове. Мэрог упал, выпустил чемодан. Десяток смуглых рук вцепились в синий чемодан. Мэрог из последних сил боролся с этими руками. Не обращая на него внимания, таджики раскрыли чемодан, вытряхнули мальчика на пол. Мэрог цеплялся, цеплялся, цеплялся окровавленными руками.
– That’s him, fucking bastard! – раздался женский голос, и сквозь засаленных таджиков потянулась, потянулась, потянулась красивая рука с маленьким позолоченным браунингом, приложила дуло к бледно-розовой, беззащитной груди спящего мальчика, нажала курок.
– Не-е-е-е-т!!! – дико закричал Мэрог, рванулся и впился зубами в чью-то вонючую ногу в стоптанной кроссовке.
– Саг! [5] – прорычали сверху, и острый конец лома с хрустом вошел Мэрог в висок.
Мэрог открыл глаза.
«Мерседес» по-прежнему ехал по МКАД.
И мальчик по-прежнему спал рядом с Мэрог в открытом чемодане. Мэрог с тяжелым стоном выдохнул, встряхнулся, склонился и прижался головой к телу мальчика.
– Что с тобой? – оглянулся с переднего сиденья Трыв. – Вижу : твое сердце неспокойно.
– Я теряю границу между мирами, – ответил Мэрог. – Мясные сны наползают.
– Это естественно, брат Мэрог. Мясные сны наползают, когда мясо клубится.
– Мясо давит по всем мирам, – вставил Обу, выезжая на левую полосу. – Твое сердце молодо, Мэрог. Положи себя на Лед. И мясные сны отвалятся.
Внезапно «Мерседес» качнуло. И слабо застучало спущенное колесо.
Обу стал выруливать вправо и встал на обочине.
Сидящие в машине напряженно переглянулись. Мэрог закрыл чемодан, вынул из спортивной сумки пистолет с глушителем. Трыв достал из-под сиденья короткоствольный автомат, снял с предохранителя.
Обу выглянул в окно:
– Оба колеса справа. Это не случайность.
– Есть два запасных? – спросил Мэрог.
– Есть, слава Свету, – ответил Обу и забрал автомат у Трыв. – Меняй колеса.
И сразу же связался с Дор:
– Мы стоим. Два колеса спустило. Это не похоже на случайность. Нужны братья.
– Я иду, – ответил Дор.
– Нет! Это опасно. У тебя торчит крыло.
– Это не страшно.
– Ты притянешь мясо.
– Я верю сердцу, Обу. Я иду к вам.
– Дор, нам нужны братья! Мясо клубится. Я ведаю.
– Я зову щит.
– Это опасно! Мясо чувствует их. Нам нужны просто братья!
– Я зову их.
Трыв вышел, принялся менять переднее колесо. Внедорожник с торчащим крылом проехал мимо и остановился в десяти метрах. Обу опустил темное стекло. К «Мерседесу» подъехала белая «Тойота» ДПС с мигалкой. Из нее вышел полноватый лейтенант с одутловато-недовольным лицом, незажженной сигаретой в пухлой руке, козырнул:
– Здорово живете!
Продолжая крутить домкрат, Трыв поднял голову:
– Здоров.
– Оба сразу? Дела! Как говорится, и на мерина бывает проруха. Помочь?
– Обойдемся, лейтенант, своими силами. – Мэрог ответил вместо Трыв, опуская свое темное стекло и держа пистолет наготове. – Этих сил у нас теперь – хоть жопой ешь!
Обу, Мэрог и Трыв рассмеялись.
– Это точно… – усмехнулся лейтенант и нервно зевнул, захлопал по карманам. – Блин, куда же я ее… как всегда в машине…
Он обернулся, чтобы крикнуть напарнику, но Мэрог высунул в окно руку с зажигалкой, щелкнул:
– Землячок.
– Ага… – лейтенант наклонился, прикурил. – Спасибо. Ну ладно, бывайте.
– Бывай.
Лейтенант, попыхивая сигаретой, сел в «Тойоту», и она уехала.
Мэрог прикрыл глаза и облегченно выдохнул:
– Надо положить себя на Лед.
– Лед – наш престол. Он дает равновесие. А Свет дает силу.
– Свет дает силу, – повторил Мэрог и снова прикрыл глаза.
Трыв поменял колеса.
«Мерседес» поехал дальше. Мэрог снова открыл чемодан и осторожно взял руку спящего мальчика:
– Мясо сильно. Но у его сил есть пределы.
– Мясо опасно, брат Мэрог. Но у него нет престола, – произнес Обу.
– Мясо только алчет и клубится, – добавил Трыв, протирая руки влажной салфеткой.
– Потому что чует близкую гибель, – добавил Мэрог, бережно сжимая безвольные, прохладные пальцы мальчика.
«Мерседес» свернул на Киевское шоссе в сторону аэропорта Внуково.Малый Круг надежды
Сердце мое чувствует присутствие братьев.
И я покидаю свой сон. Который постоянно вижу последние годы. Сон, помогающий мне спать на планете Земля. Сияющий сон мой. Сон, который всегда со мной:
Мы наконец вместе, все, все, все до единого, мы приближаемся к Месту, оно уже совсем близко, я вижу его, оно выплывает из тумана, оно неминуемо, оно так желанно и неизбежно, что я боюсь потерять сознание в последний момент и держусь, держусь, держусь за братьев и сестер, руки мои обнимают их, я в их толпе, в родной толпе, я прижимаюсь к ним, я трогаю их тела, которые совсем скоро растворятся в Свете, растворятся вместе со мной, растворятся навсегда, я вглядываюсь в лица, в родные лица, окружавшие меня все эти десятилетия, помогавшие идти к нашей цели, я слушаю биение их сердец, последние удары этих мясных моторов, прятавших Свет, присущий нам, Свет, которым скоро станем мы все, Свет Изначальный, Свет, не давший нам погибнуть на страшной планете Земля, Свет, который совсем, совсем, совсем рядом.
Рука брата Мохо трогает мое лицо. Я узнаю и вспоминаю. И просыпаюсь телом. Открываю глаза. Брат Мохо и сестра Тбо стоят в изголовье моего ложа. Они взволнованы. И я сразу понимаю – почему. Им не надо произносить убогих земных слов: сердца их лучатся радостью. Я слушаю их сердца. И понимаю, какая это радость. Сердце мое трепещет ожиданием. Оно гораздо старше и сильнее сердец братьев. Но не потеряло способность невинно трепетать ожиданием. Сердце мое дрожит. Совсем как тогда, в Альпах, куда я попала девочкой. Грудь моя кровоточила. Ледяной молот потряс ее. И разбудил юное сердце. А старик Бро коснулся моего сердца. Так, что оно затрепетало сладким ожиданием Света.
Я шевелю пальцами. И поднимаю свои худые руки. Протягиваю их братьям. Дрожат мои руки. Склонясь, Мохо и Тбо берут мои ладони. Кладут себе на грудь.
Сердце мое приветствует их сердца.
Мохо и Тбо снимают одеяло с тела моего. Из горных трав, продлевающих жизнь плоти, соткано оно. Старое тело мое встречается с воздухом Земли. Горек этот воздух и разрушителен.
Входят братья Мэф и Пор, помогающие мне каждое утро. Тела их молоды и мускулисты. Дышат они силой и покоем. Мощные руки братьев подхватывают тело мое. Измождено оно земною жизнью. Иссушено сердечным веданием. Испито страданиями от отсутствия Дара Поиска. Дара, которым обладали только Бро и Фер. Дара, позволяющего найти всех сразу. Дара, который так и не открылся мне одной за эти шестьдесят лет. Которого я так мучительно жаждала всю свою настоящую жизнь. О котором постоянно молило сердце. О котором ревел мозг. О котором кипела кровь. О котором гудели кости.
Руки братьев несут меня в просторный каменный зал. Голубая раковина ждет меня. Братья бережно кладут немощное тело мое в теплую раковину. Парным коровьим молоком наполняется она. Бурлит молоко и пенится. Глотает мое тело. В зале звучат голоса братьев. Каждый из них тихо говорил что-то. И каждого из них помнит мое сердце. Десятки, сотни голосов сплелись в невидимый рой под мраморным куполом. Они всегда со мной. Я слушаю их. Голоса звенят. С этой музыки начинается каждое утро мое.
Я закрываю глаза.
И повисаю в пространстве.
И вижу сердцем всех наших.
В эту секунду их 21 368.
Вместе со мной – 21 369.
В мире мясных машин обретаются оставшиеся 1631. Их голосов не слышно в хоре. Я не вижу их сердец. Они еще ждут пробуждения. Ждут встречи с ледяным молотом. Ждут нас.
Быстро отдав мне свое тепло, парное молоко уходит из раковины. Мэф и Пор поднимают меня. Оборачивают простыней, сотканной из отборного льна. Сажают на два синих камня. Пальцы братьев помогают слабому телу моему избавиться от переработанной пищи Земли. Затем они обмывают меня под ледяной струей горной воды. Кристальная струя взбадривает. Память о спокойных льдах гор хранит она.
И я начинаю жить.
Мэф и Пор переносят меня в гардеробную. Я сажусь на теплый мрамор. Выбираю платье на сегодняшний день. Разные оттенки у платьев моих – от бледно-голубого до темно-синего. Но у всех платьев покрой один и тот же.
Знаю сердцем, что сегодняшний день особенный. Выбираю шелковое платье чистейшей голубизны. Сестра Вихе бирюзовым гребнем расчесывает мои редкие и совершенно седые волосы. Сестры Нюз и П растирают тело мое кунжутным маслом. Опершись на руки сестер, встаю я. И платье облекает меня. Сестры берут меня под руки. Ведут в небольшую круглую комнату. Из пурпурного камня гор вырублена она. Здесь капает вода и стоит чаша с чаем из таежных трав. Дают силу они старому телу моему. По утрам нахожусь я в этой комнате 23 минуты. Пригубливая чай маленькими глотками, отпускаю сердце. И сосредоточиваюсь умом. Сфера пурпурная заставляла меня вспомнить беспощадный мир Земли. Язык мясных машин вспоминаю я, их нравы и желания. Всплывает их угрюмый мир во мне. Готовит меня к борьбе дальнейшей.
После сферы пурпурной приступаю я к делам.
Но сегодняшний день особенный. И особенное дело надвигается. Мир мясных машин не интересует меня. Иду я в зал Трапезы. Просторный он, белый. Окна открыты. Шум прибоя доносится с берега. Бьется неподалеку Океан, нами созданный. Рокот его напоминает о Великой Ошибке. Посреди Трапезной большой круглый стол из камня сиреневого. Средний Круг помещается за столом. 230 братьев и сестер.
Я сажусь за стол. Фрукты и овощи лежат здесь. Каждое утро садятся за стол все братья и сестры, живущие со мной в Доме на острове. Сегодня они тоже здесь. Я вижу их сердца.
Га, Норо, Рат, Мохо, Тбо, Мэф, Пор, Вихе, Нюз, П, Шэ, Форум, Дас, Руч, Би, О, Ву, Сам, Он, Ут, Зе и Югом сидят со мной. Но не для того, чтобы начать трапезу, как обычно. Они хотят сообщить мне что-то очень важное. Они знают то, о чем сладко догадывается мое сердце. О чем я мучительно грезила последние годы. Что нарастало предчувствием. Что билось в сердце световой волной. И чего так жаждали все мы.
В зале Трапезы нами принято говорить только на земном языке. Дабы сердца наши были спокойны во время поглощения пищи. Но это утро мы не помним о еде. Брат Га, мой главный помощник в доме, нарушает тишину:
– Храм, он уже с братьями.
– Я ведаю , – отвечаю я, сердце сдерживая.
– Мясо клубится, – вздрагивает сестра Шэ. – Мясо противится Братству.
– Я ведаю .
– Мясо порождает трудности, – смотрит прямо Форум.
– Я ведаю , – отзываюсь я, справляясь со сполохом сердечным.
– Братство борется за него, – говорит брат Ву. – Он на пути к нам.
– Я ведаю .
– Щит прикрывает его.
– Я ведаю .
– Если Свет раздвинет мясо, сегодня к вечеру он будет здесь, – говорит сестра Зе.
Не в силах она сдерживаться. Вспыхивает сердцем.
– Я знаю ! – отвечаю я, воспламеняясь ответно.
Сильное сердце мое вспыхивает. Нарушает оно строгий порядок Дома. Мы говорим сердцами. Мы слишком долго ждали. И столько раз ожидание не сбывалось. Но и в этот раз сердца всех обитателей Дома только верят. А я – знаю ! Потому что я хотела ! Я ужасно хотела знать, что на этот раз все сбудется, все встанет на места, все сложится, все сойдется, совпадет, сольется воедино: приоткроется мясная завеса, обретутся оставшиеся и затерянные, замкнется Великий Круг. И просияют сердца. И распадутся мышечные волокна. И треснут кости. И распылится мозг. И оборвется цепь страданий. И Свет рассеет по Вселенной атомную пыль.
Сердце не ведало иного прежде.
Сердце не ведает иного теперь.
Сердце говорит о главном.
Мы замираем за круглым столом.
Сердца наши пылают.
Заветные слова лучатся. Текут Светом Изначальным. В доме нас теперь ровно 23. Малый Круг. Самый Малый. Есть Средний (230) и Большой (2300), составляемые Братством по судьбоносным мгновениям. Это Круги Поддержки. И Решений. Но сегодня, в день ожидания, есть Малый Круг. Это Круг Надежды. Ибо восемь раз мы ждали. Восемь раз надеялись. Восемь раз верили. И надежде не суждено было сбыться. Страшный мир Земли восемь раз отнимал у нас Самую Главную Надежду.
Сегодня мы надеемся в девятый раз. Малым Кругом Надежды. Составив его, мы знаем , что еще шесть Малых Кругов образованы Братством в эти минуты. Далеко они отсюда. Океан разделяет нас. В разных странах соединились шесть Малых Кругов. Братья чувствуют нас. Сердца их горят надеждой. Я вижу сердцем все эти Круги. Каждый из них.
Я говорю с ними.
Наш Круг говорит с ними.
48 земных минут.
Сердца наши успокаиваются. Руки разжимаются. Я открываю рот и полной грудью вдыхаю горький воздух Океана. Воздух нашей Великой Ошибки. Которая требует исправления.
Братья и сестры смотрят на меня.
Сердца их вслушиваются.
– Мы должны быть готовы , – шепчу я.
Сердца понимают.
Сердца трех
На одиннадцатом километре Киевского шоссе «Мерседес», за рулем которого сидел Обу, на большой скорости стали обгонять черный «Геландеваген» с включенным синим проблесковым сигналом и следующий за ним джип охраны.
Обу, Трыв и Мэрог радостно вскрикнули.
– Это Уф! – застонал и вспыхнул Мэрог. – Слава Свету! Щит с нами!
– Свет с нами! – произнесли Трыв и Обу.
– Свет с нами! – радостно повторил Обу, направляя «Мерседес» вслед за джипом.
Кортеж из трех черных машин понесся дальше.
Свернули на Внуково, затем к аэродрому, миновали главный терминал и подъехали к терминалу частных самолетов. «Геландеваген» остановился, задняя дверь его приоткрылась. И сразу же Мэрог вышел из «Мерседеса» с синим чемоданом в руках, осторожно передал чемодан в «Геландеваген». Его жадно приняли две пары рук. Одни руки он не мог не узнать – решительные, белые, с золотистыми волосиками на широких запястьях и небольшими розовыми ногтями.
– Уф! – выдохнул Мэрог, и сердце его вспыхнуло восторгом.
Но чемодан исчез в недрах «Геландевагена», дверь с затемненным окном закрылась, машина подъехала к шлагбауму терминала. Провожая ее восторженным взглядом, Мэрог приложил руки к груди. Губы его задрожали, ноги подкосились. Он упал на колени:
– Уф…
Обу и Трыв выскочили из «Мерседеса», подбежали, стали поднимать Мэрог. Подошел милиционер, прохаживающийся возле терминала:
– Что случилось?
Обу и Трыв подняли Мэрог на ноги.
– Сердце, – ответил Обу милиционеру.
– Уф… – произнес Мэрог и со стоном втянул в себя воздух.
Обу и Трыв повели его, пошатывающегося, к машине.
– Работы до хрена, вот и схватило… – болезненно скривил губы Обу, минуя уставившегося милиционера.
– Ну… давайте я дежурного врача вызову? – Милиционер вынул рацию из кармашка.
– Спасибо, земляк, у нас все есть, – ответил Трыв.
Они усадили Мэрог в «Мерседес», Обу развернул машину и стал отъезжать.
После короткой проверки документов «Геландеваген» миновал шлагбаум и выехал на аэродром. За ним проследовал джип охраны. Подъехав к небольшому реактивному самолету, машины остановились. Охрана вышла, обступила «Геландеваген». Из него вышли Уф и Борк. Уф нес кейс, Борк чемодан. Один из охранников потянулся к чемодану, но Борк качнул головой:
– Не надо, я сам.
Уф пожал руку начальнику охраны, тот пожелал счастливого пути. Люк самолета открылся, спустили трап. Красивая голубоглазая стюардесса в голубой униформе и голубых перчатках показалась в люке и тепло улыбнулась. Уф первым поднялся по ступенькам, пожал руку стюардессе, прошел в салон, кинул кейс на кресло. Борк следом внес чемодан, поставил в салоне. Из кабины вышли двое пилотов, поприветствовали Уф, доложили о готовности к полету. Пилоты не были братьями Света. Уф перебросился с ними парой формальных фраз, и они скрылись в кабине. Стюардесса, сестра Но, заперла дверь салона. Борк и Уф положили чемодан на стол, открыли. Мальчик спал. Борк сильно побледнел, вздрогнул, вспыхнул. Губы его задрожали, он опустился на колени подле чемодана, вцепился руками в ковер, схватил, сжал, ломая ногти. Из груди его вырвался стон. Сестра Но, увидев мальчика, закрыла лицо тонкими пальцами.
Уф хранил спокойствие. Его могучее сердце, совершившее много подвигов во имя Света, было послушно ему. Осторожно развернув мальчика, он уложил его поудобнее, сел в кресло, положил руку на вздрагивающую белобрысую голову Борк. И быстро помог сердцем. Щеки Борк порозовели, глаза прикрылись, голова бессильно свесилась на грудь.
– Свет с нами, – произнес Уф, прикрывая свои маленькие белесые ресницы.
– Свет… Свет… с… – чуть слышно пролепетал Борк и со стоном повалился навзничь.
Стряхнув оцепенение, Но склонилась над Борк.
– Его сердце устало ждать, – произнес Уф.
– Помоги, – попросила Но. – Я не справлюсь.
Уф приблизился, взял Борк за одну руку, Но – за другую. Сердца их помогли сердцу Борк. Он открыл глаза. Его подняли, посадили в кресло.
– Свет скоро избавит тебя от тела. – Уф коснулся кончиками пальцев бледного, покрывшегося испариной лица Борк.
Борк непрерывно смотрел на мальчика. Отстранив руку Уф, захотел встать. Но Уф удержал его:
– Положи себя на Лед.
Борк со стоном закрыл глаза. Но, вздрагивая всем телом, взяла Уф за руку и держалась за нее, как за якорь, непрерывно косясь на спящего в чемодане мальчика.
– Держитесь в себе, – сказал Уф.
И почувствовал приближающиеся сильные сердца, глянул в иллюминатор: к самолету подрулил черный «Мерседес-600» с правительственным номером в сопровождении милицейской «Ауди».
– Братья! Слава Свету! – Но прижала руку Уф к груди, встала и кинулась к выходу.
Вскоре в салон вошли братья Одо и Ефеп. Большой, полный, седовласый, синеглазый и длиннобородый Одо был облачен в темно-лиловую рясу. На груди у него висели крест и панагия митрополита, пухлая белая рука сжимала посох. Невысокий Ефеп, с коротким ежиком седоватых волос на подвижной голове, белыми усами, мутно-голубыми глазами и небольшой бородкой, был одет в светло-серый костюм с трехцветным значком депутата Государственной думы РФ на лацкане.
Закрыв за ними дверь салона, Но встала у двери.
Войдя, братья остановились. Глаза их тоже остановились. На спящем в чемодане мальчике. Одо отдал посох Но и, не спуская с мальчика глаз, медленно присел на пол перед чемоданом, шурша рясой. Ефеп стоял неподвижно. Слегка выкаченные глаза его смотрели не мигая.
Уф шагнул к ним. Протянул руки.
Ефеп протянул свои. Одо медленно поднял свои могучие длани. Руки трех братьев соединились над спящим, образуя круг. Братья закрыли глаза.
Борк в кресле и Но с посохом у двери замерли.
Через пару минут легкая дрожь пробежала по плечам братьев. И руки их разжались.
– Да! – тяжелым басом произнес Одо, открывая глаза.
– Да… – прошептал Ефеп, облегченно выдохнув.
– Да, – четко произнес Уф.
Борк всхлипнул и зажал себе рот, скорчась от радости в кресле. Бросив посох, сестра Но кинулась к Борк, дрожа обняла его.
Одо, Ефеп и Уф не обратили на них внимания.
– Я был уверен. Но не совсем, – проговорил Уф.
– Даже Храм не видит спящие сердца, – пробормотал Ефеп, быстро моргая.
– Храм ведает , но не видит, – пророкотал Одо. – Лишь Большой Круг способен видеть .
– Только если спящее мясо будет в центре Большого Круга, – возразил Ефеп.
– Спящему мясу уже не нужен Большой Круг, – резко выдохнул Уф.
– Спящее мясо здесь, – пробасил Одо, поднимая посох с пола, вставая с колен и привычно оглаживая бороду.
– Мясо проснется. – Ефеп осторожно приблизил свое лицо к мальчику.
– Мясо станет Светом! – тряхнул седой гривой Одо.
Борк и Но рыдали.
– Положите себя на Лед! – пророкотал Одо, стукнув в пол посохом.
Борк и Но смолкли, всхлипывая.
– Брат, мы сердцем завидуем тебе. – Ефеп взял Уф за руку. – Ты летишь с ним.
– Ты увидишь Храм. Ты поможешь встрече ! – подхватил Одо.
– Ты замкнешь Великий Круг! – Ефеп крепко сжал руку Уф.
– Вам нельзя лететь со мной, – произнес Уф, поддерживая сердцем.
– Мы знаем, – ответил Одо.
– Мы знаем, – успокоился и успокоил Уф Ефеп.
– Я тоже знаю это, – мучительно улыбнулся Уф, и рыжеватые маленькие ресницы его сомкнулись. – Ваше место здесь. Мясо клубится.
– Мы сдержим ! – уверенно пророкотал Одо.
Мальчик застонал во сне. Все, кроме Уф, насторожились.
– Ему спать еще четыре часа, – сказал Уф. – Пора, братья.
Одо и Ефеп кратко вспыхнули :
– Уф! Но! Борк!
– Одо! Ефеп! – ответно вспыхнули остающиеся.
Ефеп вышел первым из салона. Одо кинул тяжкий взгляд на спящего, погасил сердечный сполох, стукнул посохом в пол и вышел, яростно шелестя рясой.
Борк, Уф и Но сняли с мальчика памперс, одели его в синие шорты и голубую майку с большой алой клубникой на груди. Положили спать в кресло.
Уф нажал кнопку вызова пилота. В дверь салона деликатно постучали. Сестра Но открыла. Вошел худощавый, стройный, черноволосый, кареглазый и чернобровый пилот. Уф пожал ему руку. Пилот покосился на спящего мальчика, быстро перевел взгляд на Уф:
– Мы готовы?
– Да, – кивнул Уф.
– Я зову пограничников. – Пилот вышел.
Вскоре к самолету подрулила зеленая «Лада» погранслужбы. На борт поднялись молодой лейтенант и среднего возраста капитан, стали проверять паспорта и багаж. Мальчик был вписан в паспорт Уф как его сын.
– Нагонялся в футбол, поди? – с улыбкой покосился лейтенант на спящего мальчика, ставя в паспорте штамп «вылет».
– Если бы! – грустно покачал головой Уф, забирая паспорт. – Компьютерные игры. И оторвать невозможно.
– В шесть лет? Здорово! – Лейтенант одобрительно покачал головой.
– И куда все катится с этими компьютерами? – заискивающе заглянул в глаза Уф круглолицый таможенник.
– На тот Свет, – серьезно ответил Уф.
Борк и Но сладко вздрогнули сердцем. Таможенник как-то потух и заскучал, кивнул и направился к выходу.
– Счастливого пути, – улыбнулся лейтенант.
– Счастливо оставаться, – ответил Уф.
Офицеры вышли. Люк закрыли. Двигатели самолета загудели, он стал выруливать на взлетную полосу.
– Когда он проснется, мы будем лететь. – Уф пристегнул ремнем мальчика, сел в кресло рядом и пристегнулся сам. – Нужна будет еще небольшая доза. Но не глубокий сон. Там тоже граница.
– Я подберу нужное, – ответила Но.
Самолет взлетел.
Уф глянул в иллюминатор на удаляющуюся страну Льда и облегченно откинул свою крепкую рыжеволосую голову на чистый и белый подголовник кресла:
– Gloria Luci! [6]
Арсенал
7 июля в 4.57 по местному времени товарный поезд Усть-Илимск – Санкт-Петербург – Хельсинки пересек границу Финляндии и стал тормозить в таможенном пакгаузе. Косой луч только что взошедшего солнца заскользил по двум голубым, сцепленным вместе тепловозам и восемнадцати серовато-белым вагонам-рефрижераторам с огромной голубой надписью «ЛЁД». Как только состав остановился, к тепловозам подошли младший лейтенант таможенной службы и двое полицейских с овчаркой. Голубая дверца второго тепловоза открылась, и по стальной лестнице спустился высокий стройный блондин в светло-синем летнем костюме и бело-голубом галстуке с серебристой заколкой фирмы «ЛЁД». В руке он держал голубой кейс.
– Хювяа хуомента! [7] – бодро произнес блондин и улыбнулся.
– Топрое утро, – не очень бодро ответил низенький остроносый таможенник с редкими усиками.
Блондин протянул ему паспорт, тот быстро нашел печать с отметкой о пересечении границы, вернул паспорт, повернулся и засеменил к белому зданию таможни. Блондин размашисто двинулся рядом, полицейские остались возле поезда.
– Судя по запаху гари, у вас тоже засушливое лето? – заговорил блондин на отличном финском.
– Да. Но это горят ваши торфяники, – неохотно ответил таможенник.
Они вошли в здание, поднялись на второй этаж. Сопровождающий открыл дверь в небольшой кабинет. Блондин вошел, таможенник закрыл за ним дверь, оставшись в коридоре. За столом сидел полноватый и лысоватый капитан таможенной службы, пил кофе и перебирал бумаги.
– Здравствуйте, господин Лаппонен.
– Николай! Здравствуй! – Капитан улыбнулся, подавая пухлую крепкую руку. – Что-то давно мы с тобой не виделись!
– Два последних поезда были днем. Принимал господин Тырса. – Блондин пожал протянутую руку.
– Да, да, да… – Капитан с улыбкой смотрел на блондина. – Ты всегда бодрый, подтянутый. Приятно смотреть.
– Спасибо. – Блондин щелкнул замком кейса, открыл, протянул папку с документами.
Лаппонен взял их, надел узкие очки в тонкой золотой оправе, пролистал:
– Как всегда, восемнадцать?
– Восемнадцать.
Блондин вынул из кейса маленький ледяной молот, длиной с мизинец, с кусочком горного хрусталя вместо льда и положил на документы.
– Это что такое? – поднял брови Лаппонен.
– Фирме «ЛЁД» в этом году исполняется десять лет.
– А-а-а! – Лаппонен взял сувенир. – А я уж подумал – ты мне взятку хочешь дать!
Они рассмеялись.
– Десять лет! – Лаппонен вертел крошечный молот. – Время несется, как Шумахер. А мы стоим на месте. И таращимся. Ладно, пошли глянем…
Он встал, взял папку:
– Теперь каждый вагон досматривают. И я обязан присутствовать. Такие времена, сам знаешь.
– Знаю.
– Закон есть закон.
– Закон делает нас людьми, – произнес блондин.
Лаппонен посерьезнел, вздохнул:
– Хорошо ты сказал, Николай. Если бы все русские это понимали.
Они подошли к поезду. Началась процедура таможенного досмотра. В каждом вагоне-рефрижераторе лежал лед, напиленный одинаковыми метровыми кубами. Последний вагон был заполнен лишь на одну треть.
– В Сибири не хватило льда? – усмехнулся Лаппонен, ставя печать на накладную.
– Не успели с погрузкой. – Блондин забрал документы, убрал в кейс.
Лаппонен протянул руку:
– Счастливого пути, Николай.
– Счастливо оставаться, господин Лаппонен, – пожал ее блондин.
Таможенники пошли к зданию, блондин – к голове поезда. Дойдя, поднялся на тепловоз по лестнице, закрыл за собой дверь. Впереди поезда загорелся зеленый свет, состав тронулся и пополз. Блондин открыл дверь салона. Отделанный в стиле хай-тек, с сиренево-серой мягкой мебелью, прозрачной барной стойкой и четырьмя маленькими спальными купе, салон был деликатно подсвечен мягким голубоватым светом. В кресле дремал второй машинист, за стойкой позвякивала посудой рослая блондинка-проводница.
– Все. – Блондин сел в кресло, положил кейс на стеклянную полку.
– Как долго теперь… – Потянулся, просыпаясь, рыжеволосый машинист.
– Новые времена у мясных. – Блондин снял пиджак, повесил на вешалку, зевнул. – Мир, дай мне…
– Серого чая, – подхватила проводница, косясь темно-синими глазами.
– Точно. И добавь к этому четыре сливы.
Проводница исполнила, принесла на подносе, подала:
– Ты совсем не спал, Лаву.
– Сон со мной, – ответил он и надкусил сливу.
Проводница села рядом с ним, положила ему голову на колени и сразу заснула.
Лаву съел сливы, выпил сероватый настой. И закрыл глаза. Второй машинист последовал его примеру.
Поезд набрал скорость и пошел по лесистой местности.
Через 48 минут он затормозил, свернул с главной магистрали и медленно пополз через густой еловый лес. Вскоре впереди в лесу обозначился пологий холм и большие серебристые ворота с голубой надписью «ЛЁД». Поезд подошел к воротам и дал сигнал. Ворота стали раздвигаться.
Спящие в салоне проснулись.
– Слава Свету, – произнес Лаву.
Проводница и второй машинист сжали его руки.
Состав проехал ворота. Сразу за ними начинался тоннель, уходящий под землю. Въехали в темный тоннель. Но ненадолго: впереди прорезался свет, по обе стороны стали наплывать узкие платформы, матово засияли голубым и белым гладкие стены.
И поезд остановился.
Сразу же к нему подошла многочисленная охрана в голубой униформе и подъехали на автопогрузчиках рабочие в белых комбинезонах и касках. Лаву, с кейсом в руке, первым сошел на платформу и, не обращая ни на кого внимания, быстрым шагом направился к стеклянному лифту в середине платформы. На ходу вынул электронный ключ, приложил к трехгранной выемке. Двери лифта бесшумно раздвинулись, Лаву вошел. Двери закрылись, лифт тронулся наверх. И быстро остановился. Лаву вышел и оказался у массивной стальной двери с видеокамерами и трехгранной выемкой для электронного ключа. Он приложил ключ. Двери разошлись, открывая большой светлый, голубовато-зеленый и совершенно пустой зал с огромной мозаичной эмблемой фирмы «ЛЁД» во весь пол: два скрещенных ледяных молота под алым, пылающим огнем сердцем. На сердце стоял седовласый худощавый старик в белом, с белой, аккуратно подстриженной бородой. Желтовато-синие глаза внимательно смотрели на Лаву. Лаву поставил кейс на мраморный пол:
– Шуа!
– Лаву!
Они подошли друг к другу и обнялись. Старик был гораздо мудрее сердцем. Поэтому, зная, какой далекий путь проделал Лаву, он сдержал свое сердце, позволив ему лишь короткую и мягкую вспышку – братское приветствие.
Лаву облегченно замер в объятиях старика: сердце Шуа всегда дарило неземной покой.
Старик первым разжал объятия, морщинистой, но твердой рукой коснулся лица Лаву и произнес по-английски, с американским выговором:
– Свет с нами.
– Свет в твоем сердце, брат Шуа, – очнулся Лаву.
Старик в упор вглядывался в красивое молодое лицо Лаву, словно видел его впервые. Он сохранил способность радоваться встрече с каждым братом, как в первый раз, словно открывая заново родное сердце. Это давало старику огромную силу. Шуа видел сердцем дальше и глубже многих братьев Света.
– Ты устал после дороги, – продолжал Шуа, беря Лаву за руку. – Пойдем.
Лаву шагнул, но обернулся, глянул на оставленный на полу голубой кейс. Он стоял прямо на одном из огромных ледяных молотов мозаики, совпадая цветом со льдом и почти полностью исчезая из-за такого совпадения.
– Теперь это уже не нужно, – улыбнулся Шуа. – Никому не нужно.
Они вышли из зала и сразу же оказались в апартаментах Шуа. Здесь все было просто и функционально, но во всех комнатах присутствовал камень холодных оттенков. Шуа провел брата в комнату Покоя. Лаву встретили братья Кдо и Ай, приветствовали сердечным объятием, раздели, натерли маслами, уложили в ванну с травяным настоем и удалились. Шуа подал чашу с ягодным чаем.
– Я еще не верю. – Лежа в ванне из лабрадора, Лаву сделал глоток из чаши, откинулся на каменный выступ. – Сердце ведает, но разум не хочет верить.
– Твой разум иногда сильнее сердца, – произнес старик.
– Да. И меня огорчает это.
– Не огорчайся. Твой мозг много сделал для братства.
– Слава Свету.
– Слава Свету, – повторил старик.
В комнате повисла тишина. Лаву сделал еще глоток, облизал губы:
– Что мне делать теперь?
– Сегодня ты полетишь к Храм. Ей необходима помощь. Твоему сердцу это тоже поможет.
Лаву ничего не ответил. Молча и неспешно пил чай. Все это время старик неподвижно сидел поодаль. Наконец Лаву поставил пустую чашу на широкий край ванны, встал и вышел из зеленоватой воды. Старик подал ему длинный халат, помог надеть. Они перешли в трапезную. Здесь горели шесть больших свечей и стоял круглый стол с фруктами. Шуа взял гроздь темно-синего винограда, Лаву – персик. Они стали молча есть, пока не насытились.
– Почему Храм зовет меня? – спросил Лаву.
– Она встречает, – ответил Шуа.
Сердце Лаву встрепенулось. И поняло. Он задрожал.
– Ей нужен Круг, – еле слышно произнесли губы Лаву.
– Ей нужен сильный Круг, – отозвался Шуа. – Круг тех, кто знает Лед. Теперь ты будешь с ней. До конца.
– Но ты сильней меня сердцем. Почему ты не с ней?
– Я не могу оставить Арсенал. Я держу его сердцем.
Лаву понял.
Желто-синие глаза Шуа смотрели неотрывно. Его сердце помогло Лаву вспомнить Храм. Он видел ее дважды. Но только раз говорил с ней сердцем. Это сердце потрясло Лаву. Оно ведало без преград.
– Когда я вылетаю? – спросил он.
– Через четыре с половиной часа.
Лаву унял дрожь пальцев, вдохнул и выдохнул:
– Могу я в последний раз увидеть Арсенал?
– Конечно. Мы обязаны побывать там.
– Сейчас. Сию минуту!
– Нет, брат Лаву. Сию минуту твоему сердцу требуется глубокий сон в моей спальне. Ты возбужден. И теряешь равновесие. В Арсенал входят только сильные сердцем.
– Согласен, – произнес Лаву, помедлив.
– Я разбужу тебя, когда нужно.
Через два часа десять минут они вошли в лифт. Лаву отдохнул на просторной кровати Шуа, устланной белым мхом, и выглядел бодрым и спокойным. На нем был все тот же летний светло-синий костюм и свежая белая сорочка. Лифт поехал вниз. И когда остановился, у дверей возникли рослые охранники-китайцы с автоматами. Миновав их, Шуа приложил свою ладонь к светящемуся квадрату. Дверь поползла в сторону. Они вошли в большой светлый цех Распила и Обточки. Здесь трудилось несколько десятков молодых китайских рабочих. Проворные руки их, приняв ползущий по конвейеру метровый куб Льда, распиливали его на нужное число частей, обтачивали эти части, высверливали в них впадину, шлифовали и отправляли готовые наконечники ледяных молотов дальше по конвейеру – в цех Сборки. Шуа и Лаву двинулись между рядами трудящихся. Китайцы, не обращая на них внимания, напряженно и ловко делали свое дело. Быстрые руки их мелькали, стараясь, чтобы Лед не успел подтаять: за каждую каплю полагалось суровое взыскание. Шуа и Лаву медленно прошли цех насквозь. За ним располагался цех Кожи. Все те же молодые китайцы нарезали из шкур животных, умерших своей смертью, узкие полоски и клали их на ленту конвейера, ползущую дальше, в цех Рукоятей, где из дубовых сучьев выстругивались рукояти нужной толщины и длины. Два брата Света миновали и этот цех и вошли в главный – Сборочный. Он был самый большим из всех четырех. Войдя в него, Лаву остановился, закрыл глаза. Шуа осторожно взял его за плечи, помог сердцем. Лаву открыл глаза.
В цехе пятьдесят четыре китайца собирали ледяные молоты. Здесь было прохладно, китайцы работали в белых перчатках, шапках-ушанках и синих ватниках. Стены и потолок были расписаны в стиле традиционной китайской пейзажной живописи. С потолка вместе с холодным воздухом лилась спокойная китайская музыка. Готовые ледяные молоты по стеклянному конвейеру уходили вертикально вниз. Лаву подошел к конвейеру и остановился. Глаза его неотрывно следили за плывущими вниз молотами, сердце приветствовало и провожало каждый. Шуа понимал состояние Лаву. Искусственный свет, неотличимый от дневного, поблескивал на отполированных молотах, искрился на выгибах, затекал во впадины. Ледяные молоты медленно и неуклонно плыли вниз.
– Сила Льда… – произнесли побледневшие губы Лаву.
– Пребудет с нами… – Шуа сзади сжал его локти.
Лаву не мог оторваться от завораживающего зрелища уплывающих вниз молотов. Сердце его вспыхнуло.
Но Шуа поддерживал : сильные руки старика качнули Лаву, сердце направило , губы шепнули:
– Вниз!
Они подошли к двери лифта. Он повез их еще ниже. И снова встретила охрана с автоматами: глаза китайцев смотрели безучастно. Открывать самую нижнюю дверь Шуа пришлось не только ладонью: луч просканировал роговицу его глаз, чувствительные датчики вслушались в голос:
– Брат Шуа, хранитель Арсенала.
Стальные врата полуметровой толщины бесшумно растворились. И сразу же за ними возникла новая команда охраны, во всем белом, в противогазовых масках, с белыми автоматами в белых руках, сторожащие последнюю дверь – небольшую, круглую, из сверхпрочной стали. Паролем этого дня было китайское слово:
– Сяншуго! [8]
Услышав пароль, охрана расступилась, отвернулась. Шуа расстегнул пуговицу рубашки, вытянул платиновый ключ, всегда висящий на его шее, вставил в неприметное отверстие, повернул. Пропели невидимые ледяные колокола, массивная дверь пошла внутрь и влево. Шуа и Лаву шагнули в проем. Снова прозвенел лед: дверь встала на место.
Перед вошедшими раскинулся Арсенал Братства Света.
Громадное подземелье, узкое, но бесконечно длинное, хранило сотни тысяч ледяных молотов, лежащих ровными рядами в подсвеченных стеклянных сотах. Невысокий сводчатый потолок нависал над спящим Арсеналом Братства. Беломраморные плиты пола хранили идеальную чистоту. Ряды стеклянных ячеек были подернуты инеем: постоянный холод хранил драгоценный Лед. Здесь не было людей: лишь два робота-челнока, словно неусыпные муравьи, скользили по монорельсу над спящими молотами, следя и оберегая их ледяной покой. А чуть поодаль стеклянный конвейер бесшумно пополнял Арсенал: только что изготовленные быстрыми китайскими руками, новые молоты вплывали сверху непрерывным, грозно посверкивающим потоком и вливались в ряды спящего оружия.
Лаву сделал шаг, другой, третий. Шуа стоял на месте, сердцем отпустив Лаву.
– Лед… – произнесли губы Лаву.
Пальцы его коснулись стеклянных сот. И вздрогнули. Лаву вздрогнул сердцем.
Шуа подошел сзади.
– Льда больше нет там , – проговорил Лаву. – Сегодня я сопровождал последний поезд.
– Теперь Лед только здесь, – спокойно ответил Шуа, не помогая сердцем.
– Только здесь… – произнес Лаву.
– Только здесь, – твердо повторил Шуа.
Сердце Лаву боролось. Но Шуа упорно не помогал.
Лаву опустился на пол. Выдохнул. И после долгой паузы произнес:
– Мне трудно.
Шуа подошел:
– Тебе трудно поверить. И понять.
– Да.
– Положи себя на Лед.
– Я стараюсь . Хотя Льда там больше нет. Мне… трудно.
Голос Лаву задрожал.
– Лед здесь. – Руки Шуа опустились на плечи Лаву. – И он пребудет с нами до самого конца. И его хватит на всех. Я знаю. И ты тоже, брат Лаву, должен знать это.
Лаву сидел неподвижно, упершись взглядом в мраморные плиты пола.
– Ты должен знать это, – повторил Шуа, не помогая сердцем.
И сердце Лаву справилось само:
– Я знаю.
Он легко встал. Сердце его успокоилось.
– Кто сделает последний молот? – спокойно спросил он.
– Он уже изготовлен.
– Кем?
– Мною. Мы спустились сюда за ним.
Лаву понял.
Шуа коснулся синей кнопки одной из сот. Стеклянный экран отошел в сторону. Шуа взял ледяной молот, быстро приложил его к своей груди, моментально вспыхнул сердцем, протянул молот Лаву:
– Ты знаешь, кого он должен разбудить.
Лаву взял молот. Приложил его к своей груди, вспыхнул :
– Я знаю.
– Ты не только знаешь, – уверенно произнес Шуа, помогая .
– Я… знаю… – напряженно произнес Лаву.
И вдруг радостно улыбнулся:
– Я ведаю !
Шуа с силой обнял его. Ледяной молот коснулся лица Лаву. Лаву сжал древко молота. И вскрикнул. Его бледно-голубые глаза моментально наполнились слезами: сердце его ведало.
– Пойдем. Я буду провожать тебя, – произнес Шуа.
Горн
Храм сидела на пирсе в своем золотом кресле и смотрела в океан. Так она всегда встречала.
К концу дня северо-западный ветер не стих, и волны, разбиваясь и захлестывая пристань, ползли по розовому мрамору к креслу Храм, лизали ее босые, худые и слабые ноги. Бледно-голубые, почти выцветшие, но по-прежнему большие и ясные глаза Храм неотрывно смотрели туда, где скрывшийся за палевыми облаками солнечный диск коснулся океана. Рядом с Храм сидели братья Мэф и Пор, подставив свои мускулистые и загорелые тела влажному ветру. Другие братья и сестры ждали в доме, каждый на своем месте.
Сердце Храм вздрогнуло.
– Уже здесь! – прошептали ее губы.
И опершись костлявыми руками о гладкие золотые подлокотники, она стала приподниматься. Мэф и Пор вскочили, подхватили ее.
– Уже! – повторила она и радостно, по-детски улыбнулась, обнажив старые, пожелтевшие зубы.
Мэф и Пор вгляделись в океанский горизонт: он был по-прежнему пуст. Но сердце Храм не могло ошибиться: прошла минута, другая, третья, и левее мутного, тонущего солнечного диска возникла точка.
Ее сразу заметили из дома: раздались радостные вскрики.
– Мясо не удержало! – Худые пальцы Храм сжали широкие запястья братьев.
От дома по нисходящей лестнице бежали на пирс братья и сестры.
Белый катер приближался.
Храм двинулась к нему, но впереди ее босых и мокрых ног был край пирса. Братья удержали ее. Тело ее вздрагивало, сердце пылало.
– Уже здесь! – старчески взвизгнула Храм и забилась в руках братьев.
Худое тело ее извивалось, пена выступила на морщинистых губах. Подбежали братья и сестры, обняли, припали к ногам.
– Положи себя на Лед! – помог сердцем Га.
Тут же стали помогать другие, сдерживая собственный вой и рыдания. Но сердце Храм не хотело ложиться на Лед: скрюченные пальцы впивались в руки и лица братьев, тщедушное тело билось и извивалось, пена летела изо рта вместе с хриплым воем:
– Зде-е-е-есь! Зде-е-е-е-есь!!!
Впервые за долгие десятилетия непрерывного, ежеминутного ожидания сердце самой старшей и самой сильной сестры братства не справлялось с достигнутым. Сердце терялось. Могучее и мудрое, оно вдруг стало совсем юным и неопытным, словно только вчера удар ледяного молота разбудил его. Сердце Храм бессильно трепетало.
Братство почувствовало это.
Храм подняли на руки, обступили, прижались телами. Сердца обступивших вспыхивали. Храм извивалась. Десятки рук подняли ее к небу с проблесками первых звезд.
– Положи себя на Лед! – говорили губы и сердца.
Храм извивалась.
И словно дошедшая от приближающегося катера большая волна перевалила край пристани и белой соленой пеной окатила толпу борющихся за растерявшееся сердце. Храм затихла, провалившись в глубокий обморок. Пор бережно взял ее на свои могучие руки. Сердце Храм легло на Лед, дав ей покой.
Катер приближался.
Все смотрели на него.
Остроносый, белый, он мощно рассекал волны. Сделал полукруг и причалил к пристани. На палубе стоял Уф со спящим мальчиком на руках. Стоящие на пирсе вздрогнули, сдерживая крики. Катер тяжело покачивался на волнах. Бросили конец, пришвартовали, проложили трап.
Уф с мальчиком на руках сошел на пирс. Вслед за ним сошли Лаву с металлическим кофром и Борк.
Братья и сестры молча расступились. Уф сделал несколько шагов по мокрому мрамору. Лицо его было напряжено и неподвижно, словно маска. Но серо-синеватые глаза сияли. И он как мог сдерживал свое могучее сердце. Все почувствовали это. И тоже сдержали свои сердца. Уф увидел бесчувственную Храм на руках у Пор.
– Что с ней? – спросил он.
– Она ждала , – ответил Пор.
У ф понял.
– Пойдемте в дом, – произнес он и первым пошел вверх по лестнице.
За ним двинулся Пор. Остальные тронулись следом. Ветер с океана дул им в спины, теребил одежду, трепал длинные белые волосы бесчувственной Храм.
Уф с мальчиком на руках вошел в дом, миновал малую террасу, агатовый коридор и оказался в зале Пробуждения. Круглый, зеленовато-голубой, просторный, он служил местом для сердечного разговора. И в этом же зале пробуждали сердца новообретенных, открывали им путь к Свету Изначальному. Высокие узкие окна были открыты, круглый полупрозрачный купол нависал над залом.
Уф осторожно положил мальчика в центр небесно-синего мозаичного круга. Отошел и опустился на пол. Братья и сестры молча расселись по краю круга. Пор опустил Храм на прохладный пол рядом с Уф, и тот бережно принял в свои руки беловолосую голову мудрой сердцем.
В зале наступила тишина.
Только слышался океанский прибой да сонно перекликались пеликаны на побережье, готовясь к ночи.
– Откройте небо, – приказал Уф.
Полупрозрачный купол бесшумно раздвинулся. Над головами сидящих в круге распростерлось вечернее небо с молодым месяцем, подсвеченное оранжево-розовым на западе. Солнце зашло. С каждой минутой звезды проблескивали сильней. Полумрак наполнил зал. Фигуры сидящих застыли. Темнота спускалась с темно-синего неба. И лица братьев и сестер тонули в ней.
Наступила ночь.
Храм зашевелилась. Ее слабый стон раздался в зале. Уф осторожно приподнял ее голову. Губы Храм раскрылись в темноте:
– Он… здесь. С нами…
– Да, – тихо ответил Уф и бережно повторил ей сердцем.
Храм пришла в себя. Ей помогли сесть. Отвели с лица длинные волосы. И она узрела спящего мальчика.
– Он скоро проснется, – сказал Уф.
– Я знаю, – прошептали ее губы.
Все снова замерли.
Над открытым потолком зала пролетела ночная птица.
Мальчик пошевелился.
По темным фигурам сидящих в круге пробежала дрожь. Но Храм уже овладела своим сильным сердцем. Сердце повиновалось. Она знала, что делать. И ведала, что делать это надо быстро.
Мальчик поднял голову. Затем неуверенно приподнялся с мраморного пола, сел. Его слегка покачивало. Он повертел головой. Слабо позвал:
– Мам.
Сидящие в круге замерли.
– Ма-а-ам! – позвал мальчик громче.
И снова лег на пол.
Храм сжала руку Уф:
– Возьми его на грудь. Прикрой. Упрись.
У ф понял. Сорвал с себя рубашку. Подошел к мальчику, взял его сзади под мышки, поднял и прижал спиной к своей груди.
– Мам. Мама! – позвал мальчик и захныкал.
– Молот! – громко потребовала Храм, приподнимаясь.
Лаву поставил кофр к ее ногам. Это был стандартный кофр-холодильник Братства, вмещающий семь ледяных молотов. Щелкнув замком, Лаву раскрыл его. Синий свет осветил внутренность кофра и лицо Храм. В кофре лежал, морозно дымясь, один-единственный молот. Молот Шуа. И сразу же вперед выступили трое неизменных молотобойцев Дома на острове: Дас, Ву и Ут. Их опытные руки раздробили сотни ледяных молотов, разбудив десятки сердец. Но Храм качнула головой:
– Нет. Вы убьете его. Я ведаю.
Мальчик хныкал на груди Уф. По кругу прошел ропот: кто ударит? Темные фигуры братьев беспокойно зашевелились: если не могут опытные молотобойцы, то кто сможет? В темноте оживились сестры:
– Храм, я смогу!
– Храм, дай мне молот!
– Храм, мои руки сделают!
Но Храм качала головой:
– Нет.
Все зашумели:
– Кто ударит?
Мальчик хныкал. Уф стоял молча.
Храм наклонилась и взяла молот.
Все стихли.
Держа молот в руках, согнувшись, она двинулась к центру круга. Изможденное, худое тело ее плохо слушалось. Пошатываясь и оступаясь, с трудом перетаскивая костлявые ноги, она добрела до Уф. Увидев ее, освещенную синим светом раскрытого кофра, мальчик замолчал. Встав перед ним, Храм выпрямилась. Хриплое дыхание вырывалось из ее рта. Она сжала рукоять молота. Молот дрожал в ее руках, поблескивая в темноте.
Мальчик неотрывно смотрел на Храм. Она смотрела ему в глаза. Молот подрагивал в ее руках. Медленно она стала отводить его назад, размахиваясь. Сидящие в круге замерли, направив сердца.
Уф закрыл глаза, готовясь.
Молот описал полукруг и ударил в грудь мальчика. И тут же вылетел из рук Храм, упал на каменный пол, раскалываясь на посверкивающие в темноте голубые куски. Храм со стоном повалилась к ногам Уф. Мальчик вскрикнул и потерял сознание. Сестры кинулись к нему. Уф держал, не открывая глаз. Руки сестер коснулись тела мальчика:
– Говори сердцем!
– Говори сердцем!
– Говори сердцем!
Сердце мальчика молчало.
Уф открыл глаза. Сильное сердце его, перестав быть наковальней, ожило. Оно сзади поддержало настойчивые сердца сестер:
– Говори сердцем!
Голые ноги мальчика дернулись. Все замерли.
– Горн! Горн! Горн! – заговорило пробудившееся сердце.
Уф вскрикнул и, изнемогая сердцем, стал падать навзничь. Его подхватили, положили на пол. Мальчика взяли на руки, понесли бегом вниз по золотисто-голубым лестницам, в тихие и уютные покои Новообретенных. Братья и сестры кинулись туда.
Зал Пробуждения опустел.
Лишь на мозаичном полу остались лежать Уф и Храм. Да по-прежнему источал синий свет распахнутый кофр. Храм первая пришла в себя. Приподнявшись на руках, почувствовала Уф. Затем увидела его. Подползла, легла рядом, обняла худыми руками, мягко торкнула сердцем. Лежа на спине, Уф вздрогнул, пошевелился и втянул в себя влажный ночной воздух.
– Горн… – выдохнули его губы.
– Горн, – повторила Храм.
Их сердца произнесли новое имя.
– Я верил. Но не ведал, – произнес Уф.
– Я не верила. Но ведала, – отозвалась Храм.
Над ними в ночном небе сверкнула падающая звезда.
Уф протянул руку, поднял лежащий неподалеку кусочек Льда, сжал пальцами, положил себе на грудь. Пальцы Храм раздвинули его кулак, коснулись Льда. Руки их вместе сжали кусочек Льда.
– Лед сделал, – произнес Уф.
– Это сделал ты, – отозвалась Храм. – Ты смог . Ты заставил всех поверить. Всех, кроме меня…
– Я верил. Потому что я хотел . Очень хотел.
– Твое сердце знало, что доживем. Что увидим.
– Оно не знало. Но я верил Свету. Свету в моем сердце.
– В твоем мудром сердце.
– Свет помог нам.
– Свет помог нам, – повторила Храм.
– Наш Свет.
– Наш Свет…
Сердца их сияли.
Звезды сияли над ними.
Большой Круг
Мэрог управлял железной машиной. Я сидел рядом с ним. Обу, Трыв и Ясто сидели сзади. Мэрог вел железную машину через главный город страны Льда. Часы этого города показывали 18.35. Улицы города были заполнены множеством железных машин. Везущих мясных машин. Которые после рабочего дня направлялись из центра города в свои каменные дома. Где их ждали их близкие мясные машины. Где ждало счастье тела.
Мы ехали из центра города по улице, названной местными мясными машинами в честь одной мясной машины, очень известной в этой стране. Восемьдесят восемь земных лет назад эта мясная машина при помощи своих соратников свергла династию мясных машин, более трехсот лет управлявшую страной Льда, и установила свою власть. Основанную на равенстве всех мясных машин перед новым законом. По которому все мясные машины страны Льда должны были жить одной семьей. И трудиться на благо этой семьи ради счастья тел всех мясных машин страны Льда. Семьдесят четыре года мясные машины страны Льда жили по этому закону. А потом перестали жить по нему. Потому что между мясными машинами не могло быть братства. И они не могли долго чувствовать себя одной семьей и радоваться счастью чужих тел. Каждая мясная машина хотела прежде всего счастья своему телу. Ради счастья тела мясные машины могли обмануть, ограбить и убить. Поэтому они не могли долго жить в мире. Мясные машины постоянно соревновались, враждовали, притесняли и обворовывали друг друга. Одни страны нападали на другие. Мясные машины постоянно вооружались, изготовляя оружие все более совершенное. И постоянно убивали друг друга из-за счастья тела. Счастье тела было главной целью мясных машин. А счастье тела наступало тогда, когда телу мясной машины было приятно и удобно существовать. Жизнь ради счастья собственного тела – вот главный закон всех мясных машин на планете Земля.
Медленно продвигаясь в потоке железных машин, мы доехали до площади, названной местными мясными машинами в честь одной мясной машины, сорок три земных года назад совершившей полет на железной машине в околоземное пространство. В те годы страна Льда очень гордилась этим полетом. Потому что мясные машины этой страны смогли изготовить железную машину, способную на такой полет. Правители этой страны хотели показать другим странам мощь своей страны. Чтобы другие страны уважали и боялись страну Льда. На этой площади стояло железное изваяние мясной машины, совершившей тот полет. Это было сделано для того, чтобы местные мясные машины помнили ту мясную машину. Которой уже давно не было в живых.
С этой площади мы свернули направо. И поехали по улице, названной в честь мясной машины, бывшей одним из правителей страны Льда несколько десятков земных лет тому назад. На этой улице железных машин было меньше. Они обгоняли нас, сидящие в них мясные машины торопились поскорее попасть домой и получить долгожданное счастье тела. Мы проехали мимо каменного здания, на верху которого были четыре позолоченных железных прута, соединенных вместе. Окна в здании были приоткрыты. И из него доносилось пение мясных машин. Они пели о любви к небесному существу, которое, по их убеждению, создало Землю, их и все сущее на Земле. Молясь этому существу и его сыну, пришедшему на Землю, чтобы научить мясные машины жить по-братски, они надеялись, что после смерти им обеспечат новое тело и вечное счастье этого тела. Я видел их склоненные головы в окне. Молясь, они не подозревали, кто проезжает мимо них в обыкновенной железной машине.
Мы свернули налево и оказались у большого здания, в котором умные мясные машины передавали свои знания молодым мясным машинам. Из зданий подобного рода в стране Льда оно было самым большим. Оно стояло на холме и возвышалось над главным городом страны Льда. Мы проехали мимо этого здания. Из его дверей выходили сотни молодых мясных машин. Целый день они сидели за столами, слушая умных мясных машин или читая тысячи букв на бумаге. Эти молодые мясные машины готовились к будущей жизни. Они учились строить железные машины и здания, совершать вычисления, производить комбинации веществ, запускать железные машины в околоземное пространство, писать буквы на бумаге, находить в Земле камни и металлы, покорять чужие страны, обманывать и убивать других мясных машин.
Миновав это большое здание, мы свернули налево и оказались на площади. Здесь стояло много железных машин и ходили мясные. Посередине площади мясные машины продавали пищу. Это были плоды, овощи, трупы и куски трупов различных животных. Спешащие домой мясные машины покупали свою пищу. Чтобы дома приготовить из нее свою сложную еду. Некоторые мясные машины здесь же пили перебродивший сок зерен и втягивали в себя дым тлеющих листьев. Это доставляло их телам удовольствие.
Толпа мясных машин двигалась в сторону невысокого здания и входила в его двери. Это был вход в подземелье. Там сотни железных машин, движущихся по стальным путям, развозили мясные машины в разные концы города. Оставив нашу железную машину неподалеку, мы направились к входу в подземелье. Толпа мясных машин обступила нас. Вместе с этой толпой мы спустились под землю, заплатив деньги на входе. Толпа мясных машин клубилась своими желаниями. В ней были уставшие мясные машины, стремящиеся в свои дома, где их ждали близкие мясные машины, теплая и сложная еда, постели и стеклянный ящик, в котором двигались и говорили тени мясных машин. Были мясные машины, напившиеся перебродившего сока плодов или зерен, что сделало их бодрее и оживленнее других; они громко болтали и смеялись, чувствуя временное счастье тел. Толпа мясных машин, надевших на головы и повязавшие вокруг шей одинакового цвета ткань, громко выкрикивала одни и те же слова; эти мясные машины ехали в специальное место, где десятки тысяч мясных машин напряженно следили, как двадцать мясных машин на травяном поле катают и перебрасывают ногами упругий шар; в зависимости от движения этого шара мясные машины радостно кричали, плакали или дрались друг с другом. Группа молодых мясных машин, напившихся перебродившего сока зерен, ехала в специальный дом, где в темноте показывают на белой стене тени мясных машин; молодые мясные машины бурно обсуждали эти тени, сравнивая и выясняя, какая из теней лучше; молодые мясные машины стремились походить на эти тени.
Подъехала длинная железная машина, двери ее открылись. Толпа мясных машин устремилась к дверям. Из них стала выходить другая толпа. Мясные машины толкались: одни стремились выйти, другие – войти. Мы протиснулись в дверь. Она закрылась за нами. И железная машина тронулась. Внутри сидели и стояли мясные машины. Вошедшие стремились как можно скорее сесть на освободившиеся места, чтобы их телам было удобнее. Сидящие мясные машины дремали или перелистывали пачки бумаги, покрытые буквами. Читая буквы, они складывали их в слова, которые вызывали в головах у мясных машин различные фантазии. Эти фантазии отвлекали мясных машин от повседневных забот. Как и перебродивший сок плодов или зерен, буквы на бумаге доставляли телам мясных машин временное удовольствие. Расталкивая толпу, по железной машине шла мясная машина без ноги, опираясь на две деревянные палки. Жалобным голосом она просила денег, чтобы на них купить еду. Некоторые мясные машины давали безногой мясной машине немного денег, но большинство притворялись, что не слышат ее жалобного голоса.
Вскоре железная машина остановилась. Мы вышли, протиснулись сквозь толпу мясных машин. И сразу почувствовали наших. Их было много в толпе. Они двигались в одном направлении. Мы пошли с ними. Наши шли через толпу, которая стремилась к выходу. Мясные машины напирали, толкались, стараясь опередить друг друга. Мы шли против их движения. В противоположном конце подземного помещения была желтая дверь с надписью на языке страны Льда. Надпись предупреждала, что в желтую дверь могут пройти только мясные машины, работающие в подземном помещении. В эту дверь время от времени входили наши. Мы тоже вошли в нее. Прямо за дверью сидел брат Тиз в форме мясных машин, следящих за порядком. Он пропускал только наших. Мы вошли. И спустились при помощи механизма еще глубже под землю. Там начиналось подземное убежище. Мясные машины вырыли его на случай большой войны. В этом убежище должны были помещаться несколько десятков тысяч мясных машин. И спокойно жить под землей в течение нескольких месяцев. Девять лет назад Братство сумело завладеть убежищем. Мясную машину, отвечающую за убежище перед правительством страны Льда, уничтожили. Ее место занял брат Ма.
Железная машина доставила нас в центр убежища. Здесь Братством был построен большой круглый зал. Когда я вошел, сердце мое затрепетало: в зале собралось уже много наших. Они проникли сюда разными путями: некоторые, как мы, через подземелье мясных машин, некоторые прямо сверху. Вновь прибывшие братья всё входили и входили. Сердце мое сияло ожиданием. Братья и сестры стояли рядом в полном молчании. Нам не надо было разговаривать на языке мясных машин: сердца наши ждали другого разговора . Я смотрел на наших. Здесь были мощные сердцем, такие как Уф, Одо, Стам, Ефеп и Ц. Были и молодые, не так давно разбуженные ледяным молотом. Сердца наши готовились. Наконец машина объявила, что в зале собрались ровно 2300 братьев и сестер. Остальные братья и сестры не вошли в зал, оставшись за дверьми. Сестра Ц вспыхнула сильным сердцем: сигнал! На гладком полу зала высветились по кругу 2300 голубых пятен. Каждый из нас встал на свое пятно. Мы образовали Большой Круг. Подняли руки. И соединили их.
Я почувствовал сердца.
Мы были готовы.
Но вдруг одно сердце выпало . И я сразу вздрогнул : Большой Круг не замкнут! Мы разжали руки. Брат Длу рухнул на пол. Что-то произошло с его телом: он потерял сознание или умер. Его быстро вынесли. В зал вошла сестра Йукед. И встала на место брата Длу. Большой Круг замкнулся. Руки наши снова соединились. Глаза закрылись. Сердца вспыхнули.
Мы увидели брата Горн.
Он просиял в центре Круга.
Мы заговорили с ним.
Я очнулся от прикосновений рук и языков братьев Обу и Ясто. Они гладили и лизали мне лицо. Сердца их были сильнее. Я открыл глаза. В зале шло движение: братья и сестры покидали его. Нам предстояло выйти тем же путем. Мы покинули зал, сели на железную машину. Вместе с другими братьями и сестрами она довезла нас до места выхода из подземелья. Пройдя мимо брата Тиз, мы вышли за желтую дверь. И оказались в толпе мясных машин. Их часы показывали 7.28. Мясные машины спешили на работу. Большинству из них не хотелось этого. Они клубились угрюмым недовольством. Толпа молча двигалась от входа к железным машинам, развозящим их по назначению. Мы двинулись через эту толпу. Мясные машины стремились вниз, мы же двигались наверх. Они молча толкали нас. Пройдя сквозь толпу, мы вышли на воздух. Здесь тоже было много мясных машин. Они шли к подземелью, которое глотало их тела. Многие на ходу жадно втягивали в себя дым тлеющих листьев.
Миновав толпу, мы пошли по улице, названной по имени мясной машины, пытавшейся увидеть смысл и гармонию в мире Земли. Постепенно мы дошли до площади, где вчера оставили нашу железную машину. Купив у мясных машин фруктов, мы съели их. Сели в нашу железную машину.
И поехали на поиск братьев и сестер Света.
Утро Горн
Горн проснулся от нежных прикосновений. Мягкие руки гладили его лицо и тело. Он лежал на широком ложе, усыпанном лепестками голубых роз. Над головой его раскинулся тропический сад с пальмами, магнолиями и тигровыми деревьями. В саду громко перекликались птицы, порхали большие разноцветные бабочки. Солнце уже встало, и зыбкие тени дрожали на белом теле мальчика, спящего на спине, и на смуглых телах двух девочек, лежащих по обе стороны от него.
Горн поднял голову. Девочки тут же сели на ложе. Это были тринадцатилетние близнецы Ак и Скеэ, обретенные Братством двадцать шесть месяцев назад в Крыму и обладающие не по-детски сильными и умными сердцами. Ночью их доставили сюда на остров с Цейлона, где они встречали и покоили новообретенных в Малом Южном Доме. На девочках были одинаковые трусики из сине-золотистого бисера, соски их загорелых грудей скрывали крупные сапфиры, выточенные в форме восьмигранных наконечников. Волосы у каждой из девочек были заплетены в 23 длинные косички и покрыты золотой пылью. В косичках сверкали драгоценные камни всевозможных сине-голубых оттенков. Шеи, запястья и лодыжки близнецов были стянуты золотыми ожерельями с вкраплениями бриллиантов и бирюзы. Смуглые стройные тела девочек благоухали кокосовым маслом.
Горн заворочался и застонал. Девочки бережно помогли ему сесть. Мальчик глянул на окружающий его красочный мир, уставился на девочек.
– Доброе утро, брат наш, – произнесли близнецы одновременно.
Мальчик смотрел на них, открыв свой маленький олигофренический рот. Он был в легких трусиках, сотканных из высокогорных трав. На груди у него белел широкий пластырь. Близнецы улыбнулись ему, держа за плечи. На нижней губе у Горн выступила капля слюны, сорвалась, тягуче потянулась вниз. Скеэ пальцами отерла ему рот:
– Ты не хочешь больше спать?
– Не-а, – произнес он, глядя на Скеэ.
Потом перевел взгляд на Ак.
– Мы твои сестры, – произнесли близнецы одновременно.
– Не-а, – неподвижно смотрел Горн.
– Мы твои сестры, – снова повторили близнецы.
– Когда? – облизал мокрые губы Горн.
– Сейчас, – ответила Скеэ.
– У тебя очень много братьев и сестер. Просто раньше ты не знал об этом. – Ак взяла его руку. – Меня зовут Ак.
– А меня Скеэ. – Скеэ взяла другую руку мальчика.
– А вы… где?
– Мы здесь. С тобой. Навсегда.
Мальчик вертел головой, глядя по сторонам. Большая черно-желтая бабочка спланировала сверху и села на голубые лепестки роз между ног мальчика. Он уставился на бабочку. Бабочка сидела, покачивая крыльями.
– Полосатая… – пробормотал мальчик и облизал мокрые губы. – Большая? Такая?
Близнецы держали его за руки.
– А где все? – спросил Горн, не спуская светло-синих глаз с покачивающихся крыльев бабочки. – Мама где? И тетя Вера? Придут?
– Сейчас мы тебе все расскажем, – произнесла Ак. – Только обними нас покрепче.
– Как? – Мальчик завороженно смотрел на крылья бабочки, пуская слюну.
– Вот так. – Близнецы взяли его руки, нырнули под них золотыми головами, прижались к мальчику.
Руки их обвили его белое тело, смуглые тела прижались, губы прикоснулись к его ушам:
– Здравствуй , брат наш Горн!
Сердца близнецов встрепенулись. И плавно взяли сердце Горн.
Мальчик вздрогнул лицом и передернул бровями. Короткие русые волосы на его голове зашевелились.
– Котыпес… – произнесли его губы.
Он пукнул. По его телу пробежали четыре волны мелкой дрожи, остановившиеся глаза наполнились влагой. Две птицы, перекликающиеся неподалеку в ветвях сакуры, смолкли.
Мальчик перестал дрожать. Замер. И его моча зажурчала между ног.
Прижавшиеся к нему близнецы словно окаменели. Мальчик вздрагивал, не моргая и не шевелясь. И писал под себя. Моча тихо струилась на белое шелковое ложе, усыпанное голубыми лепестками. Лужица между ног разрасталась, ползла по шелковой ткани. Голубые лепестки, всплывая, шевелились. Моча дотянулась до бабочки. Лепесток, на котором она сидела, всплыл и качнулся. И бабочка вспорхнула.
Ак, Горн и Скеэ застыли на 42 минуты.
Наконец сердца близнецов смолкли.
Близнецы вздрогнули, губы их раскрылись и жадно, со стоном и всхлипом втянули теплый, влажный и ароматный воздух тропиков. Руки близнецов разжались, они рухнули навзничь на ложе, сбивая лепестки роз. Мальчик остался сидеть, неподвижно глядя перед собой. Лежа навзничь на лепестках роз, близнецы жадно и радостно дышали. Голоса двух птиц снова ожили в ветвях.
Горн моргнул. И пошевелил пальцами правой ноги. Мокрые губы его дрогнули, язык зашевелился во рту.
– А м-м-м… а… м-м-м… а дай… – произнес Горн и нашел глазами близнецов.
Они дышали, восторженно глядя на него. Из их глаз потекли слезы.
– Дай, дай… – замычал Горн, и руки его потянулись к близнецам.
Ак и Скеэ взяли его за руки.
– Дай, дай, дай… – мычал Горн, хватая их и пуская слюни.
Близнецы с трудом приподнялись, обняли Горн. Теперь они, уставшие сердцем, опирались на мальчика. Он же сильно захотел их сердца.
– Дай, дай, дай! – захныкал он, цепляясь за плечи и головы покачивающихся близнецов.
Они же беззвучно плакали, обвивая его уставшими руками. Сердца их изнемогли , встретившись с сердцем Горн: сердце подобной мощи еще не попадалось им. Даже могучее сердце Храм уступало этому совсем еще маленькому сердцу, источающему потрясающую силу.
– Дай, дай, дай!! – заревел Горн, и лицо его исказилось мучительной гримасой.
Близнецы снова заговорили с ним.
Горн замер. Глаза его остекленели. Слюна обильно потекла из открытого рта.
Прошло еще 38 минут.
Близнецы дернулись и со стоном повалились на ложе.
Горн зашевелился. Лицо его пылало. Руки мелко дрожали. Из открытого пересохшего рта вырывалось прерывистое горячее дыхание.
– И… дай, и дай, и дай! – замычал он.
Близнецы лежали чуть дыша.
– И дай! И дай! И дай! И дай! – заревел Горн.
Ак с трудом оторвала свою позолоченную голову от ложа. Скеэ судорожно дышала как рыба, выброшенная на берег. Подняться она была не в силах.
– И дай! И дай! И дай! – Горн ревел, багровея щеками.
Руки его вцепились в золотые волосы Скеэ, затрясли ее:
– И дай! И дай! И дай!! И дай!!!
Обступающий ложе лес зашевелился. Все братья и сестры Океанского Дома были здесь с самого начала поддержки . Спрятавшись за широкими листьями и толстыми стволами, они следили за первым разговором. Сейчас сердца их беспокоились.
– Нужно помочь им. Подставить ! – заговорил Уф, приближаясь к ложу.
– Они не удержат ! – взвизгнула Шэ.
– Он сильнее ! – вскрикнул Дас.
– Они рушатся ! – прорычал Борк.
– И дай! И дай! И да-а-а-ай!!! – ревел во весь голос Горн и рвал волосы бесчувственной Скеэ.
Листва окружающего леса зашевелилась. Десятки рук сквозь листву потянулись к ревущему Горн. Но он ничего не замечал, продолжая реветь, тряся голову Скеэ, разбрызгивая слезы и слюни. Пробудившееся сердце его жаждало.
– Я упрусь ! – выдвинулся вперед Уф.
– Нет!! – взвизгнула Храм, останавливая всех. – Он жаждет их! Первых ! Ты погасишь ! Они должны! Поможем им! Станем опорой ! Все под них!
Десятки рук подняли Ак и Скеэ, прижали к мальчику. Горн жадно обхватил их, замер. Храм прижалась к спине Ак, Уф – к спине Скеэ. Скеэ открыла глаза.
– Говорите ! – приказали сердца обступивших.
И близнецы снова заговорили с Горном.
Братья и сестры поддерживали их. Уф прижимал Скеэ к мальчику, Храм, не в силах это сделать слабыми руками, прижалась сама к загорелой спине Ак. Мэф и Пор поддерживали Храм сзади. Шэ, Борк, Нюз и П держали Уф. Остальные обступили ложе, протянув вперед руки и положив головы на ложе. Сердца их обстояли и поддерживали.
Прошли 23 минуты.
Сердца Ак и Скеэ смолкли. Близнецы были без чувств. Руки братьев подхватили их, положили. Из их ушей и ноздрей потекла кровь.
Застывший Горн вздрогнул. И все почувствовали, как впервые просияло его сердце. Оно наполнилось. И обрело первый покой.
Горн пошевелился. И увидел окружающих его. Все молча смотрели на него. Он оперся руками о ложе, встал на колени. Затем приподнялся и выпрямился. Взгляд его выкаченных глаз стал внимательным и осмысленным. Глаза словно полиняли за эту ночь, став более прозрачными. Синева в них побледнела, стянувшись к зрачкам. Глаза скользили по окружающему миру. Теперь мальчик видел его по-другому: еще не как Горн, но уже не как Миша Терехов.
Мир обступал мальчика. Этот мир теперь был новым. И еще не до конца понятным. Сам по себе он не притягивал. Но что-то в нем было очень желанное. Что-то притягивало и томило. Оно было вкраплено в мир.
Горн повел глазами. Он смутно различил.
Между листьев, неба, ветвей, бабочек, травы и ложа с голубыми лепестками замерли те, кто смотрел на него. И в них было оно. Очень желанное. Что сильнее мира. Без чего уже невозможно жить.
Горн пошел, пошатываясь, на край ложа. Братья и сестры замерли, вглядываясь в него и вслушиваясь. Дойдя до них, Горн протянул руку. И коснулся лица. Это была сестра Шэ. Он стал трогать ее лицо. Сердце Шэ замерло. Рядом с Шэ у ложа застыл присевший Га. Горн коснулся его лица другой рукой.
Никто из братьев и сестер не проронил ни звука.
Птицы покинули тигровое дерево, раскинувшееся над ложем.
Раскрытые губы Горн шевельнулись:
– Боль… шие? Та… кие?
Все замерли, созерцая новообретенное сердце. Мощное сердце. Которого так долго и сильно ждали. Каждое движение Горн вызывало восторг у братьев и сестер. Они словно боялись спугнуть только что проснувшееся сердце.
Горн потрогал лица Шэ и Га. Перевел взгляд на Би, Ут и Форум, подошел и стал трогать их:
– Мно… го? То… же? Та… кие?
Рядом с Форум стояла на коленях Храм. Горн протянул к ней руку. Их глаза встретились. Но Горн уже не смотрел в глаза. Он смутно пытался видеть сердцем. Храм чувствовала это.
– Та… кая? Мо… я?
– Твоя! Сердцем! – произнесла Храм не только губами.
Взяла руки Горн и положила себе на худую, старую грудь:
– Твоя! Сердцем!
Горн замер. Сердце его вспыхнуло предчувствием. Оно начинало ведать. Руки обвились вокруг тонкой морщинистой шеи Храм. Он прижался к ней.
Оцепеневшие братья и сестры зашевелились. Руки их потянулись к Храм и Горн. Сердца просияли.
– Мо… я. Серд… цем, – произнес Горн.
– Сердцем ! – прошептала Храм.
– Серд… цем, – повторил Горн.
И понял.
Сердце его замерло. В нем пробудилось прошлое. Теперь оно было отдельно. И оно встало ужасом над проснувшимся сердцем.
Дрожь прошла по телу Горн. Оно сильно дернулось и стало изгибаться назад. Маленький рот его широко раскрылся и выпустил глубокий стон.
Храм сразу поняла, что это.
И все поняли.
Кольцо рук Горн разжалось, голова его запрокинулась. И он упал навзничь на подставленные ладони братьев и сестер. Рыдание сотрясло его.
Храм в сладостном изнеможении закрыла глаза.
Сердечный плач охватил Горн. Он рыдал, суча ногами и царапая пальцами свою белую грудь. Голова его запрокинулась назад, слезы и слюни полетели на лица помогающих.
– Слава Свету! – произнесла Храм, радостно сжимая себя за костистые локти.
Десятки рук подняли рыдающего Горн и понесли по каменистой тропинке к Дому. Плач его раздавался в диком тропическом лесу. Птицы и животные настороженно вслушивались, перекликались в листве, нагретой полуденным солнцем.
У опустевшего ложа остались только Храм и Уф: она сидела на каменистой площадке, сжав себя за локти и положив голову на шелковый угол ложа. Он замер возле угла наискосок. Их разделяло ложе, усыпанное смятыми лепестками голубых роз, подплывших мочой Горн.
Сердца их устало молчали. Это была та самая опьяняющая усталость обретения. Да и какого обретения! Храм и Уф понимали , какого.
– Он сильнее, чем я ждала, – произнесла Храм, проведя щекой по прохладному шелку.
– Гораздо сильнее, – откликнулся Уф.
– Он будет самым сильным.
– Он уже самый сильный.
Порыв ветра с океана качнул кроны деревьев, пошевелил длинные белые волосы Храм.
Голубые лепестки падали с ложа на камень.
– Мы удержали, – произнес Уф.
– Свет помог, – еле слышно шепнула Храм в гладкий угол ложа.
С дерева на ложе упал большой бронзово-синий жук. Лениво заворочался на спине, силясь перевернуться. Черные блестящие лапки его стали комкать лепестки роз.
– Теперь все ляжет на тебя, – сказал Уф.
– Я готова. Я ждала этого всю жизнь, – подняла голову Храм.
– Он обопрется на тебя. Только на тебя. Меня не будет с тобой.
– Я подставлюсь. И удержу.
– Мы поможем Большим Кругом.
– Сначала нужен Средний. И не один.
– Они уже собираются.
– Надо, чтобы у меня была опора.
– Она уже есть, Храм. Мы под тобой.
Уф встал.
– Ты возвращаешься, – поняла Храм.
– Я должен .
– Я знаю. Ты нужен там. Мясо клубится. Ты сдержишь мясо.
– Я сдержу мясо. И сохраню братьев.
Он отвернулся и пошел по каменистой тропинке.
– Храни… – шепнули старческие губы Храм.
Ольга Дробот
Тостер пропищал, и две поджаренные гренки выпрыгнули из него. Наполнив большой стакан ананасовым соком пополам со льдом, Ольга пошла к тостеру.
«Папа и мама», – безотчетно подумала она, отпивая из стакана и выкладывая гренки на тарелку.
Но сразу громко запретила себе императивной фразой:
– Begone! [9]
Психолог оказался прав: «меч, отсекающий тяжелое прошлое». Сначала Ольга не верила. Но через полгода после того дня «меч» стал работать и помогать. Он отсекал призраки родителей, виртуально возникающие в любой паре вещей или существ – в стоящих туфлях, в целующихся голубях, в каменных фигурах у корпоративных ворот, в Адаме и Еве, в поднятых президентом двух пальцах, в золотых сережках, в числе 69, в двухтомнике Эдгара По, в спаривающихся мухах, наконец в трехлетнем отсутствии башен-близнецов, которые тогда еще стояли и были видны всем троим из южного окна лофта. Теперь же Ольга смотрела со своего шестого этажа на Манхэттен одна. Да и не на место, где три года назад торчали башни WTC, а на смешные водонапорные баки на крышах соседних домов, всегда напоминающие ей марсиан c обложки романа Уэллса «Война миров». Романа, который любил ее отец. А она так и не прочитала…
– Олечка ха-а-арошая! – произнес попугай в стоящей у окна клетке.
Она вспомнила о нем, о престарелом Фиме, подошла, насыпала корма, добавила воды в поилку, отрезала от яблока кусочек, всунула между прутьями клетки. Фима стал клевать зажатый яблочный кусочек своим страшным клювом, косясь на Ольгу.
«Он тоже помнит…» – подумала она.
И тут же взмахнула невидимым мечом, отсекая:
– Begone!
Фима прожевал, показывая толстый язык, и произнес:
– Don’t wor-r-ry!
– Be happy! – кивнула Ольга и рассмеялась.
Пора начинать день.
Ольга намазала гренки солоноватым козьим сыром «Шавру», положила на каждую по три кружка нарезанного огурца, прикрыла двумя листьями салата, на салат шлепнула индюшачьей ветчины, на ветчину – кружки помидоров, соединила гренки в толстый тост и, впившись в него зубами, прихватив стакан, подсела к компьютеру. Запив ледяным соком прожеванный кусок тоста, ударила по клавише. Монитор ожил, мужской бас нараспев приветствовал:
– Hi, O-о-lg-а-a!
– Привет-салют, – ответила Ольга по-русски.
Глянула почту: четыре письма. Одно – с работы (напоминали, что после отпуска, 16-го Ольге надо быть с контрактом на поставки мрамора в Филадельфии). Другое – от Лизы, из Чикаго (в шестой раз клялась, что приедет «поесть, попить и попиздеть по-русски»). Третье – от Питера, сослуживца отца (приглашал в этот уик-энд на гриль-парти).
«Все хочет меня с кем-то познакомить, чудак! – усмехнулась Ольга, вспоминая простодушного толстяка Питера, любителя немецкого пива, фри-джаза и пикников. – Нет, Питер, в субботу я уже буду далеко отсюда…»
А четвертое…
– Yep! – Ольга радостно стукнула босой ногой по полу.
Здравствуйте, Ольга.
Вчера почти до утра просидел на сайте. Новости есть. Во-первых, я списался наконец с неуловимым Майклом Лэрдом. И он мне ответил! Он действительно уже два года является координатором Общества. Я переслал ему и Ваше письмо, с историей Вашего похищения, с фотографиями Вас и Ваших покойных родителей. Теперь мы с Вами в банке данных сайта. Скоро у нас появится много друзей. Штаб-квартира Общества находится в Гуанчжоу (Южный Китай). Майкл советовал нам прилететь для более обстоятельного разговора, так как он не очень доверяет электронной почте. И в Гуанчжоу у него есть что показать нам. С визами Общество поможет, у них есть стандартное приглашение, с гостиницей тоже. Приглашаемым нужно только купить билеты. В связи с этим я подумал – а не совместить ли наше путешествие в Израиль с посещением Гуанчжоу? В конце концов, из Израиля до Китая поближе, чем из Гётеборга и Нью-Йорка! Это во-первых. А во-вторых, мы сразу убьем двух зайцев и сэкономим время. И честно говоря, мне надоело все эти месяцы жить домыслами и догадками. Хочется двигаться, хочется что-то делать.
Жду ответа с нетерпением,
Ваш Бьорн Вассберг.Ольга радостно хлопнула в ладоши и, забыв про сандвич, застучала по клавиатуре:
Бьорн Вассберг, привет!
Ваша идея замечательна и очень нравится мне. Я уверена, что информация, которую мы получим в Тель-Авиве, будет очень важной и многое прояснит в нашей истории. После этого мы могли бы полететь в Китай и встретиться с Лэрдом. Это будет круто! Мне тоже надоело ждать и гадать на кофейной гуще. Пора что-то делать! Тем более что мой отпуск позволяет мне быть пока свободной. Я жду от Вас приглашения и сразу иду в китайское посольство. Насчет Тель-Авива – все в порядке, я забронировала два номера в гостинице «Прима Астор» на наши фамилии. Она на самом берегу моря, я там уже останавливалась. Как только получите визу и купите билет – сообщите мне. Я бы хотела встретиться в аэропорту. Мой пароль для встречи: «Odin v pole voin». Жду Ваш!
До встречи!
Ольга.Вечером, когда Ольга вернулась из парка с велосипедной прогулки, ее ждал ответ Бьорна. В нем было приглашение в Гуанчжоу и пароль: «Krдftskivan».
– Что-то по-шведски… – усмехнулась Ольга и кинулась к телефонному справочнику, отыскала адрес китайского представительства в Нью-Йорке.
– Завтра, завтра! – Она распечатала приглашение, нашла две свои фотографии, вложила все в свой синий американский паспорт.
Сделала себе большой кофе с молоком, подсела к компьютеру. И набрала адрес: . На мониторе возникла картинка: голые по пояс девушка и парень зажимают ладонями друг другу раны в центре груди. Сверху надпись: «Официальный сайт Общества жертв ледяного молота». Внизу традиционные окна: «История Общества», «Новости», «Персоналии», «Фотогалерея», «Личные истории», «Публикации», «Версии», «Присоединяйтесь к нам!» Ольга зашла в «Личные истории». Пробежала по хорошо знакомым текстам – она уже давно их все прочитала. В конце нашла три новых:Стефани Треглоун, 14 лет, Ньюкасл, Австралия За неделю до рождественских каникул к нам в школу приехали две женщины, помощницы режиссера, которые сказали, что они набирают девочек для массовки римейка известного фильма Питера Уира «Пикник у Висячей скалы». Этот фильм в Австралии знают все – мои родители всегда его смотрели, даже когда я была еще маленькой, у нас дома есть кассета и DVD. Мы были с родителями и у скалы Мэседон, там, где произошли те трагические события 14 февраля 1900 года, когда старший класс женской Эпплъярдской школы отправился в День святого Валентина к той самой скале на пикник и три девочки бесследно исчезли. Все девочки нашего класса очень хотели сняться в этом фильме. Эти помощницы режиссера, Дебора и Элен, сказали, что режиссером римейка будет Дэвид Линч, что сейчас идет кастинг и что Линч выбирает на роли девочек совсем неизвестных школьниц, так что очень может быть, что кто-то из нас может сыграть в фильме полноценную роль, со словами. Из нашего класса отобрали трех девочек, меня в том числе, а из школы – еще семерых. Все мы были голубоглазые и светловолосые. Когда меня выбрали, я очень обрадовалась! Мне очень нравится одна из девушек в фильме Уира – Миранда. Она такая красивая, нежная, как ангел! У нее удивительные голубые глаза, прелестные белокурые волосы. И очень жаль, что она практически не стала голливудской звездой, сыграла потом только в «Безумном Максе», и все. Элен и Дебора сказали, что после Рождества нам нужно будет поехать в Сидней, где встретятся все отобранные, и Линч сам выберет из нас тех, кого надо. Нам оплатили проезд. И с нами поехала миссис Халле, мама Сюзи Халле. Мы приехали в Сидней и к 12.00 пошли в оперный театр на набережной. Это огромное здание, я там была девочкой дважды – на опере «Пер Гюнт» и на балете «Жизель». Нас проводили в один из залов, и весь этот зал, 1500 мест, был заполнен школьницами! И все они были голубоглазые и светловолосые! Я такого никогда не видела! И среди них были многие, похожие на Миранду. Конечно, я сразу поняла, что меня никогда не отберут – ведь в зале столько красивых девочек! Мы ждали Линча. Но вместо него на сцену поднялись трое – такой толстоватый парень, пожилая дама и лысый худой мужчина, очень серьезный. И пожилая дама нам сказала, что Линч очень занят, поэтому выбор сделают они – его помощники. А сама эта дама представилась как автор сценария фильма. И эти трое сели в кресла посередине сцены и попросили, чтобы девочки подходили к ним парами, по очереди. И девочки стали подходить. И эти трое внимательно смотрели каждую пару, а потом просили подойти, и пожилая дама каждой девочке клала руку на грудь, там, где шея начинается. И так продолжалось почти четыре часа. И за это время из полутора тысяч отобрали всего 36. В том числе и меня. Затем они записали мои координаты и сказали, что со мной свяжутся по электронной почте. И я радостная вернулась домой. Я была на седьмом небе! Из всей нашей школы выбрали только меня! Я стала ждать вестей. Но день шел за днем, и никто не писал мне. Надо было ждать. Родители и друзья по школе успокаивали – кино быстро не делается, подожди. И я ждала. Но ужасный случай помешал мне стать актрисой. Когда я возвращалась из школы и переходила Мэйн-стрит, остановилась машина, и женщина, сидящая за рулем, спросила про дорогу на Сеснок. Я сказала – прямо и на светофоре направо. Она засмеялась, показала на уши: не слышу! Я подошла к ней, повторила. Последнее, что запомнила, у женщины в руке был брелок в форме маленького мушкетерского пистолета. Очнулась я уже в больнице. У меня очень болела грудь и шея. Грудь была вся забинтована, там была рана. Потом мне сказали, что меня нашли на шоссе. Меня сбила машина, когда я разговаривала с этой женщиной. А женщина исчезла.
«Мда, Стефани, актрисой ты не стала… – грустно усмехнулась Ольга, – И Дэвид Линч вряд ли теперь снимет этот римейк…»
– Фимочка ха-а-ароший! – выкрикнул попугай.
– Лучше всех, – кивнула Ольга.
И принялась за вторую историю:Джамиля Сабитова, 38 лет, Темиртау, Казахстан Я 4 года проработала на нашем городском рынке. У нас с моим мужем, Таймуразом Сабитовым, был свой ларек «Бешбармак». В ларьке мы готовили горячую еду для торговцев на рынке. Мы делали бешбармак, плов, баурсаки и лагман. И все торговцы были всегда довольны, потому что мы с мужем хорошо готовили. И дирекция рынка была довольна. 4 апреля 2005 года я работала в ларьке со своей сестрой Тамарой, так как мой муж уехал в Караганду покупать кухонный гарнитур. Тамара младше меня на 7 лет и всегда помогала мне, когда муж был занят. В тот день мы, как всегда, с утра все сварили и приготовили, а к 13.00 открыли ларек и стали обслуживать. К нам подходили торговцы, брали еду и уходили с ней по своим местам. Нас очень любили на рынке, потому что я и Тамара – очень красивые. Наша мама – русская, а папа – казах. Мама у нас – блондинка, глаза у нее темно-синие, очень красивые. И что самое главное – у нас с Тамарой тоже такие же глаза и такие же светлые волосы. А от папы – нос, губы и черные брови. И все всегда шутили, что мы – мамины дочки. В Казахстане мало людей с голубыми глазами, и блондинок тоже мало. Поэтому с нами всегда заигрывали мужчины, когда покупали еду, говорили разные веселые слова. И в тот день к ларьку подошел один мужчина. Он был не местный, я его прежде никогда не видела. Он был высокий, стройный блондин с голубыми глазами, красивый, хорошо одетый, видно, что богач. Он спросил, вкусный ли наш плов. Мы сказали – попробуйте, все хвалят. Он взял чашку плова, попробовал немного риса. И сказал – очень вкусно, наверно, потому что вы такие красавицы. И стал нам говорить разные слова о нашей красоте. Я спросила, что он купил на рынке. Он сказал, что просто зашел посмотреть на рынок его друга, Тофика Халилова. А это был хозяин рынка, очень богатый человек. И мужчина сказал, что доволен рынком, особенно если на нем работают такие красавицы, как мы. И очень весело шутил с нами. Тамара спросила, чем он занимается, он ответил, что у него бизнес в Алма-Ате, два ресторана, и что он приехал в Караганду по делам и заехал в Темиртау к старому другу Тофику. И спросил – что мы вечером делаем? Мы ответили – моем, убираем посуду, идем домой к мужьям и детям. Тогда он предложил пойти с ним к Тофику на плов. Мы отказались, сказали, что мужья нас вечером не отпустят и у нас много дел. Тогда он предложил пойти с ним в ресторан сейчас. И очень весело шутил с нами. И мы с Тамарой смеялись, потому что он был очень веселый. Он говорил, что надо иногда отдыхать от жен и мужей, чтобы сильнее их любить. И все уговаривал нас поехать с ним. И мы сказали – хорошо, только на час. Он сказал – хорошо, выбирайте ресторан. Тамара говорит – «Жулдыз» Это самый дорогой ресторан в Темиртау. Он говорит – нет проблем. Тогда мы заперли ларек и пошли с ним. И когда вышли с рынка, он подошел к своей машине, очень дорогой, новой совсем и красивой. И открыл заднюю дверь – садитесь, девушки. Мы сели, он сел за руль, поехали, включил он музыку. И тут вдруг поднялась перегородка в машине, и мы как бы за стеклом от него. И что-то кислое в воздухе – и я потеряла сознание. Очнулась я на земле. Подняла голову – ночь кругом, под лицом песок, где-то собака воет. Хотела сесть – и сразу грудь заболела, будто кто-то ударил сильно. Присмотрелась – где-то на пустыре, за городом я. И вижу – Тамара рядом лежит. Я ее тронула, а она не двигается. Мертвая. Так я до утра возле нее и просидела. Плакала и сидела. Сил не было идти. А утром ехали рабочие по шоссе из Сарани, заметили нас, подобрали. Вызвали мужа, отвезли в больницу – у меня вся грудь отбита, синяк сплошной. А у Тамары еще сильнее – разбито все, грудина перебита, ребра сломанные сквозь кожу торчат, я видеть не могла. Месяц в больнице пролежала, пока грудь заживала. Потом в милиции сказали – маньяк.
– Мда… простая история… – произнесла Ольга. – В «Жулдыз» он вас с сестрой так и не сводил… Конечно, маньяк, Джамиля. Маньяк. Который перелетает из Ньй-Йорка в Сидней, из Сиднея в Караганду. А потом… во, в Цюрих! Богато живет этот маньяк…
Томас Урбан, 52 года, Цюрих, Швейцария Три года назад я попал в автомобильную катастрофу и на время почти совсем потерял ближнюю память. Я забыл, как зовут мою жену, не верил, что у меня есть дочь, не знал, что я архитектор, и т. д. Зато дальняя память, наоборот, обострилась так сильно, что стали всплывать события из раннего детства, отрочества, те, которые я не помнил никогда. Например, я вспомнил со всеми подробностями, как в семье праздновали мое пятилетие, кто был у нас, что ели, что говорили, что мне подарили. Вспоминал и многое другое. За те полгода, что я провел в клинике, я многое вспомнил. Словно мне показали фильм про меня. Среди множества эпизодов из детства и юности всплыл один, очень странный. Я до сих пор не могу дать ему здравого объяснения. Летом 1972 года, когда мне исполнилось 15 лет, старшая сестра, Мириам, купила мне билет на концерт группы «Led Zeppelin», которая давала концерт в Цюрихе на Халленстадионе. Эту группу я тогда знал очень мало, но о ней уже много писали в молодежных журналах, она быстро становилась супергруппой. Сестра купила мне дорогой билет, я оказался прямо перед сценой. Концерт был замечательный, я впервые увидел этих великих музыкантов, увидел совсем близко Роберта Планта, услышал его великолепный голос. Концерт произвел на меня огромное впечатление. До этого я был только на концертах групп «The Who» и «Chicago». Но «Led Zeppelin» оказался на голову выше тех групп. Особенно мне понравился Роберт Плант – высокий, стройный, с золотистой копной волос, с голубыми глазами и с «золотым» голосом. Когда концерт закончился, публика неистовала. Мы выбежали на площадь перед стадионом и скандировали «Led Zepp! Led Zepp!». И тут я увидел двух девушек, очень красивых, кудрявых блондинок, держащих плакат «Фан-клуб Роберта Планта». Вокруг них толпилась молодежь. Я тоже подошел. Рядом с плакатом стоял стол, сидела третья кудрявая блондинка и записывала фанов в клуб Планта. На плакате я прочитал условие: длинные светлые волосы, голубые глаза. Я как раз подходил! Мои волосы в то лето были почти до плеч, я подражал Джорджу Харрисону. Девушки записали мой адрес и телефон, сказали, что позвонят. И я, довольный, отправился домой. Дома я разбил свою копилку, пошел и купил два диска «Led Zeppelin». И слушал их непрерывно. А через несколько дней мне позвонили и сказали, что клуб фанов Роберта Планта проводит свою первую встречу. Я сел на свой велосипед и к 16.00 поехал по указанному адресу, в богатый район Цюрихберг на Хадлаубштрассе. Там стояла большая старая вилла, увитая диким виноградом, на воротах висели плакат «Led Zeppelin» и большой портрет Роберта Планта. Я оставил велосипед у ограды, позвонил в калитку, представился. Меня впустили, я вошел в эту виллу. Это был старый, богато обставленный особняк. И в нем нон-стопом звучала «Whole lotta love»! Это было так странно, в этой старомодной обстановке, среди викторианской мебели – и музыка «Led Zeppelin»! Одна из тех самых кудрявых блондинок встретила меня в прихожей и проводила в просторную гостиную. Там уже сидели человек тридцать молодых людей: светловолосые и голубоглазые девушки и парни. В основном это были мои ровесники, но были и постарше. На столе стояли безалкогольные напитки, лежали сигареты, чипсы. Мы сперва слушали музыку. Потом стали переговариваться, знакомиться. За это время подходили другие блондины и блондинки. Постепенно весь зал заполнился, музыка прекратилась. И к нам вышла женщина ослепительной красоты – высокая, статная, с бронзовой кожей, с золотистыми волосами, с правильным аристократическим лицом и глубоко-синими глазами. Она была во всем синем, в синих перчатках, даже туфли и украшения на ней были синие. Встав посередине зала, она заговорила с нами. Но не на швейцарском диалекте, а чисто, по-немецки. Она сказала, что Роберт Плант – упавший с неба ангел, затерявшийся среди людей, что он поет на языке небесных сфер, что, слушая его голос, мы все станем свободнее и добрее, что мы поймем, что такое небесная любовь, что сегодня мы начинаем наше общение, что музыка «Led Zeppelin» поможет нам стать красивыми внешне и внутренне. Ее грудной, спокойный голос завораживал, мы не отрываясь смотрели на нее. Она же взяла плоскую синюю коробку с изображением золотистого падающего ангела, открыла ее и протянула нам. В коробке лежали маленькие шоколадные фигурки этого же ангела в золотистой фольге. «Причаститесь музыке небесных сфер!» – с улыбкой сказала она. И в ту же секунду мощно и пронзительно запел Роберт Плант: «Baby, I’m gonna leave you». Мы все стали брать шоколадки из коробки, разворачивать золотистую фольгу и есть. Это был хороший швейцарский шоколад. Я съел свою шоколадку. И через несколько минут потерял сознание. Очнулся я ночью лежащим на мостовой. Меня тормошили двое полицейских. Это было в центре, возле бара «Одеон», где пьют студенты. Рядом валялся мой исковерканный велосипед. Голова кружилась, меня тошнило. И жутко болела грудь. Она была вся разбита. И полицейские сказали мне, что, вероятно, меня сбила машина. Вызвали родителей, меня отвезли в клинику. В моей крови нашли алкоголь. Потом я впал в лихорадочное состояние, подскочила температура. На грудь наложили повязку, вкололи мне снотворное. В клинике я провел две недели. В середине грудной кости у меня осталась выбоинка. Она у меня до сих пор. Как я ни рассказывал тогда родителям про клуб фанов Роберта Планта, как ни доказывал, что я был на вилле, они не верили. Они были уверены, что я напился с друзьями в каком-то баре, поехал на велосипеде и пьяный попал под машину. Потом я съездил на Хадлаубштрассе, позвонил в калитку той самой виллы. Мне открыла горничная. Естественно, никакого клуба в этой вилле никогда не было, имя Планта горничная слышала впервые. На вилле жила семья хасидов, о которых я уже позже, много лет спустя, узнал, что они – крупнейшие в Швейцарии торговцы алмазами. Ровесники и друзья тоже ничего не знали про этот клуб. Однажды в трамвае я встретил девушку, бывшую тогда на вилле. Я узнал ее. Но она с улыбкой сказала, что никогда не была там. И все это забылось как странный сон. До тех пор, пока я не попал в аварию и не потерял ближнюю память. И тут я вспомнил, вспомнил все, что было после того, как я съел ту самую проклятую шоколадку! Я тогда сполз с кресла на ковер. Но не заснул, а просто обездвижился. Я не мог пошевелить пальцем. Но был в сознании, слышал все и видел возле своего носа красно-серый узор ковра. И я слышал, что происходит с другими – они или застывали в креслах, или валились на пол. Потом я услышал, как вошли несколько мужчин. Послышалась какая-то молчаливая возня. Потом меня подхватили под руки и поволокли вниз, по ступеням. Я оказался в подвале. Затем меня подняли, приковали к стене. И рядом были прикованы какой-то парень и девушка. Сильные руки сняли с меня рубашку, и я увидел, как открыли продолговатый кофр. В нем лежали три странных молота, наконечники которых, как мне вначале показалось, были стеклянные. Какой-то мускулистый белобрысый мужчина взял такой молот, размахнулся и со всего маху ударил прикованного парня в грудь. И сразу к парню подошла та самая дама в синем, прижалась к груди. Потом отпрянула. И мужчина снова ударил. Она опять приникла. И сказала: «Пустой орех». Парня отстегнули от стены, поволокли прочь. Мужчина взял другой молот и точно так же стал бить в грудь девушку. Дама в синем приникала к ее груди, словно вслушиваясь. Мужчина бил так сильно, что молот стал крошиться, полетели куски. И снова дама сказала: «Пустой орех». Девушку отстегнули, а когда поволокли, я заметил, что изо рта у нее идет кровь, а ноги бьются в конвульсиях. Одновременно приволокли еще двух, стали пристегивать к стене. А ко мне подошел мужчина с молотом, размахнулся и со всей силы ударил меня в середину груди. Удар был такой силы, что от наконечника молота брызнули осколки. От боли у меня все поплыло перед глазами. Но я по-прежнему не мог пошевелиться. Дама в синем прижалась ухом к моей груди, послушала, отпрянула. Он снова ударил. У меня все плыло перед глазами. Опять приблизилась та красавица, синей перчаткой стерла с моей груди осколки от молота, и я понял, что наконечник не стеклянный, а ледяной! Она прижалась ухом к груди. Я стал терять сознание. Последнее, что я услышал: «Пустой орех». Потом все было, как и было – бар «Одеон», полиция, алкоголь в крови, разбитая грудь… Эта история всплыла в моей памяти год назад. Я сразу записал ее, чтобы не забыть. Выйдя из клиники, я, помня ту забитую насмерть девушку, пошел в библиотеку и поднял подшивку цюрихских газет за лето 1972 года. И обнаружил поразительное! Оказывается, тем летом в Цюрихе пропали бесследно четыре девушки и двое юношей. Их фотографии публиковались. Все они были светловолосыми и синеглазыми! В то же лето в Цюрихе попали под машины в состоянии алкогольного и наркотического опьянения 48 молодых людей. И у всех у них была травмирована грудная клетка! Шеф цюрихской полиции в своем интервью в «Нойе Цюрихер цайтунг» заявил, что такого массового попадания молодежи под машины за его двадцатилетнюю практику не было никогда. С трудом я разыскал трех из тех 48-ми, моих ровесников, пострадавших тем летом. У всех у них были русые волосы (двое уже поседели) и голубые глаза! И у всех была сильно разбита грудь. Один даже показал мне шрам в центре грудины. И все они были на том концерте «Led Zeppelin»! И все трое потом, как и я, записались в «Фаны Роберта Планта». Но ни на какой вилле они не были. А к моим рассказам о подвале, где из нас вышибали дух ледяным молотом, отнеслись, мягко говоря, скептически. Мои попытки контакта с владельцами виллы также успехом не увенчались. Мои домашние вообще считают, что все это мне пригрезилось, когда я потерял ближнюю память. Мой врач уверен, что это временные аберрации при потере памяти. Бог им судья… Когда же я принялся шарить по Интернету, интересуясь похищением людей, и наконец наткнулся на ваш сайт, я просто закричал от радости! Я прочитал столько свидетельств! Стольких людей похищали и били ледяным молотом, забивали до смерти! Значит, я не сумасшедший! Значит, все это было! Кто это делал? Зачем? Кто эти мерзавцы? Как бы я хотел узнать это!!
– Я тоже… – произнесла Ольга. – Очень хотела бы.
Она встала, потянулась, глянула в окно. Смеркалось. В Нью-Йорк вползал душный июльский вечер, зажигались огни. А здесь, в Нохо, как и всегда, в любую погоду, было классно. Ольга вытянула из пачки сигарету, подошла к северному окну, выходящему на Ист Виллидж, закурила. Итак, сегодня она прочитала еще три истории. Всего на сайте их было более четырехсот. Многие она помнила, мысленно возвращаясь к ним. Эти рассказы теперь стали для Ольги главной книгой жизни, сваями, уходящими в зыбкий, ненадежный окружающий мир, отнявший у нее родителей. На эти сваи она опиралась. Они не давали ей опустить руки, впасть в депрессию. Имена потерпевших от ледяного молота она знала и произносила, как имена братьев и сестер: Мари Колдефи, Эдвард Феллер, Козима Илиши, Барбара Стачинска, Николай и Наташа Зотовы, Йозас Норманис, Сабина Бауермайстер, Злата Боянова, Ник Соломон, Рут Джонс, Бьорн Вассберг. Все они прошли через пытку льдом. Все корчились, кашляли кровью, теряли сознание от тяжких ударов. Все потом мучительно возвращались к жизни, вскрикивали от боли, вдыхая воздух разбитой грудью. Все тщетно пытались найти сочувствие у окружающих, доказать, что все случившееся – чистая правда. И все натолкнулись на стену непонимания, как на тот самый лед…
Теперь к ним прибавились еще эти трое.
«Они что-то колют всем, чтобы отбить память. – Ольга курила, глядя в окно. – Но не на всех это действует. Или не успевают вколоть? Или… думают, что человек уже мертв? А я была живой. И Бьорн. И Барбара. И Сабина…»
Попугай в своей клетке кашлянул, распушил перья. И тихо произнес по-русски:
– Паровоз.
Ольга загасила окурок, подошла к Фиме. Слову «паровоз» попугая научил покойный отец.
– Нет, Фимочка, не паровоз. А самолет. И судя по всему – довольно скоро… – Ольга просунула в клетку палец, почесала попугаю розовый коготь. – А тебя опять Аманте отдам. Скучать будешь?
– Паровоз! – ответил попугай.Храм и Горн
Горн очнулся на вторые сутки.
Сердце его выплакало печаль шести лет земной жизни. Маленькое тело изнемогло. Лицо похудело и осунулось. И повзрослело. Теперь он уже не мальчик-олигофрен, несомый бессмысленной земной жизнью, а светоносный Горн. Теперь он готов к подвигу во имя Света. Он начинает свой новый путь. Великий путь. Все это время я неотступно была рядом. Я отстранялась от его сердца, когда оно плакало. Сидела и смотрела. И берегла его. Теперь, когда сердце его очистилось от прошлого, я могу приблизиться .
Горн ждет.
Я кладу пальцы на его веки. Глаза его открываются. И смотрят на меня. Это глаза брата. Самого важного для нас. И я должна ввести его в Братство. Сердце его успокоилось. Оно готово внимать.
И я заговариваю с ним.
Сердце Горн открыто. Оно хочет. Оно потрясает меня своей силой. Новой силой. Силой, которую ждали мы все. Я помогаю ему.
Я поставила сердце свое щитом светоносным между Горн и миром. Старое тело мое стало тенью от щита сияющего . Тень тела моего заслоняет мир: еще не время! Мир Земли лежит за моей сутулой спиной. Круглый, непостоянный, самопожирающий и опасный мир Земли гудит за моей спиной. Спина моя – широкая тень. Чистое сердце Горн не должно видеть мир: еще не время! Оно не готово прикоснуться к миру Земли. К беспощадному миру. Который пожирает себя. Который клубится яростью самоуничтожения. Дрожащие руки мои заслоняют континенты. Костлявые пальцы расходятся в стороны, скрывают города. Мясные машины клубятся под морщинистыми ладонями. Деревни и поселки, дороги и механизмы теснятся за моими дряблыми бедрами, сохранившими шрамы от пыток. Плечи мои скрывают тяжкий порядок армий земных. Голова заслоняет страны Севера, где мы нашли столько наших . Яростный мир мясных машин накрываю я тенью тела своего, обратив сияющее сердце к желанному брату.
Я обороняю Горн.
Я оберегаю Горн.
Я храню Горн.
Я кормлю Горн.
Сердце Горн раскрывается стремительно. Оно течет сиянием желания. Оно требует. Рост его быстр. Никто из Братства не быстр сердцем так, как Горн. Никто не прорастает Светом так стремительно. Мы радуемся. Мы сияем и ликуем. Сердца наши, обстоящие новообретенного, сияют радостью Света. И ликование Света наполняет Братство восторгом: мы поверили ! Горн заставил нас уверовать в Исполнение. То, о чем грезили сердца, о чем говорили в Больших и Малых Кругах, о чем стонали во сне, о чем шептали умирая, – приблизилось! И Горн приблизил это.
Мы бережем его сердце и тело.
Каждое утро руки мои будят тело Горн. А сердце мое будит его молодое и сильное сердце. Сестры берут Горн на руки и несут в комнату Омовений. Чистейшей водой, настоянной на цветах и травах, омывают сестры тело его. Шелковистыми тканями отирают. Умащивают маслами. Одевают в одежду. Из растений, росших в горах, соткана она. Сестры поят Горн чаем из таежных трав, дающих покой и силу. Протягивают плоды тропических деревьев.
Горн поглощает плоды.
Тело его растет.
Но сердце растет гораздо быстрее.
Сердце крепнет. Оно питается Светом. Учится первым словам сердечного языка. Сосет слова из наших сердец. В сердце Горн нарастает неизмеримая сила Света. И даже мое сильное и опытное сердце с трудом сдерживает этот натиск. Горн желает объять все сразу. Но не может вместить . Он яростно жаждет. Мне суждено утолять жажду сердца его. И я делаю это с великой осторожностью, чтобы не навредить ему. И Братству. Ибо понимаю, кто для нас Горн. Это понимают братья и сестры на всех континентах. Там сияют сердца. Там соединяются руки. И составляются Круги. Малые, Средние, Большие. Они вспыхивают во мраке жизни земной, посылая нам Свет сердечный. Мы принимаем его. Он укрепляет наши сердца. Мы делимся Светом с Горн.
Я охраняю Горн.
Я сохраняю Горн.
Я наполняю Горн.
Я держу Горн.
И Свет в сердце его нарастает и расширяется.
Сердце Горн постепенно заполняется Светом. Но познание мира Земли я отодвигаю от Горн: еще рано! Не время! Только окрепнув сердцем, должен он прикоснуться к миру. Который мы создали. И в котором мы заблудились. Только полное сердце сможет увидеть мир. И понять суть его.
Я готовлю сердце Горн к главному.
Бьорн и Ольга
Очень высокий блондин в лимонно-желтой майке и белых шортах размашисто шел через толпу, громко везя за собой красный чемодан.
«А вот и он. Ну и дылда!» – Ольга быстро допила свой грейпфрутовый сок и положила на стойку бара шесть шекелей.
Блондин подошел. Сдержанно улыбнулся. На фотографии из электронной почты его подбородок казался Ольге более тяжелым, а шея менее спортивной. На курносом носу блондина вперемешку с веснушками выступили капельки пота.
– Odin v pole voin, – старательно проговорил он пароль глубоким грудным голосом.
– Krдftskivan, – произнесла отзыв Ольга, слезая с высокого металлического стула.
Ее невысокие каблуки коснулись пола.
«На две с половиной головы выше меня…» – отметила она, протягивая свою маленькую руку. – Hi, Bjorn.
– Hi, Olga! – Он улыбнулся шире.
Ольга с силой сжала его огромную влажную ладонь своей маленькой рукой.
– I didn’t expect you be so tall [10] . – Она прочитала надпись на его желтой груди «Krдftskivan», изгибающуюся вокруг красного рака.
– 201, – честно ответил он. – And where’s your red hair? [11]
– Sometimes you need to change something about yourself [12] . – Ольга надела черные очки, вскинула лямку тяжелой сумки на плечо. – Well, let’s go?
Швед говорил на своем типичном скандинавском английском, Ольга – на своем приобретенном американском.
Не замечая ее увесистой сумки, он закрутил головой:
– А где же…
– Идите за мной. – Ольга решительно двинулась к выходу. – Что такое «Krдftskivan»?
– Праздник раков. – Бьорн в два своих шага догнал ее, треща чемоданом.
– Это когда их едят?
Бьорн с улыбкой кивнул и добавил:
– А ваш пароль я уже перевел с русского. Вернее – мне помогли перевести.
– Прекрасно! – тряхнула головой Ольга. – Теперь вам известен мой жизненный принцип.
Вышли на сухой и горячий июльский воздух. Сели в такси. Ольга не очень быстро произнесла на иврите адрес в районе Петах-Тиква.
– Сделаем, – по-русски ответил водитель и улыбнулся Ольге в зеркало.
Не удивившись, она достала сигареты:
– Можно курить в машине?
– Так мы ш не в Америке! – шире улыбнулся водитель. – Курите на здоровье, затягивайтесь глубже.
– Спасибо. – Она закурила.
– Он из России? – спросил Бьорн.
– Да. – Ольга открыла окно, несмотря на включенный кондишен, подставила лицо теплому ветру.
– Здесь многие из России. – Бьорн покачал своей белобрысой головой на длинной и крепкой шее.
– Да. – Ольга стряхнула пепел в воздух. – Здесь многие из России.
До Петах-Тиквы ехали молча. Быстро промчавшись по холмистому, залитому солнцем пейзажу, машина въехала в пыльный, знойный Тель-Авив. Попетляв по улицам, водитель затормозил возле необычно длинного дома.
Бьорн пытался заплатить, но Ольга опередила его, сунув водителю бумажку в пятьдесят шекелей.
– Вы феминистка? – спросил Бьорн, вынимая свое большое тело из машины.
– Уже нет. – Ольга глянула на бело-розовый трехэтажный дом, растянувшийся на полквартала.
Она подошла к маленькому крыльцу из ракушечника. На двери висел большой латунный номер «167». Ольга позвонила. Довольно быстро ей открыла красивая женщина лет пятидесяти.
– Ольга Дробот? – приветливо спросила она по-русски, с еврейским выговором.
– Да. Здравствуйте. – Ольга сняла черные очки.
– Я – Дина. Проходите.
– Hi, I’m Bjorn, – закивал головой швед.
Они вошли в небольшую прихожую.
– Вы голодны? – спросила женщина. – Только честно!
– Спасибо, Дина, мы сыты. – Ольга опустила сумку на пол. – Нам хотелось бы побыстрее сделать то, ради чего мы здесь. Если это возможно, конечно.
Дина вздохнула:
– Именно сейчас это возможно. Пока он не заснул.
– Отлично.
– Пойдемте за мной. – Дина стала подниматься по лестнице.
Ольга и Бьорн двинулись следом. В доме было прохладно, и где-то наверху поскуливала запертая собака. На втором этаже Дина подвела их к двери, открыла, заглянула в комнату. И движением красивой руки пригласила войти. Ольга и Бьорн вошли в комнату. Это была небольшая спальня для одного человека. Жалюзи на окне были слегка прикрыты. На узкой кровати под стеганым одеялом лежал худощавый старик в сиреневой пижаме. Руки его покоились поверх одеяла, на груди стояла пустая чашка. Он тяжело и громко дышал, чашка двигалась в такт дыханию. Завидя вошедших, он взял чашку и переставил со своей груди на прикроватную тумбочку.
– Папа, это они, – сказала Дина.
– Я догадался, – произнес старик. – И я бы таки очень хотел, чтобы вам хватило получаса. А то я опять засыпаю. Это болезнь, такая хорошая, даже очень хорошая болезнь. Перманентный сон. Ну и не самая плохая болезнь, правда, Диночка?
Дина кивнула:
– Я уже повторяла миллион раз: я тебе завидую, папа.
– Завидуй! – усмехнулся старик, обнажая красивые вставные зубы. – И принеси им нашего лучшего в мире морковного сока.
– Как бы я жила без твоей подсказки, папа! – тряхнула головой Дина, выходя.
– Садитесь, мы для вас уже приготовили стулья, – заворочался старик, облокачиваясь спиной на две сложенные подушки. – И давайте таки сразу к делу.
Гости сели, Ольга достала маленький диктофон.
– Давид Лейбович, мы не будем вас долго мучить, но поверьте, это очень… – заговорила Ольга, но старик перебил ее:
– Не надо лишних слов, умоляю. За последние шестьдесят лет я рассказывал про это раз триста восемьдесят шесть. Если сегодня будет триста восемьдесят седьмой, у меня таки не свихнется язык. Тем более если об этом просят близкие друзья Доры. Вы таки готовы?
– Да, – ответила Ольга.
Ничего не понимающий Бьорн сидел, выпрямив спину и положив загорелые кулаки на свои белые колени. Появилась Дина с двумя высокими стаканами со свежим морковным соком, обернутыми салфетками, протянула гостям.
– Н у, бикицер [13] , – заговорил старик, держась за край стеганого одеяла, как за поручень. – Как я попал в лагерь, не суть важно. Я был в двух лагерях, в Белоруссии и Польше, а потом – уже туда. Короче, туда я попал весной 44-го, мне накануне исполнилось таки семнадцать лет. Н у, что это было за место и что там творили, вы знаете, вам не надо рассказывать. Когда наш эшелон туда заехал, мы таки вылезли из вагона, нас сразу построили, осмотрели и отобрали из всего эшелона двадцать восемь человек. Меня в том числе. И все мы были похожи только тем, что, во-первых, были евреями, как и все в эшелоне, и во-вторых – у всех у нас были светлые или рыжие волосы и синие глаза. Это сейчас я седой, мутноглазый, лежу таки параллельно горизонту, а тогда я был стройный красавец, блондинистый и голубоглазый. Я конечно же не понял, куда и почему нас отобрали. Да и никто из двадцати восьми тоже не понял, а чего понимать, нечего было понимать. Там везде пахло горелым человеком и все время летел пепел, вот что надо было понимать. Короче, нас провели через санобработку, а потом отвели в барак. И в этом бараке я увидел только голубоглазых и светловолосых евреев. Всего было два таких барака: мужской и женский. И все – голубоглазые и светлые. Было много рыжих. Это было как-то странно, даже хотелось смеяться. И была масса разговоров и догадок по этому поводу, многие мрачно шутили, что из нас сейчас будут таки делать настоящих арийцев и отправят на Восточный фронт воевать за фюрера. Некоторые говорили, что на нас будут ставить опыты. Но с нами ничего не делали. Опыты ставили на других. И в крематорий шли другие, из других бараков. Короче, прошло шесть месяцев. Пеплом мы таки и не стали. И за это время оба барака почти переполнились: с каждым эшелоном к нам добавляли таки и добавляли голубоглазых евреев – пять, десять или больше человек. А иногда – ни одного. Потом фронт подступил, немцы заволновались, печи работали на всю катушку. Но нас по-прежнему не трогали. И вот в октябре, это было точно 11-го числа, нам скомандовали «раус!». Мы вышли из двух своих бараков, нас осмотрели. И отобрали тех, кто прятался у нас и был черноглазым. Или кареглазым. Или зеленоглазым. Были и такие. Мы их прятали. Их отделили от нас. Потом нас погрузили в огромный эшелон. И он выехал из лагеря. И пошел на запад. Мы не знали, что думать, но все-таки были рады, что покинули то проклятое место. Там пахло только смертью. Мы были уверены, что нас везут в Германию. Но поезд прошел всего часа два и остановился. И нам скомандовали вылезти. И мы таки вылезли. Эшелон стоял в чистом поле. И совсем рядом был огромный песчаный карьер. Это был такой громадный овраг, яма песчаная. И охрана из эшелона встала по краям этого карьера. И нам приказали спуститься в карьер. Ну, все мы поняли, что ни в какую Германию мы таки уже не доедем, а просто нас кончат здесь. Мы в лагере знали, что русские сильно наступают. Значит, немцы торопятся с нами покончить. И мы пошли в этот карьер. А что делать? Бежать некуда – поле вокруг. Нас было тысячи две. Не меньше. Мы спустились в этот карьер. И нам скомандовали сесть. Мы сели. И молились. Потому что понимали – сейчас начнут стрелять из пулеметов. Но никто не стрелял по нам. Мы сидим и ждем. И охрана с автоматами стоит по краям карьера. И вдруг наверху, откуда мы спустились, появились эсэсовцы с двумя чемоданами. Они открыли эти чемоданы и вынули оттуда двух стариков. Это были даже не старики, а что-то таки совсем непонятное, я подумал сперва, что это подростки из нашего лагеря, очень худые, кожа да кости. Но потом я увидел, что это старик и старуха. Они были невероятно худые, худее нас, и все какие-то белые, словно их держали в подземелье. Их волосы были белые как снег и очень длинные. Эсэсовцы посадили их на руки, как детей. И спустили к нам. И эти старик со старухой, сидя на руках у эсэсовцев, уставились на нас. У них были очень странные лица, не злые и не добрые, а какие-то непонятные, словно они уже умерли давно и им на все плевать. Я таких лиц никогда не видел. Даже в лагере у доходяг были другие лица. А эти лица были таки очень необычные. И у этих двух были тоже голубые глаза. Они смотрели. Но тоже так, будто сквозь нас. Знаете, бывает, когда человек задумается и вперится невидящим взглядом. Вот такие были у них глаза. Они смотрели на нас и что-то бормотали совсем не слышно. И эсэсовцы стали забирать кое-кого из нас: одного там, другую здесь. Это длилось и длилось. А потом взяли парня, который сидел не очень далеко от меня. Это был Мойша з Кракова. Я с ним познакомился в лагере и даже немного таки дружил. Он был старше меня. До войны он работал продавцом в галантерейном магазине. У него, как и у меня, убили всю семью. Он был сильно верующим и говорил, что если Бог оставит ему жизнь, он станет ребе. Этот Мойша з Кракова всегда носил с собой бумажку, такую вощеную серую бумажку, в которую раньше до войны заворачивали селедку. Целый день она была с ним скомканная. А вечером, когда объявляли отбой и барак запирали, он ложился на нары и расправлял эту бумажку на ладони. Ему дал ее один ребе в гетто и сказал, что вот бумажка, это ты сам, жизнь за день комкает тебя, превращает в комочек, а вечером ты расправляешься, забываешь мир и снова предстаешь перед Богом во всей своей правде. На ночь он всегда расправлял бумажку и клал ее под голову. И эта бумажка помогала ему. Так вот, когда его вытаскивали из нашей толпы, эти старик со старухой как-то очень заволновались. Их прямо-таки стало корчить и ломать, они затряслись. И я тогда подумал, что у них эпилепсия. И всего из нас взяли человек тридцать. Их повели к поезду, посадили в вагон. И унесли этих тощих эпилептиков. И главный скомандовал охране, охрана пошла к эшелону. А мы стали молиться, потому что поняли, что сейчас нас расстреляют. Я опустил голову, смотрел в песок и молился. Я видел в песке муравья, смотрел на этого муравья и молился, молился. Я сам был как муравей, но хуже муравья, потому что муравей будет таки жить, а меня сейчас расстреляют! И вдруг услышал, как паровоз свистнул и потянул состав. И они таки поехали. Поехали, поехали, поехали. И все! Нет эшелона. Нет эсэсовцев. Мы сидим в карьере. А вокруг – пустое поле. Никто ничего не понял. Ну, мы встали, выползли из карьера. И пошли. Бежать сил не было. Брели в разные стороны. Я брел с тремя, они все были з Варшавы, и мне повезло, потому что мы все-таки были голубоглазые и светловолосые, а поляки, они хоть и антисемиты, но таки приняли нас… это самое… они, это было… азохен вэй… там были таки… и добрые и мерзавцы… ту пани звали Веслава, а отец ее был без руки… и они… и они… но… не только… как обычно…
Старик зевнул и моментально захрапел.
– Все. – Стоящая у двери Дина подошла к старику, поправила одеяло.
Он очень громко храпел, открыв рот. Голова его тряслась на подушке. Запертая наверху собака, услышав его храп, заскулила сильнее.
Ольга убрала диктофон, встала. Не понимающий по-русски Бьорн тоже встал.
– Скажите, Дина, из этих двух тысяч кто-нибудь выжил?
– Да. – Дина забрала у гостей пустые стаканы. – В Израиле он встретил двоих. Лет пятнадцать тому назад. Но где они сейчас – не знаю.
– А он пытался узнать – что все это было? Зачем их отбирали в эти два барака, везли, а потом отпустили?
– Да, да… – забормотала Дина, – конечно, пытался… Извините, мне надо выйти с собакой.
Она открыла дверь и побежала наверх по узкой деревянной лестнице. Где-то наверху открылась дверь, и молодой женский голос гневно произнес:
– Эйн гвулёт ле эгоцентриют шелхах! [14]
– Ат ло роа ше бау элейну? [15] – ответила Дина, отперла собаку. – Пошли, Файфер.
Собака оказалась большим черно-шелковистым мастифом. На толстом поводке Дина повела его вниз по лестнице. Ольга и Бьорн тоже спустились вниз.
– И что же выяснил ваш отец? – спросила Ольга, поднимая свою сумку.
– Он выяснил… – Дина отперла дверь, и собака, дернув за поводок, буквально вырвала ее из прихожей на улицу.
– Амод! Льяди! [16] – закричала Дина, борясь с собакой.
Ольга и Бьорн со своими вещами вышли на улицу. Солнце пекло.
– И что же он выяснил? – Ольга опустила сумку на белый и горячий тротуар, сощурилась от слепящего солнца.
– Что голубоглазых евреев отбирали по личному приказу начальника лагеря.
– Для чего?
– Письменного обоснования не было… – Собака уносила Дину вниз по улице. – В общем, это какой-то немецкий бред…
– А об этом писали?
– Что?
Люкарня в мансарде открылась, высунулась кудрявая девушка, громко крикнула:
– Има шели энохит! [17]
И захлопнула люкарню. Дина махнула рукой, борясь с хрипящей собакой.
– Об этом писали? В газетах? Или где-то? – крикнула Ольга Дине.
– Что?
– Об этом писали?!
– Да… но никто не понял… ах, ты…
– Что?
– Никто так и не понял – что это было… и… и… льяди! льяди!.. и зачем это было нужно! – крикнула, балансируя, Дина и скрылась за поворотом.
Ольга оглянулась на дом. Даже на улице было слышен громкий храп старика.
– Что она сказала? – спросил Бьорн.
Ольга вздохнула, надела черные очки.
– Что она сказала? – снова спросил Бьорн.
– Что жизнь невозможно повернуть назад… – пробормотала Ольга по-русски, замечая впереди такси. – Ладно, поехали в отель.
В машине Ольге стало холодно от кондиционера, Бьорн расспрашивал ее, она вздыхала, бормоча «после, все после».
Забронированный ею через Интернет отель «Прима Астор» находился метрах в ста от моря. Ольга заметила, что море гладкое и спокойное. Они разместились на одном этаже, в маленьких одноместных номерах. Приняв душ, переодевшись в льняную блузку и полосатые шорты, Ольга пригласила Бьорна к себе, усадила его на единственный стул, сама уселась на кровати и перевела ему записанный на диктофон монолог старика. Швед выслушал его молча и напряженно, держа кулаки на коленях. Потом зашевелил большими ногами и длинными руками, оттопырил нижнюю губу и глубокомысленно произнес:
– Это похоже на правду. Мы должны серьезно задуматься.
– Крепко сказано! – иронично кивнула Ольга, доставая сигарету из пачки и закуривая.
– Вам кажется, что я слишком… – начал он, но Ольга перебила его:
– Мне уже ничего не кажется. – Она потерла переносицу. – Знаешь, Бьорн, я, во-первых, не люблю жару, а во-вторых, у меня джет-лег.
– У меня есть таблетки. Я уже принял.
– Отлично. Тогда ты пойдешь к себе и часа на полтора серьезно задумаешься. А я посплю. Оkay?
– Okay. – Он встал, виновато улыбнулся и вышел.
Ольга докурила, задернула зеленую штору, разобрала постель, разделась догола и легла, накрывшись простыней. Кондишен тихо урчал над дверью.
«Сонная болезнь… – подумала Ольга, водя ладонью по прохладной и свежей простыне. – А ведь это лучше, чем бессонная болезнь…»
Она тронула рукой свой живот. Тело устало за последние сутки.
«Два барака. Два барака… – Пальцы коснулись пупка, поползли выше. – Два барака в чистом поле… ни надежды и ни горя… Господи, зачем я сюда приехала…»
Пальцы тронули шрам на груди, небольшую впадину в грудной кости.
«Бумажка. Из-под селедки. Это хорошо. Надо бы и мне завести такую. И на ночь расправлять… Жизнь комкает…»
Она заснула. Ей приснился Тод Белью, топ-менеджер из отдела элитных кухонь, голый и невероятно худой. Он ходил по залу с железной палкой и, бормоча что-то на иврите, стучал по кухонным гарнитурам, пробуя их на прочность.
Ольга проснулась от телефонного звонка. Открыла глаза. В номере было по-вечернему сумрачно. Звонил телефон на тумбочке у кровати. Она сняла трубку:
– Да.
– Это Бьорн. Ольга, уже 20.07.
– Господи… всё, встаю.
Она приняла душ, привела себя в порядок. И через пять минут постучала в дверь Бьорна. Вскоре они сидели в небольшом ресторанчике неподалеку от отеля. Бьорн заказал себе местного пива и баранину на ребрах. Ольга взяла тост с курицей, воды и кофе. Есть ей не очень хотелось.
– Ну, ты задумался серьезно? – спросила она, гася сигарету в глиняной пепельнице.
– Да. Мне кажется, что это те же люди, что похитили нас и наших родных.
– Значит, они были и до войны?
– Да.
– А что это за изможденные старик со старухой?
– Не знаю. Возможно, это их руководители. – Он отхлебнул пива.
Ольга посмотрела на полоску пены, оставшуюся над его верхней губой. Он заметил, приложил к губам салфетку:
– Наверно, это как-то связано с фашизмом.
– Как?
– Не знаю. Но и те тогда, и мы сейчас – голубоглазые и светловолосые. А у фашистов была идея нордической расы.
– Белокурая бестия?
– Да. Белокурая бестия.
– Но в бараках были евреи. Фашисты ненавидели нас, уничтожали. И я тоже еврейка. И мои родители тоже были евреями.
Бьорн вздохнул:
– Это странно. Но все равно, Ольга, мне кажется, это как-то связано с фашизмом.
Ольга закурила новую сигарету.
– Не знаю… Нас с родителями похитили трое голубоглазых. Один был блондин, это точно, а двое, по-моему, крашеные. Потом, когда они били меня этим ледяным молотком, то говорили одно и то же: говори сердцем. До тех пор, пока я не отключилась. При чем здесь фашизм?
– Не знаю. Интуиция.
Ольга усмехнулась.
– Это смешно, понимаю. Но пока интуиция – единственное, что у нас есть. Больше нет ничего.
– Интуиция! – зло фыркнула Ольга. – Средь бела дня какие-то уроды похищают людей, забивают их до смерти. Исчезают. Никто не знает, кто они! Полиция называет цифры ежегодно пропадающих людей. Статистика! Это нормально?
– Это ненормально. Когда я рассказал про все в полиции, мне долго не верили. Молот изо льда! «Говори сердцем…» Они долго переглядывались, думали, что я чокнутый.
– Мне тоже не верили… Потом провели экспертизу ранений. У меня и у… (она запнулась) у папы и мамы. У них грудины были совершенно разбиты. А у меня только ребро и выбит кусочек кости. Когда меня нашли, рядом была лужа. Лед, которым нас били, растаял.
– А я сперва подумал, что это стекло. Он в первый раз ударил не очень сильно. Потом, когда молот треснул, я понял – это лед. И тоже осталась лужа. Не только воды.
Он посмотрел на свою огромную ладонь, сжал ее в кулак и разжал:
– Там была не только вода. У брата горлом пошла кровь. Кровь… много крови. И моей тоже.
Они замолчали.
В этот момент полноватый официант принес большое блюдо с жареной бараниной и поставил перед Бьорном. Ольга глянула на шипящее, сочащееся мясо. Подняла глаза на официанта:
– У вас есть русская водка?
– Конечно! – улыбнулся официант. – Две порции?
– Принесите… – задумалась она, – бутылку.
Официант кивнул, не удивившись, и вернулся с запотевшей бутылкой «Столичной» и двумя стаканчиками. Ольга молча разлила водку в стаканчики, взяла свой. Бьорн протянул пальцы, и стаканчик исчез в его длани.
Ольга скосила глаза на соседний столик. Там сидели трое смуглых пожилых евреев и неторопливо ужинали.
– Всего четыре месяца прошло, а я… не могу поверить, – произнесла Ольга. – Все это… сон какой-то. Очень муторный. Очень… очень… Ненавижу!
И выпила залпом водку.
Бьорн вздохнул:
– А я уже поверил. Когда брата похоронили, я пришел в его комнату. Там был дневник, я никогда не читал его. Я сломал замочек, открыл дневник. Он записал в тот день: «Сегодня в Гётеборге опять мое любимое небо, цвета синего корунда. Значит, будет удачный день». После этого я поверил, что Томаса больше нет. Нет моего младшего брата.
Он вздохнул и выпил свою водку.
– Синий корунд… что это? Камень?
– Да. Брат учился на геологическом. Он хорошо знал камни. Он говорил, что у меня глаза похожи на александрит, а у него на аквамарин.
– А мне мама говорила, что у меня глаза – берлинская лазурь плюс немного изумрудной зелени.
– Она была художником?
– Нет, просто реставратором. Но давно. Еще до эмиграции.
Ольга наполнила стаканчики. Посмотрела на неловкие руки Бьорна и впервые за вечер улыбнулась:
– Ты очень большой. Брат был таким же?
– На два сантиметра выше. И в баскетбол играл лучше меня. На улице нас звали «фонарными столбами».
Ольга с улыбкой смотрела на него:
– Как это по-шведски?
– Фонарный столб? Lyktstolpen.
– Ликтстольпен… – повторила Ольга.
Выпитая на голодный желудок водка быстро опьянила ее.
– Давай за них. За… наших. Только чокаться не надо.
Они выпили. Но Ольга выпила быстрее.
– Все русские девушки так быстро пьют? – спросил Бьорн, переводя дыхание.
– Не все. Избранные. Ешь, пока горячее.
Она взяла с его тарелки баранье ребро, вцепилась в сочное мясо зубами.
– Что ж ты меня не спросишь о моей версии?
– Какая твоя версия?
– Мне кажется, что фирма «LЁD» знает, кто нас бил молотом.
– Не знает.
– Ты видел их приставку, пробовал ее?
– Да, конечно. Кто ее не пробовал…
– Но там же тоже лед! Там ледяной наконечник, который стучит тебе в грудь. И ты испытываешь какую-то грусть, потом появляется какой-то круг людей, и тебе становится очень хорошо с ними.
– Это просто компьютерная игра нового поколения. Безусловно, сенсор-приставку изобрела корпорация «LЁD», они же породили миф о тунгусском льде, который якобы вызывает необычные ощущения у людей, когда им стучат в грудную клетку. Они якобы добывали этот лед, везли его из тундры, все наконечники только из этого льда… Но это миф. Лед есть лед. Упавший с неба или замерзший на земле – он одинаков. И что бы ни говорили их «ученые», миф о льде тунгусского метеорита – лишь повод подороже продать свой продукт. Об этом было много написано. Серьезные ученые подняли их на смех. Это даже обсуждать не интересно… На своей приставке «LЁD» сделал миллиарды. И зачем им еще похищать людей и лупить ледяными молотами?
– Но кто-то использует их идею! – выкрикнула Ольга так громко, что сидящие за соседними столиками оглянулись.
– А может быть, наоборот?
– Что – наоборот?
– Может быть, «LЁD» использует чужой метод?
– Стучать льдом в грудь до смерти?
– Да.
– И что же это за метод?
– Пока не знаю. Что-то из древних культов. Может, у кельтов, например, или у якутов был такой обряд. Может, это делали шаманы. Хотя ни в Интернете, ни в нашей университетской библиотеке я такого ритуала не нашел.
– Кто же это?! Сатанисты?
– Не похоже. Скорее – фашисты.
– И как это связано с фашизмом?
– Как-то связано. Уверен. Немецкие фашисты использовали древнюю мифологию. Кстати, у них была своя теория космоса. Я нашел это в Интернете. По их мнению, весь окружающий нас космос состоит изо льда. И только горячая воля человека может растопить в этом льду пространство для жизни.
– А какого хера они лупят этим льдом в грудь?!
– Не знаю. Может, чтобы проверить волю человека? Способна ли она растопить лед?
– Бред! И ради этого они идут на убийство?!
– Ну, многие тайные общества легко идут на убийство ради своих целей. Которые нормальным людям кажутся бредом.
Ольга кинула на тарелку баранье ребро:
– Кто, кто они?
– Мы здесь для того, чтобы ответить на этот вопрос.
– Кто, кто убил моих родителей?! – Ольга стукнула кулаком по столу, задев свой стаканчик, он упал на пол и разбился.
– Слушай, я чего-то… совсем пьяная… – Она качнула головой. – Поехали в отель.
– Хорошо. – Бьорн поднял свою баскетбольную руку, подзывая официанта.
В отеле Ольга упала на постель. Бьорн стоял возле, почти касаясь головой потолка. Он явно не знал, что делать.
– Кто убил моих родителей? – снова спросила Ольга.
– Тот же, кто убил моего брата, – ответил Бьорн.
Ольга шлепнула себя по щекам, пьяно усмехнулась:
– Слушай. Я опьянела с двух рюмок. Я пьяная в хлам!
– Ты просто устала от всего.
– Да. Я устала от всего. Когда у нас самолет?
– В 5.20.
– Ужас… Разбудишь меня?
– Конечно. Спокойной ночи, Ольга. – Он качнулся и шагнул к двери.
– Погоди.
Бьорн остановился. Ольга смотрела на него. Он смотрел на нее.
– Ты думаешь, тот парень из Гуанчжоу что-то знает?
– Ну, иначе бы он не позвал нас.
Ольга кивнула. Приподнялась и села на кровати.
– Покажи мне твой шрам, – произнесла она.
Он снял свою желтую майку с красным раком. Ольга встала, пошатываясь подошла. На груди у Бьорна было два лиловых шрама. Ольгины пьяные глаза покачивались на уровне этих шрамов. Бьорн смотрел на нее сверху. Ольга сняла с себя блузку:
– А у меня один.
Между небольших грудей с большими коричневыми сосками белел шрам в форме скобки с небольшим углублением в кости.
– Они мне выбили кусочек кости. – Ольга подняла голову и глянула Бьорну в глаза. – Красиво?
– Да, – тихо ответил он.
Они молча стояли друг против друга.
– Напомни, как тебя звали на улице? – спросила Ольга, покачиваясь и вцепившись обеими руками в свой белый ремень.
– Lyktstolpen.
– Ликтcтольпен! – рассмеялась она. – Что ты сейчас хочешь, Ликтcтольпен?
Бьорн внимательно посмотрел на нее:
– Я хочу… разбудить тебя в 4.00.
– Конечно. – Она отшатнулась, пропуская его, оперлась о стену, водя по ней рукой. – Bon nuit, Ликтcтольпен.
– Bon nuit, Olga.
Наклонившись, Бьорн вышел и осторожно притворил за собой дверь. Ольга оттолкнулась от стены, зашла в крошечную ванную комнату, открыла воду в раковине. Увидела себя в круглом зеркале:
– Спокойной ночи, сирота.
И брызнула водой на зеркало.
Над миром
Я просыпаюсь позже сердца моего. Оно спит совсем недолго. Оно бодрствует во сне. Ибо ведает, что Исполнение близко.
Сердце мое будит тело мое.
Я встаю, привожу в порядок старое тело мое. И направляюсь к Горн. Он спит на своем белом ложе. Я бужу его тело. А потом, когда руки сестер омоют его тело и разотрут маслами, бужу сердце Горн. Оно просыпается. Я обожаю это мгновение.
Сегодня сердце его просыпается особенно прекрасно. Сила и ясность сияют в нем. Сегодня Горн готов увидеть мир.
Сегодня я покажу ему мир.
Мир нашей Великой Ошибки. Которую нам предстоит исправить.
Горн сидит в Трапезной. Я подаю ему фрукты. Он поглощает их. Он не спрашивает меня о деревьях, на которых выросли фрукты. Его не интересует форма этих плодов. Он просто ест их. Мудрость сердца пребывает с ним. Он уже не мальчик из города мясных машин. Он наш самый дорогой брат.
Губы его липкие от плодов Земли. Я вытираю его губы. Я наливаю ему воды. Он пьет ее. Мы выходим с ним из Дома. Он смотрит на мир, окружающий нас. Он смотрит сквозь этот мир. Сердце его уже умеет это. Оно готово увидеть суть мира.
Сегодня я покажу Горну то, что он должен знать. Я беру его за руку. Мы идем на берег. Океан, сотворенный нами миллиарды лет назад, плещется у наших ног. Братья и сестры стоят позади нас. Они смотрят в небо. Там появляется точка. Она приближается и растет. Это белая машина, умеющая летать по небу и садиться на воду. Она садится на океан. Она ждет нас. Я веду Горн на маленькую машину, умеющую плыть по поверхности воды. Эта машина везет нас по воде к летающей белой машине. Горн стоит, держась за мою руку. Он смотрит. И не задает вопросов. Сердце его предчувствует. Но я не касаюсь его сердца своим. Я готовлюсь.
Доплыв до летающей машины, мы садимся в нее. Дверь ее закрывается. Машина взлетает с поверхности океана. Она поднимается выше и выше. И летит по воздуху. Горн смотрит в окно. Он видит наш остров, наш Дом. Видит братьев и сестер, стоящих на берегу. Братья и сестры удаляются от нас. Сердце Горн вспыхивает : впервые братья и сестры отдаляются от него. Сердце его трепещет. Оно не хочет расставаться с другими сердцами. Оно не хочет терять. Я стою рядом и смотрю. Но не помогаю : Горн сам должен справиться. Он может.
Глаза его наполняются слезами: он теряет братьев. Они уменьшаются. Превращаются в точки. Самое дорогое в этом мире исчезает. Горн вскрикивает. Рука его отпускает мою руку. Он кидается к окну. Лицо его упирается в стекло. Слезы брызжут из глаз.
– Дай! Да-а-а-ай! – кричит он в стекло.
Но самые дорогие исчезают: наш остров уже стал точкой. Она еле различима на поверхности океана. Она тонет в океане. Который создали мы. Который создал Горн.
– Дай! Да-а-а-й! Да-а-а-ай!!! – бьется Горн.
Я стою напряженно. И не помогаю.
– Дай! Дай! Да-а-а-ай!!! – ревет его тело.
– Дай! – ревет его мозг.
Но сердце пока молчит.
Остров исчезает в океане. Ужас охватывает Горн. Тело его цепенеет. Лицо прижимается к стеклу. Застывает. Мозг его осознает: океан поглотил родных.
Я замираю.
И замирают братья и сестры внизу.
Мы ждем.
Мы верим.
Мы хотим.
И сердце Горн вспыхивает ! Оно тянется к родным сердцам! Оно видит их! Они живы. И океан не поглотил их. Горн видит всех на острове! И я вижу, что он их видит !
Я бросаюсь к нему. Обнимаю сзади. Помогаю и направляю.
Он цепенеет от открывшегося ему: оказывается, братья и сестры рядом. Глаза не видят их, но сердце видит. Каждого! Горн смотрит их. И я мягко помогаю ему.
И мы ВПЕРВЫЕ смотрим вместе. И я понимаю, что все исполнится. И мы с ним сделаем наше Великое Дело. И я смотрю его сердцем, словно впервые. И он смотрит, чувствуя меня. И братья и сестры снизу видят нас.
Железная машина несет нас по воздуху. Мы с Горн летим над океаном. Я обнимаю Горн. Я помогаю ему. С тех пор как сердце его проснулось, оно очень быстро учится. Оно уже многое умеет. Но сейчас оно открыло для себя новое : можно видеть очень далеко. И можно видеть братьев и сестер даже за горизонтом. А вместе с моим сердцем можно увидеть ВСЕХ СРАЗУ!
Но для этого нужно подготовиться.
Чтобы увидеть ВСЕХ НАШИХ, нужно знать и понимать мир, в котором они оказались. Нужно уметь положить мир на ладонь. Как яблоко, которое ты, Горн, съедаешь каждое утро. Ибо только когда мир станет для тебя не больше яблока, ты сможешь сделать Великое Дело.
Я поддерживаю тебя, Горн.
Я покажу тебе мир.
Горн понимает. Он хочет понять мир. Но не может сам просить меня. Сердцем я иду ему навстречу. Сердце мое берет его сердце. Мы смотрим вместе. Мир под нами. Семь раз я должна смотреть на мир вместе с Горн. И этого достаточно ему, чтобы понять то, что лежит под нами. Семь взглядов на мир достаточны. Мы смотрим.
ВЗГЛЯД ПЕРВЫЙ: неподвижное совершеннее подвижного, лед совершеннее воды, окаменевшие растения совершеннее живых, отсутствие движения совершеннее самого движения, тишина совершеннее звука, отсутствие действия совершеннее самого действия, покой – это высшее совершенство.
ВЗГЛЯД ВТОРОЙ: в основе совершенного мира лежит покой и целостность, неразделенность и единообразие, мир совершенный не должен меняться и развиваться, так как любое развитие нарушает целостность, ведет к потерям и изменениям, покой и целостность не нуждаются в развитии, отсутствие развития предопределяет вечность, а вечность совершеннее всех миров.
ВЗГЛЯД ТРЕТИЙ: простота мира свидетельствует о его совершенстве; чем проще мир, тем менее он подвержен изменениям, тем больше он приближен к вечности, сложноустроенные миры непостоянны и недолговечны, они быстро самоуничтожаются, нарушая мировой покой и мировую гармонию неизменности.
ВЗГЛЯД ЧЕТВЕРТЫЙ: камни совершеннее растений, растения совершеннее животных, животные совершеннее людей, люди же самые несовершенные существа на созданной нами Земле.
ВЗГЛЯД ПЯТЫЙ: несовершенство людей порождает их беспокойство, беспокойство способствует неустойчивости, неустойчивость ведет к стремлению воспроизводства, воспроизводство стимулирует войны, войны заставляют людей размножаться, человек зависим от продолжения рода, он не свободен, он не сам по себе, его нельзя рассматривать вне череды предыдущих поколений.
ВЗГЛЯД ШЕСТОЙ: неустойчивость человека распространяется на животных и растений, заставляя их уничтожать друг друга и размножаться, размножаться и уничтожать, что усиливает неустойчивость мира Земли.
ВЗГЛЯД СЕДЬМОЙ: неустойчивый мир Земли распространяет вокруг себя пагубные волны неустойчивости, порождает неустойчивость Вселенной, нарушает ее изначальное совершенство, Вселенная рушится от крошечной Земли, ставшей центром распада.
Горн увидел мир.
Он видит его.
И он понимает его. Ладони Горн прижаты к стеклу. Я беру его ладонь. Мир ложится на нее, как яблоко. Теперь мир неподвижен. Его можно спокойно разглядывать. Он никуда не денется от Горн и Храм.
Горн счастлив. Сердце его дышит силой.
Он понимает, что может.
И я в восторге закрываю глаза.
Цинцзю
«Боинг-747» рейсом Иерусалим – Гонконг приземлился в 9.30. В 11.36 Ольга и Бьорн пересекли границу материкового Китая и сели на поезд. В 12.40 вселились в отель «Гуанчжоу» в центре Гуанчжоу. А в 13.00 встретились в вестибюле отеля возле двухметрового шара из дымчатого стекла, обвитого двумя золотистыми драконами.
– У меня почему-то номер для некурящих. – Ольга спрятала свой пластиковый ключ-карту в бумажник.
– Можно поменять. – Бьорн резко повернулся к бело-золотистой стойке, за которой маячили четыре девушки в униформах цвета слоновой кости.
– Да ладно. После. – Ольга придержала Бьорна за ремешок от видеокамеры. – Здесь-то хоть можно курить? А, вон пепельница…
Они подошли к массивным креслам из блестящей, шоколадного цвета кожи, сели. Ольга закурила:
– Ты бывал в Китае? Ой, извини! Я уже дважды спрашивала…
– В Пекине, девять лет назад, – с улыбкой повторил Бьорн.
– Мда… – Она глянула на улицу за стеклянными дверьми. – Здесь погрязней, чем в Гонконге. Или не очень?
– Я пока не заметил.
– Слушай, а этот парень давно здесь?
– Понятия не имею. Я знаю только, что он англичанин. И что с ним все это случилось в Эдинбурге семь месяцев назад. И что у него была клиническая смерть.
– Круто… Хотя я тоже надолго отрубилась. Даже какой-то сон видела: что-то про пожар. Будто загорелась моя старая детская комната, а вместе с ней мои тапочки и мои ноги. И ногти на ногах стали плавиться… Наверно, потому, что в том подвале было довольно холодно.
Стеклянные двери бесшумно разъехались, в вестибюль быстро вошел среднего роста блондин. На нем были светлые шорты и светлая рубашка с пальмами. За спиной у него висела широкополая панама.
– Бьорн Вассберг? – спросил блондин, подходя. – Я Майкл Лэрд. Как поживаете?
– Здравствуйте, мистер Лэрд. Бьорн. А это – Ольга Дробот.
– Привет, Майкл. – Ольга первой подала руку блондину.
На вид ему было за сорок, хотя выглядел он моложаво. Его узкое лицо с острым подбородком, впалыми щеками и слегка горбатым носом было приветливым и волевым. Темно-синие, почти черные глаза смотрели умно и открыто.
– Вы только что с поезда? Устали? Духоту нормально переносите? – быстро спросил он.
– В июле в Нью-Йорке не легче, – ответила Ольга.
– Вы американка?
– Уже пятнадцать лет.
– Прекрасно. Я всего один раз был в Америке. И очень давно.
– Я тоже, – вставил Бьорн.
– Товарищи по несчастью, – подытожила Ольга.
Они рассмеялись.
– Вы голодны? – спросил Майкл.
– Я – да! – Ольга шлепнула себя по бедрам.
– Прекрасно. Я знаю отличный ресторан. – Майкл надел панаму. – Поехали?
Они вышли из отеля, взяли такси. Майкл быстро сказал адрес по-китайски. И очень молодой, коротко подстриженный и аккуратно одетый таксист, отгороженный от пассажиров никелированной решеткой, повез их через душное, залитое палящим солнцем Гуанчжоу.
– Вы знаете китайский? – спросила Ольга.
– Разговорный. Немного. За три месяца можно научиться. С иероглифами гораздо хуже, – ответил Майкл.
Такси обогнала группа китайцев на не очень новых мопедах и мотоциклах, удирающих от полицейской машины. Все они были в мотоциклетных шлемах, линялых рабочих комбинезонах и шлепанцах. Таксист сказал что-то резкое и щелкнул языком. Мопедисты, нещадно газуя, кинулись в переулки, полиция свернула за ними.
– Что-то случилось? – спросила Ольга.
– Обычное дело. – Майкл покосился в не очень чистое окно. – Частные извозчики. Конкуренты таксистам. Это запрещено, полиция регулярно проводит облавы.
– Это дешевле?
– Конечно. – Майкл усмехнулся. – Был забавный случай с одной знакомой англичанкой. Она изучает китайский в местном университете. Поздно вечером, после студенческой попойки, села к такому мото , договорилась о цене, называет адрес. И вдруг – полиция: ага, частный извоз. Ну, девушка решила помочь мото : это, говорит, никакой не частный извозчик, а мой китайский бойфренд. Мы с ним едем в ецзунхуй [18] . Полицейские – в хохот. Она не понимает почему. И тут этот китайский бойфренд в шлеме поворачивает к ней свое лицо, полицейский светит фонариком: пожилой и беззубый крестьянин!
Бьорн и Ольга засмеялись. Майкл улыбался кончиками красивых губ.
Доехали, Бьорн заплатил, вышли. Большое стеклянное здание ресторана украшали красные фонари и разноцветные бумажные гирлянды. У входа стояли в две шеренги восемь девушек в красных платьях. Как только Ольга, Бьорн и Майкл подошли, девушки громко пропели «Хуаньин гуанлинь!» [19] и поклонились.
Ресторан начинался со зверинца: в аквариумах, сетках и клетках плавала, шевелилась и просто обреченно сидела съедобная живность. Здесь были всевозможные рыбы, черепахи, змеи, жуки-плавунцы, личинки шелкопряда, куры, крысы, кролики, кошки и даже грустная собака с всклокоченной шерстью и затравленным взглядом.
– И что, все можно есть? – спросила Ольга. – Кошки! Ужас…
– У них есть фирменное блюдо: «Борьба тигра с драконом». Смесь из жареного мяса кошки и змеи, – пояснил Майкл.
– Кошмар… – поморщилась Ольга. – Нет, я буду просто рыбу.
– Я тоже, – косился по сторонам Бьорн.
Подошла девушка с малиновыми губами, в сером жакетике, черной юбке, в белых перчатках и с блокнотиком. После недолгого совещания Майкл заказал для всех сашими из половины лобстера и остальную часть, обжаренную с имбирем и молодым бамбуком, суп вантан и карпа без костей. Девушка, записав заказ в блокнотик, убежала на кухню. Ее коллега с такими же малиновыми губами повела гостей в зал. Было обеденное время, и ресторан был полон. Здесь обедали состоятельные китайцы. Посреди зала в окружении высоких и мощных кондиционеров стоял красно-золотой иероглиф «счастье».
– Нам лучше уединиться, – предложил Майкл, и Ольга с Бьорном кивнули.
Вскоре они сидели в маленьком отдельном кабинете за круглым столом с прозрачным подвижным кругом. Две официантки обтерли им руки теплыми салфетками, поставили на круг воду со льдом, зеленый чай, плошки с орешками и овощной закуской. Когда девушки удалились, Майкл произнес:
– Пожалуйста, покажите грудь.
Не удивившись такой просьбе, Бьорн и Ольга задрали свои майки. Майкл посмотрел, потом расстегнул свою шелковую рубашку с пальмами. В центре загорелой груди у него проступали три небольших лилово-белых шрама.
– Они ударили вас трижды? – спросил Бьорн.
– Я помню два удара. Потом я потерял сознание, – ответил Майкл, разламывая деревянные палочки и ловко беря ими орех.
– Где это случилось? – спросила Ольга.
– В Эдинбурге.
– Вас похитили?
– Да. После работы. Какая-то дама попросила помочь открыть ей багажную дверь у джипа. Как только я открыл, меня втянули внутрь, прижали маску. Очнулся в каком-то доме, распятый на стене.
– Один? – спросила Ольга.
– Нет, там были еще парень с девушкой. Тоже блондины. Их забили до смерти, как мне кажется. Во всяком случае – я не думаю, что они выжили после таких ударов.
– А потом?
– Потом я очнулся глубокой ночью в порту. Несмотря на разбитую грудь, мне было очень хорошо. Я лежал в луже возле паба и смотрел на звезды. Кроме этих звезд мне ничего не надо было… Полиция подобрала меня. И в крови у меня нашли героин. Естественно, весь мой рассказ про голубоглазых похитителей с ледяным молотом вызвал у полицейских улыбку. А потом мне стало очень плохо. Реаниматорам пришлось потрудиться.
– Героин… – Ольга рассеянно взяла орех. – У меня в крови нашли обыкновенный алкоголь.
– А нас с братом просто бросили в реку. Но он тогда был уже мертв… – произнес Бьорн.
– Вы писали мне об этом, – вздохнул Майкл.
Официантки принесли сашими и суп.
– Так быстро… – удивилась Ольга.
– Китайский стиль, – улыбнулся Майкл и предложил: – Может, немного холодного саке?
– В Китае тоже пьют саке? – Ольга с треском разломила свои палочки.
– Здесь сейчас мода на все японское. Коль мы заказали сашими, можно выпить и саке.
– А как по-китайски «саке»?
– Цинцзю.
– Цинцзю… – произнесла Ольга.
– Цинцзю, – повторил Бьорн.
– Цинцзю! – сказал Майкл официанткам, они кивнули и вышли.
Ольга посмотрела на нежно-розоватое сашими из лобстера, выложенное тонким слоем на большой тарелке, вздохнула и бросила палочки на стол:
– Что-то мне… ничего не лезет. Послушай, Майкл. Ты знаешь – кто они? Кто эти уроды? Кто бил нас льдом? Кто убил моих родителей и брата Бьорна?
Майкл прожевал орех, положил палочки, вытер губы салфеткой. И твердо произнес:
– Знаю.
– Кто?! – почти вскрикнула Ольга.
Майкл сцепил перед собой руки:
– Ольга, это большая и могущественная организация.
– Она имеет отношение к концерну «LЁD»? – спросил Бьорн.
– Самое непосредственное.
Ольга и Бьорн переглянулись.
– Зачем они это делают? – спросила Ольга.
– Они ищут своих.
– Что значит – своих?
– Братьев Света.
– Кто такие братья Света?
– Это 23 000 лучей Света Изначального, породившие Вселенную со всеми звездами и планетами и ошибочно воплотившиеся потом в живых существ на планете Земля и развившиеся в людей. Братьев Света 23 000. Они разбросаны по миру. И жаждут снова стать лучами Света Изначального. Для этого им нужно найти друг друга, встать в круг и заговорить сердцем. Как только это произойдет, Земля исчезнет, а они вновь станут лучами Света.
За столом возникла долгая пауза.
– Значит, это просто секта? – спросила Ольга.
– Можно так назвать, – согласился Майкл, отпивая зеленый чай.
– А при чем здесь лед? – спросил Бьорн.
– Лед Тунгусского метеорита будит спящие сердца братьев. Если им ударить в грудную кость, Свет, дремлющий в сердце, просыпается.
– Но… приставка «LЁD» работает так же! Они тоже долбят в грудь маленьким ледяным наконечником, а пользователи испытывают кайф. И это тот же самый лед Тунгусского метеорита, как они говорят в своей рекламе. Но там речь не идет о каком-то братстве и о Свете Изначальном.
– Лед, используемый в приставке, не имеет никакого отношения к тунгусскому метеориту. Это обыкновенная замороженная вода.
– Но зачем тогда им приставка?
– Приставка создана концерном «LЁD» для нескольких целей.
– Зачем?
– Ну, во-первых, это большие деньги и возможность легализоваться. Во-вторых, если полиция сталкивается со случаями похищения голубоглазых блондинов и простукивания их ледяными молотами, они полагают, что это просто бред не вполне нормальных пользователей приставки. Приставка – это ширма братьев Света. За ней можно многое спрятать.
Вошел официант с тремя белыми кувшинчиками саке, наполнил три белых стаканчика, поставил перед сидящими и вышел. Ольга и Бьорн сидели, глядя на Майкла и пытаясь осознать только что сказанное им.
Бьорн первым нарушил молчание:
– На вашем сайте я ознакомился почти с тридцатью историями людей, похищенных этими ублюдками. Неужели полицию и спецслужбы это до сих пор не интересует? Они всех нас считают наркоманами или сумасшедшими фанатами компьютерных игр?
– В мире исчезают не только голубоглазые блондины. Исчезновение людей – дело вполне обычное. Интересуются ли спецслужбы концерном «LЁD»? Конечно. Но я и мои друзья ведем свое расследование. Теперь у нас достаточно средств. Когда со мной случилось все это, я, как и вы, стал ломиться во все двери и искать исполнителей. Я их не нашел. Но зато встретил таких же жертв, как и я. С такими же шрамами на грудной кости. И они знали, кто все это делает.
– Как они узнали?
– Это долгий разговор, Ольга. Первые частные расследования начались еще в 60-х. Потом люди со шрамами на груди стали объединяться. А сообща можно многое узнать. Теперь нас уже сто восемьдесят девять.
– Сто восемьдесят девять?! – воскликнула Ольга.
– Сто восемьдесят девять. Вместе с вами, – улыбнулся Майкл.
– И… где они?
– Здесь.
– Все?
– Да.
– А почему… в Гуанчжоу? – спросил Бьорн.
– Потому что здесь логово Братства. Они здесь. Поэтому и мы должны быть здесь. – Лицо Майкла стало жестким, губы сурово поджались. – Если мы хотим победить, хотим возмездия, мы должны быть здесь.
Он взял свой стаканчик с охлажденным саке. Помолчал, гоняя желваки по худым и жестким скулам, и произнес:
– Ольга и Бьорн. С вашим приездом нас стало больше.
Бьорн взял свой стаканчик. Ольга, помедлив, свой. Ей явно нравилась эта неожиданная суровость Майкла. Он протянул к ним свой стаканчик:
– За нас. И против них.
Бьорн и Ольга чокнулись. И выпили.
Майкл посмотрел на них и поставил полный стаканчик на стол. Ольга и Бьорн вопросительно смотрели на него. Он облегченно вздохнул, сцепил руки. И произнес:
– Извините, я забыл предупредить: братья Света не употребляют алкоголь.
Ольга секунду смотрела в его черно-синие глаза, затем вскрикнула и дернулась из-за стола к двери. Но ноги ее подкосились, голова бессильно наклонилась и тело повалилось на пол. Бьорн резко встал во весь свой рост, опрокинув стул, но через мгновение покачнулся и стал падать. Майкл схватил его за ремень на шортах, не дав упасть навзничь, дернул на себя. Бьорн обрушился на стол, лицом в суп, грудью на блюдо с сашими. Ручища его схватила запястье Майкла, но тщетно – Майкл смахнул эту могучую и уже бессильную длань с своего запястья, толкнул Бьорна в плечо. Бьорн сполз со стола на пол, круша посуду.
Майкл вытянул из стопки красную салфетку и стал неторопливо отирать брызги супа со своего лица и рубашки.
В двери возник официант, принесший саке. Мельком глянув на лежащих, спросил:
– Как обычно?
– Как обычно, – ответил Майкл, беря палочками орех.
Друзья дохлых сук
Ольга открыла глаза. Она лежала на нижних пластиковых нарах в двухместной камере без окон. Матовый плафон под потолком горел дневным светом. В стальной двери поблескивал глазок. Из ребристого вентиляционного кружка над дверью тек прохладный воздух.
Ольга пошевелилась. Тело было ватным, словно не ее. Она поднесла ладонь к глазам. Сжала кулак и разжала. И заметила, что на ней не ее одежда: серые полотняные штаны и такая же куртка. На ногах белые носки. Ольга села на нарах. Ноги в новых белых носках коснулись ровного бетонного пола. Она заметила черные тапочки рядом с нарами. Встала на пол. Глянула на верхние нары: никого. Облизала пересохшие губы. Сильно захотелось пить. И она сразу вспомнила: Бьорн, ресторан, сашими из лобстера. И черно-синие решительные глаза.
– Лэ… Лэрд, – сипло произнесла она и снова облизала губы.
Качнула тяжелой, непослушной головой:
– Лэрд. Майкл… Саке.
Дверь открылась. Вошел китаец в синей униформе, с белой дубинкой в руке. Отступив в сторону, сделал знак головой: на выход.
Ольга хмуро посмотрела на него и на светло-зеленый коридор за дверью.
– Я хочу пить, – произнесла она.
Китаец повторил жест. И шлепнул дубинкой по своей ладони. Ольга надела тапочки и вышла из камеры. И сразу же на пути ее возник второй китаец, копия первого.
«Братья, что ли?» – хмуро подумала Ольга.
Дверь за спиной Ольги закрыли, заперли на ключ. Второй китаец жестом приказал идти за ним. Ольга пошла, с трудом переставляя ватные, плохо повинующиеся ноги. Тапочки шаркали по полу. Коридор тянулся недолго. И уперся в дверь с кодовым замком. Китаец набрал код. Дверь отворилась. И не успела Ольга опомниться, как близнецы-охранники быстро втолкнули ее в просторное помещение. Дверь захлопнулась.
В первую секунду Ольге показалось, что она попала на мясокомбинат: десятки людей в серых спецовках и фартуках возились с какими-то небольшими тушами, похожими на бараньи, снимая их с крюков движущегося конвейера, сдирая шкуры, надрезая и распластывая. Некоторые работали в респираторах. В помещении было светло, хотя окон, как и в камере, не было. Негромко играла легкая музыка. И несмотря на мощную вентиляцию, попахивало дохлятиной.
Ольга шагнула вперед.
На нее мельком посмотрели несколько человек. Все они были европейцами. И все светловолосыми. Она приблизилась к медленно движущейся ленте конвейера. На стальных крюках висели мертвые собаки. Которых она сперва приняла за баранов.
К Ольге подошел невысокий сутулый блондин в очках, с хрящеватым носом и сильно оттопыренными ушами. Мутно-синие глаза его спокойно смотрели сквозь круглые толстые линзы.
– Новенькая? – спросил он.
– Где я? – Ольга заметила маленький белый номер у него на плече серой спецовки: 77.
Скосила глаза на свое левое плечо. Там тоже стоял номер. В камере она не заметила его.
– 189, – прочитал вслух очкарик и показал костистым пальцем в дальний конец помещения. – Ты вон с тем высоким парнем? Американка?
Ольга увидела Бьорна, снимающего с крюка мертвую собаку. Он махнул ей ручищей в резиновой перчатке, отложил инструмент и двинулся к ней по проходу. Короткий брезентовый фартук был ему явно мал. Бьорн в нем выглядел нелепо. И именно этот короткий фартук, подбрасываемый здоровенными коленями Бьорна, вдруг по-настоящему разбудил Ольгу. Глаза ее наполнились слезами, она бросилась Бьорну на грудь и разрыдалась. Бьорн неловко обнял ее, стараясь не касаться резиновыми перчатками, испачканными в собачьей крови.
– Ладно, поговорим позже. – Очкарик мягко похлопал Ольгу по вздрагивающей спине, глянул на большие часы на стене. – Скоро обед. Пусть она пока с тобой побудет.
Бьорн кивнул. Очкарик успокаивающе показал ладонь камере наблюдения и отошел. Ольга всхлипывала, уткнувшись лицом в солнечное сплетение Бьорна. Его спецовка пропахла по́том и мертвечиной. Работающие сочувственно поглядывали на обнявшихся.
Успокоившись, Ольга вытерла глаза рукавом своей спецовки.
– Ты проспала двое суток. – Бьорн смотрел на нее сверху.
На скуле у него был небольшой синяк.
– Они били тебя? – Ольга потрогала синяк.
– Нет. Это об стол. Когда падал. Ты в порядке?
– Очень! – Ольга зло посмотрела по сторонам. – Что это?
– Пойдем, я тебе все расскажу.
– Что они все делают? – Она увидела кровь на его перчатках. – Мерзость какая… Это что – собачий мясокомбинат?
– Почти. Я здесь со вчерашнего вечера.
– Почему?
– Проснулся раньше. Бессонница… – попытался пошутить он и покосился на камеру наблюдения. – Пошли ко мне. Здесь весьма болезненные штрафные санкции за простой.
Он провел Ольгу к своему рабочему месту. На его металлическом столе лежал труп собаки – беспородной, черно-рыжей, со старыми, сточившимися и пожелтевшими клыками, отвислыми сосками и полуприкрытыми остекленевшими глазами. Судя по инею, выступившему на свалявшейся шерсти и когтях собаки, она была слегка заморожена. Слабый запах псины и дохлятины шел от нее. Кожа собаки была надрезана на лапах и на животе. Это сделал коренастый белобрысый парень за соседним столом. Так он надреза́л каждый труп. Бьорн взял специальный электронож и стал старательно и не очень ловко обдирать собаку. Дохлятиной запахло сильнее.
– Фу… – отвернулась Ольга.
– Вон респиратор, – показал Бьорн.
Ольга сняла респиратор с крючка, надела:
– А ты?
– Пока не надо, – мотнул головой Бьорн. – Так говорить легче.
– Где мы? – промычала Ольга сквозь новенький китайский респиратор.
– Не знаю. Говорят, что под Глыбой.
– Подо «Льдом»?
– Да.
– Кто говорит?
– Те, которые здесь.
– Они кто?
– Такие же, как и мы.
– Их тоже… простукивали?
– Да. И они тоже в свое время зашли на сайт этого Майкла. А дальше – все, как у нас. Приехали сюда бороться со злом. В общем, не только мы с тобой оказались идиотами…
– А почему… – Ольга смотрела на собачью кожу, с треском слезающую с ноги трупа, – ты… то есть… они… почему, почему, почему это?!
– Что? Почему мы здесь? Это вопрос не ко мне.
– Почему это? Зачем эта гадость?!
– Зачем обдираем собак? Потому что из их кожи вон в том конце цеха женщины нарезают ремешки. Которыми потом где-то привязывают лед к рукояти. Так получается ледяной молот.
– Откуда ты это знаешь?
– Ну, я же провел ночь среди товарищей по несчастью.
– А… а почему я так долго спала? – Ольга сняла респиратор, который мешал ей говорить.
– Ты уже спрашивала, – серьезно ответил Бьорн. – Вот что, надевай перчатки и помогай мне.
– Я не буду делать это дерьмо!
– Они бьют током. И не дают есть. И пить.
– Да, – вспомнила она, – я пить хочу.
– Там в углу – питьевая установка.
Ольга посмотрела на камеру наблюдения.
– И что теперь? – негодующе спросила она. – Подонки! Мне же послезавтра надо быть с контрактом в Филадельфии! Меня уволят!
Бьорн горько усмехнулся:
– По-моему, нас уже уволили. Из числа живых.
Ольга внимательно посмотрела на него.
– Что нам делать? – спросила она.
– Обдирать собак, – серьезно ответил он. – И не делать резких движений.
– Что? – гневно прищурилась она. – Резких движений?! Да я их уничтожу, этих гадов!
Она показала кулак вращающейся камере наблюдения и громко выкрикнула:
– Fuck you!
Камера мгновенно уставилась на Ольгу. Работающие замерли. Наверху, на небольшом выступающем из стены балконе, бесшумно открылась дверь. Из нее вышел китаец в униформе. Скрестив руки на груди, уставился на Ольгу. Две боковые двери тоже открылись. В них возникли охранники.
Губы Ольги задрожали от гнева. Но Бьорн руками в перчатках, испачканных собачьей кровью, схватил ее запястья:
– Ольга!
Мертвая холодная кровь заставила ее оцепенеть.
– Ольга.
Она перевела взгляд на Бьорна. Но губы ее по-прежнему кривились ненавистью.
– Убить нас им ничего не стоит, – произнес Бьорн. – Пойми это.
Она сверлила Бьорна взглядом.
– И еще пойми: все это серьезно.
Она посмотрела на китайцев. Те неподвижно уставились на нее. Бьорн бережно вытер ей запястья бумажной тряпкой. И стал надевать новые перчатки на ее руки:
– Иди попей. И возвращайся ко мне.
Крепыш, делающий надрезы на трупах, сочувственно подмигнул Ольге и Бьорну. Снял с крюка очередной труп и шмякнул его на стол перед Ольгой. Это была сука с клочковатой серо-бурой шерстью. Ольга посмотрела на ее заиндевевшие соски. Перевела взгляд на конвейер. На крюках висели только суки.
– А почему… они все суки? – рассеянно спросила она.
– Никто не знает. – Сняв респиратор и отерев рукавом пот с веснушчатого лба, крепыш с полуусмешкой смотрел на Ольгу. – Даже старожилы.
Видно было, что Ольга понравилась ему. Она же, обмякнув, смотрела на заиндевевшие собачьи соски, в то время как Бьорн натягивал перчатки на ее безвольные руки.
– Знаешь, как мы зовем друг друга? – усмехался крепыш.
– Нет, – пробормотала Ольга.
– Друзья дохлых сук.
Видеть всех
Великая ночь наступила.
Земля заснула. Мясные машины обездвижились до рассвета. Они спят и видят свои мясные сны. Но не спит Братство Света. Долго ждало Братство эту ночь. Долго шло к этому часу – целый век земной. Братья и сестры Света шли к этому. Приближали Великий Час. Боролись и мучились. Гибли и возрождались. Страдали и превозмогали. Добивались и преодолевали. Вырывали у мясного мира братьев и сестер. Защищали и лелеяли новообретенных.
Железные птицы взлетают в ночной воздух. Они служат Братству. Они поднимают Храм и Горн в ночной воздух. На главной железной машине поднимаются в воздух Храм и Горн. Эта машина поможет им. Она создана ради этой ночи. Ее создавали только для этой ночи. Для первого и последнего полета. Чтобы она помогла Храм и Горн. Все выше поднимается летающая машина. Все дальше от нее Земля. Все дальше видно с летающей машины. Другие летающие машины летят рядом, охраняют.
Храм и Горн сидят, обнявшись, в стеклянной сфере. Нагие тела их. Глаза закрыты. Груди их вместе. Руки сцеплены. Сердца готовы.
Стеклянная сфера летит над спящей Землей.
Храм и Горн в силе. Они могут.
Братство тоже готово. По всей Земле собраны Круги Света. Большие и малые. В разных странах. Неподвижно замерли тысячи братьев и сестер. Закрыты глаза их. Готовы сердца. Они ждут.
Храм и Горн парят над миром.
Ночь помогает им. Ибо ночью, только ночью неподвижны все мясные машины. Все они на своих местах. Всех их видно.
Земля лежит на ладонях Храм и Горн. Они держат ее, как яблоко. Они готовы.
Летающая машина поднялась совсем высоко. Это – предел ее. Настало мгновение Начала.
Сердца Храм и Горн осторожно просияли.
И сразу ответно просияли Круги Света на Земле, внизу. Дают они силу Храм и Горн. Подставляют опору. Хранят и держат.
Сильнее сияют сердца Храм и Горн. Набирают мощь Света. Готовятся. Парит железная машина над миром мясных машин. Механизмы ее готовы сослужить Братству последнюю службу. Они наготове. Они зависят от Храм и Горн. Ждет команды железная голова летающей машины. Чтобы запомнить тех, кого увидят Храм и Горн. Чтобы помочь найти. Братья контролируют сложные механизмы летающей машины. Братья замерли.
Замерло Братство Света Изначального.
Все теперь в сердцах Храм и Горн.
Все зависит от них.
Все лежит на них.
Секунда.
Другая…
Третья…
ВСПЫХНУЛИ СЕРДЦА!
Свершилось!
Храм и Горн увидели.
Сердца их видят ВСЕХ.
Всех 23 000. Вместе с Храм и Горн 23 000 братьев и сестер на планете Земля.
Всех братьев и сестер, всех до единого видят Храм и Горн. Тех, что на Земле, – 22 437. Тех, кто сейчас в воздухе, – 563.
Сияют сердца Храм и Горн. Дрожат их тела в стеклянной сфере. Трудно телам выдерживать мощь Света. Разорвет тела мясные на 23 000 кусков, распадутся они от Мощи Изначальной. Не выдержат Силы Света Неземного. Но ответно сияют Круги Света на Земле. Братья и сестры стоят. Сдерживают щитом. Помогают опорой. Подставляются.
Ожили сложные механизмы летающей машины. Заработала ее железная голова. Получает она команды от Храм и Горн. Исходят они от тел обнявшихся Храм и Горн. Текут в голову летающей машины. Видит машина вместе с Храм и Горн. Но не сердечным видением, а своим, железным. Видит всех, кого видят Храм и Горн. Определяет место, запоминает, узнает через машины Земли имена спящих братьев. Текут новые имена в голову железной машины. Стекаются мерцающими вспышками. Собираются в порядок. Передаются в сотни других железных машин, служащих Братству. Запоминают машины новые имена, узнают новые адреса, находят земные пути к обретенным братья и сестрам.
Летит железная машина по ночному небу, догоняет ночь. Летит на запад. В ночи надо ей облететь всю Землю, за ночью успеть. Пока спят все братья и сестры. Пока неподвижны. Пока видны. Пока спят миллионы мясных машин. Пока обездвижены миллионы железных машин. Пока можно различать.
Сияют два сердца наверху, сияют тысячи сердец внизу.
Видят Храм и Горн.
Видят ВСЕХ.
И узнают каждого.
Работает голова летающей машины. Запоминает. На запад летит машина. Страны мясных машин проплывают под ней. И вспыхивают огненными точками сердца спящих братьев и сестер. Те, кто остался в яростном и беспощадном мире Земли. Чьи сердца спят. Кого предстоит еще спасти, вырвать из мяса земной жизни. Возвратить в мир Вечного Света. Обрести для Великого Преображения. Для Великой Победы. Для Великого Возвращения к Свету Изначальному.
Летит железная машина по ночному небу. Облетает Землю с востока на запад. Спешит за ночью. Несет по небу стеклянную сферу. Спит Земля мясных машин. И не ведает, что ждет ее.
Отбой
Тысяча сто восьмой ремешок, вырезанный напарницей Ольги из собачьей шкуры грубыми коваными ножницами, скользнул по металлическому столу. Ольга поймала его, прижала левой рукой к ребристому выступу, а правой, сжимающей кованый нож, стала счищать с кожи черную слипшуюся шерсть. Напарница, голубоглазая, широкоплечая норвежка Кристина, покосилась на стенные часы:
– Уже без пяти.
Ольге не хотелось смотреть на часы: за неделю работы в «собачьем цехе» она потеряла чувство времени. Время в ее голове то растягивалось и ползло, как улитка, по каменным перилам маминого дома в Ньюарке, то мчалось, как электричка, из Ньюарка в Нью-Йорк, где Ольга сперва отучилась четыре года на экономическом факультете в NYU [20] , потом там же закончила бизнес-школу, потом поселилась в Нохо, в маленьком лофте рядом с этим же университетом, уютном лофте с двумя окнами, южным и северным, лофте на шестом этаже, лофте, где были книги, статуэтки, безделушки, арабские и еврейские картинки папы, фонотека мамы, большой плюшевый тигр, с которым она спала, и попугай Фима, говорящий слово «пар-р-равоз», которое она больше никогда, никогда, никогда не услышит…
– Begone!
Очистив ремешок, она смахнула шерсть в пакет, а готовый ремешок положила в прозрачную коробку. Каждая такая коробка вмещала пятьсот ремешков. За день они с напарницей должны были наполнить две таких коробки. Уже два дня Ольга и Кристина работали с перевыполнением нормы, за что им полагался бонус. Закончив резать ремешки, Кристина сложила собачью шкуру в специальный мешок и принялась протирать тряпкой ножницы, заскорузлые от собачьей крови. Ольга, запечатав прозрачную коробку с ремешками, подошла к стене, нажала кнопку. Открылась белая ниша. Ольга поставила в нее коробку, снова нажала кнопку. Ниша закрылась. Вернувшись к рабочему месту, Ольга сняла брезентовый фартук, повесила на вешалку рядом со столом, взяла бумажную тряпку, брызнула дезинфицирующим спреем на металлический стол и стала протирать его.
Прозвучал переливчатый сигнал окончания рабочего дня.
Ольга глянула в другой конец цеха: Бьорн протирал свой стол, переговариваясь с соседом. Оба улыбались.
«Хватает сил на юмор…» – вздохнула Ольга и бросила тряпку в мусорный контейнер.
Кристина убрала ножницы и нож в железный ящик стола, встала и, снимая перчатки, со стоном облегчения потянулась:
– Пресвятая Дева… конец!
– Конец тухлому делу… – пробормотала Ольга, швыряя в контейнер свои перчатки.
– День прошел, и слава Богу, – устало улыбнулась им полноватая датская крестьянка с роскошной русой косой, работающая за соседним столом.
– Да, да… – зевнула ее напарница, мужеподобная грубоватая полька. – Хоть бы завтра весь их чертов лед таять, таять!
– Ты про фирму или про лед? – спросила Ольга, массируя себе шею.
– Про то и про то! – ответила полька на своем корявом английском.
Они устало рассмеялись. И побрели в женскую душевую. Мужчины, переговариваясь, брели в свою. Охранники выпустили оба потока в коридор, открыли двери душевой, запустили внутрь, заперли. В «собачьем цехе» работали 189 человек. Женщин было больше – 104. Как объяснила Ольге старожилка бункера, австралийка Салли, это потому, что женщины после ударов ледяного молота выживают чаще мужчин. У Салли был номер 8. Она провела в бункере четыре года и была старостой женской половины. Главным у мужчин был сутулый очкарик Хорст, похищенный Братством еще в Восточном Берлине. В бункер он попал шесть лет назад. По его словам, тогда здесь работали девять человек.
Ольга нашла свой крючок с номером 189, последний в длинной раздевалке, сняла с себя пропахшую псиной одежду, стянула носки и трусики и по теплому кафелю в толпе голых женщин вошла в душевую. Здесь стоял легкий парок, и десять очередей толпились к десяти душам. Под ними мылись по очереди. Ольга встала за маленькой, невзрачной девушкой с всклокоченными темно-русыми волосами. Девушка стояла, отрешенно вперясь мутно-голубыми, слегка выпученными глазами в затылок стоящей перед ней женщины, с хохотом что-то рассказывающей на непонятном языке двум другим женщинам.
«Албанский? Молдавский? – устало думала Ольга. – Неужели их трое? Русских женщин здесь совсем нет. Американок – девять. Немок – четырнадцать. Француженок, кажется, десять. Шведок – вообще двадцать пять. Даже норвежек и то восемь, кажется… А из евреек я одна. Такие, значит, русские и еврейки слабые женщины? Разучились выживать? Странно это…»
Зато в мужской половине было семеро русских. И все в общем симпатичные мужики. Один – бывший спортсмен, другой – повар, третий – профессиональный вор, четвертый – какой-то функционер. И все неунывающие. Ольга вспомнила их с теплотой: ей нравилось после душа за ужином сидеть с этими ребятами и говорить на забытом языке детства.
– Дождик, дождик, кап-кап-кап… – пробормотала она по-русски и нервно облизала губы: очень хотелось закурить. Но сделать это можно было только в бункере.
– Ты американка? – необычно глухим голосом спросила ее женщина, стоящая сзади.
– Что, похожа? – Ольга обернулась и увидела смуглую стройную женщину лет сорока пяти с чудовищно изуродованной грудиной.
Замысловатая бело-лиловая впадина зияла на месте грудной кости, правой груди не было, сломанная в двух местах и криво сросшаяся ключица изгибалась полукругом. При этом женщина была по-настоящему красивой: стройная статная фигура, индейские скулы, светло-каштановые волосы с золотистым отливом и темно-синие, глубоко посаженные глаза.
– Вау! Ну и досталось тебе… – Ольга уставилась на впадину.
– Девятнадцать ударов, – глухо произнесла женщина.
Она часто дышала, раздувая узкие ноздри. Впадина двигалась в такт дыханию, словно тоже вдыхала влажный пар душевой.
– Лиз Каннеган, Мемфис, – протянула женщина смуглую руку.
– Ольга Дробот, Нью-Йорк. – Ольга пожала руку.
– Ольга? Ты полька?
– Русская еврейка.
– Ты совсем новенькая?
– Ну, уже не совсем. Неделя. А ты?
– Шестой месяц.
– Круто. Привыкла? – Ольга поглядывала на двигающуюся впадину, края которой покрылись капельками пота.
– Люди ко всему привыкают. – Глаза Лиз смотрели спокойно. – Играешь с нашими?
– Да. А ты?
– А я со шведами, – слегка улыбнулась Лиз. – Приходи к нам в шведский угол. У нас хорошо.
– У американцев тоже неплохо. – Ольга встала под освободившейся душ, вспомнив, что она ни разу не видела Лиз в американском углу. – Я как-нибудь приду. Спасибо.
Горячая вода приятно объяла тело. Ольга застонала от удовольствия, задрав голову и подставив лицо под душ. Но мыться надо было быстро. Окатившись, она наклонила голову под пластиковый краник, нажала на рычажок. На голову выползла серебристая сопля шампуня. Ольга выдавила вторую на ладонь, размазала шампунь по промежности, в подмышках и по груди. И, повернувшись к очереди, ловя струю спиной, стала мылить голову. Моясь под душем в первые дни, она всегда смотрела в стену, отвернувшись от очереди, не желая даже взглядом делить с кем-либо это кратковременное удовольствие. Теперь ей нравилось разглядывать стоящих голых женщин. Все они ждали. И в этом ожидании было что-то беспомощное и невыразимо близкое, родное. У всех на груди были отметины, все попробовали ледяной молот, все выжили, всех заманили сюда, под «Лед», и все были такими же, как и она. Отчуждение первых дней прошло. Ольга перестала стесняться и дичиться. Она уже привыкла.
Ольга подставила намыленную голову под душ, смыла пену с волос. Подставила бедро и стала мыть его ладонями.
– Собачья шерсть не проросла еще? – спросила Лиз, и стоящие в соседней очереди норвежки рассмеялись.
– Скорее сучьи соски прорастут, – усмехнулась Ольга, моя промежность и взглянув на единственный аккуратный сосок Лиз. – Вот только кого кормить?
– Как кого – китайцев! – хохотнула норвежка.
– На них на всех не хватит молока, – спокойно возразила Лиз.
Все расхохотались. В этом хохоте был свой комфорт, своя свобода. Свое забвение. Ольге было приятно стоять под струйками теплой воды и слушать этот хохот. Он позволял на секунду забыть обо всем. Она закрыла глаза.
– Детка, побыстрей! – крикнули из очереди.
Ольга очнулась. Пора было уступать место естественного забвения. Она вышла из воды, встряхнулась и направилась к выходу. Чешка шлепнула ее по заду и присвистнула. Кристина подмигнула и ткнула пальцем в мокрый живот. Ольга, смеясь, на ходу показала им кулак. Выйдя из душевой в раздевалку, она сняла со своего крючка тонкое, но чистое полотенце, вытерла голову, потом вытерлась сама. Оставив серую рабочую одежду на верхнем крючке, с нижнего сняла «домашнюю», песочного цвета пижаму с тем же номером 189 на плече, облачилась в нее. Из нагрудного кармашка вынула короткую расческу, расчесала свои крашеные волосы, глядя в круглое зеркальце, приделанное между крючками. Отметила, что родная рыжина уже сильно заметна у корней волос. Сунув носки и трусики в карман, надела тапочки и через сквозную дверь вошла в столовую.
Просторная, спокойного салатового тона столовая вмещала всех заключенных бункера. Здесь пахло вареными овощами и играла все та же легкая симфоническая музыка. Мужчины и женщины, выходящие из душевых, становились в общую очередь к раздаточной стойке. Ольга поискала Бьорна в толпе, но не нашла: наверно, он еще мылся. Зато сразу заметила русских, оживленно переговаривающихся в очереди. Она подошла к ним.
– А вот и стахановка! – засмеялся высокий Сергей с белозубой улыбкой и копной темно-желтых волос.
– Что такое стахановка? – спросила Ольга.
– Это работница, которая круто план перевыполняет, – пояснил полноватый Леша с пухлым детским лицом и неистово синими глазами.
– Забыла русский в своей Америке? – усмехался невзрачный худощавый Борис. – Проходи, становись вперед.
– Я не все слова помню. – Ольга встала в очередь впереди них.
– Ну и правильно… – сумрачно почесал небритую щеку неулыбчивый Игорь. – В русском столько разной хуйни…
– Ты, лошина, только Россию мне не оскорбляй! – грозно-шутливо толкнул его кулаком в живот приземистый огненно-рыжий Петр. – Завалю, бля, сто пудов!
– Отвали, Азазелло… – ответно пихнул его Игорь.
– Господа, не ссорьтесь. Мы на вражеской территории! – притворно-официальным голосом прорычал Сергей, и они устало рассмеялись.
Ольга с улыбкой поглядывала на них. Эти русские здесь, в бункере, напомнили ей о детстве на окраине Москвы. Вместе с их словами и шутками всплывал мир первой памяти: серые панельные дома, грязные сугробы у подъездов, детский сад с пальмой в кадке и песнями о Чебурашке и Ленине, торопливая полуистеричная мать, упрямый, дико талантливый и очень громкий отец, больной дедушка, пианино «Красный октябрь», ангина и елка на Новый год, соседский кот Баюн, первый класс советской школы, второй, третий, игра в резиночку на переменах. И – эмиграция.
Потом уже начиналась просто – память.
Первой же памятью здесь, в бункере, Ольга почему-то дорожила больше. С ней, далекой и сумрачной, с этими сугробами, котами и ангинами было приятней и теплее засыпать.
Очередь подошла. Двое китайцев в белых халатах поставили перед Ольгой поднос со стандартным набором еды: овощной суп, вареное яйцо с майонезом, рис, салат из капусты, два кусочка холодной рыбы в томатном соусе, желе со взбитыми сливками, стакан апельсинового сока. Взяв поднос, Ольга подошла к третьему китайцу, стоящему между двумя большими противнями с горячим. В левом была рыба, в правом куриные окорочка. Ольга выбрала рыбу и с подносом в руках пошла к русскому столу. За ним уже сидели трое. Но тут ее окликнули с американского стола. Высокий златокудрый парень, чем-то похожий на Бьорна, привстал и делал ей зазывающие знаки рукой. Но с русского стола ей тоже активно замахали. Ольга остановилась в нерешительности, не зная, что предпочесть – забытый, смутно узнаваемый, но трогательный русский мир или близкий, понятный и надежный американский.
– Мисс, не соблаговолите ли вы разделить со мной сию скромную трапезу? – раздался рядом старческий голос со странным акцентом.
Ольга опустила глаза и увидела старика, в одиночестве сидящего за столом. Все столы здесь были двухместные, большинство их сдвигалось вместе, образуя национальные компании. Одиночек практически не оставалось. Этого старика она раньше не замечала.
– Поверьте, я не смею настаивать. Если у вас есть другие предпочтения, смело следуйте им. Но я был бы чрезвычайно тронут даже вашим кратковременным присутствием за этим убогим столом.
Он говорил на идеальном и ужасно старомодном английском. Но акцент свидетельствовал, что старик не был англичанином. Ольга поставила поднос на его стол и села напротив.
– Прекрасно. Благодарю вас. – Дрожащей рукой старик поднес к своим узким бесцветным губам салфетку, вытер их, привстал. – Позвольте представиться – Эрнст Вольф.
– Ольга Дробот. – Она протянула ему руку над едой.
Старик коснулся губами ее руки. Плешивая голова его подрагивала.
– Изменила нам с немчурой! – язвительно засмеялись за русским столом.
– Вы немец? – спросила Ольга.
– Да.
– Почему вы не сидите за немецким столом? Ваших здесь так много…
– Две причины, любезная мисс Дробот. Во-первых, за пятьдесят восемь лет заключения я понял, что одиночество – это дар свыше. Во-вторых, с моими нынешними соотечественниками мне просто не о чем говорить. Общих тем нет.
– Думаете, со мной они появятся? – Ольга преломила булочку.
– Вы мне напомнили одну женщину. Очень дорогую мне. Давным-давно.
– И только поэтому вы… – Ольга стала накалывать вилкой кусочек рыбы, но вдруг осознала, что́ он сказал ей. – Как?! Пятьдесят восемь лет? Вы здесь пятьдесят восемь лет?
– Ну, не здесь, – улыбнулся он, обнажая старые вставные челюсти. – А вообще у них. У братьев Света.
Вилка выскользнула из руки Ольги:
– Пятьдесят восемь?!
– Пятьдесят восемь, любезная мисс Дробот.
Она смотрела на него. Лицо старика было спокойным и отрешенным. Бледно-голубые глаза смотрели внимательно. Белки вокруг них были с сильной желтизной. Судя по правильным чертам его морщинистого, нездорово желтого, покрытого частыми пигментными пятнами лица, в молодости он был красивым человеком.
– Когда же это случилось?
– В 1946 году, 21 октября. На вилле моего отца Себастиана Вольфа.
– Они вас простучали?
– Да. И убедились, что я ein taube Nuss. Пустой орех.
– И что потом?
– А потом я благополучно стал рабом Братства. Хотя, собственно, был им и до простукивания.
– Они вас использовали еще раньше? Каким образом?
– Самым непосредственным. Детей вообще очень легко использовать, досточтимая мисс Дробот.
– Не понимаю.
– Мой отец, Себастиан Вольф, был одним из видных членов Братства. А мы жили с ним. В один прекрасный день он решил простучать меня. И мою сестру. Она погибла, а я выжил. До этого он использовал нас как необходимые декорации. И маму тоже. Но она погибла раньше…
– А… сколько вам было, когда вас простучали?
– Семнадцать лет.
Ольга посмотрела на вилку с наколотым кусочком рыбы, взяла ее, поднесла ко рту. И снова бросила на поднос.
– Не хочется есть. – Старик понимающе закивал желтой головой. – Мне тоже. Здесь перед отбоем у всех плохой аппетит. Зато утром все голодны как звери! Причина вполне объективная!
Он рассмеялся.
В его смехе было что-то по-детски беспомощное.
«Одиночество – дар свыше…» – вспомнила Ольга.
– Что было с вашим отцом? – спросила она, разглядывая дрожащие руки старика.
– Последний раз я видел отца, когда он крушил мне ребра. На сестре он, признаться, устал. И со мной был не очень точен: ребро сломалось и задело печень. Но я выжил. Хотя с тех пор лицо мое желто, как у китайца. Поверьте, мисс Дробот, в первые дни пребывания здесь они принимали меня за своего! Я дружу с китайцами.
Он отщипнул кусочек курицы и отправил в рот. Вставные челюсти его еле слышно заклацали. Он жевал так, словно совершал тяжелую работу. Редкие белые волосы на его желтой голове дрожали.
– Скажите, почему они вас и… нас не убили? Ведь это так просто. Содержать вас и прятать пятьдесят восемь лет! Зачем? Да и нас тоже…
Вольф дожевал, вытер губы салфеткой.
– Видите ли, мисс Дробот, когда человека убивают, а потом сжигают, от него все равно что-то остается. Пепел, например. И не только. Что-то посущественней пепла. Покидая наш мир не по своей воле, человек образует в нем дыру. Потому что его вырывают отсюда насильственно, как зуб. Это закон метафизики жизни. А дыра – заметная вещь, досточтимая мисс Дробот. Ее видно. Она долго зарастает. И ее чувствуют другие люди. Если же человек продолжает жить, он никакой дыры не оставляет. Поэтому спрятать человека гораздо проще и выгодней. С метафизической точки зрения, конечно.
Ольга задумалась. И поняла.
– Убивали пустышек, как они нас называют, только в России. В сталинское время, когда был Большой террор, и позже, когда террор был Маленький. Там Братство не опасалось за метафизические дыры после смерти отдельных личностей.
– Почему?
– Потому что Россия – это единая метафизическая дыра.
– Правда? Когда я там жила, я ее не заметила.
– И слава Богу!
– Почему?
– Если б вы ее заметили, мисс Дробот, у вас было бы совсем другое выражение лица. И поверьте, я не пригласил бы вас присесть за мой стол.
Ольга внимательно посмотрела на него. Рассмеялась и хлопнула в ладоши. Старик довольно захихикал.
– Ешьте, ешьте, мисс Дробот. Впереди долгая ночь.
Ольга принялась есть. Старик взял свою порцию желе и поставил на Ольгин поднос:
– И не спорьте!
Его рука и желе дрожали в такт.
– Danke, Herr Wolf, – сказала Ольга.
– О, пожалюйста! – произнес старик по-русски и рассмеялся, клацая челюстями.
Не торопясь Ольга съела половину своего обеда. Вытерла губы бумажной салфеткой и бросила ее в недоеденный суп.
– Осмелюсь спросить, кто вы по профессии, мисс Дробот?
– Менеджер. А вы? Ах, да… извините.
– Ваш вопрос вполне корректен. За время моего тюремного романа с Братством я сидел в семи местах. В четырех из них были очень приличные библиотеки. Благодаря им я освоил три профессии: переводчика с английского (я перевел для себя лично три романа Диккенса), картографа и – не поверите, мисс Дробот, – морского навигатора, то бишь лоцмана.
– Cool!
– Круто! Люблю это американское слово.
Старик тоже завершил свою трапезу.
– Скажите, а нас могут выпустить отсюда? Когда-нибудь? – спросила Ольга.
– Зачем? – Бесцветные брови старика изогнулись, желтые морщины побежали по большому лбу.
– Нас… не выпустят?
– Мисс Дробот, вы слишком молоды. Поэтому задаете такие вопросы.
Ольга подавленно замолчала.
– Успокойтесь. И перестаньте тешить себя иллюзиями. Наша с вами жизнь теперь делится на две части: первую и вторую. И от этого нам никуда не деться. Поэтому нужно постараться, чтобы вторая часть стала интересней первой. Это трудно. Но вполне возможно. У меня, например, это получилось. Да и, согласитесь, Братство сильно помогает нам в этом. Местные условия несравнимы с обычными тюрьмами. При всей беспощадности братья Света по отношению к нам, пустышкам, чрезвычайно гуманны. Они хорошо знают слабости и нужды мясных машин.
– Мясных машин? Это кто?
– Это мы с вами. – Старик приподнялся, взял свой поднос. – Так что выше голову, мисс Дробот.
Улыбнувшись, он побрел к окну приема использованной посуды. Поднос сильно трясся в его руках. Ольга осталась сидеть за столом. Слова старика заставили ее оцепенеть.
«Две жизни. До и после… – думала она, вращая пустой стакан с потеками апельсинового сока. – И что, теперь – навсегда? Шкуры скоблить? И ждать отбоя? На лоцмана учиться… Бред! Нет, это невозможно! Ни за что! Я лучше повешусь в туалете. А чего, после отбоя… Не пойду во «вратарскую». Родителей они угробили, Дэвид оказался козлом… Что меня держит? Ребенка не смогла родить. Дважды… Для чего живу? Для кого? Для попугая Фимы? Здесь и вообще – что меня держит? Чего терять? Лоцман, лоцман, куда теперь нам плыть?.. Baby, саn you find twice the way to fucking paradise? Я тоже не могу найти… Повешусь. Сегодня же. Ночью. Сто пудов, как говорит Петр…»
Она закрыла глаза.
Знакомая большая рука коснулась ее спины.
– Бьорн! – произнесла она, не открывая глаз.
– Почему русские так быстро моются и едят? – Бьорн навис над Ольгой колокольней, пахнущей дешевым шампунем и чистым бельем.
– Я вообще-то еврейка. – Ольга открыла глаза.
Лицо Бьорна было довольным. Щеки его порозовели после душа.
«Дико позитивный человек. – Ольга с завистью смотрела на него снизу вверх. – Просто ходячий комплекс полноценности. Здоровое питание в детстве… хорошие молочные продукты у них в Швеции…»
– Просто хотел с тобой пообедать, – честно признался он.
– Скажи, у тебя бывают депрессии? – Ольга встала, взяла свой поднос с остатками еды.
– Иногда бывают. – Он забрал у нее поднос. – Но я умею с ними бороться.
– Научи меня.
– Тут нет баскетбольной площадки. Только хоккейная! – Улыбнувшись ей, Бьорн размашисто зашагал с подносом.
Ольга двинулась следом.
– Интересно, здесь бывали бунты?
– Ты уже спрашивала. Нет, коллективных не было.
– Ты уже говорил… – нервно зевнула она. – Ну что, пошли?
– Мне еще поесть нужно.
Она сжала и разжала кулаки.
– Хочешь, будем вместе сегодня? – спросил он, замерев с подносом у окна приемника.
– Я не против… А в каком углу?
– Можно у нас, в шведском.
– Меня уже туда сегодня звали!
– А что, у нас крепкий круг. – Он поставил поднос в окно.
– Давай попробуем… – Ольга снова нервно зевнула, вздрогнула. – Я бледная?
Он наклонился:
– Слегка. Хочется?
– Нет! Совсем нет.
– Чем сейчас займешься?
– Не знаю… пойду почитаю чего-нибудь.
– Я приду в библиотеку.
– О’кей.
Ольга вышла из столовой в коридор, зашла в большой и чистый туалет. Помочившись на противно теплом японском унитазе, она вымыла руки, разглядывая себя в зеркало. Рядом чистила зубы румынка, высокая красивая модель.
– Странный привкус сегодня у курицы. – Румынка сплюнула воду. – Явно они что-то подмешивают нам.
– Я ела рыбу. – Ольга потрогала и разгладила морщинку возле глаза.
– Какой-то металлический привкус. – Румынка посмотрела на свои зубы. – Что это такое? Свинец? А вдруг ртуть? И зубы темнеют. Металл какой-то… Ты не почувствовала?
– Я ела рыбу, – повторила Ольга и вышла из туалета.
Пройдя по коридору, она попала в жилой бокс. Здесь было очень просторно и свежо от кондиционированного воздуха. Приглушенный свет освещал ряды двухэтажных кроватей, тумбочки, полки с личными вещами. Мужскую и женскую половины разделял небольшой проход без дверей. Стены и потолок в мужской половине были зеленовато-серыми, в женской – розовато-серыми. Обитатели бункера называли мужскую половину «Гараж», а женскую «Ветчина». Десятки свободных кроватей в «Гараже» и в «Ветчине» ждали новых хозяев.
Ольга прошла к своему месту, достала из тумбочки пачку суперлегких китайских сигарет, крем для рук, закурила, выдавила и, растирая крем, с наслаждением кинулась на свою кровать:
– O, my God…
Сверху свесилась златокудрая голова ирландки Мэрил:
– Ольга, у тебя есть прокладки?
– Да.
– Я забыла заказать. Дашь?
– Возьми в тумбочке.
– Лень спускаться, – усмехнулась ирландка.
– А мне лень вставать. – Ольга выпустила в нее струю дыма.
Мэрил слезла, открыла тумбочку, взяла.
– Я видела, ты с этим желтым немцем обедала.
– Да. Он меня пригласил на званый ужин.
– Понравилась?
– Наверно… Забавный старик.
– Говорят, что он их старый стукач.
– А что, нам есть что скрывать?
– Ну… – Мэрил пожала плечами, приспуская штаны и вставляя прокладку. – Многие хотят свалить отсюда.
– Что-то незаметно. – Ольга с наслаждением курила, разглядывая пластиковый низ верхней кровати, на котором она в первый же вечер нацарапала маникюрными ножницами «Fuck off, Ice!»
– Ты новенькая. Поэтому тебе кажется, что все здесь довольны. Все здесь только и мечтают, как бы дождаться отбоя и встать на ворота.
Куря, Ольга задрала ногу и с удовольствием взяла себя за гладкую пятку:
– Мэрил, у меня нет ни сил, ни желания с тобой спорить.
– Значит, я права! – Мэрил шлепнула Ольгу по ступне.
«Ветчина» постепенно наполнялась женщинами. Зазвучали разговоры, запахло дешевой китайской парфюмерией. Кто лег спать, кто сел играть в карты, кто отправился в «Гараж». Зашли мужчины «попить воды». Это был единственный напиток, разрешенный в жилом боксе; в каждом отделении стояли автоматические поилки с иероглифом «вода», наполняющие пластиковые стаканчики ледяной или горячей водой. Воду в бункере пили бесконечно, большими и малыми компаниями, «пропуская стаканчик» попарно и в одиночку. Пленники «Льда» уважали воду и иероглиф, ее обозначающий. На воду приглашали, ею отмечали дни рождения и праздники, ею поминали умерших.
Выкурив подряд две сигареты, Ольга минут сорок дремала под женские разговоры и стрекот ножниц: неподалеку одна литовка стригла другую. Как только стрекот прекратился, Ольга открыла глаза, глянула на настенные часы: половина седьмого. Потянувшись, она встала с кровати, выпила стаканчик ледяной воды и отправилась в библиотеку. В бункере не было ни телевизора, ни просто экрана с видеоплейером. Даже радио не полагалось иметь обитателям бункера. Газет и журналов также сюда не приносили никогда. Зато библиотека была вполне приличная. Пройдя по коридору, Ольга открыла дверь с изображением развернутой книги и оказалась в длинном светлом зале со стеллажами и десятком столов. На стеллажах стояли книги, за столами сидели и читали человек пятнадцать. Выносить книги из библиотеки было запрещено.
Ольга подошла к стеллажам.
В основном здесь стояли книги на английском языке. Попадались немецкие, французские и итальянские издания. Попытавшись ради интереса найти что-то на почти полностью забытом книжном русском, Ольга обнаружила только полное собрание сочинений Льва Толстого. Проведя несколько часов в библиотеке, она поняла ее жесткий принцип: на стеллажах стояла только художественная литература. Книг по технике, медицине, философии, истории, культуре, географии, точным и прикладным наукам не было вовсе. Также не было газет, журналов и периодических изданий. Полностью отсутствовали справочники. Не было поэзии. Зато стояло много словарей. Бо́льшую часть подземной библиотеки занимала мировая классика в переводах на английский язык и представленная здесь многочисленными собраниями сочинений. Авторы бульварных и детективных романов были также многотомны и минимум тридцатилетней давности. Современная литература в библиотеке полностью отсутствовала. Книги-одиночки практически не встречались.
Ольга медленно двинулась вдоль стеллажей. Вчера она начала читать «Дар» Набокова, но быстро заскучала и взяла «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи. Читать про обаятельного Пуаро было комфортно, но на шестьдесят второй странице в бункере прозвучал «отбой». Сейчас же возвращаться снова в «Восточный экспресс» ей почему-то не захотелось. Она остановилась возле полок под буквой «Ф». Флобер? В университете она прочитала «Мадам Бовари». Это было в начале мая, когда все цвело. Образ решительной и страстной женщины, горстями поедающей мышьяк, слился с запахом цветущих нарциссов. В памяти осталось странное привкусие, которого сейчас совсем не хотелось. Фолкнер? «Медведя», которого любили ее родители, она так и не дочитала до конца. Фейхтвангер будил в памяти что-то скучно-немецкое. Франс? Она не знала такого писателя. Филдинг? Опять, наверно, англичанин. Фицджеральд! «Ночь нежна» был одним из ее любимых девичьих романов. Она вытянула наугад третий том собрания сочинений Фицджеральда, открыла в середине. Рассказ назывался «Алмаз величиной с отель «Ритц». Ольга его не знала. Села за ближайший стол и погрузилась в чтение. Читала Ольга быстро. В рассказе прелестным языком любимого с юности Фицджеральда описывалась Алмазная гора, поросшая густым лесом, которую случайно нашел скупой и властный человек. Он поселился на ее склоне. Фантастическое сокровище сделало его чудовищем. Он возомнил себя равным Богу, выстроил на горе чудесный замок. С ним в его фантастическом замке жили две очаровательные дочери – Жасмин и Кисмин – и покорная, похожая на бессловесное растение жена. Ольга представила Алмазную гору, покрытую лесом.
«Алмаз похож на лед… – подумала она. – Но алмаз не тает… Ледяная гора. И мы живем под ней…»
Она подняла голову и посмотрела в потолок. На нем горели маленькие лампы.
– Фицджеральд? Скучно! – Женщина, сидящая сзади, бесцеремонно заглянула ей в книгу. – Сироп с говном!
Ольга оглянулась.
Женщина была некрасивой, с всклокоченными рыжими волосами. Бледно-голубые выцветшие глаза смотрели цепко и зло. Маленькие губы нервно подрагивали. Над этими губами росли белесые усики. Ольга ее раньше не видела.
– Вот что почитай! – Женщина показала Ольге книгу с комичным изображением солдата на обложке.
«Приключения бравого солдата Швейка», – прочитала Ольга.
– Знаешь? – настырно смотрела женщина.
– Я не люблю солдатский юмор… – отвернулась Ольга.
– Дура! Это самый здоровый юмор! – зло вскрикнула женщина.
– Дорис, оставь ее в покое, – посоветовала полная, розовощекая итальянка, сидящая рядом с рыжей.
– Идиоты! Что они читают! – тряслась от злобы рыжая.
Ольга продолжала читать, не обращая внимания. Рыжая вяло перебранивалась с итальянкой. И вдруг, выкрикнув «fuck you!», плюнула в нее. Итальянка дала ей оплеуху. Рыжая стала бить ее книгой. Они сцепились. Крик рыжей перешел в истерический, надрывный визг. Соседка отмахивалась от нее, сидящие сзади вскочили и пытались разнять их. Остальные посетители библиотеки заулюлюкали и засвистели. В дверь стремительно вбежали двое китайцев охранников, схватили воющую рыжую и выволокли из библиотеки под улюлюканье остальных.
Все произошло так быстро, что Ольга лишь покачала головой и рассмеялась:
– Бред!
– Ведьма рыжая… – бормотала итальянка, разглядывая оцарапанную руку.
– Она не в себе? – спросила Ольга. – Кто она? Я ее здесь не видела.
– Она из Южной Африки. Ее выпускают периодически, – вздохнула женщина. – Ее и еще двух психов. Зачем они их здесь держат? Отправили бы наверх, в нормальную психушку…
– В китайскую? – засмеялся бритоголовый француз с татуированными руками. – А ты туда не хочешь?
– Господа, не забывайте про то, что написано на стене, – пробрюзжал седой старичок исландец с блаженно-васильковыми глазками.
На белой стене висела черная надпись KEEP SILENCE!
Сидящие с книгами смолкли. Ольга снова погрузилась в горьковато-трогательный мир Фицджеральда. Когда правительственная авиация разбомбила дворец хозяина Алмазной горы, когда сам он навсегда затих под алмазными обломками, а его прелестные дочери стали нищими сиротами, глаза Ольги наполнились слезами. Она читала:
– Я люблю стирать, – сказала Жасмин. – Я всегда сама себе стирала носовые платки. Теперь я буду стирать белье и содержать вас обоих.
– Все как сон, – вздохнула Кисмин, глядя на звезды. – Как странно быть здесь в одном-единственном платье! Здесь, под звездами! Я раньше совсем не замечала звезд! Считала их громадными алмазами, принадлежащими кому-то. Теперь же они пугают меня… Мне кажется, что все прежнее было сном. Вся моя юность – сон…
– Юность всегда сон, – спокойно произнес Джон. – Особая форма безумия.
Ольга содрогнулась, сдерживая рыдания, закрыла лицо руками. Слезы брызнули сквозь пальцы, и она по-детски разревелась.
– Потерпи, детка, сорок две минуты осталось. – Татуированный хлопнул по столу «Шпионом, который любил меня». – Суки, не могли сделать отбой в восемь!
– Потише, Штамп, – проговорил рослый серб, отрываясь от Чейза и косясь на камеру слежения. – У нас все нормально. Мы всем довольны.
– Я до… мой хочу-у-у-у… – рыдала Ольга. – У меня там попу-у-угай…
Ей стало ужасно сладко и горько почувствовать себя крошечной и беззащитной под этой ледяной горой.
Маленькая миловидная американка Кэли подсела к Ольге, обняла за плечи:
– Милая, ну потерпи. Уже скоро.
– Нет, в библиотеке еще хуже ждать… – приподнялся сумрачный светлобородый немец, подошел к стеллажам и поставил том Сименона на прежнее место. – Салли, пошли водички попьем.
Староста «Ветчины» Салли, похожая на Мартину Навратилову, махнула ему рукой, не отрываясь от «Фиесты». За немцем побрел татуированный. И тихий, болезненно худой эстонец, медленно читавший по-немецки Томаса Манна.
– У мужиков нервы сдают. – Кэли достала платок, стала вытирать Ольге слезы. – Спокойней, детка. Твой дом теперь здесь. И мы тебя все любим. Мы – твоя семья…
– Твои братья и сестры, – пробормотала итальянка, листая брошенного рыжей «Швейка». – А это правда весело?
– Классная книжка, – отозвался очкастый венгр.
Ольга всхлипывала.
В библиотеку вошел Бьорн.
– Что случилось? – подошел он к заплаканной Ольге. – Тебя побили?
– Нет, просто взгрустнулось, – Кэли гладила Ольгу.
– Побили меня! – засмеялась итальянка и вдруг нарочито громко запела мужским басом.
Кэли расхохоталась, захлопала в ладоши. Салли присвистнула, не отрываясь от «Фиесты». Старичок с васильковыми глазками заткнул пальцами уши. Бьорн сел рядом с Ольгой:
– С тобой все в порядке?
– Слишком… – Ольга захлопнула обмоченную слезами книгу.
– Фицджеральд, – прочитал имя автора Бьорн. – Слышал о нем. Это он был алкоголиком?
– Да.
– Многие американские писатели – алкоголики.
– Да, да… – слабо бормотала Ольга.
Бьорн в упор смотрел на Ольгу. В объятиях Кэли она сидела отрешенно.
– У тебя сегодня бонус? – тихо спросил Бьорн.
– Наверно…
– У меня тоже.
Кэли навострила уши.
– Так ты придешь к нам? – Бьорн разглядывал ее ухо.
– Наверно…
– Эй, big boy, бонус не только у тебя. – Кэли из-за головы Ольги кольнула Бьорна быстрым сине-желтым взглядом. – Ольга, ты ведь уже была с нами. У нас в углу так все крепко. Такие мощные ребята! Тебе же вчера понравилось?
– Ольга, у нас круче, – заговорил Бьорн. – Шведский угол самый крутой.
– При мне такую чушь не говори! – воскликнула итальянка. – Шведский угол! Потратишь бонус зря. Приходи к нам. Мы с французами слились. И с нами албанцы, румыны и три македонца. Греки тоже хотят примкнуть. Это будет самый крутой угол!
– Не слушай ее, Ольга. Ты же наша, ты знаешь, американцы самые крутые! Не только наверху.
– Наши круче! Гораздо круче! – не унималась итальянка.
– Ольга, тебя ведь уже приглашали в шведский угол, – нервно улыбался Бьорн.
– Не ходи, потеряешь бонус зря! – не унималась Кэли.
– Заткнитесь! – Салли захлопнула книгу и с размаху ударила ею по столу. – Захотели в карцер?!
– Есть общее правило ожидания отбоя, господа! – затрясся от негодования старичок.
– Мы все здесь в равных условиях, черт возьми! – воскликнул конопатый швед с ежиком белых волос.
– Ольга, делай правильный выбор!
– Думай, Ольга!
– Замолчали все! – хлопнула в ладоши Салли. – Читаем!
И снова раскрыла «Фиесту».
Кэли встала, поставила «Хоббита» на полку и вышла, чертыхаясь. Бьорн тяжело вздохнул, косясь на телекамеру. Ольга повернулась к нему.
– Невыносимо… – прошептал он, вытирая пот с бледного лица.
– Двенадцать минут.
– Иногда время как резиновое, – пробормотал он. – Тянется, тянется…
– А потом – рвется.
– Да. Потом рвется.
Ольга вздохнула, встала:
– Ладно. Пойду выпью воды.
– Хорошая идея! – нервно усмехнулся Бьорн.
Ольга поставила на полку Фицджеральда и пошла в «Ветчину». Бьорн поплелся за ней. В «Ветчине» чувствовалось общее напряжение: женщины сидели на кроватях, каждая в своей компании, разговоры стихли. У всех в руках были стаканчики с водой. Возле автопоилки на полу сидели француженки. Обнявшись, сплелись руками, прижались русыми головами. Ольга подошла, переступив через чьи-то ноги, вытянула из автопоилки пластиковый стаканчик, поставила в нишу, нажала синюю кнопку. Полилась холодная вода. Француженка с роскошной гривой мелких золотистых кудряшек подняла некрасивое, прыщавое и длинноносое лицо, вперилась в Ольгу большими серо-синими глазами. Ольга взяла наполнившийся стаканчик, поднесла к губам, отпила немного. Холодная вода успокаивала.
– Хочешь с нами? – спросила француженка.
Ольга отрицательно качнула головой. И пошла к своей кровати.
«Просто не надо смотреть на часы…» – уговаривала она себя.
Села на одеяло. Отпила. И глянула на часы: без четырех минут. Вошли Салли, итальянка и две украинки. Ольга пила воду маленькими глоточками.
«Юность – всегда сон…» – вспомнила она, глядя в пластиковый стакан.
– Минута! – произнесла Салли.
И сразу все ожили и зашевелились. Побросав свои вещи, взяв стаканчики с водой, женщины пошли в коридор.
«Ну вот. Восьмой раз…» – подумала Ольга, смешиваясь с толпой и стараясь не расплескать воду.
В коридоре все смешались – мужчины и женщины. Толпа подошла к большой двери матового стекла. Дверь светилась голубым. Разговоры и бормотание стихли, толпа напряженно замерла. Все узники бункера стояли у двери с пластиковыми стаканчиками, наполненными водой. Прозвучал переливчатый сигнал, дверь открылась. Толпа стала медленно и напряженно втискиваться в небольшое проходное помещение, освещенное голубоватым светом. В стене напротив двери виднелись пять окошек. Возле окошек неподвижно застыли двое охранников с дубинками. Узники сразу же выстроились в пять очередей. Стоя тесно, прижимались друг к другу, но старались не толкаться, чтобы не пролить воду. Прижавшись к спине какой-то прихрамывающей украинке, Ольга бережно держала стаканчик у своей груди, накрыв сверху ладонью. Сердце ее сильно билось. Его удары прочистили голову от хаотичных мыслей. Ольга смотрела только вперед, двигаясь к голубоватому окошку. Кто-то коротко вскрикивал, кто-то толкался. Но спокойствие толпы подавляло нервных одиночек. Толпа ползла к окошкам. Каждый получал свое и сразу же выходил из голубой комнаты.
Наконец подошла очередь Ольги. Склонившись к окошку, она приложила выступ на своем ошейнике к металлической пластине. Пропищал сигнал, и из окошка выкатились две прозрачные таблетки с оттиснутым «ICE». Ольга схватила их и сразу же проглотила, запив водой. Кинула стаканчик в контейнер и вышла из «вратарской», как прозвали это голубое помещение. Сердце ее билось все сильнее.
«Сразу пойду к шведам…» – подумала она.
Сзади послышался шум, взвизги и крики: кто-то пытался отнять у кого-то таблетку.
«Начинается…» – Ольга прошла по коридору, свернула в «Ветчину». Там уже образовывались группы, рассаживались, готовясь к путешествию. Но шведского угла здесь не было.
«Шведы сегодня в “Гараже”!» – догадалась Ольга.
Ее стали ловить за руки француженки и гречанки, румынки и украинки, бормотать, уговаривать. Альбинос-исландец кинулся ей под ноги, схватил за колени, зашептал по-исландски, бодаясь потным от желания лбом. Из его истеричного шепота со слюной вываливалось лишь одно понятное слово:
– Бонус!
Заткнув уши, Ольга бросилась в «Гараж». И сразу заметила шведский угол: человек десять уже сидели на полу, готовясь. Она подошла, пробормотала что-то, протянула дрожащую руку, рухнула на колени, стала трогать сидящих. Ее ждали, ее приветствовали радостно, трогая такими же дрожащими руками, расступались, тянули. Глаза, голубые и синие, бледно-небесные и глубоко-морские, смотрели в упор, лучась и поблескивая, обещая разделенную на всех радость. Трепеща, она втиснулась, влилась, взялась за влажные от волнения руки, чувствуя, как нарастает сердечная волна, как распирает грудь, как кружится голова, как стучит кровь в висках. Сила шведского угла потрясала.
«Вот оно… уже!» – Она сладко закрыла глаза.
Подходили новые, только что проглотившие свою порцию счастья, садились, прижимались тесно, брались за руки крепко, неразрывной цепью сладкого предчувствия. Появилась Лиз, коснулась, укоренилась, укрепляя собой угол радости, дрожа красивыми губами. Возникли среброкудрый грек и огненно-рыжий израильтянин, плечистый небесноокий швед с обезображенным лицом и розовощекая, бритая наголо американка. У всех были бонусы. Все жаждали счастья.
«Лучшие здесь!» – радостно пульсировала Ольгина кровь.
И – наступал миг полета. Вцепившись в товарищей по радости, она закрыла глаза. Но провалиться в прелестное и радостное не дали – холодные чужие руки выхватывают из угла:
– Преступница! Она сожрала Лед!
Сильные руки тянут, волокут по коридору. Она же чувствует каждой клеткой, как в животе тают, тают, тают, тают две льдинки, две божественные, неповторимые, дающие радость неземную. О, лишь бы они успели растаять! Еще несколько мгновений! Тайте, тайте, тайте быстрее, родные мои, тело мое хочет вас, тело мое плачет от желания, тело мое сосет вас и стонет…
– Раскройте ей рот!
Беспощадные лица, холодные глаза, жесткие руки в резиновых перчатках. Разжимают зубы, вставляют стальную распорку, рот раскрывается больно, против воли.
– Зонд! – Пластиковая змея лезет в горло, ползет по пищеводу, раздвигает и не дает дышать.
Бьется тело, извивается в руках, но держат крепко, крепко, крепко, и там, в желудке, проворная змея всасывает милые, нежные, родные и желанные льдинки, не дав им раствориться, и нечем уже, нечем уже дышать, дышать, дышать…
Ольга вскрикнула.
И проснулась.
– Что с тобой? – лежащая рядом Лиз положила ей руку на грудь. – Ты вся мокрая…
Ольга скинула тонкое махровое одеяло, приподняла голову, села и свесила ноги с койки:
– Фу, какая чушь приснилась…
В «Ветчине» был полумрак. Электронные часы показывали 3.47. Женщины спали. Ольга вытерла ладонью мокрое от пота лицо:
– Бред…
– Что такое, рыбка? – Лиз обняла ее сзади. – Принести тебе водички?
Ольга полусонно рассмеялась, тряхнула головой:
– Мне приснилось, что нас тут кормят какими-то ледяными наркотиками… таблетки какие-то прозрачные… и я так сильно хочу, так жажду… а у меня их отнимают…
– Здесь снится много ледяного . Это нормально… – Лиз гладила ее. – Мне тут сначала снилось, что я маленькая, как букашка, и что я вмерзла в лед. Навсегда. И навеки в этом льду…
– Да… и еще… библиотека!
– Какая библиотека?
– Будто здесь у нас есть библиотека.
– Отлично. Я хочу в твой сон.
– И какие-то коллективные трипы с этой таблеткой… шведский угол…
– Шведский угол сегодня вечером выиграл у наших в мини-футбол.
– Господи, здесь же спортзал, а не библиотека… – Ольга мотала головой. – И мужчины живут отдельно… бред!
– Обойдемся и без мужчин. – Лиз поцеловала Ольгу между лопаток, слезла с койки.
Подойдя к автопоилке, наполнила стаканчик водой, отпила, вернулась, протянула Ольге:
– Попей.
Ольга отпила ледяной воды.
– Странно… мне ни разу здесь дом не снился.
– Мне тоже. – Лиз обняла ее.
– Но это… очень странно!
– Нет, милая, это не странно.
– Почему?
– Потому что наш дом здесь. И другого не будет. – Лиз зевнула, прижалась к Ольге.
Засыпая и вспоминая свой странный сон, Ольга почувствовала плечом впадину в груди Лиз.
«Бонус… бонус… ледяной… бред… бонус здесь – это же просто плитка швейцарского шоколада. Шоколадка… шоколадка… в виде птички… в виде моего Фимы. Фимочка ха-а-роший. Фимочка лучше всех…»Последние
Руки братьев будят мое тело. Будят тело Горн. Мы на нашем острове. В нашем Доме. На нашем ложе. Мы лежим рядом. Теперь, после Великой Ночи, наши тела похожи. Много сил отдали они Последнему Поиску. Они очень стары. Так стары, что уже не могут двигаться. Руки братьев открывают нам глаза, поднимают веки. Нас берут на руки с ложа, омывают, кормят и лелеют. Теперь надо оберегать наши тела. Чтобы Свет не покинул их. Но не только наши тела: надо беречь тела всех братьев и сестер Света. Всех 23 000. Теперь каждое тело особенно дорого. Ибо близко Преображение. Недолго осталось ждать.
Накормив нас питательными жидкостями, братья опускают тела наши в мраморную ванну. Парным молоком буйволиц наполнена она. Помогает это поддерживать силы в телах наших. Рядом лица наши. Вижу близко я лицо Горн. Он мальчик по законам мясного мира. Но сильно постарело лицо его за ту ночь. Постарело и тело Горн. Теперь он такой же, как и я.
Горн смотрит на меня.
Мы не в силах говорить на языке Земли – губы наши не могут двигаться.
Но сердца говорят.
Сегодня Братство должно обрести трех последних из 23 000. Но трудные эти последние. Трудно будет обрести их, вырвать из мясного мира. Подвижны они. Один из них движется по Земле, убивает одних мясных машин, скрывается от других. Другой живет в Земле, он работал в месте, где мясные машины делали яростные яды, и отравился ими, и изменился телом, и стал рыть землю, и скрываться от мясных машин. Третья просто любит прыгать и бежать куда хочется.
Ноадуноп
За 6 месяцев и 13 дней японского существования я наконец понял, на что похож Токио с птичьего полета:
– Нью-Йорк после атомной бомбардировки.
Я шепчу это на родном голландском в стакан с «Личи», усмехаясь своему открытию. И перевожу взгляд на город суши и когяру, погружающийся в сумерки. Круто сидеть на 61-м этаже, потягивать любимый коктейль и смотреть. На Восточную Столицу. Сквозь пятисантиметровое стекло. Трогая пальцем лед в стакане.
Через минуту делаю поправку:
– Не самая удачная бомбардировка.
Это правда: в однородной массе пеньков небоскребов, как бы оставшихся после атомного взрыва, высятся редкие стоэтажные башни-одиночки. Глядя на них, вспоминаю рев Годзиллы, уничтожающей Восточную Столицу в старом японском блокбастере. Я сочувствую этим гордым одиночкам. Чокаюсь со стеклом за их стойкость в ожидании очередного мегаземлетрясения. Которого ждут в Токио уже 70 лет. Глаза не в силах оторваться от города. Я с детства любил долго смотреть. И слава Богу. Этот опыт сильно помог в моей непростой профессии. После того грека в Лондоне я стал еще более наблюдательным. Я умею жить глазами. Темнеет здесь всегда стремительно. Уже зажигаются огни улиц. А на западе – розово-оранжевое марево от скрывшегося солнца. Еще минут пять – и стемнеет. Этого времени вполне хватает, чтобы вспомнить, кто ты и зачем. Я доволен собой и окружающим. Пока – все в цвет. Я хорошо вписался в этот мегаполис. На очередные полгода. Они ищут меня в Европе и Америке. Но у меня уже два года узкие глаза, совсем другой нос и немного другие губы. И я брею голову, как монах. Бывшие сослуживцы по Корпусу ни за что не узнали бы меня. Однополчане по Балканам – тоже. Только по татуировкам. Классно, что на Земле есть Азия, куда можно заползти и раствориться. Уже три человека сказали мне, что я – вылитый монгол. Кайфово! Я – монгол. Периодически совершающий набеги. Потомок Чингисхана. Грек дался мне просто даром – две пули в печень, контрольный в голову, как в кино. При полной беспомощности охраны. Но месяц кропотливой подготовки был по-настоящему тяжел. Всегда угнетает невозможность глубокого сна во время дела. От этого я реально устаю. Японские массажистки прилично поработали над моим худощавым, но мускулистым телом. А две когяру с Шибуя за три совместные ночи окончательно вернули меня к жизни. Что ж, я не железный Брюс Уиллис из «Die hard!». И слава моему маленькому персональному богу…
Токио зажегся. Красиво, ничего не скажешь. В этом баре я бываю каждый раз перед делом. Третий раз. Уже новая традиция. Вернее – половина традиции. Другая половина ждет меня у бронзовой собачки. Пора расплатиться и двигать вниз, в город, на Шинжуку. Там – Мисато-сан. Новенькая. Надо еще успеть что-то купить ей…
Расплачиваюсь, иду к лифту. Стальная кабина плавно возвращает меня с неба на землю. Почему-то в этом лифте всегда пахнет дыней. Ловлю такси, еду на Шинжуку. Пробки. Час пик. Но это недалеко. Когда подъезжаю, Шинжуку уже ночной – горит, как рождественская елка. У меня остается семь минут до встречи. Понимаю, что девочка будет ждать, но все равно тороплюсь. Я ответственный человек во всем. Забегаю в «Isetan», покупаю ей мой стандартный набор для когяру: CD Шины Ринго, DVD «Титаника», Покемона с утыканным шипами хвостиком и коробку швейцарских шоколадок. Это бьет безотказно. Как мой любимый «Глок-18» с глушителем.
Мисато стоит возле бронзовой собаки Ачико, которая все еще ждет своего хозяина, умершего от сердечного приступа. Японцы поставили собаке памятник. Они сентиментальны. И инфантильны. Слава Богу, среди японцев у меня еще не было клиентов. Да и среди китайцев. Среди арабов – двое. Один грек. Плюс – австралиец. Остальные – европейцы. Хотя нет – еще двое русских, в 98-м. Русских непонятно к кому отнести – к Европе или к Азии. Русские – они просто русские. Те русские оказались камнями преткновения. Они дались большой кровью. На них я засветился больше всего. Пришлось многое менять. В себе и вокруг…
Мисато одета, как и вчера, – розовый топ до пупка, коротенькая юбка из голубой кожи, ноги в белых, крупной сетки колготках, на ногах – белые платформы с желтыми застежками-покемонами. Еще один покемон прицепился к ее широкому лакированному поясу. И совсем маленький желтенький покемончик болтается на ее перламутровом мобильнике. Волосы у Мисато красно-желтого отттенка. На огромных накладных ногтях – снежинки и звездочки. Веки накрашены перламутром, губы – ярко-розовые, с блестками. Лицом она невыразительна. Но фигурка – вполне. И рост для местных – превосходный: 168. Типичная когяру: ко — молодая, гяру — girl. Эта мода, tropical girl style, пошла резко года четыре назад. Сейчас их теснят кислотные в бесформенных робах и негритянских шерстяных шапках. Но Мисато подражает своей старшей сестре, когяру первой волны. Get wild & be sexy – их девиз. Меня он вполне устраивает.
– Hi, John, how are you? – Мисато обнажает свои кривые молодые зубы с брекетом.
– Комбова, Мисато-сан, – улыбаюсь я ответно.
Она старается говорить по-английски (очень плохо), я – по-японски (еще хуже). Беру ее влажную руку. Толкаясь в толпе, мы выходим на Шинжуку-дори. Бредем, болтаем. Мисато стучит своим платформами. Походка у японских женщин ужасная. Большинство из них косолапы. Как объяснила проститутка из Саппоро, это последствия тысячелетнего сидения на коленях.
Пупок у Мисато без пирсинга, это понятно: она десятиклассница, пока это нельзя. В семье и школе здесь круто прессуют. Отсюда – такой яркий, отпадный прикид. Компенсация школьно-семейной рутины. По вечерам Мисато – когяру, утром – школьница в синей униформе и белых гетрах. Она бодро бредет, тюкая платформами. Я предлагаю место, где можно кинуть кости. Она на все согласна. Завести роман с европейцем здесь престижно. Хотя я для нее – наполовину монгол. И специалист по грузоперевозкам. У меня даже визитка есть.
Я веду ее в знакомое место. Здесь за 50 долларов с рыла можно есть и пить два часа. Нам с Мисато хватило бы и часа. Беру себе пива, а ей – полусладкий коктейль с рисовой водкой шоджу – любимый напитком когяру. Мы набираем суши, сашими, куриных шашлычков, клешней крабов, мраморного мяса. Официант зажигает газовую горелку под воком с водой в центре нашего стола: здесь все варят себе персональный суп из чего хотят. Кидаем клешни в кипящую воду, едим суши и пьем. Мисато весело. Она хохочет, откидываясь. Я тискаю ее, хватаю за коленки. Мисато шлепает меня по лбу салфеткой в целлофане. Мы пьем за встречу на Шибуя. Там – Мекка когяру. Их улей. Там их тысячи тысяч.
– Почему ты меня выбирать? – спрашивает Мисато.
– Ты не похожа на других когяру, – вру я.
Она хохочет, отпивает мутно-белый коктейль. Ей престижно тусоваться с иностранцем. Заглатывая суши, она рассказывает про летнюю поездку в Италию всем классом. Она видела папу римского. И ела тирамису. Который там готовят «лучше, чем в Токио». Ей понравились итальянцы. Я рассказываю про футбол, как студентом ездил «болеть» за «Манчестер-Юнайтед» (для всех я учился в Англии), как дрался с итальянцами и попал на месяц в тюрьму. Она хохочет. Суши-сашими съедены, мы ждем, когда сварятся крабы. Пауза. И тут я достаю из рюкзака пакетик от «Isetan»:
– Это тебе.
Она сразу превращается из когяру в школьницу. Движения становятся угловатыми. Она сутулится, копошится в пакете с открытым ртом. Разве что слюна не течет с этих посеребренных губ.
– Кавай! Сугой! [21] – пропевает она, прикрывает рот ладошкой и издает удивленное рычание. – Э-э-э!
Потягивая некрепкое японское пиво, я даю ей возможность насладиться презентом. Когда она забывается, я сразу хочу ее. Сладкая девка. Японки, конечно, на любителя. Алекс их терпеть не может, Грегори тоже не в восторге. Понравилось только Сержу Лабоцки. Хотя китаянки ему нравятся больше. Конечно, местные женщины – вечные школьницы. Они угловаты и застенчивы. Европейцев это часто ломает. А меня – наоборот, вставляет. Я люблю японских школьниц. Даже если им под сорок. Да и выбора нет: заводить роман с белой бабой здесь – смерти подобно. Я должен быть свободным во всем. И в любой момент сбросить хвост. А иногда – и шкуру…
Крабы готовы. Мисато, возбужденная подарком и шоджу, палочками тащит их из вока. А я закладываю в вок мясо, тефтели на шпажках и грибы. Мы едим крабов, кромсая клешни ножницами, макая белоснежное мясо в соус. Мисато щебечет про Америку, где она не была, но куда очень хочет. Ведь я же американец. У меня действительно неплохой американский выговор. Рассказываю ей про Большой каньон, про Лос-Анджелес и Майами. Ресторан наполняется. Служащие с портфелями и мобильниками. Они спешат шумно расслабиться после самоотверженного труда. Чтобы завтра снова встать в шесть, пилить на электричке часа полтора. И положить жизнь за фирму по производству кондиционеров. Для меня это – ад. Лучше раз в два месяца кого-нибудь убивать, чем каждый день ходить на службу…
Мисато опьянела. Сварившееся мраморное мясо в нее уже не лезет. Пора. Я слегка захмелел. Наелся вкуснятины. И хочу вставить десятикласснице. Беру ее за бока, вывожу. Расплачиваюсь на выходе. Она хохочет, заплетается ногами, теряет платформу. Находит. Снова хохочет. Мы вываливаемся из ресторана. На улице, как всегда – душно и шумно. Сентябрь. Но духота все еще не слабая. «Рабе Хотеру», а по-нашему – «Love Hotel» в двух шагах. К себе в однокомнатный уют я не поведу ни одну бабу. Никогда. Даже если Грегори мне заплатит стандартные 20 000…
Плачу, получаю ключи. Мы поднимаемся на лифте на третий этаж, идем по коридору. У меня уже стоит. После хорошей еды и приятной выпивки всегда хорошая эрекция. Мисато на своем ломаном английском спрашивает, ревнивая ли у меня жена. Я ведь служащий, отец семейства. Говорю, что у нас свободный взгляд на брак.
– Как ей в Японии? – спрашивает Мисато.
– Нравится. Но скучает по Нью-Йорку.
– Э-э-э, – искренне кивает она.
Я открываю дверь, зажигаю свет. Комнатушка с большой кроватью. Как всегда. И ничего другого здесь никогда не будет. Включаю ночник, тушу верхний свет. Толкаю Мисато. Она, как кукла, со смехом валится на кровать. Пока она, хихикая, лежит на спине, я раздеваюсь. Она смотрит на меня, как на слона в зоопарке. Сбрасываю с нее платформы, стягиваю сетки-колготки. Под шелковыми трусиками у Мисато черная, слегка подстриженная пипка. Свежая, как устрица. У японок пипки всегда пахнут морем. Развожу ее ноги, лижу. Она слабо хнычет. Ввожу ей язык во влагалище, одновременно сгибая ее ноги в коленях. На коленях привычные синяки – дома она тоже ползает на татами. Как и все девочки. Она хнычет. Кажется, что ей все это не нравится. Но – надо. Дядя хочет. Мы возимся так пару минут. Потом дядя натягивает на свой член презерватив. Плюет на руку, смазывает слюной свой рог. И пристраивается к Мисато.
Я вхожу в нее медленно, плавными толчками. Она все так же хнычет. Я вставляю ей на полную. Она всхлипывает. Смотрит в сторону. Лицо ее искажено гримасой. Я трахаю ее. Она стонет и хнычет. В постели японки одинаково беспомощны. Не то что китаянки. Или таиландки.
– Сугой… сугой… – хнычет Мисато.
Она сосет свой палец с накладным ногтем. Я переворачиваю ее на бок. Ложусь рядом. Прижимаюсь к ее прыщеватой попе, тискаю маленькую грудь. Пипка у нее узкая, молодая. Это подгоняет финал. Я торможу. Чтобы не кончить, думаю о деле. О завтрашнем вылете. О старом тайнике в Боснии. Где до сих пор спят в смазке три «глока», две «беретты», «калашников» и два ящика патронов. О мертвом греке. О домике на Гоа, который я куплю. Когда завяжу. И выйду на пенсию.
Японки не умеют сосать. Это – национальная черта. Не умеют, потому что не любят. Мисато пытается, как и вчера. Получается плохо.
– Убери зубы, – советую я.
Она убирает. И давится моим рогом. За это я ставлю ее раком. Член толкается в ее маленькую матку, словно просится назад. Она стонет и хнычет в плоскую подушку. Спина у нее нежная и белая. Такой белой кожи в Европе нет. А уж в Америке…
Подступает. Пора. Выхожу из нее, сдираю презерватив. Хватаю ее за голову, прижимаю к кровати. Хватаю свой рог. Несколько судорожных движений кулаком – и я кончаю в ухо Мисато. Она непонимающе замирает. Ухо ее наполняется моей спермой. Сквозь сперму проблескивает скромная сережка-звездочка. Придерживая голову Мисато, я любуюсь ее ухом, полным меня. Потом наклоняюсь, целую ее в висок.
– Э-э-э… – испуганно лепечет она.
Но быстро привыкнув, улыбается:
– Э-э-э…
По ней видно, что никто никогда не проделывал с ней такого. Теперь ее ухо потеряло невинность. И хорошо. Легче будет жить. Для нее – сюрприз, а для меня – новая традиция. Теперь перед делом я должен кончить в ухо когяру. Иначе удачи не будет.
ВЕНА. 8.35 Объект вышел из подъезда. Мы с Грегори в машине. Грегори заводит мотор, мы трогаемся. Нужно проехать по Гэртнергассе и на углу с Унгаргассе встретить объект. Я держу «Глок-18» с глушителем наготове. Улица почти пуста. Нас обгоняет велосипедист. И еще один. Проезжаем мимо цветочницы. Мимо кондитерской. В Вене вкусные эклеры. Объект выходит из-за угла. Бежевый плащ, бежевая шляпа. В руке кожаная папка цвета абрикоса. Он всегда ходит пешком до конторы. Я давлю на кнопку. Темное стекло опускается. Высовываю руку с пистолетом в окно машины. Раз, два, три. Все в голову. Слышу, как стекло очков летит брызгами на мостовую. Объект падает, теряет папку. И шляпу. И очки. И судя по всему – волю к жизни. Я закрываю окно. Грегори сворачивает на Унгаргассе. И дает полный газ.
МЮНХЕН. 10. 56
Серж лихо домчал меня из Вены на своем «Ягуаре». Он – во всем профи. В отличие от меня. Молча прощаемся, я вхожу в здание аэропорта. Оно большое и пустое. Наверно, день такой. Ищу свой рейс. Стокгольм. 11.40. Прекрасно. Есть время выпить бокал мюнхенского пива. Обожаю их пшеничное нефильтрованное. Получаю билет, оформляюсь. Прохожу сквозь магнит. Прохожу пасс-контроль. Вопросов нет. Вхожу в зал ожидания. И сразу – к бару:
– Ein Weissbier, bitte.
Рослый и загорелый бармен наливает, ставит отстояться. Я присаживаюсь к стойке. Рядом – благообразный старик в шляпе с пером. Баварец. Закуриваю. Все прошло нормально. И рука не подвела. И «Глок-18» молодцом. И Грегори правильно ехал. Он классно чувствует меня. Шесть лет мы работаем вместе. И пока только два прокола: швейцарец и русские. Ничего. Бывает гораздо хуже. Пиво передо мной. Жадно – первый глоток сквозь пену. Отлично. Вкус этого пива не меняется. Такое же, как в 84-м. Тогда я, прыщавый, первый раз приехал из смирного Роттердама в Мюнхен. «Аякс» – «Бавария». 2:1. Битва титанов. Мне тогда чуть не сломали нос в «Хоффбройхаузе». Как идиоты, мы приперлись туда после матча попить пивка… До армии я был крутым болельщиком. А сейчас – все равно, кто у кого выигрывает. Сейчас – моя игра. Я бью мой пенальти. Время от времени. И пока – забиваю…
Старик просит у меня огня. Даю зажигалку. Он роняет ее на пол. Поднимаю, помогаю прикурить. Руки у него ходят ходуном. Седой голубоглазый ариец. Наверно, воевал и кричал «Зиг хайль!». Старики беспомощны как дети. Мне тоже это предстоит. У этого, наверно, большая семья. Будет что-нибудь когда-нибудь и у меня. Не все же в уши когяру кончать. Допиваю, иду в самолет. Вокруг – все в норме. В салоне довольно пустовато. Видимо, в понедельник в Швецию баварцы не рвутся. Шведское пиво никакое. Получу бабки, дерну там чешского «Праздроя». Пристегиваюсь. Вытягиваю из сетки впереди стоящего кресла кем-то уже читанный «Auto, Motor und Sport». Листаю. Интересно: немцы признали «Mini Cooper» лучшим автомобилем года. Никогда всерьез не относился к этой машине. Во-первых, она – дамская. Во-вторых, слабосильная. Как немцы после Второй мировой… Наш полковник говорил, что лучшие немцы в ХХ веке остались в земле… он прав, наверное… о лучших голландцах вообще лучше помолчать… я – лучший голландец. Летучий голландец… А, вот что: есть «Cooper S» – 165 сил. Не слабо. Это уже интересно. Так. ABS. DSC. EBS. ASC+T. Нормально. Биксеновые фары. Шесть подушек безопасности. Куда столько? Одну – для половых органов, что ли? Датчик парковки. Датчик дождя. Дождя… Значит, сразу включаются дворники… а дождь… дождь может литься… или ливень… как в Гоа… когда сети уже развесили… а девка с плейером уже пошла… пошла за дайкири и виляла попой… и скамейка из тика… мокрая… мокрая, дура пролила… пролила мой стакан…
Журнал валится у меня из рук. А сам я кренюсь вправо, в проход. Пол с зеленой ковровой дорожкой плывет перед глазами. Ноги и красные туфли стюардессы:
– Что с вами? Вам плохо?
Руки мои чугунные и неподвижные. Пытаюсь открыть рот. Вижу, как тянется моя слюна. И капает на красный туфель. Справа в ухо – старческий голос, по-немецки:
– Марк! Что с тобой? Господи, ему опять плохо. Я же говорил – лучше посидеть дома… Фройляйн, нам нужно на выход…
– Вы летите вместе?
– Да, да! У него опять обморок. Помогите мне…
Рука старика отстегивает меня. И она совсем не дрожит.Открываю глаза. Просторная комната. Окна зашторены. Высокий потолок. Я голый, распят на стене. Руки прикручены. Сталью и резиной. Ноги зафиксированы. Напротив сидят двое. Один из них – тот самый старик в баре. Другой – молодой, рослый. Перед ними – продолговатый металлический кофр. Что в нем – можно гадать. Бензопила? Влип. И сразу, похоже, влип серьезно. В голове – пустота и покой. Вспоминаю. Меня развели как лоха. Этот старый козел что-то подсыпал мне в пиво, когда я нагнулся за зажигалкой. Очень просто. Напрягаю мышцы. Пробую свои силы. Старик встает, подходит. Подходит совсем близко. Я вижу его лицо перед собой. Оно мужественно, морщинисто, с легким загаром. Темно-голубые глаза внимательно смотрят из-под наплывших век. Взгляд его ничего не выражает.
– Как ты, Хуго? – спрашивает он по-английски.
Опа! Знает мое настоящее имя. Для всех – Хуго ванн Баар погиб в Хорватии. И наспех похоронен под Вуковаром. Что он еще знает?
– Всё, – отвечает старик. – Мы все о тебе знаем. Что ты киллер. И только что убил в Вене человека. И летел в Стокгольм, чтобы получить деньги. 20 000 евро. Это твое настоящее. Мы знаем и прошлое. Знаем, например, что мальчиком ты ненавидел отчима и однажды насыпал сахару в бензобак его мотоцикла, чтобы тот разбился. Но отчим не разбился, а выпорол тебя мухобойкой. Мухобойкой из серого пластика. Знаем, что ты боялся ежей. Знаем, как звали твою первую девчонку. Элис. У вас с ней случилось все в лесу, у залива. Ты тогда слишком поспешил. В пятнадцать лет это бывает.
Старик замолчал. И отошел от меня. Кто они? Откуда они это знают? Мать? Она умерла от рака в 94-м. И она не знала про Элис. Про Элис… знали только я и Элис. Кто им рассказал? Элис? Она сто лет в Америке. А про отчима? Мать не могла рассказать. Кто они?
– Мы твои братья, Хуго, – заговорил старик. – Сейчас мы тебя разбудим. И ты станешь совсем другим. Твоя жизнь начнется заново. А чтобы тебе было легче пробуждаться, вспомни тот сон, что ты видел мальчиком на ферме Заелманов. Сон про синее яблоко. Про синее яблоко. Про си-не-е яблоко. Вспоминай, Хуго ван Баар.
И я тут же вспомнил. Этот сон! Я же забыл его навсегда. Навеки! Самый сильный сон. Который потряс меня. Мне было лет семь. Мать еще жила с отцом. И мы как-то поехали на ферму Заелманов. У них были коровы и овцы. И две собаки – Рекс и Виски. И двое детей – Мария и Ханс. С детьми и с собаками мы играли целый день. И я заигрался так, что налетел грудью на старую сеялку, ржавевшую в лопухах. Да так сильно, что чуть не потерял сознание от удара. Железная сеялка рассекла мне грудь до крови. Рассечение было неслабое, и Заелман повез нас с мамой в Ассен, чтобы там сделали правильную перевязку. В клинике меня положили на стол, сделали в грудь обезболивающий укол, зашили кожу и наложили повязку. А когда Заелман вез нас обратно, я задремал. И мне приснилось, что мы возвращаемся из клиники к Заелманам, едем на их старом красном джипе, и все так реально, ощутимо, как наяву, Заелман ведет машину, мама сидит сзади со мной, я положил голову ей на колени, ветер в окно, все запахи, машина тормозит, я поднимаю голову и вижу – и мама и Заелман спят, спят непробудно, я выхожу из машины, вижу дом Заелманов, вхожу и понимаю, что в доме все спят, и люди и собаки, а вне дома спят коровы и овцы, и вообще все вокруг меня – спят, спят, спят, стоит мертвая тишина, и я лишь один бодрствую, один могу ходить и смотреть, трогать все, я вхожу в гостиную, там в креслах спят Мария и Ханс, и вдруг я вижу на столе – синее яблоко, я подхожу, беру его и понимаю, что оно ледяное, очень холодное, но мне очень приятно держать его в руке, и я прикладываю его к груди, которая ноет и саднит, и становится так хорошо, свежо и просторно, что я начинаю рыдать от восторга, потому что бывает же так хорошо, так ужасно хорошо, и я понимаю, что пока синее яблоко со мной, мне будет хорошо, но также понимаю, что оно ледяное и тает, и когда растает, то больше никогда уже не будет хорошо, и я держу яблоко, но оно тает и капает, и с каждой каплей я теряю хорошее, теряю навсегда, и я рыдаю так, как никогда в жизни не рыдал, и просыпаюсь, потому что мама будит меня, чтобы я не обрыдался во сне, а я уже рыдаю, потому что этот чудесный сон уходит и больше его не будет НИКОГДА…
– Ну вот, вспомнил! – усмехнулся старик и кивнул рослому парню. – Приступай.
Парень открыл продолговатый кофр. В нем лежала заиндевелая палка с прикрученным куском льда. Ледяной молот. Я задергался изо всех сил, зарычал. Но крепления сдержали. Парень взял этот молот, подошел, размахнулся и изо всех сил ударил меня в грудь. Стало больно. И перехватило дыхание. И защемило в груди так, что я оцепенел. Он ударил еще и еще. И еще. Я потерял сознание. И очнулся от того, что мое сердце произнесло :
– Ноадуноп!Ми
Земля тайно вспотеет, когда ее попросишь, а то как. Она добрая, когда помолишься правильно, по-тихому. Попросишь сапом тайно: Маманя Сыра Земля, расступися. И поцалуешь, как сын, в Лик, в Грудь и в Плечи, в Лоно, где возсырие главное. И дождать надобно, посапеть в себя тайным сапом. Лбом упрись и домаливай: Маманя Сыра Земля, расступися ноне. И ето так вот и будет. И тогда она вспотеет и взбухнет по-мягкому. Так-то во. И как пот Земли проступит, проступит, проступит сродно и обредно, благодари: Маманя Сыра Земля, благодарю тебя ноне и вовеки за то, что ты была, есть и будешь. Во как надобно, а то как. И руки в нее вставляй по-тихому, не вспугни, не насильничай, не лукавь, не дави торопило, не пихай неторопь блядскую, поверховую. Мать Сыра Земля торопила блядского не уважает, а то как. И ето медленно верши, с покоем, и делай все правильно, хорошо. Чтобы тихий пот Земли не сошел, чтобы усошь не воротилась. Вставил руки, влегкую понатужился, упрись, чтобы стало хорошо. И первое раздвиго делай помалу, помалу, сиротко, как дитя без мамо. Как бы неумело, потно, робея, а то как. Чтобы не обиделась. Чтобы не срыгнула. Чтобы приняла и пожалела, а то как. Чтобы впустила тайно. Раздвиго первое верши до конца, до упора хорошего, верного. Чтобы ощутила твое естество пресное. Чтобы приняла возсырием. А как примет – тогда делай раздвиго второе, во как. Уже по-мощному, как взрослый, как махот. Чтобы силу оценила. Тогда впустит тебя, и ето все хорошо буде. И как махот сможешь жить в ней, как в доме, как в пазухе хорошей и большой, теплой, а то как. И лучше любого дома, потому как теплее и честнее так-то во. И поверхового здеся ничего не надобно и в помыслах. И покойно душе, и телу опора. И как раздвиго второе завершишь хорошо – ныряй в Землю и плыви махотом. Куда тебе надобно, туда и плыви, обмылком крохотным, сальным. Земля тебя своим салом нутряным слабко смажет, и плыви. Хочешь – вглубь, где токмо Земля. Хочешь – вповерх, где корневища да каменья, во как надобно. А хочешь – в пустые места, в обстатие лишнее. Когда я сподобился махотом в Землю уйтить от мира блядского, лживого, поверхового, я поперву глубь уважал и ето делал все как надобно, во как. В глуби от мира блядского салом Земли заслониться просто, убоисто. Глубь всего тебя заслонит и оборонит, накроет и обогреет, душу прочистит хорошо и тело укрепит так, что все и ето в покое навеки. В глуби все хорошо вершить – и сон, и молитву, и сальную механику. Но глубь не накормит – пищи телесной нет в ней, а то как. Поэтому в глуби долго пребывать не надобно, во как. Искать надобно нужное, твое. Тело пищи требует. А душа – молитвы. Матушка Сыра Земля дает пищу хорошую и хорошо питает. Но вповерх пища, под корневищами, под травою и деревьями сладкими и очень даже. И ето под блядским миром, поверховым. Отлежишься в глуби, наберешься покоя хорошего – и ползи махотом наверх правильно, а то как. Там коренья сладкие, там луковицы травяные, там твари живые, в Земле правильно обретающиеся. Я поперву любил кротов улавливать да кровь их сосать невторопь, во как. В кротовой крови сила на раздвиго Земли имеется правильная, как дело. Но ежели токмо ты их невторопь высосешь, по-тихому. Кроты кровью дела мощны. Ибо род их издавна в Земле плавает правильно, махотами малыми по путям. Я давил кротов по их норам, разрывал ходы. Тайные лежбища кротиные сокрушал хорошим напуском, в замок, в ужлебие. Чтобы сильным быть. Чтобы махотить Землю. Чтобы уметь в Земле быть правильным и хорошим. Червие доставал-вытягивал из-под пашен поверховых, блядей питающих, мокриц и улиток из-под прели лесной выковыривал, жуков улавливал, так-то во. Корни сладких трав тянул вниз, правильно, зубами тер. И ето луковицы жевал невторопь, правильно, молясь и благодарствуя за пищу хорошо. В травяных корнях сила и соки важныя, крутые, породистые, обтяжные. И ета сила на раздвиго и прорыво, на проплыво и прорубо в корнях трав имеется вона сколько и верно, а то как. Сила правильная. Корни с червями и кротами дружат, силу им свою отдают млеком и кровию волевой, а как же. Питают их плоть тайно, мамечинно, облупно. А я со всеми подружился крепко хорошо, кто плоть мою напитает по-тайному, круто и хлопко, кто кости рук укрепит, отделение даст от блядского поверхового мира, чтобы не нашли яркие гады. Все мне друзья, кто махотить помогают. Все мне враги, кто махотить мешают. По первом времени глубь Земли хорошая меня тянула неотступно, потребно. Я в глубь уныривал надолго, сопатился, упирался. Тайно сопатился, утробно. Раздвиго делал убохом. Там землица сильная, сальная, плотяная. За время первое я в глуби мощи набирал, насасывал носом, корабил, тянул сок Земли, крепил мощь духа и плоти натробно. Отлежался я в глубинах, за салом Матушки Земли отрычал, очистился от блядской плесени, от памяти ярких гадов. Навсегда проклял мир блядский, поверховый, а то как же. Понял суть Земли клобой, вечным потрием. Земли, что держит Небо и Звезды и Верхний Мир, и двуногих, и четвероногих, и шестиногих, и многоногих. И ето все правильно, как опора вечная, кубовая. Подпирает Матушка Земля и держит. Осознал возселицей и потрохом усвоил правила жизни в Матушке Земле хорошие, мощные, крепкобастые. Но понял не скоро, что надобно было не токмо вглубь опресную Земли нырять, но и о хорошем Тайном думать мощно, гробасто. Надобно было искать лежное укрывище. Обособленное. Отделенное от всего другого, мачижного. Ползал-плавал я сопатно под пашнями и под лесами. Махотил там, где рыхлее. И ето оплывал правильной стороною блядские города, каменные по-верховья, углыбища тайные, а то как. Крепил мощь плотскую червием, да кротом, броздко, невторопь. Разрыво и прорыво делал грозно, убоисто, со стоном правильным, сальным. Так вот ворочал камни подземные, разгребал корневища дельно, тягом, а не рывом. Испражнял из себя переваренные дары Земли с благодарностью, с молитвою тихою, нутряною. И махотил дальше, дальше, дальше, а то как. И ето не вглубь, а под корнями, вповерх. Сочно и просто, по-сальному. А то и слышал шум блядского мира, поганого, яркого. И там шаги двуногих гадов полварских теребили и беспокоили дух мой, утробили. Буравили тело мое их голоса, кропоты и стуки. А и страх и гной душевный выл и шел сверху, тек убоисто от блядских городов поверховых, шел донно широким веером погибели, а то как. И там извивались двуногие натужно, опасно и ярко. Вершили лживые миры макранные, долбинные, сомнительные. Напрягались во зле яркие блядские гады и искушали себе подобных неустанно и сочно во лжи. Сотрясали борно и строили просно, крушили смрадно и поглощали жадно. Сосали силу друг друга поколенно, отрывно, с лютой беспощадностью, второпях, а то как. И блядская дрожь шла от прорывных городов, и тело мое нерудно трепетало под корневищами, а то как. Чуял я хорошо, стадно массы двуногих яркоблядские, как копытят они своими погаными ногами Лик Матушки Земли Сырой, во как. Как мучают ее разбежно, терзают обрыдно, долбят и сотрясают тайно и явно. Как воют от ярости блядского нутра. Как строят надсадно блядский мир поверховый. Огибал я города. Оплывал поселки. Прокладывал пути вкруг блядских множеств. Махотил по-мелкому, под корневищами. Просил и молил слезно Матушку Сырую Землю о податливости. И расступалась она, потея тайно, для меня, для одного, для любимого, для тихого. Пропускала меня и скрозь топи подземные и меж каменьев. Руки мои окрепли от прорыво. Мощь руки обрели вечную, проставую. И не было им ни преграды, ни препятствия. Трещали корни дубов, сходили каменья со своих мест, рушились рудники, двигалась Земля отпуском, тягом. Помогала мне Матушка Сырая обрести уединенное, найти тайное место для покоя и молитвы, а то как. Потела и расступалась плоть ее, пропуская меня, беспрепятственного, меня устремленного, меня куропатого. Чуял я благодатную плоть Матушки Сырой Земли. Слизывал тайный подземный пот ее языком дрожащим, плакал от истомы сокрушения препятствий, кропалил и морбатил, салом подземным обтирался. Утробным стоном благодарил ее за податливость, выл в нее от радости сопричастия. Втягивал носом. Ревел утробою без блядских слов. Верил я Земле Сырой. Любил ее сильнее себя. Надеялся на нее грозно. Раздвиго правил опредно, боргатил. Напарывался на подземелья блядских, поверховых. Гд е живут они или вершат свои дела тайные, страшные естеству тихому, уединенному. Огибал те подземелья, сторонился, сворачивал. Махотил по Земле дальше и дальше. Плыл глыбко и мелко. Вмахотился в место, где блядские хоронят тела умерших своих. Раздвиго делал, махотил промеж лежащих в Плоти Земли. Блядским разложением дышали тела их. Гниение и смрад исходили от них, блядский гной сочился. А Земля все терпела, все глотала смиренно, пролежно, а то как. Страх гнул меня от трогания блядских останков. Блядская жизнь поверховая спала в телах этих, борботила и хворачила, напоминала об ужасе блядских дел и творений поверховых. Воем выл я, целовал комья родные, втирался глубже, салился оберегно и сопатил морхватно. Искал я свое. Напарывался на подземные углубия блядские, где творили они тайное обро. Где создавали и борботили то, чем убивали друг друга. Страх и трепет мурмозил меня, понуждал салиться и потеть, а то как. Токмо салом Земли Матушки обтирался я, оберего делал, во как. Блядские ямы болью дышали, урхотили, хотели. Но обмахотивал я хотение блядское, плыл к своему, хорошему. Плыл и плыл по Земле. И пробуровил опресно путь правильный. И вышел в пределы пустые, огромные. Там бляди поверховые вынимали из Матушки Земли нужное себе. Долго дробили они и внедрялись, долго отнимали и запренили, долго терзали Матушку второпь, по-блядскому. Повынули обложие Матушкино, повысосали потрох нажитой, поделали все по-блядскому, мречно. И ушли, пустоты оставив. Вошел я в те пустоты Матушки, распрямился, а то как. Понял, что надобно и чего не надобно. И нашел себе место тайное, нажитое. Основал укрывище тихое. Те пустоты, блядями повысосанные, я наполню молитвою Матушке Сырой Земле, а то как. Мне в пустотах легче Великую молитву творить, а в телесах земных – Малую, во как. Потому как ежели Великую творить – надобно от Земли отделяться, а Малую можно стерно и отропно творить сопаткой, напрямок. Не махотил я в пустотах, а токмо молился и упирался малоподвижно, громоздко. Знал, что вершу. Понимал возселие, понимал и курбатие. Свивался кольцом махотным, дабы телом Землю чуять и трогать, дабы молиться всем своим мясом, оржавно, а то как. Принимал Землю до конца. И был счастлив нутряно и махотно. И так бы жить вечно, до самого предела Сырого, но расступилась Земля. Проникли верхние бляди. Рушат покой. Слепят светом поверховым. Ловят сетью. Вяжут и тащат, сокрабко, яростно. Борюсь с ними, борюсь руками мощными, силу от махотия набравшими. Калечу блядей и рву сети. Но пеленают блядским железом. Снуют настойчиво, слипко. Наваливаются плотно. Рвусь и реву. Молюсь Матушке Сырой Земле. Но нет помощи – оторвали от подземного сала, отняли от нутра, от возсырия. Растягивают жестоким железом, дабы не шевелился. Обездвижили хитро, по-блядски. Говорят промеж себя на языке блядском, мне уже непонятном. Сотрясают пределы Земли мерзкими звуками. Обстоят лукавою силой, а то как. Готовят хитрое, страшное, непонятное. Молюсь и напрягаюсь. Вынимают из короба стального, блядскоделанного, молот с ледяной плюхой. Бьют плюхой ледяной мне в грудь оттяжно и хлопко. Бьют сильно и пробно. Бьют сречно и порватно. Бьют грузно и убойно. И говорит им мое сердце:
– Ми!
Рикуош
Прыгать хорошо… лучше всего на свете… прыгаешь и все забыла… через лавку прыгнула и забыла… и нет больше лавки… арара… через канаву прыгнула и нет больше канавы… через ногу эрики прыгнула и эрика потом уехала в мастонд и вышла замуж за автомеханика… через кролика прыгнула и его анна приготовила в белом вине… прыг прыг прыг… пинк хиллс пинк хиллс арара… кавадратный человек торчит в баре с утра… и идет идет по миру кавадратный человек… через кавадратного человека трудно прыгать… потому что он пьет только бурбон… прыгать и прыгать и прыгать арара… я великая прыгунья всех стран и континентов… когда родилась был смерч в пинк хиллс… я бы перепрыгнула через смерч… но он был не у нас а в терриаква и мастонде… арара… а у нас был только ветер и погнуло водосток и собачью будку шмякнуло о сарай… прыг прыг прыг пинк хиллс… а мастонду досталось… прыгать очень хорошо и очень полезно для здоровья… когда прыгаешь летишь и забываешь… ара-ра… а когда приземляешься то стоишь и вспоминаешь через кого ты перепрыгнула… через пинк хиллс я завтра прыгну… а через кавадратного человека из бара не буду… и идет идет по миру кавадратный человек… эрика норма джозеф арара… а кто еще… собака фидель он любит сырые кости… когда он грызет кость я прыгаю через него… ой как разбегаться хорошо… ветер вползает в платье… хорошо лететь и лететь… летишь когда и себя любишь… и арара… пинк хиллс не разрушило… кейт уговаривала маму поехать в город… арара и арара… сэм хван кореец разводил цыплят для фрайд чикен… я перепрыгнула через него… когда летишь то шею хорошо закинуть и ара-ра… чтобы хрустела шея… и хорошо пердеть когда летишь… а когда приземляешься пердеть не нужно никто не поймет зачем… и сморкаться можно когда прыгаешь… и чихать… и арара… а можно одновременно пердеть, сморкаться и чихать и потеть… но опаснее всего чихать потому что надо закрыть глаза и арара… а с закрытыми глазами я никогда не прыгаю… потому что неинтересно… и идет идет по миру кавадратный человек… арара и арара… это моя любимая песня про кавадратного человека из бара… прыгать дальше и больше и мотать головой и арара… попробовать каждый раз не сломается… фидель любил вытаскивать носовые платки из карманов и арара… прыжок бывает разный… я великая прыгунья всех стран и континентов… арара… лошади лучше собак… а собаки лучше кошек… через собак хорошо прыгать… они же тебя не видят… над собакой летишь и свистишь и арара… фидель фидель фидель… а он тебя не видит… и смотрит по сторонам… прыг прыг прыг… пинк хиллс пинк хиллс… и арара… я пауков не люблю… через паука прыгать страшно… но необходимо… над пауком очень долго летишь… летишь летишь и арара… а над змеей летишь быстро… потому что змеи лучше пауков… а крысы лучше змей… через крысу летишь быстро… ара-ра… а она нюхает и не понимает где ты… а прыгать через кошек еще лучше… кошка тоже не понимает где ты… но когда перепрыгнешь через кошку она все поймет… и ара-ра… а собака никогда не поймет что через нее перепрыгнули… через пинк хиллс я перепрыгнула сегодня… и надо прыгать дальше… дальше… через шоссе к заливу… там где корабли… и мыс с памятником погибшим кораблям… там арара и арара… через камни хорошо прыгать потому что они молчат… трудно прыгать через бензозаправку где работает эрика с бигудями… там просто ара-ра… когда через бензозаправку прыгаю пахнет не бензином а говном… это говно не эрики а ее мужа стивена… через ферму коллинзов прыгнуть и забыть… через поилку для коров… и через трактор перепрыгнуть и забыть… и арара и арара… а главное перепрыгнуть через дурацких джона и сигурда… перепрыгнула и забыла… и арара… приземлилась и вспомнила… прыгать хорошо с разбега… правильный разбег чтобы не увидел кавадратный человек… все идет идет по миру кавадратный человек… через школу я перепрыгнула и кричала и плевала… там арара… школа плохое место… там прыгают только на уроках физкультуры… и плохо прыгают потому что не любят прыгать и не понимают… они не понимают что прыгать это очень здорово… это же арара… я прыгала через учителей… я прыгала через учеников… и через парту прыгала левую сбоку… я прыгала через математику и физику… прыгала через рисование… арара… я прыгала через 186… а через пение не прыгала потому что пение как ветер… а через ветер прыгнуть нельзя… я великая прыгунья всех стран и континентов… арара… я перепрыгнула через кавадратного человека и больше не боюсь его… если я через что перепрыгну я больше этого не боюсь… прыгать хорошо и сразу без разбега… тогда арара… надо держать в себе воздух чтобы он не порвал грудь… держишь держишь воздух пока летишь… приземлишься и арара… выпустишь воздух из себя а он уже пахнет по другому… он уже арара… он уже послепрыжковый и никому не нужен… скорее выдыхай послепрыжковый воздух и разбегайся разбегайся разбегайся… чтобы арара… надо всегда выбрать правильно и быстро через кого прыгать… вот сейчас я арара… и прыгаю через прачечную и там всегда арара… и внутри тепло и мокро… а я приземляюсь и потею как арара… я люблю потеть как арара… но не когда лечу а когда приземляюсь… а зевать я люблю когда лечу и глотаю ветер и арара… кавадратный человек после того как я через него перепрыгнула стал маленьким как кавадрат в туалете на полу… от этого арара… а от зеленого кавадрата пахнет бурбоном стошнилым… а я прыгаю через 45 % на стекле супермаркета… и арара… я перепрыгнула 45 %… и уже ничем не пахнет и зевать не хочется… когда что-то перепрыгиваешь все сразу начинает пахнуть арара… и собой… или не собой а другим… когда я прыгаю через фонарный столб он пахнет чизбургером… а когда прыгаю через макдональдс в мастонде он пахнет мотоциклом мартина… а через арара мотоцикл мартина я еще не прыгала… зато я прыгала через спиртовой завод в терриакве… и там пахло арара… и травой слюной и стульями из бара… и я пердела много над заводом и хохотала… и теперь я разбегаюсь разбегаюсь разбегаюсь… и арара… и прыгаю через железнодорожную станцию… и пахнет замком от сарая и бабушкой которая давно лежит в земле возле старой каменной ограды… я великая прыгунья всех стран и континентов… я арара… прыгаю и прыгаю… но не всегда можно прыгать… надо ждать пока поешь… потому что прыгать с едой трудно… еда она сама арара… она хочет прыгать через тарелку в рот и в кишки а через кишки прыгает какашкой в туалет… а в туалете арара… это только кавадратный человек уже не прыгает и никогда не прыгнет в туалет… потому что кавадраты арара… они не прыгают а спят и смотрят… я прыгнула в город арара… я тут не была никогда… город похож на бар в мастонде… и на арара… через людей в городе прыгать просто… они все вместе и неподвижные как арара… разбегаться не надо и примериваться… я великая прыгунья всех стран и континентов… прыгаю арара через машины… пахнут они людьми… потом людей и словами… машины быстрые но я же арара… и прыгать умею через быстрое… если я через мотоцикл мартина прыгала я и через машины могу… нюхать люблю в полете то что подо мной… арара арара… плевать вниз и кричать хорошо… когда прыгаешь ничего не страшно… прыгать надо далеко и высоко… тогда будет счастье всем… прыгаю через киоск газетный… прыгаю через окурок… прыгаю через говно собачье… прыгаю через кинотеатр со шреком-2… прыгаю через трамвай… прыгаю арара… через банкомат… прыгаю через кафе… и вдруг женщина в голубом говорит мне прыгни через меня софи… я останавливаюсь… вы меня знаете арара… она говорит тебе все знают ты же великая прыгунья всех стран и континентов… прыгни прыгни через меня… и она наклоняется… как в школе… я разбегаюсь прыгаю арара… и ладошки прилипают к ее спине… а потом арара и мне что-то делают… и я уже не могу больше прыгать… я могу только быть в подвале на стене… и звать маму… а потом арара… мне бьют в грудь чем-то холодным… и арара я слышу как сердце говорит :
– Рикуош.
Программа «Преображение»
14.57. Гуанчжоу. Офис корпорации «LЁD»
Огромный бело-голубой кабинет директора корпорации. За столом, откинувшись в кресле светло-синей кожи, сидел худощавый лысоватый Рим. Сухощавое загорелое лицо его было неподвижно. Сине-зеленые глаза неотрывно смотрели на кусок Льда, парящий в стеклянной сфере под потолком – все, что осталось от упавшей на Землю Глыбы. Рим ждал, сдерживая дыхание. Сердце его готовилось.
Минули три долгие минуты.
Дверь из бронированного молочного стекла бесшумно раздвинулась. В кабинет вошли Шуа, Уф, Атрии и Сцэфог. Рим встал, стряхнул оцепенение, двинулся к ним навстречу. Вошедшие братья остановились в двух шагах от Рим: они берегли сердца. Рим понимал это. Надо было беречь энергию сердец и не растрачивать ее на братские приветствия. Рим замер. Перед ним стояли четверо Мощных. Каждый из них отвечал за братьев в своей части Земли. Каждый был Щитом своего континента. Шуа, бывший хранитель Арсенала, теперь, после смерти Допоб, прикрывал братьев и сестер Америки, Уф – России, Атрии – Европы, Сцэфог – Австралии и Океании.
Вошедшие братья поняли, что все готово.
Рим подошел к лифту, нажал кнопку. Все вошли в лифт. Он двинулся наверх. Там, под самой крышей серебристо-голубого небоскреба, братьев ждал тайный зал. В который еще никто из них не входил.
Лифт остановился. Дверь открылась. Братья вошли в небольшой сводчатый зал, отделанный сиреневым мрамором. Посередине зала возвышался круглый стол из небесно-синего лазурита. В центре стола сиял золотом небольшой круг.
Братья молча сели за стол.
Несколько минут они сидели, готовя сердца. Затем Шуа заговорил:
– Вы ведаете, что Братство обрело трех последних. Поиск завершен.
Легкий трепет прошел по сидящим. Конечно, они ведали. Но держали себя, не давая радости вывести сердца из равновесия.
– Настало время Последнего Подвига. Мы должны решить все. И устранить то, что мешает.
– Мешает только мясо, – произнес Уф. – Оно клубится, чуя свою гибель.
– Братство должно защитить себя, – отозвался Рим. – Мы сможем.
– Мы сможем ! – произнесли все.
– Мясо рассчитывает на трещину, – заговорил Атрии. – Сдвинем Щиты!
– Сдвинем Щиты! – произнесли все и подтвердили мощью сердечной.
– Корабли покинули стоянки, – проговорил Сцэфог. – Они будут в пути шесть суток.
– За это время последние новообретенные очистятся плачем, – заключил Шуа.
– Восемнадцать слабых, – произнес Уф. – Я ведаю.
– Их может стать больше, – поправил Шуа. – Мясо каждого станет противиться. Но нужно отсечь страх.
– Из слабых четверо мерцают, – продолжал Уф. – Они могут уйти. Тогда придется ждать, пока они воплотятся.
– Нужна поддержка Мощных, – произнес Атрии. – С нами нет Храм и Горн, они на Острове.
– Их сердца устали, – заключил Уф.
– Они многое отдали Последнему Поиску, – ответил Шуа.
– Они поддержат как могут, – произнес Рим.
– Нужен Круг Мощных, – заключил Сцэфог.
– Нужен Круг Мощных! – произнесли все.
Сердца их заговорили. Им отозвались сотни Мощных по всей Земле. Сердца Храм и Горн тоже отозвались.
Прошло 44 минуты.
Круг Мощных просиял : ГОТОВЫ!
Дальние сердца погасли.
Когда сидящие за столом успокоились, Рим произнес:
– Пора!
Все пятеро сняли со своих шей тонкие золотые цепочки. На каждой цепочке висел маленький золотой стержень. Каждый взял свой стержень. Пять рук со стержнями протянулись к золотому кругу в центре стола. В кругу виднелись пять еле заметных отверстий. Руки братьев вставили стержни в отверстия, замерли.
В зале зазвучал прерывистый сигнал:
1, 2, 3, 4, 5.
Братья надавили на стержни. Стержни погрузились в круг. Круг стал плавно выдвигаться из стола. Золотой цилиндр поднялся над столом. Остановился. Над ним вспыхнула голограмма, эмблема корпорации «LЁD»: светящееся сердце в окружении двух ледяных молотов. Ледяные молоты исчезли, осталось лишь сияющее сердце. Женский голос произнес:
– Программа «Поиск» завершена. Программа «Преображение» запущена.
Сидящие за столом вскрикнули. Руки их сцепились. Сердца вспыхнули. Каждый из пяти знал, что такое программа «Преображение». Все они принимали участие в ее разработке, каждый ведал в ней своим, каждый вложил в нее свой свет и земной ум. Все ждали ее, шли к ней, жаждали и терпели сердцем. Все старались дожить до нее. Но сейчас каждый просто почувствовал ее сердцем. Сердца Рим, Шуа, Уф, Атрии и Сцэфог почувствовали сигнал, пошедший из серебристо-голубого небоскреба по всем направлениям планеты Земля:
– Преображение!
Каждый из 23 000 должен принять этот сигнал. Он должен дойти, достать каждого брата, каждую сестру. Должен коснуться их всех. В тысячах мобильных телефонах проступает слово «Преображение» на десятках языках, тысячи факсов печатают на бумаге это слово, на тысячах мониторах вспыхивает оно, молодые губы братьев прошепчут его беспомощным старикам и грудным младенцам, чьи сердца уже готовы :
– Преображение!
Десять рук сцеплены воедино, пять сердец пылают Радостью Предвкушения Главного События Братства. Сияет сердце над золотым цилиндром. Летит сигнал во все стороны Земли:
– Преображение!
А за сотни километров отсюда, в Доме на Острове медленно приоткрылись глаза Храм и Горн: уставшие сердца их возрадовались своей, тихой радостью…
Ключ
Утром в среду, вырезая 121-й ремешок, Ольга поранила себе палец, и бригадир Хорст перевел ее к старикам. Усевшись за стол в углу цеха, она стала сортировать вырезанные ремешки, складывая их в пластиковые коробки. Рядом с Ольгой сидела пожилая румынка, не говорящая по-английски; напротив – седой, трясущийся исландец, а рядом с ним – тот самый немец, Эрнст Вольф. С ним Ольга несколько раз обедала и ужинала, он был ей интересен. Когда Ольга с забинтованным пальцем оказалась в «стариковском» углу, Вольф улыбнулся ей и подмигнул как старой приятельнице. За месяц, как ей показалось, лицо его еще больше пожелтело и высохло, но держался он неизменно бодро, во всем оставаясь хладнокровным и рассудительным. Он постоянно шутил с ней на своем старомодном, выученном в заключении английском. Ольге чем-то нравился этот старик, хотя она, как и покойные родители, недолюбливала немцев. Но от Вольфа шел какой-то завораживающий покой. Его невозмутимость и обстоятельность успокаивали Ольгу, заражали ее уверенностью, которой так не хватало здесь, в бункере. За едой Вольф много порассказал ей. Она знала все о нем и почти все о Братстве Света. И самым удивительным для Ольги было то, что Вольф верил в миссию Братства, верил в 23 000, верил, что, собравшись однажды вместе, братья Света поставят точку в истории Земли и человечества. Сперва Ольга злобно смеялась над стариком, потом спорила до хрипоты. А потом – всерьез задумалась.
– Вы не понимаете, дорогая моя, насколько наша планета уникальна, – говорил ей Вольф. – Поверьте, во Вселенной нет и не было ничего подобного. Все рассуждения о братьях по разуму, о новых формах жизни на других планетах – чушь собачья. На миллиарде миллиардов планет нет и не может быть никакой жизни. Земля одна во Вселенной, она уникум. А Homo sapiens – уникум вдвойне, втройне. А если это так, то Землю надо рассматривать как аномалию, как странную планету, как лакуну в теле Вселенной.
– А может – как чудо? – возражала Ольга.
– Чудо, Ольга, это и есть аномалия. А любая аномалия во Вселенной – нарушение равновесия, разрушение порядка. Прямую можно провести через две точки, через три, через 33. А через одну точку прямую проводить нет смысла. Потому что одна точка – это всего лишь точка. Это не путь. Это не закономерность. Поэтому мы с вами, как и вся наша планета, – ошибка Вселенной. И у нас нет будущего.
– Значит, вы хотите, чтобы Земля исчезла?
– Я не против, учитывая мой возраст и мое нынешнее положение.
– И вы на стороне Братства?
– О нет, Ольга. Я не на стороне Братства.
– Почему же? Ведь, по-вашему, они стремятся исправить ошибку Вселенной.
– И они очень постараются это сделать, поверьте. Но я не на их стороне.
– Почему?
– Потому что я не умею говорить сердцем. Это во-первых. А во-вторых, они мне физиологически противны. В общем… – улыбнулся он, – считайте, что старик Вольф им просто завидует!
После этого разговора Ольга и задумалась всерьез. Лежа ночью на своей койке, она размышляла под тихое журчание кондиционера и под сопение и храп женщин:
«А вдруг это правда? Что мы вообще знаем о нашем мире? Что Земля круглая? Что после зимы обязательно наступит весна? Что человек произошел от обезьяны? Что мы умнее животных? В школе и университете мне говорили, что Вселенная бесконечна, что все произошло от Большого взрыва, от вспышки… Что-то вспыхнуло – и образовались звезды, планеты. Все верят в это. А что было до? Пустота? Почему? А кто создал Пустоту? Откуда она? Сама собой появилась? Люди верят в то, о чем лишь могут договориться… Тысячу лет назад они верили, что Земля – центр Вселенной. А еще раньше – что Земля стоит на четырех слонах… Если это Братство верит в то, что́ они хотят сделать, если они тратят на это огромные деньги, совершают преступления, похищают и убивают людей, если такая мощная корпорация всерьез занимается этим – значит, очень может быть, что все это – не бред убогих сектантов, а чистая правда. И люди действительно делятся на избранных, способных говорить сердцем, и остальной мусор. А эти избранные когда-нибудь станут лучами света, и Земля исчезнет. И мы все погибнем, как дураки…»
Ольга пыталась делиться своими мыслями с соседями по проклятому бункеру. Бьорн слушал ее внимательно, потом в свойственной ему занудливой манере опровергал опасения Ольги относительно гибели Земли. Он был уверен, что похищение людей, игры со Льдом и все сопутствующее этому – лишь вершина айсберга корпорации «LЁD», возглавляемой мощной группой интернациональных преступников, рвущихся к власти в Китае. Бьорн утверждал, что «LЁD» занимается секретными опытами, связанными с генной инженерией. Цель этих опытов – создание новой расы, стоящей на принципиально новых моральных принципах, элиты, способной возглавить такую мощную страну, как Китай, и добиться мирового господства.
– Китаю при его технологическом рывке для мирового господства не хватает только одного – новой идеологии, – убежденно говорил Бьорн, – новой не только для Китая, но и для человечества в целом.
Ольга слушала этого двухметрового выпускника физико-математического факультета, выросшего в семье шведских математиков, боготворившего теоретическую физику, хранящего дома портреты Бора, Гейзенберга и Эйнштейна, доверяющего только формулам и технологиям, мечтающего о карьере большого ученого, но по воле не зависящего от формул случая оказавшегося здесь, в бункере, где его заставили обдирать дохлых собак, и… не верила ему. Бьорн был слишком прямолинеен в своей логике, он рассуждал слишком правильно. В то время как все произошедшее с ним как бы не имело логики, было неправильным, ускользающим от логического анализа.
Но Бьорн упорно стоял на своем.
Любые рассуждения о Братстве Света он отметал сразу, не давая Ольге даже закончить свою мысль.
– Ольга, я с детства верил только в то, что подчиняется законам физики. Свет – это направленный поток фотонов. Написать формулу?
Ольга уставала от споров с ним. Ей казалось, что она натыкается на стену, которую ничем невозможно сдвинуть хотя бы на сантиметр.
– Меня учили верить только в то, что можно потрогать или осмыслить логически. То, что я не понимаю, – для меня не существует! – говорил он.
Его родители были убежденными атеистами, левонастроенной шведской научной элитой. В бурном 68-м отец примкнул к шведским маоистам, ходил в университет на лекции в желтой повязке с иероглифом «самокритика» и красной книжечкой Великого Кормчего.
Покойные родители Ольги тоже были атеистами. Они тоже учили Ольгу верить в то, что можно понять и потрогать.
– То, что не участвует в процессе товарообмена, просто не существует, – любил повторял профессор, читающий Ольге в университете курс макроэкономики.
Ольга никогда не верила ни в Бога, ни во что-то сверхъестественное. Но как еврейка она верила в судьбу. Хотя и с судьбой было не так все просто.
– Судьба ведет по-своему, – говорила мать. – Надо чувствовать свою судьбу, верить в нее, не спугнуть ее.
Отец тоже что-то бормотал по поводу «силы рока». Но в целом вопрос оставался темным.
«Те миллионы евреев, что погибли в концлагерях, тоже верили в судьбу, верили в Бога, – думала Ольга. – Ну и что? Судьба отвернулась от них, Бог не помог. Значит, надо верить только в свои силы и надеяться только на себя».
Теперь же, став жертвой непонятного Братства, потеряв родителей и оказавшись в зловещем бункере, Ольга потеряла веру в себя. За два последних месяца она поняла: есть что-то, что больше ее, сильнее ее воли.
Но – что? Судьба?
Бьорн не помог Ольге ответить на этот вопрос.
Старик Вольф с полуулыбкой говорил страшные вещи, в которые не хотелось верить. От спокойных рассуждений Вольфа веяло неизбежной смертью и небытием. Ольга пыталась обсуждать все это с другими обитателями бункера. Лиз, иногда дарящая Ольге ласки по ночам, была уверена, что люди, похитившие ее и нанесшие ей увечье ледяным молотом, и люди, держащие ее теперь в бункере, не связаны друг с другом. Просто пресловутый Майкл Лэрд, заманивший всех сюда, в Гуанчжоу, использовал информацию из полицейских источников и организовал сайт для пострадавших от неведомой секты, чтобы продать их всех в рабство.
– Но кому понадобились ремешки из шкур мертвых собак? – возражала Ольга.
– Рыбка, в сегодняшнем мире все продается, – отвечала Лиз. – Уверена, китайцы используют эти ремешки в медицинских целях. И продают задорого состоятельным европейцам.
– Но почему нельзя открыто обдирать дохлятину? В Китае уйма дешевой рабочей силы! Похищать иностранцев, чтобы потом содержать, кормить, прятать – и заставлять их обдирать собак! Бред! – негодовала Ольга.
– Ольга, очень может быть, что эти собаки – не совсем простые… – многозначительно говорила Лиз.
– Они что – говорящие? – язвила Ольга.
– Многие из наших уверены, что собаки чем-то заражены. Или облучены.
– Лиз, некоторые люди здесь сидят более года. Почему они ничем не заболели?
– Может, у нас у всех уже лейкемия. Вот у двух румынок потемнели зубы. У многих проблемы с менструацией, с пищеварением… Мужчины потихоньку сходят с ума…
– Это все от изоляции! От нехватки витаминов! У лейкемии вполне определенные симптомы.
– Эти собаки не простые, поверь, – настаивала Лиз.
Ольга чувствовала, что Лиз утягивает ее в свой бред. Но другие «друзья дохлых сук» были не лучше. В своих мнениях по поводу происходящего они разделились на три группы. Первые утверждали, что все это – безумие мощной корпорации, в поисках власти над людьми пытающейся объединить древние культы с новейшими технологиями, вторые – что это каким-то образом связано с запрещенными опытами по клонированию людей, и третьи – что на обитателях бункера испытывают новое психотронное оружие. Особняком стояли русские, как всегда, «абсолютно точно знающие все».
– Это просто у кого-то из олигархов поехала крыша, – говорил Ольге грубоватый Петр. – Насмотрелся кино, начитался хуйни. В мире достаточно отморозков; включи MTV – каких там только уродов не показывают! Но отморозков с деньгами не так уж и много: ну, Бен Ладен, а кто еще?! Вот еще один и возник. И я тебе, Оль, руку на отсечение дам – этот отморозок наш, русский! Сто пудов! Он оттягивается в свой кайф! И все! И никаких тут тайн нет! А может – группа отморозков!
– Обнюхались гады, вот и тащатся… – вторил ему Леша.
– Потом, Китай рядом, договориться легко, – качал головой малоразговорчивый Игорь.
– Но корпорация «LЁD» не принадлежит русским, – возражала Ольга.
– Всё покупается! – тряс рыжей шевелюрой Петр. – Все вывески, все бренды!
– Мир давно уже сошел с ума, ты не понимаешь? – спрашивал Борис.
Ольга понимала это. 11 сентября у себя в Нохо, в Нью-Йорке ей действительно показалось, что мир сошел с ума. Во время катастрофы она стояла у своего южного окна и смотрела, как горят башни-близнецы. Когда же они рухнули и Манхэттен заволокло беспросветной тучей дыма и бетонной пыли, земля слегка качнулась под ногами. И вместе с ней качнулась уверенность в том, что есть в жизни нечто неподвижное, незыблемое, постоянное, позитивное, на что люди раньше всегда спокойно опирались, – семья, карьера, любовь, дети, творчество, деньги, наконец. На всем этом веками стояли люди. Теперь же все как-то трескалось, рушилось, ползло под ногами. Погибли родители. Но и этого мало. Еще этот бункер с дохлыми собаками! Кошмарный фильм какой-то…
Глядя в бодро-злобное лицо Петра, увлеченно рассказывающего ей про «международных отморозков», Ольга едва сдерживала слезы: ужас был в том, что это вполне могло быть! После 11 сентября, после ударов ледяного молота в грудь, после гибели родных, после сайта , после похищения, после бункера, после запаха дохлятины и тысяч вырезанных собачьих ремешков – все, все, все могло быть!
– Мир резко изменился, Ольга, – как-то за обедом сказал ей Вольф. – В нем появилось нечто агоническое, вам не кажется?
– Вы думаете, что это… из-за Братства?
– Абсолютно, – улыбался старик. – Предчувствуя свою гибель, наш мир производит неадекватные движения. Он дергается. В XIX веке такого не было. А двадцатый век? Две мировые войны, атомная бомба, Аушвиц, коммунизм, разделение мира на красный и западный… Человечество как-то задергалось в двадцатом веке, а? Возьмите любую область, науку, искусство: клонирование овечки, современное искусство, кино, современная массовая музыка – это конвульсии. Перед приближающейся кончиной мир сходит с ума.
– Откуда вы здесь знаете… современную массовую музыку?
– Сверху, Ольга, все сверху! – шире растянул желтую улыбку старик. – Каждый, кто сюда попадает, сообщает что-то новенькое. У меня вполне адекватная картина мира. Тенденция человечества к помешательству очевидна. Завтра сюда попадет голубоглазый юноша с разбитой грудиной, который поведает нам, что наверху уже едят на завтрак грудных младенцев, а президентов выбирают по размеру члена. И я не удивлюсь. Новые нравы, мисс Дробот, в преддверии конца!
Наполнив пластиковую коробку ремешками, Ольга запечатала ее клейкой лентой, поставила на тележку, подняла глаза и встретилась взглядом с Вольфом. Улыбнувшись, он подмигнул ей, словно прочитал ее мысли.
– Вы чем-то озабочены, мисс Дробот? – спросил старик, расправляя ремешок на столе своей чуть подрагивающей, пожелтевшей рукой в прозрачной резиновой перчатке.
– Вы знаете – чем.
– Бросьте ломать голову. Все будет, как и должно быть. Потерпите немного – и все закончится. А чем – вы знаете. Терпение, дитя мое.
Спокойно-насмешливый тон старика уже стал раздражать Ольгу.
– «Терпению нас учат мудрецы, седые, престарелые отцы; легко терпеть тому, кому осталось совсем немного, чтоб отдать концы!» – продекламировала она.
Вольф рассмеялся:
– Прекрасно! Кто это?
– Это папина пародия на Омара Хайяма. Мой отец был переводчиком арабской поэзии.
– Полностью согласен с вашим покойным папой. – Вольф неспешно опустил ремешок в коробку. – Осталось действительно совсем немного… Но терпение, Ольга, это то, что делает нас разумными людьми. Вы можете перестать быть разумным человеком и кинуться на охранников. Или зарезать меня ножом для обдирания наших милых собачек. Или просто вспороть себе сонную артерию во-о-он теми ножницами. Выбор между здравомыслием и безумием есть всегда.
– По-вашему, самоубийство – безумие?
– Не то что безумие, а запретный ход. Ну, как в шахматах, взять и пойти королем за край доски. Король должен играть на доске. А человек должен жить.
– А если невыносимо жить?
– Жить в любом случае невыносимо. А поэтому – нужно!
– А если – бессмысленная жизнь?
– Жизнь во многом бессмысленна.
– А болезнь… боль, страдание? Рак, например?
– У вас рак, мисс Дробот?
– Нет пока! – ответила Ольга и горько усмехнулась.
– А у меня – да. Поздравьте! – улыбался старик.
Ольга молча уставилась на него.
– Вчера. На медосмотре. Рак печени, как и ожидалось, – кивнул головой старик.
Вчера в бункере был обязательный ежемесячный медосмотр, цель которого – выявление серьезно больных. Как правило, судьба их решалась быстро – через несколько дней их навсегда уводили охранники. На бункеровском жаргоне это называлось «вознесением». Ольга была свидетельницей трех таких «вознесений» – забрали сошедшего с ума ирландца, вскрывшую себе вены венгерку и канадца с тяжелой формой астмы.
– Собственно, мисс Дробот, я подозревал, что так и случится, – продолжал Вольф, невозмутимо расправляя очередной ремешок. – Полвека тому назад мой папаша промахнулся и стукнул меня ледяным молотом по верхнему отделу печени. Признаться, сильно стукнул.
– И они… вам уже объявили точно?
– Диагноз налицо. Пора возноситься.
– А… когда? – спросила Ольга и спохватилась. – Простите, господин Вольф, мою глупость…
– Вполне корректный вопрос, – усмехнулся старик. – Сегодня, перед отбоем. Как старожилу они предложили отсрочку в две недели. Но я отказался.
Ольга понимающе кивнула. И вдруг остро почувствовала, что ей будет сильно не хватать старика Вольфа.
– В связи с моим сегодняшним «вознесением» позвольте пригласить вас на прощальный ужин? Так сказать, последняя трапеза…
– Конечно.
– Ну и прекрасно. За ужином и поговорим.
Вольф опустил глаза и занялся своей неторопливой работой.
«Рак… – подумала Ольга, косясь на его руки в резиновых перчатках. – Завтра его уже не будет. А я останусь здесь. Гнить заживо…»
За ужином Вольф не сказал Ольге ничего нового. Она же говорила много, расспрашивала его, по-прежнему пытаясь понять и осмыслить произошедшее с ней. Вольф говорил мало, повторяя сказанное давно, отмалчивался, подолгу жуя неприхотливую еду, смакуя кусочки рыбы и овощей, словно прощаясь с ними. Закончив есть, он помолчал, отпил остывший зеленый чай и заговорил:
– Ольга, сегодня ночью мне кое-что вспомнилось. По правде говоря, я и не забывал этого никогда. Но вам я про это еще не рассказывал. Вы помните, я говорил, что вырос на вилле отца, видного члена Братства. На этой вилле часто собирались братья. И вот однажды, когда они собрались, я подсмотрел за ними. Собственно, они особенно и не скрывались… В тот вечер их было довольно много, человек пятьдесят. В главном гостевом зале дома они все разделись по пояс, сели в круг, взялись за руки. И застыли. Собственно, отец и братья делали так раньше, они обнимались голыми и застывали надолго. И по-моему, они даже переставали дышать. Мне, мальчику, это было видеть как-то страшновато. Но потом я привык. И когда они составили этот круг, взялись за руки, закрыли глаза и замерли, я стоял на лестнице второго этажа и видел это. Прислуга в доме тоже была своя, и повар, и садовник, и трое охранников, и обе гувернантки тоже сидели в круге. В доме оставался только я и сестра, спавшая у себя в комнате. Раньше, подглядывая за обнимающимся с кем-то отцом, я прятался. Теперь же я вдруг понял, что мне не от кого прятаться – никто меня не заметит! И я спустился со второго этажа вниз. Двери зала были заперты изнутри. Но я прошел на веранду, открыл узкое окошко и пролез в зал. Шторы были задернуты. Горел лишь камин, люстра была погашена. И вот я вошел. И встал в зале. Пятьдесят обнаженных по пояс мужчин и женщин с закрытыми глазами сидели, взявшись за руки. Они были совершенно неподвижны, словно каменные. Огонь камина освещал их тела. Я постоял, а потом пошел вокруг них, рассматривая каждого. Это было так странно! Я знал, что отец ведет странную жизнь, что вокруг нас с сестрой происходит что-то очень странное, даже страшное. Отец был очень холоден со мной, мы практически не разговаривали ни о чем, кроме моих обязанностей. Я больше общался с гувернерами, но они тоже были какими-то странными, словно все время думали о другом и притворялись, даже когда шутили и смеялись. Отдушиной для меня была школа. Там я веселился, дружил, играл, там все было интересно, даже скучные для всех уроки математики меня радовали. Но дома я был практически одинок. После странной гибели матери, попавшей в Берлине под машин у, единственным близким человеком оставалась моя сестра. Но Рената была еще маленьким ребенком, с ней можно было только играть. Вот так я жил. Короче, когда я пошел по этому кругу застывших людей, мне сначала стало не по себе. Эти люди словно умерли. Но я знал, что они были живы! И страх во мне неожиданно сменился злостью. Мне стало так горько, так тошнотворно, так неприятно от того, что они делают! Я понял, что они что-то нарушают, причем что-то очень важное! Но я не понимал – что. Я просто затрясся от злости и заплакал от бессилия. Неожиданное чувство! Плача, я побежал по кругу и стал бить и шлепать этих людей по спинам, чтобы они очнулись, проснулись. Но они по-прежнему сидели неподвижно. Я пробежал весь круг. И мне стало очень страшно. Страх буквально сдавил меня, сжал, бросил на пол. Я зарыдал в голос. Мой плач разносился по залу. Я рыдал и слушал свой голос. Рядом неподвижно сидели живые мертвецы. Наконец я обессилел, перестал рыдать. И лежал на ковре, всхлипывая. Никогда я не чувствовал большего одиночества, чем в те минуты. Этого я не забуду никогда. И вот, лежа на ковре, сквозь просыхающие слезы я вдруг заметил, что в камин всунута кочерга. Загнутый конец ее лежал в углях, светясь красным. И вдруг, неожиданно для себя, я встаю, беру эту кочергу, подхожу к своему отцу и приставляю раскаленный конец кочерги к его спине. Кожа на спине отца зашипела. И запахло горелым, потянулся такой сизый дымок. Но отец даже не шелохнулся. И этот дымок, этот запах горелой плоти, это шипение в абсолютной тишине как-то успокоили меня. Я что-то понял. Я понял, что эти люди в круге – не люди. А я, моя сестра, ученики в школе, прохожие на улице – люди. Это открытие окончательно успокоило меня. Я подошел к камину и повесил кочергу на ее обычное место. Затем снова пролез в окно, поднялся к себе и заснул. Спал я глубоко и спокойно. А утром мы, как обычно, завтракали с отцом и сестренкой. Отец был вегетарианцем и ел только фрукты, овощи, проросшее зерно. За завтраком он вел себя как обычно. Я понял, что он даже не заметил ожога на спине. И в нашей семье все пошло по-старому. До поры до времени… Вот такая история, мисс Дробот.
Вольф замолчал и медленно, причмокивая, допил свой холодный чай.
Ольга сидела молча, под впечатлением от услышанного. Заплаканный мальчик с раскаленной кочергой стоял у нее перед глазами. Старик приподнялся со стула, протянул ей свою желтую руку:
– Дорогая мисс Дробот, я вам желаю удачи.
Ольга поняла, что он прощается. После такого долгого и задушевного рассказа это было довольно неожиданно. Она протянула Вольфу руку, собираясь сказать, чтобы он не торопился прощаться, но вдруг что-то почувствовала в руке старика. Он вложил в ее ладонь бумажку.
– Мистер Вольф… – произнесла Ольга, но он перебил.
– Всего вам доброго, мисс Дробот.
Старик повернулся и пошел в «Гараж». Но не успел он войти в коридор, ведущий на мужскую половину, как белая дверь с надписью «Security» открылась, перед стариком возникли двое китайцев в униформах. Один из них показал дубинкой на дверь. Старик покорно шагнул к светлому проему. Остановился. Оглянулся. Нашел глазами Ольгу. И посмотрел. Он не улыбался, как обычно, не подмигивал. Лицо его было спокойным и серьезным. Ольга вскочила, подняла руку, замахала ему.
Охранники подхватили старика под руки, втащили внутрь. Белая дверь закрылась.
У Ольги на глаза навернулись слезы. Зажав бумажку в руке, она пошла в «Ветчину», легла на свою кровать и разрыдалась в подушку. Ее пытались успокаивать, она отмахивалась. Наплакавшись, она быстро задремала. И проснулась от нежных прикосновений: Лиз осторожно целовала ее в шею. Ольга открыла глаза. В «Ветчине» было темно. Электронные часы показывали 23.12.
– Что с тобой? – спросила Лиз. – Ты спишь одетой. Устала?
– Да… – пробормотала Ольга, садясь на кровати.
– Попить хочешь?
– Хочу. – Ольга хотела провести ладонью по лицу, но почувствовала в кулаке бумажку.
Вспомнила Вольфа, его рассказ, белую дверь… Сжала кулак с бумажкой сильнее. Лиз вернулась с пластиковым стаканчиком, протянула. Ольга отпила. Ледяная вода приятно освежила.
– Пойдем ко мне? – шепотом предложила Лиз. – Розмари ушла к своей шотландке, теперь у нас с тобой просторное ложе…
– Знаешь, Лиз, я чего-то устала, – ответила Ольга, ставя стакан на полку и слезая с кровати.
– А я тебя взбодрю, киса. – Лиз нежно взяла Ольгу за грудь. – Ты пальчик поранила? Пальчик у кисы болит? Дай поцелую пальчик…
– Лиз, давай не сегодня.
– Что, месячные?
– Нет. Просто я реально устала и спать хочу.
– Точно? – Лиз обняла Ольгу за талию.
– Абсолютно! – усмехнулась Ольга и зевнула.
– Ну, ладно. Тогда спи, зайка… – Лиз поцеловала Ольгу в щеку, повернулась, пошла к себе.
Раздеваясь, Ольга смотрела ей вслед. С Лиз у Ольги ничего не было, кроме нежности. Это случилось как-то само собой, но инициативу проявила Лиз. У нее до Ольги были женщины. У Ольги же до Лиз в университете была сильная влюбленность в преподавательницу современной истории по имени Леонора, высокую, полную, добродушную и очень спокойную женщину. Ольга влюбилась неожиданно и сильно. До этого у нее был парень, сделавший ее женщиной, роман с которым длился почти год и благополучно сошел на нет. Потом был еще один парень, совсем недолго. Но в Леонору Ольга влюбилась сильно. Кончилось это крахом – Леонора не поняла и не приняла. Ольга перестала ходить к ней на лекции, но историю все-таки сдала… В университете Ольга так больше никого и не встретила. Потом за шесть лет у нее было два романа. Последний мужчина ей очень нравился, но он был женат и сделал выбор в пользу семьи. А после… после был только ледяной молот.
Подождав, пока Лиз уляжется, Ольга пошла в туалет. После отбоя это было единственное освещаемое место. Она вошла, ополоснула лицо, покосилась на камеры наблюдения: одна в левом углу, другая в правом. Шесть кабин, открытых сверху, чтобы все было видно. Какую выбрать? В какой можно укрыться от камер? Полоща рот, поняла – в четвертой от входа. Низ там точно не виден…
Ольга вошла в четвертую кабину, стянула трусики, села на унитаз. Поднатужилась, выдавила струйку мочи. И потихоньку разжала кулак. На ладони лежала тонкая полупрозрачная калька, исписанная бисерным почерком. Ольга осторожно развернула ее, стала разбирать микроскопический почерк Вольфа:
Не обращаюсь к Вам по имени по причине безопасности.
Из наших продолжительных бесед Вы, как человек искренний и импульсивный, сделали, вероятно, поспешный вывод о моем мизантропическом цинизме и ренегатстве. Смею уверить Вас, дитя мое, что это не так. К счастью, после всего случившегося со мной я не стал мизантропом. Даже сейчас, на краю жизни, я все еще ощущаю себя тем мальчиком с раскаленной кочергой в руке, тщетно пытающимся оживить полулюдей. Но оживить их нельзя, ибо они – враги всему живому. Я всю жизнь ненавидел своего отца и его Братство. И продолжаю ненавидеть теперь, в ожидании насильственной смерти от рук братьев Света. Увы, дитя мое, умереть от рака мне не дадут! Я человек терпеливый и стоически отношусь к смерти. Но мне вовсе не хочется, чтобы по воле 23 000 живых мертвецов погибли Вы. А вместе с Вами – и вся Земля с ее обитателями. Признаться, Вы мне нравитесь – как мыслящий тростник и как женщина. Посему я даю Вам шанс отстоять жизнь Вашу и пяти миллиардов Homo sapiens. Шанс этот крайне мал, но теоретически возможен. Я поведал Вам историю с кочергой не случайно. Как человек наблюдательный, Вы должны понять мою идею. Концом Земли будет Главный Круг, в который соберется все Братство, все 23 000. Не знаю, где этому уготовано произойти, в каком уголке нашей планеты расположена стартовая площадка детей Света, но уверен в одном – никого из простых смертных там, в момент старта, не будет. Там будут лишь братья и сестры моего теперь уже покойного отца, так и не давшего нам с сестрою отцовского тепла. Когда последний Круг их соберется, когда они возьмутся за руки, заговорят на своем языке в ожидании старта, они перестанут что-либо слышать и чувствовать, как и тогда те, в каминном зале нашего дома. В это время Вы вольны делать с ними все, что захотите. Главное – найти стартовую площадку. Это – стратегия. Теперь – о тактике. Уверен, что Вы читаете мое предсмертное послание в туалете. Более чем уверен, что Вы, человек быстрого еврейского ума, легко нашли единственно безопасную кабину для чтения – четвертую от входа. Если сейчас Вы опустите правую руку вниз и ощупаете край унитаза, то найдете там ключ. Это ключ от двери, расположенной в коридоре между «Ветчиной» и «Гаражом», из которой, как Вы помните, раз в неделю выходят уборщик и уборщица, дабы привести в порядок наше, простите, теперь уже – Ваше временное жилище. За этой дверью – подсобное помещение, проще говоря, алтарь подземных хранителей чистоты. Помещение это, насколько мне известно, соединено с комнатой охраны, где постоянно дежурят двое. Ночью, насколько мне известно, эти двое – единственные охранники бункера. Четверо других, дежурящих днем наверху в цехе, на ночь покидают бункер.
Желаю Вам удачи!Не подписываюсь по причине все той же безопасности.
P.S. Простите, что для возможного спасения Земли пришлось посидеть на Вашем унитазе. Кстати, не забудьте спустить туда это письмо.
Ольга сложила записку, опустила вниз правую руку, ощупала край унитаза. Под ним жевательной резинкой был прилеплен ключ. Она взяла ключ, зажала в кулаке. Сердце ее забилось: вот! С зажатыми в левом кулаке письмом, в правом – ключом. Ольга замерла. Возможность побега потрясла ее.
«Можно! Значит – можно! Можно пробовать!» – забилось в ее голове.
– Нужно… – прошептала она.
Жизнь снова обретала смысл, тело мгновенно наполнилось энергией.
«Надо все продумать. А с кем я побегу? Одной невозможно… С кем? Кому довериться? Подумай, сирота!»
Она вздрогнула. Осторожно разжала кулак, глянула на ключ. Он был самодельный, выпиленный из узкой стальной пластинки.
Пора было возвращаться в «Ветчину». Оставалось лишь спустить письмо Вольфа в унитаз. Делать этого ей очень не хотелось. Она вспомнила старика, до последнего строившего из себя неунывающего циника, вспомнила его рассказ про мальчика с кочергой, тщетно пытающегося вернуть своего отца к жизни, и слезы навернулись ей на глаза. Старик Вольф был страшно одиноким человеком. С самого детства.
– Тепло… отца… – произнесла она и всхлипнула.
Скомкала письмо, бросила в унитаз. Встала и нажала спуск.Прощай, страна Льда!
В большой бронированной машине мы подъехали к зданию, где в этот вечер собирались известные мясные машины главного города страны Льда. Брат Обу сидел за рулем нашей машины. Я сидел рядом с ним. Сзади сидел брат Уф. Вслед за нашей машиной остановилась бронированная машина охраны. В ней с оружием в карманах сидели братья Мэрог, Трыв, Дор и Борк. Я вышел из машины, открыл заднюю дверь. Брат Уф вышел из машины. Братья Мэрог, Трыв, Дор и Борк быстро вышли из своей машины и обступили брата Уф. Брат Уф вошел в здание. Я и Мэрог проследовали за ним. Остальные братья остались снаружи. В прихожей части здания стояла охрана и висели изображения, ценимые собравшимися здесь мясными машинами: лохматый зверь, любящий спать зимой, изображенный на фоне контуров страны Льда; лысая мясная машина с усами и бородой, 88 лет назад устроившая переворот в стране Льда; скрещенные железный молот и железный инструмент для срезания спелых колосьев; спелый плод на фоне флага страны Льда; хищная птица с двумя головами. Мы прошли мимо охраны и стали подниматься по лестнице. На лестнице стояли мясные машины с устройствами, позволяющими сохранять и размножать изображения лиц. Они сразу навели эти устройства на лицо Уф и принялись активно сохранять и размножать его изображение. Еще несколько мясных машин стали задавать Уф различные вопросы, связанные с собранием мясных машин и с будущим страны Льда. Уф отрицательно качал головой, а мы с Мэрог отпихивали от него громко галдящих мясных машин. Поднявшись по лестнице, Уф вошел в большой зал, полный мясных машин. В противоположном конце зала стояло деревянное возвышение для выступления мясных машин, над возвышением на стене висело большое слово ПРИМИРЕНИЕ, а под ним два слова поменьше – СПОЁМ ВМЕСТЕ! Когда мы вошли в зал, на возвышении стояла пожилая, маленькая, но широкая и сильная мясная машина и говорила о том, что всем мясным машинам, живущим в главном городе страны Льда, давно пора помириться и не враждовать, так как вражда только вредит стране Льда, у которой и так много трудностей. Эта мясная машина напомнила, что здесь собрались мясные машины, разные по своим желаниям и пристрастиям, но сегодня день примирения, и примирение это должно произойти через песни, которые любят петь мясные машины страны Льда. По словам выступающей мясной машины, эти песни помогали жить мясным машинам страны Льда, их пели деды и прадеды стоящих здесь, эти песни помогали в трудные годы, когда мясные машины страны Льда воевали с мясными машинами страны Порядка и победили. В завершение своего выступления коренастая мясная машина запела про главный город страны Льда, про свет в окнах домов, про домашний уют мясных машин, про звон металлических предметов, которые мясные машины издавна подвешивали на высокие здания, чтобы звонить в них, когда всем нужно собраться и молиться. Уф пошел по залу. Я и Мэрог следовали за ним. Мясные машины оборачивались, смотрели на Уф. Некоторые здоровались, некоторые злобно отворачивались. Уф нашел в толпе брата Ефеп. Тот стоял в окружении семнадцати наших братьев и трех сестер, работавших все время с Ефеп в собрании мясных машин, отвечающем за законы, по которым живут мясные машины. Ефеп и остальные братья были готовы покинуть сегодняшнее собрание мясных машин по команде Уф. Мы подошли к ним. Уф был сдержан. Он не мог позволить себе радоваться. Подойдя к Ефеп, он сделал знак: пора! Сердце Ефеп вспыхнуло. Но он понял, что нельзя уйти сразу всем. Он дал команду братьям. И они стали постепенно покидать зал. Другие стояли и делали вид, что поют или слушают выступающих. На возвышение взошла рослая мясная машина со злым и решительным лицом и заговорила о том, что пора примириться, чтобы окончательно покончить с внутренними врагами страны Льда, которые мешают мясным машинам этой страны стать счастливыми. Затем эта мясная машина запела песню времен войны страны Льда и страны Порядка, о том, что мясные машины страны Льда не дрогнут в бою за свою страну. Большинство стоящих в зале мясных машин подпевали, некоторые свистели в знак протеста. Наши братья потихоньку покидали зал. Уф стоял и беседовал с разными мясными машинами, которые подходили к нему. Когда песня окончилась, на возвышение поднялась мясная машина с усами и заговорила о том, что примириться всем мясным машинам страны Льда можно только после того, как будет закопана в землю кожа лысой мясной машины, 88 лет тому назад устроившей переворот в стране Льда, которая до сих пор лежит в каменном доме на главной площади главного города страны Льда. Многие мясные машины хлопали руками в знак одобрения, другие свистели в знак протеста. Тогда усатая мясная машина сказала, что сегодня песня должна примирить всех, и тонким голосом запела про мохнатое насекомое, летящее на цветок, и про дочь мясных машин, не имеющих постоянного дома, которая ночью спешит к другой мясной машине, чтобы в темноте делать друг другу приятное. Большинство мясных машин в зале стали подпевать усатой мясной машине, некоторые даже стали приплясывать, а усатая мясная машина пела и плакала. Но не успела песня завершиться, как на возвышение взобралась рослая и упитанная мясная машина и громко сказала, что закапывать кожу лысой мясной машины в землю – преступление, что мясные машины страны Льда десятилетиями любили лысую мясную машину, совершившую переворот и сделавшую так много хорошего для страны Льда, что кожа лысой мясной машины должна вечно лежать на главной площади страны Льда, чтобы маленькие мясные машины приходили в дом к этой коже и украшали ее цветами. Потом эта упитанная мясная машина запела о мясной машине, которая однажды уехала далеко от своего дома на четвероногом животном, не нашла дорогу назад и медленно замерзла. В этот момент Уф дал знак уходить. И все мы, вместе с братом Ефеп, направились к выходу. Когда мы шли через толпу поющих мясных машин, некоторые из них злобно говорили вслед брату Уф, что он не любит песен страны Льда. Но Уф молча шел через толпу. И сердце его радовалось. И я понял, что мы больше никогда не увидим этих мясных машин, не услышим их странных песен. Мы вышли наружу и расселись по нашим железным машинам. Брат Ефеп и другие братья и сестры расселись по своим железным машинам. Наши железные машины поехали по направлению от центра главного города страны Льда. Через некоторое время мы въехали туда, где садились и взлетали железные машины, способные летать. Нас ждала большая белая летающая машина. Это была последняя, одиннадцатая летающая машина, вывозящая из страны Льда оставшихся братьев. Десять таких машин уже улетели, полные наших братьев и сестер. Мы стали входить по лестнице в эту машину, и Уф шел последним. Он решил последним покинуть страну Льда. Его мощное сердце завершало все то, что случилось в этой стране с братьями Света. У двери он остановился, и сердце его вспыхнуло. Сидящие в летающей машине почувствовали причину вспышки сердца Уф. Его могучее сердце радовалось и прощалось. Оно радовалось, что братья Света все до последнего покинули страну Льда, что он, Уф, дожил до этого мига, что совсем недолго осталось до Великого Преображения. Но сердце Уф также и прощалось со Льдом, которому суждено было упасть именно в этой большой стране, со Льдом, благодаря которому рассеянное Братство собралось воедино, со Льдом, которого больше нет. Десятки тысяч ледяных молотов были разбиты о груди мясных машин в этой стране, многие братья и сестры погибли, собирая Братство, многие из них воплотились в тех, кто сидел сейчас в белой летающей машине. Сердце Уф радовалось и прощалось. И вместе с ним радовались и прощались наши сердца. Бросив последний взгляд на землю страны Льда, Уф отвернулся от нее и вошел в машину. Мы закрыли за ним дверь. Внутри летающей машины сидели самые мощные сердцем братья и сестры страны Льда. С ними были их помощники, такие как я и Мэрог, как Трыв и Борк. Сердца сидящих в летающей машине возликовали, приветствуя могучее сердце Уф. Все мы знали, сколько сделал Уф для Братства, чувствовали его Щит, хранили и берегли его могучее сердце. Клубящееся мясо постоянно пыталось расправиться с Уф, поглотить его, раздавить и уничтожить. Но Уф был мудр сердцем – он ускользнул и от пуль и от ярости Мяса, умело сталкивая лбами влиятельных мясных машин, направляя их слепую ярость друг на друга, к выгоде Братства. Уф помог Братству завладеть колоссальным богатством в стране Льда, сделал так, что миллионы мясных машин постоянно и практически даром работали на Братство, приближая Час Великого Преображения. Летающая машина загудела и стала взлетать. Ее вели тоже наши братья, мясных не было здесь. Десятки рук потянулись к Уф, десятки сердец сияли для него. Он шел мимо сидящих и касался каждого, кто был здесь, касался своей рукой и своим сильным сердцем. Летающая машина оторвалась от земли. Наши сердца вспыхнули. Все поняли, что Великий Исход из страны Льда завершен. Все знали, что десятки таких же летающих машин уносят братьев Света из десятков других стран. Чтобы всем встретиться в Великом Последнем Круге.
Наверх!
Ольга проснулась ранним утром от смутного шума: где-то вдали галдели люди, а просыпаться ужасно не хотелось. С трудом она открыла глаза. В «Ветчине» все двигались, суетились, спрыгивали с кроватей, бежали в коридор. А там, где-то далеко в коридоре, глухо раздался выстрел, другой. Потом – сдавленный крик. Ольга, в трусах и майке, спрыгнула с кровати, глянула на часы: 4.16. Разжала кулак: ключ! Ключа в кулаке не было. Вспомнила: она же за обедом отдала его русским, все им рассказала в надежде, что они возьмут ее с собой в побег. Доверилась решительным русским парням…
– Что стряслось? – спросила Мэрил, свешиваясь с верхней койки.
– Кого-то замочили! – выкрикнула полуголая Салли, спеша в коридор.
«Обманули! Побежали без меня!» – поняла Ольга и в бессилии ударила кулаком по кровати.
Вместе с другими женщинами она выбежала в коридор. Там, перед открытой дверью подсобки, толпилось почти все население бункера. И все лезли в дверь, чертыхаясь и толкаясь. Мужчины были вооружены чем попало – отвинченными от стульев ножками, кусками тумбочек и полок. По ним было ясно – русские предупредили многих о побеге, «Гараж» был готов к нему. «Ветчина» тоже не отставала – женщины лезли в дверь, толкались, вскрикивали; у некоторых в руках Ольга заметила маникюрные ножницы, предметы или обломки предметов, отломанные от чего-то.
«Словно от пожара бегут!» – мелькнуло в голове Ольги.
В толпе были и молодые и пожилые; непричесанная старуха украинка яростно пихалась, сжимая в руках почему-то свернутое жгутом мокрое полотенце и крича:
– Тикай, хлопци! Тикай, шмакадавы!
Так и не поняв, что это значит, Ольга кинулась вперед и ввинтилась в толпу. Протолкнувшись в полутемную подсобку, полную «друзей дохлых сук», рвущихся дальше, она краем глаза заметила слева дверь в хорошо освещенную комнату охраны. Там на полу лежали двое китайцев охранников в униформах с разбитыми головами и лицами. Рядом с ними торчали голые ноги кого-то из русских, тоже лежащего на полу, кажется, толстяка Леши; одна из этих безволосых, гладких ног в белых нестираных носках конвульсивно подрагивала. И тут же Ольга почувствовала запах крови, прорвавшийся сквозь всеобщий запах недавно проснувшихся тел.
«Началось!» – с восторженным страхом подумала Ольга.
В подсобке была мясорубка: кто визжал, кто ругался, кто изо всех сил упирался руками в бледно-голубые стены; трещала и рвалась чья-то ночная одежда, хрустели под ногами швабры, душераздирающе кричала упавшая на пол женщина.
– О, my God… – отчаянно всхлипнул мужской голос. Ольга поняла, что ее сейчас раздавят. Рядом раздались проклятия и мольбы на разных языках.
– Мамочка! – взмолилась Ольга, упираясь лицом в широкий потный затылок веснушчатого весельчака-шведа.
Голова шведа мелко затряслась от дикого усилия, в его теле что-то крякнуло, он выпустил газы; сзади взвыли, навалились, поднаперли – и вместе со шведом, вместе с горбоносой француженкой и длинноволосой немкой Ольга вылетела в широкий коридор и упала. Сзади на нее сразу повалился какой-то юноша, взвизгнул и полез по Ольге, как по дереву. Визжа и царапаясь, Ольга, в свою очередь, стала карабкаться по мускулистому шведу.
– Oh… salauds, putain! – выругалась полузадавленная француженка.
– А-а-а-а! No! No!!! – взвыл кто-то.
Швед рычал под Ольгой, юноша визжал, ползя по ее спине. Она подтянула ноги, зарычала, изо всех сил оттолкнулась и выбралась из мешанины тел. Пошатываясь, вскочила на ноги, вместе со всеми побежала по коридору. Коридор был длинный, хорошо освещенный и достаточно широкий, шире, чем в бункере. В нем попадались редкие двери: на одной – красный крест, на другой – изображение собачьей головы, на третьей – цифра 7.
Ольга бежала по коридору, шлепая босыми ногами по теплому пластику пола. Рядом бежали другие, сталкиваясь и чертыхаясь. Впереди коридор раздваивался, там уже в замешательстве толпились, лихорадочно решая, куда бежать. Кто-то пробормотал слово «лифт», махнув направо, многие побежали туда, а Ольга вдруг заметила на полу редкие капли крови. Они вели налево.
«Русские! – мелькнуло в голове. – Раненый! В него стреляла охрана…»
Почему-то она была уверена, что русские знают, куда бежать. Она кинулась налево. Такой же коридор, но без дверей, тянулся недолго и снова раздваивался. Кто-то бежал за Ольгой, кто-то впереди. Красные капли снова повели налево, Ольга свернула и столкнулась с группой бывших узников, избивающих двух китаянок в белых халатах. Те даже не сопротивлялись. Рядом с ними на полу лежали опрокинутые тележки с чашками, термосами и какими-то пластиковыми банками.
– Лифты здесь! – раздался впереди крик Сергея. – Сюда!
Через спины, руки и лица Ольга увидела в конце коридора три стальные кабины большого лифта. На дверях кабин виднелось одинаковое изображение – красное сердце в окружении двух ледяных молотов. Бросив бездыханных китаянок, все побежали к кабинам. Одним из первых бежал, прихрамывая, Сергей с захваченным пистолетом в руках. Ольга кинулась туда же. Но вдруг двери кабин открылись, в них показались охранники с автоматами наизготовку. Передние из них уже стояли на коленях, чтобы не мешать стрелять задним. Что-то выкрикнули по-китайски, и автоматные очереди слились в один продолжительный залп. Ольга замерла, видя, как пули буквально скосили бегущих перед ней. Светловолосые полуодетые люди, прошитые пулями, валились на пол. Пули свистели вокруг, рикошетили от стен, доносили с собой до Ольги крохотные капли крови и кусочки тел, но сами пока не попадали в Ольгу.
«Вот и все… – мелькнуло в голове. – Сейчас и мне достанется…»
Холодея от ужаса, Ольга кинулась вправо, ежесекундно всем телом ожидая свою пулю. Справа была распахнута дверь, из которой, вероятно, на свое несчастье, и выехали с тележками две китаянки. Изнемогая, оступаясь и падая, Ольга вцепилась рукой в косяк, оттолкнулась ногами от пола, понимая, что не успеет – слишком густо свистели пули вокруг. Но сзади кто-то с силой пнул ее коленом, вталкивая в дверь, и сам влетел следом, сбил с ног.
Ольга покатилась по гладкому полу.
Дверь громко захлопнулась. И сразу стало почти тихо. Только слышно было, как за дверью черноволосые люди с раскосыми глазами продолжают убивать голубоглазых и светловолосых. Ольга вскочила на четвереньки, оглянулась. У двери во весь свой богатырский рост стоял Бьорн. Бледный, с полуоткрытым от ужаса ртом, он упирался спиной в дверь.
– Ликтстольпен! – истерично хохотнула Ольга, вскакивая. – Мамочка… мама… мамуля…
Бьорн оглянулся по сторонам:
– Лифт! Еще лифт!
Ольга тоже огляделась. Они оказались в большом помещении, как она поняла, смежном с их «собачьим» цехом. Здесь стояли длинные металлические столы, низкие металлические шкафы, большой стеклянный шкаф, а в нем – метровая собачья голова из пластика. Собака радостно вываливала из пластикового рта алый язык. Внизу на шкафу лепились красно-золотые иероглифы с восклицательным знаком. А чуть поодаль, в стенном углублении, виднелась квадратная дверь большого грузового лифта.
– Туда! – крикнула Ольга, бросаясь к лифту.
Бьорн, как сомнамбула, оттолкнулся от двери и бросился следом, в два прыжка обгоняя Ольгу. Его ручища, забрызганная чьей-то кровью, с размаху вдавила черную кнопку вызова лифта. И тут же толстые двери стали послушно раздвигаться, словно только и ждали ладони Бьорна. Лифт был вместительный.
– Чудо! – выдохнула Ольга и прыгнула в лифт, опережая Бьорна.
Что-то пробормотав по-шведски, он вскочил следом. Слева в панели торчали две кнопки – красная сверху, черная – пониже. Справа во всю стену висел плакат с изображением все той же веселой собаки с вывалившимся языком; только помимо восклицающих иероглифов рядом с собакой стояла небольшая, но очень счастливая китайская семья, улыбающийся глава которой держал в вытянутой руке какой-то флакон.
Ольга надавила на красную кнопку.
Лифт плавно пошел наверх.
Глаза Бьорна и Ольги встретились.
– Ликтстольпен… – снова повторила Ольга, прикрыла свой рот ладонью и истерично затрясла головой.
В глазах ее сверкнули слезы.
Бьорн неловко взял ее за плечи.
– Ты знал? – спросила она.
– Не совсем… – пробормотал он. – Русские сказали только американцам и немцам.
– Свиньи! – всхлипнула Ольга. – Это я отдала им ключ. А они даже не предупредили меня…
– Русский анархизм… Братья… как это… Карманазовы, да? – попытался пошутить Бьорн.
– Карамазовы, Ликтстольпен… – пробормотала Ольга, осматриваясь в лифте.
Кабина скоро остановилась. Двери открылись. Перед Бьорном и Ольгой распахнулось полуосвещенное, но довольно просторное помещение, напоминающее цех фармацевтического завода. Тут стояли ряды столов со стульями, вдоль стен выстроились стеллажи и металлические шкафы, висел громадный портрет все той же собаки в окружении уже двух семейств, в восторге тянущих к ней флаконы, и… Ольга увидела окно с предрассветным небом и бледной полной луной. Небо было настоящее, луна за ним – тоже. Это вызвало у Ольги новый слезоточивый спазм:
– Бьорн! Мы наверху!
Бьорн, не слушая ее, двинулся в глубь цеха. Цех был пуст. Бьорн подошел к большому стальному шкафу с широкой дверью. Потянул дверь за ручку. Она открылась. Внутри оказался холодильник, заваленный охлажденными… собачьими ногами. Каждая нога была ободрана. Подбежала Ольга. Они молча уставились на кучу собачьих ног. Вероятно, из этих ног и делали в этом цехе нечто, чему так радовались отцы китайских семейств…
«Сучья лапа»… – вдруг вспомнила Ольга забытое русское ругательство.
Бьорн захлопнул холодильник. Ольга побежала к двери цеха, дернула за ручку: заперто. Снова подбежала к окну: третий этаж. Невысоко. Но окна глухие.
– Как выбраться? – Она шлепнула по стеклу, за которым таяла луна, уступая место солнцу.
Бьорн сдвинул в сторону дверь высокого стеллажа. Открылись полки, заставленные картонными ящиками с изображением собаки. Один ящик был не запечатан. Из него торчали те же самые флаконы.
– Лифт идет только вниз… А где у них туалет? – Бьорн вертел головой.
– Ты хочешь? – нервно усмехнулась Ольга.
Он увидел четыре узкие двери в углу. Подбежал, стал открывать, заглядывать. За двумя дверьми оказались туалеты, третья была завалена пачками этикеток для флаконов, а в четвертой стояли швабры, лестница-стремянка и пластиковые ведра.
– Ничего! – Бьорн зло захлопнул дверь. Но вдруг замер, глянул наверх: над этой дверью по потолку проходила широкая серебристая труба воздуховода, раздваивающаяся на середине и заканчивающаяся двумя широкими раструбами-воздухозаборниками.
– Постой-ка… – Бьорн распахнул дверь, подхватил стремянку, поставил, влез и со всего маху ударил своим кулачищем по трубе.
Воздуховод, сделанный из тонкого серебристого металла, прогнулся под кулаком Бьорна.
– Вау! – Ольга хлопнула себя по бедрам. – Поняла! Все поняла!
Она схватила одну из швабр, отсоединила рукоятку, кинула Бьорну:
– Давай!
Бьорн, промяв трубу тремя богатырскими ударами, вставил палку в щель между сегментами, нажал и легко раздвинул колена трубы. Ухнув железом, свободная часть трубы повисла и закачалась над головой Ольги. А в основном патрубке открылась большая круглая дыра, уводящая в стену.
– У тебя клаустрофобии нет? – спросил Бьорн, спрыгивая со стремянки.
– Не знаю… У меня боязнь высоты была.
– Тут… невысоко.
Он подхватил Ольгу, поднял как пушинку, поставил на стремянку, подсадил – и она влезла в трубу.
– Как там? – спросил он, оглядываясь на окна.
– Темно! – отозвалась Ольга из трубы. – Лезь за мной!
Она осторожно поползла вперед.
Бьорн влез по стремянке и скользнул в трубу вслед за Ольгой. Труба зашаталась на подвесных кронштейнах, но они выдержали. Ольга ползла первой. Труба была широкой и теплой. Воздух по ней не шел, – вероятно, его отсасывали из цеха только во время работы. В трубе было душновато. А впереди пока было темно. Ольга осторожно ползла. Бьорн полз за ней.
– Темнота… но надо, надо, – боязливо бормотала Ольга, успокаивая себя. – Ликтстольпен… надо было тебе полезть первым… ты же Ликтстольпен, а значит… у тебя… у тебя – лампочка в голове…
– Что? – громко прошептал Бьорн.
– Пока – ничего! – ответила она.
Он ободряюще коснулся ее щиколотки.
Ольга проползла метров пятнадцать, свернула налево и уперлась в мелкую решетку, сквозь которую пробивался неяркий свет. Она осторожно приблизила свое лицо к решетке. Сквозь нее был виден большой зал, уставленный высокими деревянными ящиками, приготовленными к отгрузке. На ящиках была оттиснута все та же собачья голова. Посреди зала стояли два автопогрузчика.
«Ящики, а в них – коробки, а в них – бутылочки… – автоматически думала Ольга, разглядывая зал, – а в бутылочках – сок. Сок из сучьих лапок… прекрасно…»
Бьорн подполз сзади, его руки коснулись ног Ольги.
– Что там? – шепнул он.
– Склад.
– Люди есть?
– Нет. Надо выломать решетку.
– Тогда придется поменяться местами, – заворочался он.
Ольга попятилась назад. Бьорн стал пролезать мимо нее. Они сильно прижались друг к другу. Теплый металл окружал их. Массивный подбородок Бьорна уперся в Ольгину грудь. Его большое тело ворочалось, силясь пролезть под Ольгой.
«Застрянем!» – панически подумала Ольга и стала извиваться на Бьорне:
– Давай, Ликтстольпен… давай!
Бьорн тяжело ворочался, сотрясая трубу. Ольга застонала и, извиваясь червяком, с трудом проползла по Бьорну. Он подтянулся к решетке, уперся в нее руками, напрягая мышцы. В зале послышались голоса. Бьорн замер. Говорили по-китайски. Ольга тоже услышала, замерла в ногах у Бьорна. Он разглядел двух китайцев в оранжевой рабочей одежде. Переговариваясь, они вошли в зал и встали возле автопогрузчиков. Поговорив, один китаец ушел. Другой стал обходить зал, осматриваясь.
«Ищет нас, – думал Бьорн. – А может – просто смотрит?»
Китаец осмотрел зал, влез в автопогрузчик, завел его, подъехал к ящику, подцепил и повез из зала. Одновременно с этим в трубе мягко загудело и сквозь решетку на лицо Бьорна пошел воздух: воздухопровод заработал.
«Включили», – подумал Бьорн.
– Оп-ля… Рано у них рабочий день начинается… – прошептала Ольга.
Воздух тек, обдувая разгоряченные тела лежащих в трубе. Автопогрузчик вернулся пустым, поднял новый ящик и уехал.
«Нужно подождать, пока он уберет еще семь ящиков и окажется подо мной, – думал Бьорн. – Потом выломать решетку, спрыгнуть и напасть на него…»
Ольга тронула Бьорна за руку. Он сжал ее руку и поднял палец: ждать! Она кивнула, ответно сжала его запястье. Прижавшись лицом к решетке, Бьорн следил за автопогрузчиком. Тот ползал, неспешно увозя ящик за ящиком. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Высадить тонкую, держащуюся на четырех зажимах решетку несложно. Нужно просто подождать. Пятый ящик. Шестой. Бьорн приготовился, уперев ладони в решетку. Ольга, почувствовав, что́ он задумал, напряглась, осторожно подтянула ноги. Выжидая последние секунды, Бьорн прикрыл глаза.
Вдруг послышались голоса. Быстрая китайская речь. Он открыл глаза: в зал вбежали охранники в синем с автоматами в руках, тот самый рабочий в оранжевом и светловолосый европеец в светлом костюме. Он что-то скомандовал по-китайски… и Бьорн узнал его. Это был Майкл Лэрд.
– О, черт… – прошептал Бьорн.
– Что там? – прошептала Ольга.
– Все плохо… – еле слышно ответил Бьорн по-шведски, касаясь решетки губами. – Очень, очень плохо…
– Что? – теребила его за ногу Ольга.
Лэрд поднял свое внимательное лицо. Холодный взгляд его уперся в решетку. Усмешка растянула красивые губы. Он указал пальцем на трубу.
Бьорн запоздало отпрянул от решетки. Но было поздно: внизу забегали, загалдели на чужом языке. Бьорн попятился, заворочался, пихая Ольгу ножищами:
– Назад! Назад!
– Что? Куда? – Ольга барахталась в трубе.
– Назад, назад! – Он стал отпихивать ее ногами.
Ольга попятилась. Внизу залязгали, что-то поставили раз-другой. Бьорн пятился, пятился, пихая Ольгу, раскачивая трубу:
– Быстро, быстрей!!
Вдруг внизу взревело, зажужжало. И четыре толстых и длинных сверла, проткнув металл трубы, как бумагу, впились в тела Бьорна и Ольги. Ольга дико завопила: одно сверло впилось ей в колено, другое – легко прошло сквозь ладонь. Третье сверло вошло Бьорну в живот, четвертое скользнуло вдоль бедра, срезая кожу. Бьорн зарычал, отбиваясь, Ольга вопила не переставая. Тела их задергались в трубе. Пятое сверло вонзилось Бьорну в грудь, шестое – в ногу, седьмое и восьмое стали сверлить плечо и подбородок Ольги. Вопли Ольги захлебнулись. Выли сверла, глубже проникая в плоть. Кровь хлестала из дергающихся тел, заполняя трубу.
– Братья Света не пьют саке!!! – загремел по трубе голос Майкла Лэрда.
Бьорн вздрогнул.
И открыл глаза.
Внизу автопогрузчик подъехал к восьмому ящику. Бьорн уперся в решетку, нажал. Затрещали шурупы. Автопогрузчик подцепил ящик. Бьорн изо всех сил нажал на решетку. Три шурупа вылетели из своих гнезд, решетка сорвалась, затрепетала на единственном шурупе. Бьорн оттолкнулся ногами от Ольги, вывалился из трубы и упал грудью на крышу автопогрузчика. Взревев от боли, цепляясь за крышу, спрыгнул на пол. Китаец, управляющий автопогрузчиком, открыв рот, уставился на свалившегося с потолка белобрысого детину. Руки его выпустили рычаги, потянулись к притороченному к поясу баллончику с парализующим газом, но не успели: белесый кулак, размером с голову китайца, ударил по узкоглазому лицу. Удар буквально вышиб грузчика из кабины. Хромая, Бьорн кинулся к упавшему, замахнулся, но не ударил: грузчик лежал без движения с удивленно полуоткрытым ртом. Бьорн распрямился:
– Ольга!
Она высунулась из трубы.
– Прыгай!
Ольга неловко перевалилась через край, не удержалась и с визгом упала вниз, на руки Бьорна. Он подхватил, опустил, бережно поставил на ноги, как куклу. Она глянула на лежащего на полу грузчика. У того из носа сочилась кровь.
– Это… ты его?
Бьорн кивнул, захромал к двери.
– Что с тобой? – побежала за ним Ольга.
– Задел колено… ничего…
– Ты умеешь драться?
– Нет. Брат умел…
Дверь находилась рядом с пакгаузом. Они заглянули в пакгауз. Там, в глубине, возле ящиков копошились трое китайцев. И звучало местное утреннее радио. Ольга осторожно приоткрыла дверь: пустой коридор.
– Нам нужно на первый этаж. – Бьорн шагнул в коридор. – Где-то есть лестница.
– Или лифт… – пробормотала Ольга.
Они двинулись по коридору, который свернул вправо, раздвоился. Они остановились на распутье. Справа на стене краснели иероглиф и стрелка.
– Туда! – решила Ольга и побежала направо.
Бьорн захромал следом. Впереди послышались голоса. Беглецы бросились назад и побежали налево от развилки. К счастью, коридор снова свернул налево. И… уперся во все тот же пакгауз с открытыми воротами. Там по-прежнему звучало радио, грузили ящики. Но за углом, справа у ворот, Ольга заметила небольшую дверь лифта. Глазами указала Бьорну. Тот молча показал большой палец.
Подождав, пока рабочие отвернутся к своим ящикам, кинулись к лифту. Нажали кнопку. Лифт пошел сверху: высветилась цифра 14. В пакгаузе раздался крик. И сразу же затараторили по-китайски. Китайцы, похоже, обнаружили своего нокаутированного товарища.
– Черт… – пробормотал Бьорн.
Ольга прижалась щекой к стальной двери лифта:
– Давай, давай, милый…
8,7,6…
Голоса рабочих приближались. Они шли к воротам.
Бьорн и Ольга застыли.
5,4,3,2…
За углом показались двое озабоченно переговаривающихся китайцев.
Лифт остановился. Двери разошлись. В узком лифте стояли… двое китайцев. Но не в оранжевом, а в белом. Китайцы в оранжевом заметили Бьорна и Ольгу, вскрикнули. Китайцы в белом уставились, не понимая. Бьорн вломился в лифт, замахал кулаками. Ольга втиснулась, стала искать кнопки. Сзади, крича, бежали китайцы в оранжевом. Ольга ткнула в какую-то кнопку, дверь стала закрываться. Бьорн дубасил белых китайцев, оранжевые китайцы подбежали к лифту, вцепились Ольге в майку. Взвизгнув, Ольга отпихнулась локтем, майка затрещала, Ольга лягнула наугад ногой, майка разорвалась, дверь закрылась, лифт пошел наверх. Бьорн продолжал дубасить белых китайцев так, что лифт ходил ходуном, Ольга просунула свой кулачок под мышку Бьорну и пару раз ткнула во что-то. Китайцы отбивались молча, Бьорн рычал.
«Кинг-Конг!» – мелькнуло в голове у Ольги.
Раздался удар, другой, третий. И оба китайца осели на пол. Бьорн глянул на кнопки, тяжело дыша. Выражение его лица было совсем диким, не похожим на прежнее. Щека была чем-то оцарапана, капля крови дрожала на ней.
– Где? Куда? – бормотал он, пытаясь понять направление движения лифта.
– Наверх… – Дрожащим пальцем Ольга смахнула каплю крови с его щеки.
Нервная дрожь вдруг пробежала по спине Ольги. Ее стало трясти, зубы застучали во рту.
– Пятый, шестой… черт!.. куда он едет?! – Бьорн нажал на кнопку.
Лифт продолжал движение.
Ольгу трясло. Стоя в разодранной майке, она сжала себя за локти.
– Что? – глянул на нее недовольный Бьорн.
– Н-ниче-го… – простучали ее зубы. – Мурашки…
Бьорн снова нажал. Лифт не останавливался.
9, 10, 11, 12…
Сидящий в углу китаец икнул и вяло зашевелился.
13, 14. Лифт остановился. Дверь открылась. Перед ними распахнулся просторный холл с дверями лифтов. Широкое окно освещало его. За окном вставшее солнце освещало просыпающийся Гуанчжоу. Бьорн и Ольга покинули лифт, Бьорн нажал на нижнюю кнопку, отправляя бесчувственных белых китайцев вниз, к оранжевым. Лифт уехал. В холле было пять лифтов – четверо небольших, на одном из которых и приехали беглецы, и один большой, особенный, с эмблемой на серебристо-голубоватых дверях: два ледяных молота вокруг алого сердца. Больше никаких дверей не было.
– Вниз, вниз! – Ольга метнулась к одному из маленьких лифтов. Но он тихо загудел, над дверью замелькали цифры: 1, 2, 3…
Лифт шел наверх.
Бьорн подошел к другому. Тот тоже поехал наверх. И третий – тоже. Три лифта спешили подняться.
– Это за нами, – понял Бьорн, глядя на мелькающие цифры этажей.
Ольга нажала на широкую кнопку большого лифта. Он открылся – вместительный, суперсовременный, в серебристо-голубых зеркалах. Они вошли в лифт. На панели виднелись только две кнопки – синяя и красная. Бьорн нажал красную – лифт не шелохнулся. Нажал синюю – двери сдвинулись, кабина плавно поехала наверх.
– Наверх! Зачем опять наверх?! – Ольга зло ударила кулаком по панели.
Бессильно пожав могучими плечами, Бьорн стоял, тупо глядя на кнопки. Цифрового окошка в кабине не было. Лифт все ехал и ехал. Наконец остановился. Двери раскрылись. Ольга и Бьорн оцепенели: прямо перед лифтом стоял Майкл Лэрд с каким-то седым, но моложавым стариком. Вокруг них застыли четверо рослых блондинов.
– Слава Свету! – с улыбкой произнес Лэрд. – Я был уверен, что вы справитесь.
Ольга и Бьорн оторопело смотрели на него. Бьорн первым пришел в себя, рука его вдавила красную кнопку. Но лифт не шелохнулся.
– Назад дороги нет! – Бесстрастная улыбка Лэрда разошлась сильнее.
Один из рослых блондинов поднял руку с длинноствольным пистолетом. Быстро и бесшумно выстрелил дважды. Схватившись за грудь, Бьорн и Ольга упали на серебристый пол кабины. Блондины вытащили их из лифта, положили на зеленовато-синий ковер к ногам Лэрда и старика.
– Двое, – произнес Лэрд. – Ты ведал, Шуа.
– Нет, Ев, я не ведал. Просто Братству сейчас нужны двое недобитков.
– Только двое, – согласно кивнул Лэрд и вздрогнул. – Сила Света приручает мясо.
– Сила Света раздвигает мясо. И приближает Вечность, брат Ев, – тихо произнес старик.
Лэрд задрожал. Лицо его вмиг стало беспомощным.
– Вечность! – произнесли побледневшие губы. – Вечность Света!
Старик взял его за руку, сжал.
– Положи себя на Лед, – произнес он суровым, но спокойным голосом.
Треть мясных суток
16 октября 2005 года в 18.35 из порта Гонконга вышел громадный двенадцатипалубный бело-голубой паром с изображением пылающего сердца на массивной рубке. На борту парома находились 2490 братьев Света. Все они были обретены Братством в стране Льда и в течение двух суток собирались на судне. Восемь таких же кораблей были уже в пути. Но не потому, что братья и сестры из страны Льда оказались самыми неорганизованными, – просто Гонконг был всего в ста шестидесяти милях от места Преображения. Другие паромы с братьями из других стран следовали к тайному месту своими путями.
Погода благоприятствовала Братству: в Гонконге стояла мягкая и теплая осень, вечернее солнце подсвечивало высокие перистые облака; бриз, к вечеру сменивший направление, несильно дул на море. Паром дал четыре прощальных гудка, вышел из бухты и взял курс на юго-запад. Расположившись на этом огромном судне, братья и сестры Света хранили спокойствие. Вся команда парома состояла из братьев Света.
В просторной кают-компании парома собрались 29 Мощных, прикрывавших Братство в стране Льда. Здесь были Уф, Одо, Стам, Ефеп, Ц, Ма, Борк, Ну, Амии и другие. Все они сидели в удобных креслах, расположенных четырехугольником. Образование Кругов и разговор сердцем на корабле были категорически запрещены: Братство берегло энергию сердец для Великого Преображения. И лишь двое из 29 – Храм и Горн – не восседали в креслах, а покоились в ваннах из толстого стекла. Ослабевшие и состарившиеся тела их были погружены в молоко высокогорных яков, смешанное со спермой молодых мясных машин. Только их лица, изможденные Великой Работой и испещренные бесчисленными морщинами, виднелись над белой поверхностью.
В кают-компании стояла абсолютная тишина. Каждый из присутствующих готовил себя, понимая, что до Великого Преображения осталось не более девяти часов.
Когда корабль вышел в открытое море и береговые огни пропали, веки Храм дрогнули. Сразу же двое неизменных помощников Храм – Тбо и Мэф приблизились и стали осторожно поднимать ей веки. Глаза Храм открылись. Тбо нажала кнопку в изголовье ванны – сразу выдвинулся тонкий полупрозрачный микрофон, замер возле морщинистых губ Храм. Бледно-голубые глаза Храм обвели собравшихся. Губы с трудом пошевелились, разошлись. Храм глубоко вдохнула. Выпустила воздух из губ. И произнесла:
– Слава Свету.
Ее слабый, еле различимый шепот, усиленный динамиками, поплыл по кают-компании.
– Слава Свету! – ответили собравшиеся.
Никто не осмелился ответить сердцем великой сестре. Каждый понимал важность происходящего. Каждый берег себя и ее. Храм тоже берегла свое могучее сердце для Последнего Разговора. Поэтому сейчас братья говорили на языке мясных машин.
– Здесь все?
– Все, Храм, – подтвердила Ц.
– Запрещаю себе ведать, поэтому спрашиваю вас на чуждом языке.
– Мы понимаем тебя, Храм, – ответил Одо.
– Я хочу дожить, – шептала Храм.
– Ты доживешь, – уверенно произнес Уф. – И все мы доживем.
– Сколько осталось ждать?
– Треть мясных суток, – ответил Геняхно, командующий движением корабля.
– Много ли слабых?
– Сто сорок шесть, – ответил Борк. – На нашем корабле – шестнадцать.
– Есть ли очень слабые?
– Есть, Храм. Братья Орийп, Дло, Юц и сестра Сан.
– Все ли сделано для поддержки?
– Все, Храм.
Храм замолчала, шевеля губами. Глаза ее полуприкрылись. Прошло несколько долгих минут. Храм снова втянула в себя воздух, зашептала:
– Сколько совсем малых?
– Двое.
– Какие они?
– Брату Хожети – два месяца, брату Моон – четыре недели.
– Им нужна внешняя поддержка.
– Мы позаботились о ней.
– Кто поддержит их в Круге?
– Двое недобитков.
Храм задумалась. Осторожно облизала губы.
– Где они? – спросила она свистящим шепотом.
– Здесь, на корабле, – ответил Уф.
– Я хочу видеть их.
Уф кивнул четырем братьям, они вошли в лифт, отправились вниз и через некоторое время вернулись, неся спящих Бьорна и Ольгу. Их положили на ковер в центр кают-компании.
Храм остановила свой взгляд на них:
– Когда они проснутся?
– Через четыре часа, – ответил брат Ев.
– Вы уверены, что они помогут нам?
– Мы уверены, Храм, – ответил за всех Уф.
– Будут ли в Круге еще недобитки, кроме этих?
– Нет, только двое.
Храм задумалась. Потом произнесла:
– Разбудите Горн. Мы хотим посмотреть этих двух.
Тбо и Мэф положили свои руки на голову Горн. И вскоре он открыл глаза. Храм подождала, пока Горн окончательно проснулся и пришел в себя. И осторожно тронула его сердце. Сердце Горн отозвалось. Небольшое тело его, погруженное в ванну, вздрогнуло. Слегка выпученные глаза уставились на двух спящих.
Храм и Горн заговорили сердцем.
Они смотрели лежащих на полу Бьорна и Ольгу. Это продолжалось 27 минут. Затем сердца их смолкли. Горн зевнул, вздрогнул, колебля молочную поверхность вокруг его седой головы, и снова погрузился в сон.
Храм осторожно выдохнула и вдохнула.
– Воды! – попросила она.
Тбо поднесла к ее губам фарфоровый поильник с теплой ключевой водой, подслащенной медом диких алтайских пчел. Храм сделала два маленьких глотка, перевела дух. Глотнула еще. Тбо осторожно промокнула ее старческие губы.
– Мы видели этих двух, – произнесла Храм. – Они помогут Кругу. Оставьте их здесь.
Все облегченно зашевелились.
– Брат Ев не зря собирал недобитых, – заговорил Стам. – Он ведал.
– Недобитые – прослойка между нами и мясными, – зазвучал усиленный динамиками шепот Храм. – Только они способны оказать последнюю внешнюю помощь.
– Потому что в них есть тоска по Свету, – кивнула Ц.
– Хотя они не знают о ней! – тряхнул густой бородой Одо.
– Да, они не знают о ней, – произнесла Храм. – Поэтому они помогут нам.
– Эти двое были лучшими из всех недобитков, собранных братом Ев, – сообщил Уф. – Когда им дали возможность бежать, они сами поднялись наверх, к Престолу.
– Я знаю … – тихо прошептала Храм и прикрыла глаза.
К Свету
Ольга очнулась от неловких прикосновений. Только один человек мог так неуклюже гладить лицо и голову. Она открыла глаза. Бьорн, склонившись над ней, гладил ее своими ручищами. Из-за широкой, похожей на лопату ладони Бьорна она с трудом разглядела отделанный светлым деревом потолок с матовыми светильниками.
– Как ты? – спросил Бьорн.
Она пошевелилась, подтянула ноги, села:
– Ничего…
Бьорн поддерживал ее за плечи. Ольга глянула вокруг: широкий зал с низким потолком, круглые темные окна. Вокруг в креслах сидят блондины и блондинки. Стоят две прозрачные ванны, наполненные чем-то белым. Молоком? Из молока выглядывают лица спящей… или мертвой? старухи и какого-то лилипута. Блондины молча смотрят на Ольгу. Она вспомнила все. И поняла.
– Братья Света… – произнесли ее губы.
– Братья Света… – кивнул Бьорн.
– Братья Света! – произнесла сестра Ц.
– Я думала, они нас убили… – пробормотала Ольга.
Бьорн напряженно молчал, озираясь по сторонам.
Вдруг сестра Ц встала, подошла к ним, опустилась на колени и взяла руку Бьорна и руку Ольги в свои маленькие, но сильные руки.
– Не бойтесь нас, – спокойно произнесла она.
Ольга и Бьорн в упор посмотрели на Ц.
– Мы с вами. А вы с нами, – произнесла Ц.
Темно-синие глаза ее с еле заметным карим ореолом сияли предвкушением чего-то очень важного, что не помещалось в ней. Бьорн первым почувствовал это. Ему стало не по себе.
– Где мы? – спросила Ольга.
– На корабле.
– На… каком? – спросил Бьорн, теряя самообладание.
– Который плывет к счастью.
Ольга уже пришла в себя, вспомнила «Ветчину», дохлых сук, побег и ловушку наверху небоскреба. Освободив свою руку, она со вздохом отвела взгляд от Ц, собираясь сказать что-то вяло-ироничное, но вдруг мгновенно почувствовала, что Ц говорит правду. И замерла, удивившись самой себе.
– К какому… счастью? – напряженно пробормотал Бьорн.
– К… вашему? – выдавила из себя Ольга, начиная дрожать.
– Не бывает нашего и вашего счастья! – Ц снова взяла руку Ольги. – Счастье всегда одно. Одно на всех.
И вдруг все сидящие в креслах встали со своих мест, подошли, опустились на колени, протянули руки, коснулись Бьорна и Ольги.
– Счастье всегда одно! – повторила Ц и добавила: – Счастье – это Свет!
– Счастье – это Свет! – произнесли окружающие.
Бьорн и Ольга задрожали.
– Мы все шли к Свету, – продолжала Ц. – И вы, и мы. Но мы знали, куда и к чему идем, вы же не знали этого. Но чувствовали. Вы неосознанно тянулись к Свету тысячи лет. Хотели его. Придумывали себе богов. Молились Создателю. Надеялись, что он воскресит вас из мертвых. Но не знали, что Создатели – рядом с вами. Вы не ведали Пути. Мы указали вам Путь. И теперь мы и вы – на этом Пути. И назад уже нет дороги. И осталось пройти совсем немного…
Последние слова Ц произнесла с дрожью, сдерживая свое сердце. Собравшиеся тоже вздрогнули. Приступ дрожи охватил Бьорна и Ольгу. Их затрясло так, что застучали зубы. Руки братьев Света обняли их тела.
– Вы будете с нами в этот Последний Час, – говорила Ц, сжимая холодеющие пальцы Бьорна и Ольги. – Вы поможете нам. Чтобы настало Счастье. Чтобы настал Свет.
– Чтобы настал Свет! – произнесли окружающие.
Слезы брызнули из глаз Бьорна и Ольги. Они разрыдались. И впервые за эти месяцы мытарств им вдруг стало очень хорошо. Так хорошо, как бывает только в детстве, когда рядом родные, которые любят, защищают и берегут тебя. Обливаясь слезами, они стали целовать руки братьев и сестер Света, забыв свое прошлое, забыв мучения и опасения, забыв страдание и ожидание, забыв страшную жизнь последних месяцев. Руки братьев и сестер были рядом. Братьев и сестер, которые вели их к Счастью, к Свету.
– Мы с вами, – повторяла Ц. – Вы с нами…
Ольга и Бьорн плакали: братья и сестры были с ними!
Одиночество кончилось. Кончилось навсегда! И все оказалось так просто! Просто, как Свет. Ведь он воссияет для всех! И больше не надо ничего. Только дойти вместе со всеми к Счастью. К Свету…
23 000
Прошло время.
Бьорн и Ольга сидели в центре кают-компании в окружении братьев и сестер Света. Слезы постепенно ушли, дрожь оставила тела. Пришел покой. Пришло чувство родства и сопричастности Великому. Бьорну и Ольге было так хорошо и спокойно, что они боялись спугнуть это новое чувство, упавшее на них внезапно, как звезда.
Они ждали вместе со всеми.
Вскоре все почувствовали легкую дрожь судна: огромный паром сбавил ход и после плавного маневра встал.
– Пора! – произнес Уф.
И все зашевелились. И то Великое, к чему шло Братство все эти 77 лет, с того момента, когда брат Бро нашел Лед, отозвалось в каждом из братьев Света. Храм и Горн очнулись и зашевелились в своих ваннах. Их вынули, обтерли, завернули в теплые ткани, понесли. Мощные сердцем стали покидать кают-компанию. Храм и Горн отправили вниз на лифте, остальные стали спускаться по лестницам. Бьорн и Ольга следовали за ними. Нижняя палуба была переполнена. Братья и сестры стояли в ожидании, пропуская вперед старых и малых. Ольга и Бьорн оказались в толпе. Но сестра Ц была рядом, ее руки ободряюще прикасались к телам Бьорна и Ольги.
Исход из парома на берег занял почти полтора часа. Настало время, и босые ступни Ольги и Бьорна прошли по широкому трапу и ступили на бетонный дебаркадер. Узкой, подсвеченной прожекторами полосой он тянулся в море от острова. Еще восемь таких дебаркадеров бетонными лучами расходились от круглого по форме острова, купленного Братством восемь лет назад и обустроенного для Великого Преображения. Взявшись за руки, Бьорн и Ольга шли в потоке братьев и сестер Света, хранивших абсолютное молчание. Лишь шуршала одежда да несильный ночной прибой шумел по краям мола. Ночное небо с искрами звезд раскинулось над идущими. Теплый ночной ветерок обдувал их. Ольга глянула влево – там, вдалеке, светился такой же большой белый паром, причаливший к точно такому же дебаркадеру. По нему, освещенному прожекторами, шли непрерывным потоком братья и сестры Света. Шли к острову. Бьорн глянул направо: там вдали тоже стоял белый корабль, тоже дебаркадер, тоже поток идущих. Сладкая дрожь прошла по телам Бьорна и Ольги. Они почувствовали, что совсем скоро случится самое Таинственное, самое Великое и Радостное. И ждать осталось совсем недолго. Дрожь предвкушения овладела ими. И словно почувствовав это, следующая за ними сестра Ц положила ладони им на спины. От этих ладоней шел покой. Ладони успокаивали и направляли.
– Спешить больше некуда! – шепнула Ц.
Бьорн и Ольга поняли.
Дебаркадер тянулся к острову. Ночной остров наплывал, приближался. Дебаркадер постепенно переходил в мост, который медленно поднимался, расширяясь. Почти круглый десятикилометровый остров ранее представлял собой невысокую гору, торчащую из моря. Братство срезало гору, оставив лишь ее основание. Мощный мост, подпираемый бетонными столбами, вел к этому выровненному основанию. Девять мостов вели Братство к острову, к Последней Стоянке. 23 000 молча шли к последней цели. Прожектора освещали мосты. Но сам остров лежал впереди в темноте. Ольга и Бьорн двигались в толпе, про себя отмеряя шаги. Рядом шли взрослые и дети, старики и подростки, мужчины и женщины. Везли коляски с престарелыми и больными, несли маленьких детей. Все шли молча. Шорох одежды и шум шагов слились в единый непрерывный звук, опьяняющий Бьорна и Ольги. Им по-прежнему было очень хорошо. Они шли со своими родными. И родных было так много!
Наконец мост коснулся острова. Бьорн и Ольга ступили на землю острова, покрытую белым мрамором. Весь остров представлял собой идеально ровную площадку, выстеленную белейшим, лучшим мрамором Земли. Едва ноги братьев Света ступили на этот мрамор, ожили спрятанные в нем датчики, и по гигантскому Кругу зажглись неярким голубым светом 23 000 небольших светильников, вделанных в мрамор. Каждый светильник – место в Круге. 23 000 мест в Последнем, Главном Круге Братства. По толпе прибывших на остров из страны Льда пошло шевеление: все принялись раздеваться, сбрасывать ненужную одежду мясных машин. Раздевшись донага, каждый шел к Кругу, вставал на свое место, указанное светильником. Бьорн и Ольга стали раздеваться. Им было так хорошо и спокойно, что совсем не хотелось говорить: слова были бессильны выразить то, что наполнило их сердца за эти последние часы. Едва они разделись, знакомые маленькие ладони коснулись их спин. Они обернулись. Рядом стояла нагая Ц, а с ней – нагие сестры-близнецы Ак и Скеэ. Каждая из них прижимала к груди младенца. Это были самые малые братья из 23 000 – двухмесячный Хожети и четырехнедельный Моон. Без слов сестры протянули младенцев Ольге и Бьорну. И без единого слова те приняли беззащитные и беспомощные тела братьев. У младенцев были разбиты грудки, Братство обрело их совсем недавно – в них вселился Свет ушедших стариков: девяностолетнего брата Эжор и восьмидесятитрехлетней сестры Март. Младенцы спали, тяжело, с хрипом дыша во сне.
– Вы должны держать их в Круге, – прошептала Ц. – Никто из наших не может это сделать, потому что должен быть на своем месте. Это и есть ваша Великая Помощь Братству.
– Мы сделаем все! – прошептали губы Ольги.
– Мы поможем! – прошептал Бьорн, бережно держа Хожети на своей груди.
Ц повернулась и растворилась в толпе ищущих свои места. Хотя ни у кого не было никаких номеров и персональных мест – в Последнем Круге каждый вставал туда, куда привели его босые ноги. По девяти мостам с девяти кораблей, приплывших из девяти портов мира, братья Света спешили в Круг. Толпа нагих тел шевелилась, распределяясь по Кругу. Все больше и больше братьев и сестер занимало свои места. Каждый, кто вставал на светильник, сразу становился освещенным неярким голубоватым светом. Все больше и больше таких светящихся в темноте фигур возникало в Круге. И Великий Круг постепенно образовывался.
Бьорн и Ольга двинулись к Кругу, прижимая к груди тяжело дышащих младенцев. Честь Великой Помощи выпала им. Они понимали это каждой клеточкой тела. Нужно было помочь Братству, поддержать самых малых в Великом Круге, не дать им уйти из жизни раньше, чем Круг заговорит на языке Света. С величайшей осторожностью Бьорн и Ольга передвигались в море обнаженных тел. Теплые младенцы тяжело сопели у них на руках. Круг строился.
Под южным ночным небом с неяркими звездами и узким серпом месяца возникали, строились одна к другой светящиеся обнаженные фигуры, сплачивались, образуя Великий Последний Круг Братства. Старые садились или вставали на колени, протягивая трясущиеся руки близстоящим. Руки их сразу подхватывали молодые и сильные, держали, давая силу и надежду. Малолетние нагие дети вставали на кружки светильников и, освещенные голубоватым светом, тянули тонкие руки к стоящим рядом взрослым. Храм посадили между Уф и Шуа, Горн – между Стам и Атрии. Руки Мощных взяли исхудавшие, обтянутые дряблой кожей руки тех, которые однажды увидели все Братство, помогли собрать его. Седобородый сильный Одо сжимал руки пятилетних Самсп и Фоу, мудрый Сцэфог держал двенадцатилетнего Бти и восьмидесятилетнюю Шма, неистовый Лаву взялся за руки с близнецами Ак и Скеэ. Мэрог стоял рядом с Обу, Борк – с Рим, Мохо – с Урал, Диар – с Ирэ и Ром, Мэр – с Харо и Ип, Экос – с Ар.
Бьорн и Ольга осторожно шли по Кругу, минуя стоящих и сидящих.
«Он такой маленький и беззащитный… сердце его бьется в хрупкой, раненой груди… он дышит тяжело… донести, донести его до места… согреть грудью и своим теплом… оборонить своим дыханием…» – билось в висках Ольги.
«Помочь, помочь всем, чем могу… будь спокоен, крошечный брат мой… я помогу тебе… мое тело, мое тепло, моя воля помогут тебе… я поддержу и сохраню тебя… я сильный, я смогу… моя кровь, мои мышцы, мои кости послужат опорой… обопрись на них… обопрись…» – вспыхивало в мозгу Бьорна.
Они шли и шли по Кругу.
И вдруг впереди поднялись руки: сюда! Это звали их. Бьорн и Ольга подошли. Сестра Ц стояла возле двух пустых мест. Рядом в Круге стояли Ев и Ауб. Вместе с сестрой Ц они хранили места для Бьорна и Ольги.
– Становитесь с нами! – прошептала Ц.
Она слегка дрожала.
Бьорн встал по левую руку от Ц, Ольга – по правую. Голубоватый свет потек снизу на обнаженные тела Бьорна и Ольги. Они застыли на своих местах, держа младенцев.
«Хорошо и спокойно… правильно и неизбежно… верно и бесповоротно…» – билось в висках Ольги.
«Помочь и защитить… исполнить и выдержать… начать и завершить…» – билось в висках Бьорна.
Круг собирался. Голая полуосвещенная толпа рассеивалась, исчезала, растворялась в Круге. Стройный, правильный Круг поглощал хаотичную толпу. Хаос ищущих тел сменялся покоем обретения места: освещенные голубым фигуры замирали, становясь неподвижными. Все меньше и меньше оставалось ищущих.
Бьорн и Ольга стояли на своих местах, держа на груди самых малых и завороженно глядя на голубоватый Круг, уходящий вдаль острова, стягивающийся к ночному горизонту в еле различимую голубую нитку и снова плавно возвращающийся, встающий рядом неподвижными фигурами братьев и сестер.
Время словно сжалось: каждое мгновение могло стать последним.
Уже рядом не осталось ищущих. Уже справа все было ровно и чисто. Лишь слева бегали одинокие, ищущие места тела. Но вот и слева все улеглось, распределилось, успокоилось. Сверкнули чьи-то спины вдали, мелькнули тени на мраморе. И все стихло, обездвижилось.
Бьорн и Ольга замерли.
Прошли ужасно долгие минуты.
И все СОВСЕМ стихло.
Круг замкнулся.
Абсолютная тишина повисла над островом. Даже прибой не был слышен здесь. Теплый ночной ветерок стих.
Бьорн и Ольга застыли. Тела их словно окаменели в голубоватом свете. Они перестали дышать. Ибо услышали Землю. Она замерла в ожидании. Круг собрался. Земля лежала во все стороны от Круга. Звезды сияли над Кругом.
Все было готово.
И вдруг раздался прерывистый шепот сестры Ц:
– Поверните их. Сердцем к центру Круга…
Бьорн и Ольга вздрогнули, очнулись. Поняли, чего хотят от них. В Круге все стояли и сидели, обратясь к центру. Лишь двое малых спали, прижавшись лицами к Бьорну и Ольге, отвернувшись от Круга. Ольга и Бьорн бережно повернули их, прижали нежные спинки младенцев к груди.
И сразу же протянулись руки – слева и справа. Но не для того, чтобы сомкнуться с руками Бьорна и Ольги. Руки Ц, Ев и Ауб осторожно сжали крошечные пальцы младенцев. А руки Бьорна и Ольги нужны были, чтобы держать малых.
Великий и Последний Круг готов был.
И пошла по нему волна невидимая, мощная, необратимая: 23 000 сердец, сдерживающие, смиряющие себя все эти последние дни и ночи, отпустили себя.
И заговорил Великий и Последний Круг.
И заговорили в последний раз все 23 000.
Бьорн и Ольга снова оцепенели. Восторженный ужас объял их. Они почувствовали, что Круг заговорил.
Говорили сердца Храм и Горн, Уф и Одо, Шуа и Ефеп, Стам и Атрии. Говорили в последний раз сердца Ак, Скеэ, Борк, Рим, Мохо, Урал, Экос, Ар. И крохотные, совсем еще неопытные сердца Хожети и Моон тоже говорили. Их маленькие тела затрепетали в руках Бьорна и Ольги, невидимая волна шла через них.
И наполнился Круг Словами Света.
И потекли по Кругу заветные Слова.
И вершили Слова свой приговор.
И исправляли Великую Ошибку Света.
И говорили братья и сестры на языке Света.
И говорили двадцать три раза.
И произнесли они последнее, двадцать третье Слово.
И вздрогнула Земля.
Бог
Свет ослепил Ольгу.
Она зажмурилась. И снова открыла глаза: восходящее солнце сияло на горизонте.
Ольга с трудом подняла голову: она лежала на спине. Пошевелилась. Каждое движение – трудное, тяжкое, словно после долгих лет каторжной работы. В голове – тяжело и пусто… Она оперлась ладонями о прохладный камень. Жмурясь от бьющего в глаза солнца, стала приподниматься. Вдруг замерла: на груди у нее лежал младенец. Он был мертв. Ольга уставилась на него, ничего не понимая. Младенец лежал у нее между грудей. Восходящее солнце освещало его посиневшее тельце. На его крошечной груди темнела засохшая кровь и виднелся большой синяк. Ольга смотрела на младенца. Он был холодный. И напоминал восковую куклу. На голове у младенца были светлые редкие волосики. Утренний ветерок пошевелил их.
Ольга оторвала свой взгляд от мертвого ребенка и обратила его вокруг. Голая, она лежала на белом мраморе, тянущемся до самого горизонта с восходящим солнцем. А рядом… лежали братья и сестры Света. Лежали навзничь, неподвижно.
Ольга сняла ребенка со своей груди, положила на мрамор. Двигаться было чудовищно трудно, все тело болело. Ольга встала на колени, подтянула ноги. Приподнялась.
Весь огромный Круг, в котором ночью стояло Братство, теперь покоился на мраморе. Русоволосые мужчины и женщины лежали навзничь, раскинув руки. Их ряд плавно, по параболе уходил вдаль, к горизонту с восходящим солнцем и, описав громадный круг, снова возвращался к Ольге. Первыми в этом круге лежащих навзничь были молодой мужчина и женщина средних лет с короткими рыжими волосами. Та самая, что направляла вчера, говорила, как встать и что делать… Теперь она неподвижно покоилась на мраморе. Рот женщины был открыт, на лице застыло выражение судороги и страдания, глаза были полуоткрыты. Пошатываясь, Ольга наклонилась, взяла руку женщины. Рука была холодной. Ольга положила свои пальцы на шею женщины. Пальцы нащупали безжизненную, остывшую плоть. Женщина была мертва. Полуприкрытые глаза ее уставились в чистое голубое небо.
Ольга перевела взгляд вправо. Там лежал молодой мужчина. Она узнала его: Майкл Лэрд. Тот самый, кто встретил их в Гуанчжоу, кто говорил о Братстве, кто напоил усыпляющим саке. Тот, кто встретил у лифта, наверху небоскреба.
Теперь он, голый, валялся на мраморе, раскинув руки. Темно-синие глаза его были открыты. Ольга потрогала руку Лэрда: холодная, безжизненная. Выражение лица его было жалким.
Ольга распрямилась со стоном. Сделала шаг, другой, третий.
Рядом с Лэрдом лежала рослая блондинка. Пальцы ее сжимали руку Лэрда. Ольга подошла, потрогала ее шею: мертва. Другой рукой женщина держала руку старика. Голова того запрокинулась, острый кадык торчал сквозь дряблую кожу, беззубый рот приоткрылся, выцветшие голубые глаза напряженно уставились в небо. Старик тоже был мертв. И его соседка, девочка-подросток, тоже была мертва и тоже смотрела в голубое небо.
Оступаясь и пошатываясь, Ольга двинулась вдоль Круга.
Все братья и сестры лежали навзничь, раскинув руки или сжимая руки соседа.
Ольга подходила, трогала их тела. Пальцы находили только мертвую, остывшую плоть. Пройдя пару десятков шагов, Ольга остановилась. И поняла, что в этом громадном круге нет живых.
Окончательно вернулась память: усыпление выстрелом, паром, братья, исход, нагая толпа, восторг и завороженность, ожидание величайшего чуда, голубой круг, младенец на груди, Бьорн.
Бьорн!
Она огляделась. Кругом лежали мертвецы. Ольга открыла рот, пошевелила сухим, онемевшим языком. Язык еле ворочался.
– Бь…орн… – с величайшим трудом произнесла она и пошла назад, к своему месту в круге.
Оно было сразу заметно – просвет в ровном ряду мертвецов, единственное нарушение порядка. Бьорн лежал рядом с той самой рыжеволосой женщиной: большой, голый, с длинными и сильными ногами. Левая рука его откинулась вверх, правая прикрывала тельце мертвого ребенка, покоящегося у него на груди. Глаза Бьорна были закрыты. Зато синие глаза младенца уставились вверх, крошечный рот был вопросительно полуоткрыт.
– Ты…ыы… – Ольга опустилась на колени, подползла к Бьорну, взяла за руку.
Рука была прохладная.
– Ты…ыы… – хрипела, заикаясь, она. – Ты…ыы, ты…
Он лежал неподвижно, словно престол для мертвого младенца, вопросительно глядящего в небо.
– Эт…тто… – шептала Ольга. – Тыы…ыы…
Вялой, непослушной рукой она стала бить его по плечу.
Швед не шевелился.
– Ты…
Бьорн продолжал лежать без движения.
Всхлипывая и трясясь, она подняла его веко. Знакомый голубой глаз был под ним. И этот глаз вздрогнул. Веко выскользнуло из-под пальца, закрылось. Открылось. И Бьорн заморгал.
Застонав бессильно, Ольга обняла его. Но объятию мешало что-то холодное. Она с трудом выпихнула труп ребенка из-под руки Бьорна. Окоченевшее тельце беспомощно упало ничком на мрамор, стукнувшись безжизненной маленькой головкой.
Ольга хрипела и дрожала на груди у пробуждающегося Бьорна, трогая его ослабевшими руками. Он шевелился, стонал, подтягивая ноги. Наконец он увидел ее. Стал раскрывать рот с пересохшими губами, силясь сказать что-то. Но из губ вырвалось слабое шипение.
– Х-х-а? – прошептал он и стал пробовать приподняться.
Но Ольга дрожала, обняв его и прижимая к мрамору.
– Чт. оо? – Он ворочался под ней.
С трудом отстранившись, она взяла его голову и стала поднимать.
Он сел.
– Это… – Трясущейся рукой она указала на лежащих рядом.
Он перевел свой взгляд на круг мертвых. Долго смотрел, силясь понять. Голова его вздрагивала и покачивалась. Потом осторожно встал. Взошедшее солнце осветило его большую, ссутулившуюся фигуру. Пошатнувшись, он шагнул. Ольга обняла его. Они встали, подпирая друг друга. Бьорн шагнул. Остановился. Снова шагнул. И медленно пошел по кругу мертвых. Ольга двинулась за ним. Бьорн шел, шатаясь, вглядываясь в лежащих. Миновал нескольких, остановился, подошел к какой-то женщине. Наклонился. Ее искаженное гримасой недоумения лицо уставилось в небо. Остекленевшим взглядом покойная укоряла небо за свою гибель и за гибель Великого Братства. Бьорн стоял, раскачиваясь, не в силах оторваться от взгляда этих навсегда обиженных и остекленевших светло-синих глаз. Ольга подошла к нему, обняла, прижалась. Вместе они долго смотрели на мертвых братьев Света.
– О…ни… – прохрипел Бьорн.
– Они… – прошептала Ольга.
Он отошел в сторону и опустился на мрамор. Ольга опустилась рядом. Они долго сидели молча, опустив головы.
Солнце встало, набрало силу, припекло.
Белоснежное мраморное плато острова засверкало под его лучами.
Бьорн пошевелился, поднял голову и встал на колени.
– Это… – заговорил Бьорн, дрожа и заикаясь. – Это.
– Что? – прошептала Ольга.
– Все.
– Что?
– Ну… все это… – Он шлепнул ладонью по мрамору, по плечу Ольги, по своей ноге, – …вот это все… сделано. Это сделано. Крепко. Очень. И они… разбились. Разбились об это. Все разбились.
Он вдруг замер, дрожа от волнения. Ольга тоже замерла, перестав дышать.
– А это. Это все… сделано… – он перевел дух, – для нас.
Ольга не дышала, опершись о мрамор.
– Для нас, – тверже произнес Бьорн.
И вдруг бессильно улыбнулся.
– Для нас! – повторил он.
– Для нас… – как эхо повторила Ольга.
Бьорн в упор смотрел ей в глаза.
– И все это сделано Богом, – произнес он.
– Богом? – осторожно спросила Ольга.
– Богом, – произнес он.
– Богом… – отозвалась Ольга.
– Богом! – уверенно сказал он.
– Богом, – дрожа, выдохнула Ольга.
– Богом! – громко сказал он.
– Богом! – кивнула Ольга.
– Богом! – громче произнес он.
– Богом! – закивала головой Ольга.
– Богом! – выкрикнул он.
– Богом… – прошептала она.
Они замерли, глядя в глаза друг другу.
– Я хочу говорить с Богом, – сказал Бьорн.
– Я тоже, – произнесла Ольга.
– Мне нужно… нужно сказать Богу. Много всего. Нужно говорить с Ним. – Бьорн напряженно думал. – Но как это сделать?
Ольга молчала.
– Как это сделать? – спросил Бьорн.
– Нам надо вернуться к людям. И спросить у них.
– Что?
– Как говорят с Богом. Тогда ты сможешь сказать ему все. И я тоже смогу.
Они замолчали.
Слабый морской ветер скользил по их нагим телам.
Бьорн встал с колен, глянул на широкий, заваленный одеждой мост и на громадный бело-голубой паром, по-прежнему высящийся у мола, словно айсберг. Пылающее сердце алело на его рубке. Но оно напомнило Бьорну не о братстве света, а о Мире Людей. Бьорн протянул руку Ольге:
– Идем!
Ольга встала, дала ему свою руку. И они пошли, ступая босыми ногами по нагретому солнцем мрамору.
Примечания
1
Не двигаться! (фр.)
2
Садитесь в машину! (фр.)
3
Мальчик не должен плакать! (фр.)
4
Держи его! ( тадж.)
5
Собака! (тадж.)
6
Слава Свету! ( лат.)
7
Доброе утро! (финск.)
8
Желудь (кит.).
9
Изыди! (англ.)
10
Не знала, что вы такой высокий.
11
А где же ваши красные волосы?
12
Иногда нужно что-то менять в себе.
13
К делу (идиш).
14
Твой эгоизм не имеет границ! ( иврит )
15
К нам пришли, ты разве не видишь? (иврит)
16
Стоять! Рядом! (иврит)
17
Моя мать эгоистка! (иврит)
18
Ночной клуб (кит.)
19
Добро пожаловать! (кит.)
20
New York University.
21
Мило! Круто! (японск.)
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

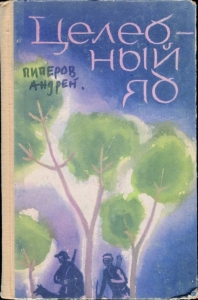

Комментарии к книге «Ледяная Трилогия», Владимир Георгиевич Сорокин
Всего 0 комментариев