Жан Лаффит Весенние ласточки
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Советские читатели уже знакомы с произведениями Жана Лаффита. В СССР вышла его книга «Мы вернемся за подснежниками», а также две части трилогии — «Роз Франс» и «Командир Марсо». Роман «Весенние ласточки» продолжает судьбы героев этих двух книг и завершает трилогию. В «Весенних ласточках» Жан Лаффит показывает людей, самых разных по своему общественному положению и по убеждениям. Перед нами и молодые, только что вступающие в жизнь Жак и Жаклина, служащие большого парижского ресторана, и старый профессор Ренгэ, и коммунисты супруги Фурнье, и депутат парламента, богатый аристократ Вильнуар, и многие другие.
Перед читателем раскрывается широкая картина современной жизни Франции. В романе хорошо передана политическая атмосфера, сложившаяся в связи с угрозой новой войны. Идея борьбы за мир с каждым днем охватывает все больше людей. И мы видим, как герои Лаффита, простые, скромные люди, никогда не интересовавшиеся политикой, становятся активными борцами, превращаясь в реальную политическую силу, способную предотвратить войну.
Роман «Весенние ласточки» проникнут глубокой верой в народ, в его огромные возможности, в его непреклонную волю отстоять жизнь и мир на земле.
I
Метрдотель бросил негодующий взгляд на отлучившуюся было гардеробщицу и с видом мажордома пошел навстречу посетителям.
— Добрый вечер, мадам. Добрый вечер, господин депутат. Вы сядете за ваш столик?
Анри Вильнуар снял плащ, подождал, пока его спутница, очаровательная молодая женщина с золотистыми локонами, займет место, и сел рядом с нею. На столике красовался букетик желтых тюльпанов. Протянув депутату и его спутнице карточки, метрдотель достал блокнотик…
Они пришли раньше обычного, и в ресторане, кроме них, никого еще не было.
— Разрешите вам предложить закуску по-неаполитански и утку с апельсинами?
— Мне что-то не хочется есть.
Она с любопытством наблюдала через окно за вечерней сутолокой: на бульваре скопились машины, образовалась пробка, велосипедист с пачкой газет ловко пробирался среди автомобилей, густая толпа мчалась к набитому автобусу, по тротуару спешили пешеходы…
— Мне дайте суп сен-жермэн, — заказал Вильнуар.
— Мне тоже, — сказала блондинка.
— А на второе что прикажете?
— Ты выбрала, дорогая?
Она рассеянно пробежала глазами меню.
— Я колеблюсь между омаром термидор и тюрбо по-императорски.
— Ну, тогда мы еще подумаем.
— Как вам будет угодно, — и метрдотель вырвал листик из блокнота, передал его своему заместителю, тот отдал заказ официанту, который отнес его на кухню.
— Эй, вы, кашевары! Две порции сен-жермэна.
В огромной кухне никто не откликнулся на его призыв.
Перпендикулярно длинному оцинкованному столу, который тянется вдоль коридора, выстроились в ряд три огромные плиты, заставленные котлами. Они напоминают паровозы под парами, ожидающие в полутемном депо сигнала отправления. К каждой плите с потолка спускаются вытяжные трубы; под ними на крюках, вбитых в деревянную раму, развешена кухонная посуда, в которой отражается пламя плит. Вся эта утварь начищена до блеска, как пуговицы у солдата перед смотром, и размещена в строгом порядке по категориям, по форме, по емкости. На первом плане красуются сотейники и кастрюли из красной меди. Некоторые из них так велики, что их можно поднять только двумя руками, а когда они наполнены — то вдвоем. Под каждой из трех вытяжных труб на уровне человеческого роста подвешена длинная железная решетка, на нее опрокинуты сверкающие гусятницы, миски, формы. Но вся эта медная, начищенная утварь — лишь часть боевого снаряжения, так сказать, парадная часть. Остальная посуда, столь же многочисленная, скрыта от человеческого взора. Всякие сковороды, жестяные, чугунные и глиняные предметы спрятаны под тяжелыми деревянными столами, которые стоят вдоль плит: стол для приготовления соусов, стол рыбных блюд, стол сладких блюд, стол жаркого (добрая половина этого стола занята противнями, решетками для поджаривания мяса, вертелами). Каждый стол — это станок, на котором обрабатывается сырье: каждая плита — машина. Через несколько минут шеф-повара, их заместители и поварята займут свои рабочие места.
А пока что за пятнадцатиметровой стойкой с паровыми шкафами, облицованной блестящими плитками, одиноко стоит официант во фраке и безукоризненно белой манишке. Он ведет себя, как церемониймейстер.
— Повторяю еще раз: две порции сен-жермэна, слышите?
Наконец в кухне появляется повар. Он по-своему элегантен: на нем синие в клетку брюки, белая куртка, накрахмаленный колпак, напоминающий епископскую митру, на шее щегольски завязанная салфетка. Это повар-супник. Он не спеша подходит к двухметровому щиту, висящему над стойкой, и говорит:
— Ты чего орешь? Еще рано.
— Без трех семь, посмотри на часы.
— А я тебе подам ровно в семь.
— Это для депутата Вильнуара и его крошки.
— Ничего, подождут.
В глубине кухни из трех автоклавов величиной с хорошую бочку выбиваются струи пара.
Главный кухмистер Клюзо, или, как здесь его называют, «шишка», сидя в застекленном кабинете, освещенном неоновым светом, ест филе россини, перед ним стоит бутылка шамбертена. Ему достаточно поднять глаза, чтобы окинуть взором все свое обширное хозяйство, занимающее огромный подвал в тысячу квадратных метров. Через несколько минут он, как капитан в рубке, даст курс своему кораблю — кухне, которая находится еще в дремотном состоянии, но готова в любую минуту дать бой; кондитерской, уставленной мраморными столиками и многоэтажными печами; фруктовой с ее холодильными шкафами; кофейному цеху, снабженному гигантскими фильтрами; отделению, где хранятся сверкающие подносы и приборы; цеху мороженого с мороженицами и льдосоляными баками; буфетной, где стоит вся фарфоровая посуда и две машины для мытья тарелок; мойке с ее громадными медными тазами и, наконец, заготовочному цеху.
Заготовочный цех — это лаборатория кухни. В нем разделываются рыба, мясо, чистятся овощи, готовятся холодные блюда. Здесь стоят разные машины, холодильники, овощерезки, кадки с солениями. За большим столом посредине цеха повара обедают и ужинают. Сейчас молодежь убирает за собой табуреты, а повара постарше неторопливо покуривают. Здесь едят сорок человек — основная часть «армии»; остальные служащие, разбросанные по разным участкам, едят там же, где работают: десять кондитеров, четыре мороженщика, девять кофеваров, восемь фруктовщиц, семь человек, приставленных к серебру, семь посудников, семь мойщиков.
Под властью Клюзо, которого слушаются, как командира полка, находятся его заместитель Бувар — он же заведует заготовочным цехом — и целый отряд шеф-поваров: закусочник, соусник, супник, рыбники (их двое: один ведает холодными рыбными блюдами, второй — горячими), кондитер, мороженщик, специалисты по сладким блюдам, по приготовлению кофе, заведующие посудой (серебром и стеклом), судомойной, фруктовым цехом, их заместители и заместительницы, помощники, а на кухне и в кондитерской еще есть первые и вторые помощники и, наконец, ученики.
— Забирайте сен-жермэн!
Работа началась. И, как в театре перед поднятием занавеса, зажглись огни. Официант уносит в ресторан первые супницы, повара занимают свои места… Одни подкладывают дрова в раскаленные добела плиты, другие подготавливают свои инструменты, шеф-повара проверяют заказы, вывешенные на щите. Постепенно нарастает обычный кухонный шум: звенит посуда, стучат кочерги, перемешивая уголь; ножи и секачи ритмично, словно барабанные палочки, отбивают такт по деревянным доскам, и, перекрывая этот гам, все чаще и громче раздаются выкрики официантов и ответы поваров.
— Давайте еще одну порцию сен-жермэна!
— Есть!
— Подготовить две порции лангуста!
— Есть!
— Три раковых супа!
— Есть!
Заместитель заведующего Бувар стал у щита на место повара-супника. Два метрдотеля, запыхавшиеся от беготни по лестнице, перебивая друг друга, кричат Бувару через раздаточный стол:
— Банкет в колонном зале состоится на полчаса раньше!
— В зал с кариатидами требуется еще пятьдесят приборов!
Бувар громогласно сообщает:
— Колонный сядет за стол в семь тридцать! Кариатид будет триста!
Из кондитерской доносится голос:
— Тридцать круглых подносов на десять порций каждый!
Кто-то заказывает из кухни:
— Соусники на двоих, на троих и на четверых.
— Есть! — то и дело отвечают из буфетной, где хранятся приборы.
Бувар, повысив голос, читает заказ, который ему только что передал официант:
— Четыре прибора для ресторана. Немедленно подготовить: две порции соль-мюрат, две — соль-лавальер и цыпленка на вертеле.
— Есть! — отвечают одновременно повар-рыбник и повар-мясник. И тут же в свою очередь выкрикивают:
— Кладовщики! Давайте шестнадцать филе камбалы!
— Кладовая, подайте цыпленка!
— Ладно, — доносится голос кладовщика.
Бувар накалывает заказ на один из двухсот пронумерованных гвоздиков, вбитых в щит, и продолжает объявлять новые заказы. Они поступают по нескольку штук в минуту.
Люди бегают между отделениями и все время перекликаются. Голоса становятся все громче, жесты быстрее, походка энергичнее, шум приобретает более ритмичный характер… И вот в этот момент маэстро Клюзо занимает свое место перед щитом, напоминая дирижера у пульта.
В другом конце коридора, там, где беспрерывно снуют официанты и подавальщицы, у окошечка винного погреба, гордо стоит, выпятив живот, краснощекий толстяк. На нем синяя блуза, надетая поверх костюма, и сбоку на серебряной цепочке болтается позолоченный кубок. Это Брисак, заведующий винным погребом. На кухне он пользуется не меньшим почетом, чем Клюзо. Он полновластный хозяин второго подвала. Его царство находится под кухней. Все коридоры этого винного города имеют громкие названия — это проспекты Бургундии, Бордо, Луары, Шампани, Эльзаса… От каждого проспекта ответвляется столько же улиц, сколько во Франции прославленных винодельческих районов: улицы Бон, Медок, Вувре, Траминер, вдовы Клико… Дома в этом огромном лабиринте заменены несчетным количеством ниш, где уложено более миллиона бутылок.
Четырнадцать кладовщиков ухаживают за этим богатством и охраняют его.
Позже Брисак поднимется в ресторан и пройдется по залам, чтобы самому проследить за обслуживанием посетителей. Если среди них окажутся высокопоставленные лица, он сам примет у них заказ. В остальное время заведующий винным погребом находится в своем кабинете. В кабинет Брисака право доступа имеют только служащие, непосредственно подчиненные ему или же равные ему по положению. Днем он часто принимает поставщиков, у него бывают и именитые люди, но если кто-нибудь появится в кухне в то время, когда там идет работа, и не снимет головного убора, то какой-нибудь поваренок обязательно призовет его к порядку, крикнув:
— Шляпу!
Этажом выше, в ресторане, Вильнуар и его белокурая спутница съели суп сен-жермэн и все же решили заказать закуску по-неаполитански…
Внизу Клюзо продолжает объявлять поступающие заказы.
— Десять омлетов со спаржей для табльдота! Только подготовить!
— Есть!
— Две порции соль-меньер для четвертого стола!
— Есть!
— Эй, вы, чего не забираете закуски?
Неожиданно Клюзо торжественно объявляет:
— Приготовиться! Колонный садится за стол…
На крыше восьмиэтажного здания гостиницы развевается флаг с парижским гербом. На фоне неба попеременно вспыхивают большие голубые буквы: «Отель Лютеция».
* * *
В тот вечер Жак Одебер дежурил в кондитерской вместе со стариком Жюлем.
На кухне рядом с ними кипела работа. Пока Жюль замешивал тесто для следующего дня, Жак, стоя у печи, ждал заказов. Для него горячее время еще не наступило.
Он имел возможность подумать о своих делах и забыть о всяких суфле с киршем и компотах. Но рабочее место Жака находилось в помещении кухни, другими словами, в поле зрения Клюзо, и поэтому надо было прикинуться занятым, иначе «шишка» не преминет прикрикнуть:
— Господа отдыхают?
Вот почему Жак Одебер с показным усердием чистил плиту. Одновременно он следил, не появилась ли в коридоре тоненькая фигурка Жаклины, новой официантки, которая поступила в отель «Лютеция» всего месяц тому назад.
Жаклина в своем черном простеньком платьице и белом передничке, обшитом кружевами, была и в самом деле очень привлекательна. Большие синие глаза с лукавым огоньком и черные волосы, подчеркивавшие ее сходство с испанкой, придавали ей озорной вид. И, как всегда бывает с новенькими, особенно если они хороши собой, добрая половина официантов и поваров были в нее влюблены. Жак был из их числа.
Но девушка оказалась с характером. Дня три назад она отпустила здоровенную пощечину шеф-мяснику, который в темном уголке в коридоре осмелился ее обнять и поцеловать в затылок. Впрочем, этот урок не охладил поклонников, которым было лет по двадцать — двадцать пять.
Возможно, поэтому, а может, по каким-то другим причинам, которые Жак сам еще не успел осознать, он еще на той неделе решил попросить у Жаклины свидания. Естественно, что он не собирался нахально приставать, как официант Жозеф, который преследовал всех девушек без разбора. Он хотел просто-напросто попросить разрешения подождать ее у выхода, чтобы вместе пойти в кафе, но все же в глубине души Жак надеялся, что знакомство не остановится на этом.
Хотя Жаклина, казалось, пользуется любым случаем, чтобы прийти в кондитерскую, принося даже заказы других официанток, все же Жак всю неделю не мог решиться на этот шаг. Но сегодня вечером он обязательно должен с нею поговорить, иначе придется ждать еще целую неделю, пока снова не настанет его очередь дежурить у раздаточного стола.
— Кондитер!
— Слушаю.
— Два омлет-сюрприза для ресторана. Подготовить немедленно и поставить на огонь, когда вам скажут.
— Есть!
Жак, обрадовавшись работе, крикнул во все горло:
— Посудники! Блюдо на две порции и колпак на две порции.
Он с удовольствием принялся готовить омлет. На серебряное блюдо, смазанное свежим маслом и посыпанное сахарной пудрой, он положил кусочек бисквита, потом слой ванильного и слой малинового мороженого. Теперь надо было покрыть все это взбитыми белками, смешанными со сливками, и придать сооружению овальную форму, украсив его причудливыми завитками.
В тот момент, когда Жак отходил к холодильнику за мороженым, пришла Жаклина и заказала компот. Он стал взбивать белки, и она снова появилась. Но это было лишь начало…
То ли посетители в тот вечер особенно увлекались омлет-сюрпризами, то ли они все сговорились извести двадцатилетнего юношу, но Клюзо, словно получая от этого огромное удовольствие, только и делал, что повторял своим вкрадчивым голосом:
— Кондитер! Еще один омлет-сюрприз.
И каждый раз, когда Жаклина подходила к раздаточному столу, старик Жюль, из желания помочь молодому товарищу, бросался выполнять ее заказ и при этом приговаривал:
— Занимайся омлетами, дружок, а я буду обслуживать официантов.
И Жак без конца взбивал белки в желтом медном тазике, невольно следуя указаниям отца, владельца кондитерской в Бержераке, которыми тот отравил ему молодые годы ученичества:
— Быстрее. Еще быстрее! Ты должен веничком поднимать всю массу.
Рука начинала болеть, ее сводило, она отказывалась повиноваться, пальцы сами разжимались…
— Больше энергии, ну-ка, еще больше энергии!
Старик Одебер в этом вопросе был непреклонен. По его убеждению, тот, кто не способен взбить белки так, чтобы они стояли, не кондитер. Но Жак, с тех пор как он, отбыв военную службу, поступил в отель «Лютеция», не нуждается в советах отца, здесь он считается специалистом в этой области, и шеф за сноровку называет его механической сбивалкой. Однако эти похвалы не доставляют Жаку особого удовольствия, так как он по-прежнему ненавидит взбивать белки.
Было около девяти часов вечера, когда наконец последний омлет-сюрприз с коричневой корочкой жженого сахара был вынут из раскаленной до трехсот градусов духовки и унесен метрдотелем под серебряным колпаком в ресторан. Жак, весь в поту, уже потерял надежду снова увидеть Жаклину.
Клюзо минут десять назад удалился в свой кабинет. Шум в кухне, достигнув наивысшей точки, стал утихать. Заказы выкрикивались все реже и реже. Атмосфера постепенно разряжалась… Соусники и рыбники уже принялись чистить свои столы. Помощники поглядывали на часы. Только в отделении, где готовилось кофе, продолжалась кипучая деятельность. Официанты и метрдотели, которые толпились раньше у раздаточного стола, теперь стояли в очереди к окошечку винного погреба.
Против всякого ожидания Жаклина пришла. У нее был усталый вид, но она улыбалась, стоя у раздаточного стола с заказом в руке. Жак был занят уборкой посуды и не сразу ее заметил. Жаклина тихонько позвала:
— Жак, пойди сюда.
При звуке ее голоса Жак подскочил к столу.
— Чего хочешь, красавица?
Она протянула ему розовую квитанцию с подписью официанта из кафе, на которой было написано: «десять пирожных».
Жак спросил:
— А ты хочешь пирожное?
Жаклина кивнула головой и шепотом добавила:
— Я больше не могу есть остатки, которыми нас кормят в столовке. Сегодня было еще отвратительнее, чем обычно.
— Какое?
— Слойку.
«Черт побери! — подумал Жак. — У меня не осталось ни одной слойки». Но ему во что бы то ни стало хотелось выполнить просьбу девушки, и он помчался в кондитерский цех, чтобы приготовить «наполеон». На это требовалось минуты две. Занимаясь пирожным, Жак обдумывал, как он скажет Жаклине: «Ты свободна сегодня? Можно тебя подождать у выхода? В котором часу ты кончаешь?»
— Жак, торопись, это срочный заказ.
Он вернулся с блюдом, на котором были разложены одиннадцать пирожных, но Жаклина была уже не одна. Рядом с нею стоял Жозеф — официант из кафе — и пытался добиться с ней свидания. Ничего ему не ответив, Жаклина взяла блюдо, улыбнулась Жаку в знак благодарности и исчезла, ни разу не обернувшись.
— Фигурка что надо, — проговорил Жозеф.
— Чего тебе?
— Ты не мог бы стянуть для меня два пирожных? Я голоден.
— А талон есть?
— Нет.
— В таком случае убирайся. Мне неохота быть уволенным из-за тебя.
Все кончено. На часах четверть десятого, повара бегут к вешалке. Как всегда, только дежурная бригада останется до полуночи. Кондитеры закончили работу. Жак убрал всю утварь и тоже пошел одеваться. В кухне воцарилась тишина, постепенно потухли все лампочки…
У вешалки служащие смеялись над стариком Жюлем. Кто-то в шутку положил ему в башмак яйцо. Старик выжимал мокрый носок и ругался. Жак торопливо оделся и одним из последних пошел к лестнице. В коридоре МейерА, товарищ из рыбного цеха, остановил его и шепотом сообщил:
— Послушай, у меня в кармане цыпленок, а говорят, что сегодня у дверей стоит сам Бекер.
— Ну и что?
— Ты иди вперед, и если он начнет тебя обыскивать, громко кашляни, чтобы предупредить меня, ладно?
Жак медленно поднялся по лестнице. Через застекленную дверь он увидел, что Бекер сидит в своем кабинете и читает вечернюю газету. Жак заметил вверху на первой странице крупный заголовок об автомобильной катастрофе. Не заинтересовавшись этим сообщением, он снял свою карточку, сунул ее в часы, чтобы отбить время ухода, и спокойно вышел через служебную дверь на бульвар. Он увидел, как разукрашенный пуговицами грум открыл дверцу такси, а Вильнуар, стоя в подъезде, галантно пропустил свою любовницу, укутанную в норковую шубу.
* * *
Было около десяти, когда Жак, дежуривший около гостиницы, наконец дождался Жаклины. Она вышла вместе с одной из подавальщиц кафе. Девушки, не заметив его, направились в сторону улицы Шерш-Миди. Жак решил про себя: «Я знаю, что она ездит в метро; наверное, она сядет на станции Сен-Сюльпис. Нужно сделать круг и выйти им навстречу с другого конца улицы».
У перекрестка улиц Севр и Шерш-Миди Жак отдышался и с таким видом, словно он, прогуливаясь, возвращается домой, медленно пошел по тротуару. Показались Жаклина с подружкой. Они шли под руку и хохотали.
— Посмотри-ка, вон Жак!
— Добрый вечер, Жак, куда это ты так понуро бредешь?
— Домой, ведь я живу рядом с отелем.
Жаклина лукаво посмотрела на него большими синими глазами.
— Странный путь ты выбрал.
— Я всегда прогуливаюсь, перед тем как идти домой.
— Один?
— Как видишь.
Девушки приветливо улыбались.
— Зайдем в кафе? — осмелился предложить Жак.
— При условии, что мы не засидимся, — согласилась Жаклина.
— Вас ждут?
— Ты слишком много хочешь знать.
Боясь, что они встретят кого-нибудь из сослуживцев и тот увяжется за ними, Жак повел девушек в ближайшее приличное кафе.
Прошли в зал. Жаклина с подругой сели на диван. Жак заказал всем по стакану черного кофе и по рюмке коньяку. Он был в ударе и рассказывал о разных смешных случаях на работе. Спутница Жаклины — Сюзанна — не отличалась красотой, но она смеялась по любому поводу и без умолку болтала. Жак не хотел, чтобы она подумала, будто он пригласил их ради нее, и поэтому нарочито обращался только к Жаклине, расспрашивал ее, сперва осторожно, а потом все более настойчиво…
Жаклина приехала в Париж полгода назад по совету своей подруги, которая уверяла, что здесь ей будет легче жить, чем в провинции. Ее отец работал докером в Бордо. У нее два брата и сестра одиннадцати лет. Конечно, в «Лютеции» служить нелегко, зарабатывает она мало и очень устает от беготни по лестницам, но все же она может хоть немного помогать семье…
Все, что рассказала Жаклина, понравилось Жаку, подтвердило то хорошее впечатление, которое она сразу произвела на него. Но в то же время в нем проснулась какая-то робость. По природе Жак был застенчив. Он был красивый парень и нравился женщинам, но все его любовные похождения в столице до сих пор ограничивались легким ухаживанием. Сейчас ему страстно захотелось завести настоящую, преданную ему подружку. О женитьбе, естественно, он и не помышлял, так как жизнь его только начиналась, обещая радости и удовольствия.
— Слушай, — внезапно сказала Жаклина, — ты нас надул, скоро уже одиннадцать.
Девушки встали одновременно и, пока Жак расплачивался с официантом, подмазали губы и попудрились перед зеркалом.
— Ну, я с вами прощаюсь, — сказала Сюзанна, когда они вышли из кафе.
Положение складывалось благоприятно, и Жак, набравшись храбрости, предложил:
— Можно тебя проводить?
— До метро, и не дальше.
— Но мы уже у самого метро!
— В таком случае прощай.
— Жаклина, послушай…
Она бросила на него пытливый взгляд.
— А мне казалось, тебе некогда.
— Может быть, нам еще немножко пройтись?
— Ладно, но только до следующей станции.
По дороге Жак рассказывал ей о своих товарищах по работе, о том, что его устроил в ресторан заведующий винным погребом Брисак.
— А ведь он порядочная дрянь, — заметила Жаклина.
Так, болтая, они пересекли бульвар Сен-Жермэн и к полуночи оказались на мосту Ар. Облокотившись на балюстраду, они молча смотрели на величественные очертания Ситэ. Разноцветные огни отражались в сонной воде Сены. Жаку хотелось поцеловать Жаклину. Но он не знал, с чего начать, обнять ли ее за талию или взять за руку, и ограничился тем, что ближе пододвинулся к ней.
— Мне пора домой, — сказала Жаклина, отодвигаясь.
Жак, мрачный и расстроенный, довел Жаклину до гостиницы, где она жила.
Гостиница имела приличный вид, но находилась она на одной из узких подозрительных уличек, ведущих к рынку.
— Ну вот ты и дома, Жаклина.
— Спасибо. Мне было бы страшно так поздно возвращаться одной.
Она протянула ему руку и исчезла за дверью гостиницы.
«До чего же глупо я себя вел», — думал Жак на обратном пути. Вокруг него крестьяне складывали на тротуар и на мостовую горы овощей. В освещенных лавках виднелись наваленные мясные туши и ящики с фруктами. Рыночные носильщики с тележками кидались к каждому вновь прибывшему… Бродяга собирал разбросанные по мостовой капустные листья. Декольтированные женщины и подвыпившие кутилы, пошатываясь, выходили из машины американской марки.
Как и каждую ночь, на гигантский рынок оптом прибывал суточный рацион Парижа, и каждое утро здесь среди толпы покупателей можно было встретить хозяйственника ресторана «Лютеция»; он приезжал сюда с двумя грузовичками, чтобы закупить провизию для своих тысячи с лишним посетителей и трехсот служащих.
II
Жак Одебер встал на цыпочки, пытаясь увидеть поверх занавесок, что происходит в задней комнате кафе. За те четверть часа, пока он прохаживался по тротуару, в кафе вошли только пожилая дама и вслед за ней двое молодых людей. Дама, возможно, тут служит, у нее такой вид, словно она возвращается в привычное место, а парни, по-видимому, просто решили выпить по стаканчику. Но в самом кафе посетителей не было видно. Один только хозяин, сидя за стойкой, спокойно читал газету.
Жаку не хотелось привлекать к себе внимание, и он пошел дальше. Он встретил торопившуюся куда-то молодую женщину с кожаным портфелем под мышкой. Обернувшись, Жак увидел, что она вошла в кафе. Он снова вынул из кармана плаща смятую бумажку и перечитал ее на ходу. Это именно тот адрес. На приглашении написано: «начало в двадцать часов тридцать минут», и цифра подчеркнута. Сейчас уже без четверти девять. В половине десятого Жаклина, как всегда, выйдет из «Лютеции»…
Жак подумал было отказаться от приглашения, которое ему прислали, и, пока не выйдет Жаклина, погулять по бульвару Монпарнас. Но моросящий дождик и холодный ветер придавал улицам грустный вид. Машины настороженно двигались по блестящему асфальту, немногочисленные прохожие шли торопливой походкой, влюбленные парочки, как озябшие воробьи, прятались в подворотнях. Прогулка в такую погоду не сулила ничего приятного, и Жаку, чтобы убить время, оставалось либо вернуться домой, либо зайти в какое-нибудь кафе. Он решил еще раз пройтись и все продумать…
От кого же могло исходить это приглашение? Накануне, вернувшись в свою комнатку на улице Ассас, полный впечатлений от свидания с Жаклиной, он обнаружил под дверью конверт. В нем был отпечатанный на машинке листок: «Дорогой друг, зная, что Вы, как и большинство французской молодежи, сочувствуете делу мира, Комитет мира Вашего района приглашает Вас на очередное собрание. Будут обсуждаться необходимые меры, чтобы помешать созданию ЕОС и воспрепятствовать перевооружению Германии. Мы надеемся, что Вы откликнетесь на наше приглашение, и просим привести Ваших друзей. Примите наши наилучшие пожелания. С глубоким уважением» — и следовала отчетливая подпись: «Ирэн Фурнье, секретарь комитета». Внизу, обведенный карандашом, был приписан адрес, по которому надо явиться, и час, на который назначено собрание.
В первую минуту Жак решил, что произошла ошибка, и хотел было вернуть письмо консьержке, но на конверте стояла его фамилия и адрес. Он ничего не мог понять.
Во-первых, что это за «комитет мира»? И что такое вообще «комитет»? Жак впервые над этим задумался. Конечно, он слышал это слово много раз, но до сих пор подобные организации интереса в нем не вызывали… Его отец был членом бержеракского праздничного комитета. В представлении Жака это было общество, в котором три или четыре раза в год собирались все именитые горожане. Он знал, что в этот комитет входило всего человек пятнадцать-двадцать. Ему казалось, что и все остальные комитеты, о которых он слышал, похожи на бержеракский. Во всяком случае, всегда речь шла о каких-то обществах, состоящих из знакомых между собой людей. В данном же случае его приглашают совершенно чужие люди и еще предлагают привести друзей!
Но как они узнали его адрес и фамилию? Кто же мог дать им эти сведения? Брисак? Дирекция гостиницы? Едва ли. Консьержка Томасен? Зная ее болтливость — вполне возможно. С нею он еще выяснит этот вопрос…
Ну а при чем тут мир? «Зная, что Вы, как и большинство французской молодежи, сочувствуете делу мира…» Большинство молодежи? Значит, им известен его возраст? «Зная, что вы сочувствуете…» Сказано неплохо, но что они под этим подразумевают? Бесспорно, миру он сочувствует. Да и кто этому не сочувствует? Отец во время первой мировой войны пробыл около полутора лет на фронте. Два его дяди, которых он так и не увидел, погибли тогда в расцвете лет. В 1939 году отец был снова мобилизован и при отступлении попал в плен. Все пять лет, пока его не было, мать Жака работала за двоих. Она умерла от бронхопневмонии вскоре после Освобождения. И еще один член их семьи погиб на фронте — крестный Жака, его-то он хорошо знал. Да и сам Жак, отбывая военную службу, находился под угрозой отправки в Индокитай. Однажды вечером, когда они с товарищем пошли развлечься в город, они дали друг другу слово, в случае если их заставят ехать туда, дезертировать. Может быть, люди, пригласившие его на собрание, знали об этом?
В вопросе о войне у Жака были свои убеждения. Достаточно, думал он, чтобы каждый отказался воевать, и войны не будет. Честно говоря, он не сам дошел до этой мысли, он слышал, как один товарищ его отца, тоже бывший фронтовик, заявил однажды: «Заставить бы воевать между собой только тех, кто хочет войны, и они все уместились бы на лугу перед моим домом. Я бы их всех согнал туда голышом, огородил бы хорошим забором, выдал бы дубинки, и валяйте, деритесь себе, раз вам так этого хочется».
Может быть, этот комитет собирается объединить всех, кто, как Жак, не хочет войны? Неплохая затея. Конечно, надо бы всем сговориться. Но чем может помочь комитет? Жака беспокоил еще один вопрос: что это за ЕОС? Эти буквы ничего ему не говорили, и он боялся, как бы его невежество не послужило поводом для насмешек. Днем он спросил МейерА, своего друга из рыбного цеха:
— Ты не знаешь, что это за ЕОС?
— Я читал в газетах. Это что-то вроде соглашения с немцами.
Жак не забыл своего детства. Грязно-зеленые мундиры на улицах Бержерака. Каждый раз, когда солдаты заходили в магазин, мать подзывала Жака к себе, словно ограждая его от опасности…
— Хочешь пойти на собрание, где об этом будут говорить? — предложил Жак товарищу.
— Когда?
— Сегодня вечером.
— Не могу, старина. У меня свидание с Сюзанной. И вообще я политикой не занимаюсь.
Жак не стал настаивать, равнодушие товарища отбило и у него охоту идти, но вечером, когда он вернулся домой, консьержка спросила:
— Так вы идете на собрание?
— А откуда вы о нем знаете?
— Я получила такой же конверт, как и вы.
— Не знаю, я еще подумаю.
Теперь он все обдумал и решил, что не пойдет. Во-первых, он может там задержаться и пропустить Жаклину. А кроме того — и это основное, — ему было страшно оказаться среди совсем незнакомых людей. И вот он твердой походкой вернулся назад, проходя мимо кафе, он заглянул в дверь и чуть не сбил с ног консьержку Томасен.
— Правильно, мсье Жак, сюда.
Он растерялся и, словно бросаясь в воду, решительно вошел вслед за нею…
У стойки прилично одетый господин допивал чашку кофе и хозяин наливал стакан красного вина пареньку в рабочем костюме.
Жак чувствовал себя так, будто попал в западню. Он попытался оттянуть время:
— Я вас угощаю, мадам Томасен.
— Потом, мы и так, наверное, опоздали.
Они прошли в заднюю комнату. За столиками сидело человек двадцать. Томасен заняла место, явно оставленное ей, рядом с пожилой женщиной. Жак, смущенный устремленными на него взглядами, поклонился и облегченно вздохнул, когда ему предложили стул. Прилично одетый господин и паренек в рабочем костюме вскоре сели за один с ним столик.
— Какая тяжелая утрата, — сказал паренек, пожимая руки некоторым из собравшихся.
— Какое несчастье, — произнесла какая-то женщина, утирая слезы.
Видимо, собрание еще не началось, все продолжали перешептываться, и Жак, воспользовавшись этим, снял плащ, закурил и стал разглядывать окружающих…
Его внимание привлекла молодая женщина, одиноко сидевшая в глубине комнаты. Он вспомнил, что видел ее на улице с портфелем под мышкой. Она улыбнулась Жаку, и он ответил ей, слегка покраснев. Женщина разбирала какие-то бумаги, и Жак догадался, что это и есть секретарь комитета, та самая Ирэн Фурнье, которая подписала приглашение.
Кроме Ирэн Фурнье, здесь были и другие хорошенькие женщины. Жак с удовольствием обнаружил как раз напротив себя двух девушек, которые негромко болтали между собой. Он смутился при мысли, что они могут шушукаться по его адресу, и перевел взгляд на соседку Томасен — пожилую женщину, одетую во все черное. Ее красивые седые волосы и изборожденное морщинами лицо выражали одновременно благородство и доброту матери семейства. Среди собравшихся были очень разные люди: преобладали женщины почтенного возраста, но было также несколько мужчин, четверо молодых людей — один из них, высокий юноша в очках, нервничая, просматривал газеты. Какой-то человек лет сорока, с несколькими орденскими ленточками в петлице, уселся рядом с секретарем комитета и принялся вместе с ней изучать листки с выписками.
Судя по выражению лиц и по разговорам, все были чем-то опечалены.
Вошли еще четверо, и среди них опять хорошенькая женщина; присутствующие потеснились и освободили им место. Последним появился смуглый человек, по-видимому алжирец, в потрепанном костюме; он примостился у самой двери. Было уже четверть десятого. Многие стали поглядывать на часы…
— Профессор Ренгэ не сможет прийти, поэтому мы предлагаем, чтобы вел собрание аббат Дюбрей, — сказала Ирэн Фурнье.
— Хорошо, — раздались голоса.
К удивлению Жака, за стол сел молодой человек в очках.
— Мы просим также мадам Флери занять место в президиуме.
В ответ на это приглашение встала пожилая женщина, сидевшая рядом с Томасен. Молодой человек в очках посоветовался о чем-то со своими соседями, торопливо записал что-то и не спеша поднялся с места. «Он скорее похож на пастора», — подумал Жак.
— Господа, — сказал аббат, — вы уже знаете о постигшем нас страшном несчастье. Погиб наш друг Ив Фарж. Предлагаю, прежде чем открыть собрание…
Собравшиеся встали и молчанием почтили память Фаржа. Жак последовал общему примеру, не понимая толком, что происходит. Он слышал, как эту фамилию называли сегодня в связи с автомобильной катастрофой. По-видимому, об этой тяжелой утрате и говорил паренек, который показался Жаку забавным. Сейчас он стоял с убитым видом. Среди полной тишины доносился отдаленный шум улицы, слышно было, как хлещет дождь, проехала машина…
— Благодарю вас, сказал аббат, жестом предлагая всем сесть.
Жак взволнованно, с большим вниманием слушал рассказ о заслугах человека, о котором он еще несколько минут назад ничего не знал.
— Он был основатель объединяющего нас с вами движения за мир… председатель Национального комитета мира… горячий патриот, выдающийся французский деятель…
В Жаке проснулось неведомое до сих пор чувство. Его взволновало не столько то, что здесь говорилось, сколько скорбное выражение лиц окружающих. Мадам Флери сидела бледная как полотно, а девушки-подружки даже не пытались скрыть слезы.
Да, если, вспоминая об Иве Фарже, люди так искренне горюют, значит, он и в самом деле был очень хороший человек. Аббат говорил о нем как о своем друге, но большинство присутствующих, наверное, никогда не видели его и все же горевали о нем, как о близком человеке. Есть же на свете такие люди! Ведь о существовании Ива Фаржа Жак даже не подозревал, его гибель еще совсем недавно была ему безразлична, а теперь он вошел в жизнь Жака… Вот это человек!
Аббат передал слово господину с орденскими ленточками и сказал, что тот сделает сообщение о ЕОС.
Докладчик достал какие-то листки и начал… Вскоре его голос зазвучал уверенно и даже слишком громко для такого маленького зала, как показалось Жаку, но ему понравился перигорский акцент оратора, и он тихонько спросил у сидевшего рядом паренька:
— Откуда он?
— Из АРАС[1].
Жак решил больше не задавать вопросов. Первая часть доклада была понятна, в ней говорилось о двух последних войнах, но когда оратор перешел, как он выразился, к анализу ЕОС, все стало очень туманным; по словам оратора, ЕОС было сообществом так называемой европейской защиты и оно же являлось результатом соглашений, подписанных в Бонне и Париже… Жак упрекнул себя в невежестве, из-за которого он не мог понять то, что остальным было совершенно ясно. Но он заметил, что подружки и консьержка тоже с трудом следят за объяснениями. Жак перестал слушать, тем более что стрелки часов неумолимо двигались, а он все еще не мог придумать, как выйти отсюда, чтобы успеть зайти за Жаклиной. К счастью, докладчик перешел к более конкретным данным. Он назвал количество вооружения, которое по условиям ЕОС получит Германия. Эти цифры произвели на Жака тяжелое впечатление, и он обрадовался, что ЕОС вступит в силу только после того, как подписанные соглашения будут ратифицированы французским парламентом… «Сорвать ратификацию в нашей власти», — сказал в заключение оратор. Ему зааплодировали. Было уже двадцать пять минут одиннадцатого.
Аббат спросил, нет ли вопросов, но все молчали, и он предоставил слово Ирэн Фурнье.
Жак испугался, что сейчас начнется еще один доклад, но тут же успокоился. Молодая женщина, казалось, говорила специально для него. Ссылаясь на сказанное докладчиком, она изложила все гораздо понятнее и предложила выпустить воззвание против перевооружения Германии… «Каждый из вас сможет собрать подписи среди окружающих, хотя бы под одним экземпляром воззвания. И мы поможем тем самым сорвать ЕОС… Это лучшее, что мы можем сделать в память о нашем дорогом Иве Фарже».
Только она кончила говорить, как кто-то поднял руку.
— Слово имеет Огюст Пибаль, — объявил аббат.
Паренек в рабочем костюме предложил составить бригаду для сбора подписей по домам.
— Было бы великолепно, между прочим, если бы вон те две девушки согласились ходить со мной, — добавил он, рассмешив подружек.
Жак вместе со всеми подошел к столу, ради приличия взял два экземпляра воззвания и заодно сказал, что вынужден уйти.
Ирэн Фурнье поблагодарила его за то, что он пришел, мило улыбнулась и пожала ему руку.
* * *
Жаклина, как всегда, несколько раз появлялась в кондитерском цехе, но была величественно равнодушна и как будто нарочно, в пику Жаку, благосклоннее обычного выслушивала комплименты официанта Жозефа. При этом она была удивительно хороша. Вьющиеся черные волосы блестели так, словно она только что от парикмахера; губы точно спелые вишни. Поддразнивает она его или же в самом деле ей льстит грубое ухаживание Жозефа? Все девушки таковы! Жак, задетый за живое, из кожи вон лез, чтобы угодить Жаклине, и наконец добился от нее улыбки.
Накануне, когда он вышел с собрания, было уже поздно, у него мелькнула мысль сесть в такси, чтобы поспеть к тому времени, когда Жаклина выходит из ресторана, но он побоялся быть слишком назойливым. Вот почему он решил встретить ее сегодня и предупредить об этом заранее.
Завтра, насколько он знал, у нее выходной, значит, она не будет, как обычно, торопиться домой.
Жак издалека повел разговор с МейерА:
— Ну, как у вас с Сюзанной?
— На мази.
— Она была одна?
— Нет, со своей подружкой из кафе, но та сразу же ушла.
— Ее кто-нибудь ждал?
— Не знаю, я никого не видел.
Значит, надежда еще не потеряна. Все дело в смелости и предприимчивости. Но Жаку не удалось их проявить. Брисак, заведующий погребом, вызвал его к себе в кабинет.
— Послушай, сынок, почему ты перестал бывать у нас?
— Но я же недавно приходил.
— Да, да, три недели тому назад. Я же тебя приглашал бывать по субботам. Может быть, у тебя завелась интрижка?
— Нет, ничего похожего.
— Имеешь полное право, и нечего краснеть. Значит, ты свободен сегодня?
— В котором часу?
— Как всегда. Я вернусь домой в половине десятого, а ты можешь прийти и раньше. Сегодня как раз день рождения Лоры. Договорились? Ладно?
— Хм… Хорошо.
Жак рвал и метал, все его планы срывались из-за этого проклятого приглашения, от которого он не сумел отказаться сразу и не мог придумать предлога, чтобы отговориться. Помимо всего, ему начинало казаться подозрительным внимание этой семьи к нему.
Полгода назад Жак приехал из провинции в Париж и явился к Брисаку с письмом от своего отца. Заведующий погребом, добродушный на вид человек, принял его гостеприимно, как земляка. Посыпались расспросы о семье, о Бержераке, об общих знакомых, все это сопровождалось традиционной дегустацией хорошего вина, и при этом заведующий погребом небрежно говорил: «Бутылка такого шато-икэма стоит здесь тысячу франков». Брисак вспомнил, как они с Филиппом Одебером проводили время в молодости, поздравил Жака с похвальным решением перебраться в Париж: только здесь он сможет познать все тонкости ремесла, а они существуют в каждой профессии.
— Итак, сынок, ты, конечно, хочешь устроиться на работу в нашем ресторане?
— Да, если это возможно.
— Для парня из хорошей семьи нет ничего невозможного. Сейчас я тебя познакомлю с одним из крупнейших дельцов Парижа.
Брисак снял телефонную трубку.
— Алло… говорит Брисак. Вы бы не могли заскочить на минутку ко мне… Кстати, вас ждет бутылочка сотерна.
Клюзо был небольшого роста, но задирал голову с таким надменным видом и обливал вас таким презрением, что Жак почувствовал себя совсем маленьким.
— Так вы кондитер, молодой человек?
— Да, мсье.
— В ресторане работали?
— Нет еще.
— У печи вы справитесь?
— Мне кажется, что справлюсь.
— Хорошо. Приступите в понедельник: двадцать три тысячи пятьсот франков в месяц со столом.
— Как видишь, все это оказалось легче легкого, — сказал Брисак Жаку, когда директор ушел. — А теперь я тебе дам совет: если ты в самом деле хочешь здесь удержаться и пробить себе дорогу, не хорохорься. Вот видишь, чего я достиг, а ведь, когда начинал, у меня не было ни су и у отца не было собственного магазина…
Тогда будущее представлялось Жаку в радужном свете. Его взяли в крупный парижский ресторан, ему назначили жалованье, он будет сам себе хозяином… Беспокоило его только, справится ли он с работой, на которую его наняли.
— Где ты живешь? — спросил Брисак.
— В гостинице.
— Надо тебе подыскать комнату, я этим займусь, а пока что приходи завтра к нам ужинать.
С тех пор так и повелось. Во время ужина Жак познакомился с женой Брисака, незаметным существом, жившим жизнью мужа и дочери Лоры. Болезненная и худощавая девушка была избалована отцом, который поощрял все ее капризы. В тот вечер она надоедала отцу до тех пор, пока он не согласился подарить ей новое пианино. Своими лукавыми вопросами и живыми репликами Лора несколько сгладила первое дурное впечатление, которое она произвела на Жака, но все же, хотя она и оказалась остроумной и смех у нее был приятный, Жак, глядя на ее красивые, большие черные глаза, не мог отвлечься от ее уродливого плоского носа, унаследованного от отца.
Через несколько дней Жак переселился в соседний дом, на седьмой этаж, в комнатку для прислуги, которую он получил благодаря Брисаку. Это была крошечная мансарда, почти без мебели, но оклеенная новыми обоями. Окно выходило на крышу, и это придавало комнатке парижскую поэтичность. И Жак, совсем как герой Бальзака, любуясь открывшимся перед ним уголком огромного города, воскликнул: «Теперь мы с тобой потягаемся!»
Жак провел еще несколько довольно скучных вечеров в семье Брисака, и его пригласили бывать у них каждую неделю. Все развлечения сводились к телевизору и питью чая с печеньем. Бывало, что Брисак приходил домой в дурном настроении, которое не способна была рассеять даже дочь. Он ложился в гостиной на диван и читал газеты. Его жена, отдав необходимые распоряжения прислуге, садилась с вязаньем за маленький круглый столик. Жаку предоставлялся выбор: либо рассматривать коллекцию почтовых марок Лоры, либо слушать фугу Баха в ее скверном исполнении. В такие вечера Жак был освобожден от телевизора, но ему не всегда удавалось избежать второй чашки чая, который он ненавидел. Лора становилась все любезнее с Жаком, это заронило в нем серьезные опасения, и он старался под любым предлогом как можно реже бывать в этой семье.
Но, оказывается, старик Брисак отнесся к этому неодобрительно, значит, его зазывали, чтобы он ухаживал за Лорой. Теперь Жак в этом окончательно убедился и не на шутку перепугался. Правда, он с нею подружился, но она совсем не казалась ему привлекательной. Да и вообще размеренная семейная жизнь ничуть не соблазняла Жака.
Ему не хотелось бывать у Брисаков еще и по другой причине. У себя дома Брисак был очень приветлив и поражал Жака трогательной заботой о дочери. В ресторане же он вел себя очень странно и недоброжелательно. Весь персонал его боялся, и он ни с кем не разговаривал. Когда Жак здоровался с ним, Брисак буркал что-то невразумительное. Один из товарищей по работе в первый же день, не стесняясь в выражениях, многое разъяснил Жаку.
— Так ты здесь по блату бульдога? — спросил он Жака.
— Какого бульдога?
— Я говорю о Брисаке. Ведь это он тебя устроил сюда?
— Он.
— Да, некрасиво получилось. Он отказался принять на работу одного товарища, чтобы устроить тебя… А тот — член профсоюза и женился всего два месяца назад.
— Я об этом ничего не знал.
— Ясно. Во всяком случае, мы тебя предупреждаем: шпиков и так здесь достаточно.
Жак вскоре понял, что на кухне все ненавидят Брисака не меньше, чем надзирателя Бекера. Стоило кому-нибудь из служащих ослушаться Брисака, как тот немедленно его выгонял. Он грубо приставал к женщинам, и говорили даже, что он самыми неприглядными способами пытается добиться благосклонности у молоденьких учениц, но в это Жак не верил. Ходили еще слухи, что во время войны, когда в «Лютеции» находился штаб гестапо, Брисак с Бекером были на лучшем счету у гитлеровцев.
С Клюзо дело обстояло иначе. Его частная жизнь была безупречна, и вел он себя, как вельможа. На работу он приезжал в собственном ситроене. Говорили, что он миллионер, имеет под Парижем замок в Солоньи и состоит акционером гостиницы «Лютеция». Все перед ним дрожали, но он действовал открыто и никогда не наносил удара в спину. Он был требователен ко всем, и к себе тоже.
Обращаясь к подчиненному, Клюзо называл его «мсье», вообще же разговаривал со служащим, только отдавая приказание, делая замечание по работе или же увольняя его.
Шеф-кондитеру хотелось угодить подопечному Брисака, и он взял Жака под свое покровительство, учил его и помогал ему преодолеть трудности, связанные с новой обстановкой. Юноша был ему очень благодарен и старался работать как можно лучше. Но в течение первых недель Жак чувствовал едва скрытое недоброжелательное отношение к себе остальных сослуживцев.
Все это охладило в значительной мере то восторженное состояние, которое овладело им в первый день. Ему пришлось почувствовать свое новое положение: здесь он такой же служащий, как и все. Поэтому-то он и не решился отказаться от приглашения заведующего винным погребом…
Он вышел из ресторана в семь часов вечера и пошел домой. У входа консьержка остановила его.
— Ну как, мсье Жак, вам понравилось вчерашнее собрание?
— Да ничего. Хорошо, если бы было побольше народа.
— Знаете, я уже собрала пятнадцать подписей. Все соглашаются. Наш бакалейщик и тот подписал. А ведь он всегда отказывался дать свою подпись, даже под Стокгольмским воззванием. Он мне говорил: «Бедняжка, вы зря стараетесь, все это ни к чему».
Жак хотел было расспросить консьержку, что это за Стокгольмское воззвание, но вспомнив, что у него нет еще ни одной подписи, поспешил к себе в комнату. Он написал письмо отцу, приоделся и явился к Брисакам задолго до назначенного часа. Он надеялся уйти пораньше, чтобы встретить Жаклину; сегодня, накануне выходного, она должна задержаться позже всех.
Квартира Брисаков занимала целый этаж. Дверь открыла сама Лора. На ней было широкое шелковое платье, скрывавшее худобу, и Жак даже нашел ее красивой.
— Как мило, что вы пришли именно сегодня. По заказу папы мне прислали торт с девятнадцатью свечами.
О торте Жак уже знал. Шеф-кондитер всю вторую половину дня был занят сахарными розами, которые должны были служить подсвечниками, и превзошел себя, придав им совершенно естественный цвет, цвет платья Лоры.
— Это для дочери заведующего погребом, — сказал кондитер, показывая свое произведение.
— Надеюсь, что бульдог поставит нам хотя бы бутылочку хорошего вина, — ответил один из служащих.
Жак, увидев, как ему обрадовалась Лора, вспомнил о дне рождения и с запозданием подумал, что следовало бы приличия ради принести букет цветов. Он искупил свою вину тем, что был с нею как можно более предупредителен.
Брисак вернулся домой раньше, чем всегда. Он принес бутылку шампанского и еще один подарок дочери. Она развернула пакетик, вынула оттуда золотой браслет и радостно кинулась на шею отцу. Мать Лоры усиленно ухаживала за Жаком. Брисак против обыкновения сиял и не давал Жаку раскрыть рот.
— Ну как, сынок, ты доволен? Клюзо сказал, что у тебя неплохо получается.
— Я вам очень благодарен, мне нравится эта работа.
— Тебе бы не мешало научиться и кулинарному делу.
— Теперь уже поздно.
— Как это поздно? Тебе всего двадцать два года. В двадцать пять ты бы мог стать шеф-поваром. Надо воспользоваться такими возможностями.
— Да, но отец…
— Отец в тебе не нуждается. У него есть все, что ему нужно. Он даже может и тебе помочь. Тебе надо подумать о том, чтобы года так через три-четыре завести собственное дело. Ты слышал о Ляско?
— Вы говорите о гротах под Монтиньяком?
— Вот-вот. У нас в Дордоньи это самое красивое место. Всего несколько месяцев назад там раскопали целую галерею старинных картин, которым по двадцать тысяч лет. Просто чудо. И находится это в гуще леса, пришлось проложить дорогу, но кругом ничего нет. Там можно здорово разбогатеть.
— Вероятно.
— Видишь ли, будь я помоложе, я бы там открыл гостиницу с хорошим шеф-поваром, вроде маленькой «Лютеции». Настоящий клад, поверь мне. Денежки, сынок, — только их и ценят в наше время.
— При условии, если не будет войны.
— А кто говорит о войне?
— Газеты. Возьмите хотя бы это ЕОС. Они хотят перевооружить немцев.
— А ты этим интересуешься?
— Нет, но…
И Жак рассказал все, что узнал накануне на собрании, о том, с каким уважением там вспоминали Ива Фаржа…
— Я сам несколько раз обслуживал его, когда он был министром снабжения, — заметил Брисак. — Хороший был человек, не гордый и знал толк в вине…
Брисак слушал Жака с таким вниманием, что тот, вспомнив об обязательстве, которое он взял на себя, нашел уместным предложить ему подписать воззвание.
— Вы, наверное, не откажетесь…
Брисак повертел лист с текстом и сказал:
— Слушай, сынок, когда ты поступил в ресторан, я тебе говорил, чтобы ты не хорохорился. И вот тебе мой совет: плюнь на это дело.
— Почему?
— За этим так называемым комитетом мира стоят коммунисты.
— Ну и что, ведь они против войны?
— Рассказывай! Они говорят это, чтобы надуть таких дурачков, как ты.
— Значит, вы отказываетесь дать свою подпись?
— Наотрез.
— Умоляю вас, — вмешалась Лора, — бросьте вашу политику. Посмотрите, Мелани принесла торт…
Брисак откупорил шампанское…
III
Анри Вильнуар распахнул ставни. Он полюбовался цветущими ветками каштанов, свисающими через решетку Люксембургского сада, посмотрел на воробьев, со щебетом купавшихся в утренней росе, глубоко вдохнул весенний воздух и обернулся со счастливой улыбкой.
— Маринетта! — позвал он.
Подушка слегка шелохнулась от движения хорошенькой светлой головки, и одеяло, свисавшее с кровати, обрисовало контуры перевернувшейся на бок фигуры.
Бледно-голубые стены подчеркивали простую изысканность двух репродукций Ренуара; на широкой кровати из розового дерева царил полный беспорядок; на полу лежал мягкий пушистый ковер, ступая по которому, вы словно погружались в вату; диван и два кресла, обитые голубым бархатом, казалось, специально предназначены для того, чтобы на них валялось брошенное как попало женское шелковое белье; большой пуф возвышался перед туалетом, на котором выстроились в ряд флаконы и нейлоновые щетки. Все это было залито ярким светом, за исключением портфеля, набитого папками, и мужского галстука, лежавших на стуле за маленьким секретером из красного дерева, который стоял сбоку от окна.
Белокурая женщина приподнялась, открыла глаза, сморщила носик и жалобно, как ребенок, проговорила:
— Зачем ты меня разбудил?
— Детка, уже восемь часов.
Маринетта села на постели и протерла глаза.
— Немедленно закрой окно, я замерзла.
Вильнуар, схватив Маринетту за руки, взглядом искал, куда бы поцеловать: в изящные плечи или в белую грудь, едва прикрытую кружевами.
— Пусти, я должна встать.
— Подожди немножко, завтрак еще не готов.
Вильнуар кинулся в кухню, откуда доносилось подозрительное шипение. Образцовая кухонька, такая же белая, как молоко, которое в этот момент убегало на электрической плите, была прихотью Маринетты. Она ее оборудовала холодильником, маленьким универсальным моторчиком и покрытыми белой эмалью стенными шкафами.
Вильнуар не сразу решился купить эту квартиру, и не потому, что ему было не под силу заплатить за нее два миллиона, но она ему казалась слишком тесной. Правда, она помещалась в тихом доме, как раз напротив Люксембургского сада, что было очень приятно, но в ней, кроме спальни и ванной, была еще только одна крошечная комната, которую лишь с трудом можно было превратить в кабинет.
— Зачем тебе кабинет? — удивилась Маринетта.
— Где же я буду работать, заниматься делами?
— У тебя есть другая квартира. А эта будет только для нас с тобой, наше гнездышко. Из маленькой комнатки я сделаю кухню.
Вильнуар попробовал возражать, говорил о ненужных расходах. Маринетта дулась и настаивала на своем.
— Не относись к этому, как к детской затее, в случае необходимости мы сможем поесть дома. Будет очаровательно.
Вильнуар сдался и теперь был рад, что не купил большую квартиру — там бы потребовалась прислуга; здесь им было удобно, они с Маринеттой были одни, о чем оба всегда мечтали, а убирала квартиру их консьержка Журдан.
Влюбленные каждую неделю встречались в своей собственной квартире, и никто о них ничего не знал. Обычно это бывало по понедельникам. Анри Вильнуар приезжал из Перигё во второй половине дня. «Депутатские обязанности», — говорил он домашним с утомленным видом. И в самом деле, во вторник утром он отправлялся в парламент. Когда же Национальное собрание распускалось на каникулы, Вильнуар, ссылаясь на свои депутатские обязанности и заводские дела, всегда мог приехать в Париж и таким образом продолжать видеться со своей молодой возлюбленной.
Маринетта Делорм приезжала из Вандома. Она каждый вторник проводила в Париже, цепляясь за всякий удобный случай, чтобы еще продлить свое пребывание.
— Молодая обеспеченная женщина не может вынести монотонной жизни маленького провинциального города, — говорила она в свое оправдание. Ее занятия сводились к тому, что она делала покупки в универсальных магазинах. Она приезжала в понедельник вечером поездом, а чаще в своей машине и отправлялась прямо к тетке, вдове, жившей в пригороде Парижа. У тетки Маринетты было много поклонников, она сочувствовала своей племяннице и с самого начала поощряла ее связь с Вильнуаром. У Маринетты не было семейных осложнений, которые тревожили ее возлюбленного. Она давно вела независимый образ жизни, и ее муж, довольно покладистый человек, не притеснял ее. Кроме того, у нее не было детей. В случае необходимости она всегда могла сослаться на тетку. Все это давало ей возможность проводить время в Париже так, как ей нравилось. Эта двойная жизнь длилась уже два года. Маринетте теперь было двадцать семь лет…
Анри Вильнуар аккуратно поставил на поднос все, что было приготовлено к завтраку, и положил еще букетик фиалок. Он умел доставить удовольствие мелкими знаками внимания. Консьержка получила распоряжение брать по утрам у булочника горячие, прямо из печи бриоши и рогалики, а также приносить какие-нибудь цветы, в зависимости от сезона, которые она покупала у цветочницы около станции метро.
По заведенному обычаю Маринетта окончательно проснулась только в тот момент, когда появился поднос с горячим кофе. Усевшись поудобнее среди подушек, она поставила поднос к себе на колени и накинула на плечи шерстяную кофточку. Наступили лучшие минуты их совместной жизни. Анри присел на край кровати, любуясь Маринеттой, и закурил свою утреннюю сигарету.
— Какие у тебя планы?
— Мне еще раз надо примерить платье, а потом мне бы хотелось пойти в палату послушать тебя.
— Может быть, сегодня я еще не буду выступать.
— Тогда я останусь до завтра.
— Чудесно… А что скажет твой муж?
— Знаешь, он так занят своими делами! Кроме того, я убеждена, что он не будет возражать, если я задержусь, чтобы послушать тебя.
— Ему, наверное, и в голову не приходит, что у нас с тобой роман.
— А даже если он об этом и догадывается, никакой трагедии не произойдет. Он не такой, как твоя жена.
— Я уже тебе говорил, что между нами больше нет ничего общего. Дети большие. Ги в коллеже; младшему, Сержу, двенадцатый год… И если мы с женой разведемся, это никак не отразится на их будущем. Я не понимаю, почему ты так упорно не хочешь, чтобы я подал на развод.
— Еще не время.
— Мне невыносимо сознание, что ты принадлежишь этому субъекту.
— Неужели ты ревнуешь? Рауль ведь вдвое старше меня.
— Тем более ты должна от него уйти.
Маринетта расхохоталась и откусила кусок золотистой бриоши. Вильнуар, внезапно помрачнев, встал и прошелся по комнате. Ведь и он старше Маринетты на семнадцать лет.
— Глупыш ты мой…
Он засмеялся, но в его взгляде проскользнула тревога.
— Ведь я и так твоя. Мы же с тобой все равно связаны навсегда. Ты же знаешь, чего я хочу… кем я хочу чтобы ты стал, прежде чем мы поженимся.
У их романа была длинная предыстория. Впервые Маринетта влюбилась в Анри еще в 1940 году. Ей тогда было четырнадцать лет, ему тридцать один.
Он так никогда и не узнал, как сильны были первые чувства, пробужденные им в этой девочке со светлыми косичками. Мать Маринетты умерла очень молодой на следующий день после родов. Ее отец, инженер на одном из авиазаводов, уехал в 1938 году в Америку, где ему предложили хорошее место; он оставил дочь на попечение своей сестры, жившей в Нейи-Плэзанс, пригороде Парижа, на деньги, доставшиеся ей по наследству после смерти мужа… Потом разразилась война, «странная война»…
В начале сентября 1939 года в Париже проводились занятия по противовоздушной обороне, было введено затемнение, и все ждали, что город будут бомбардировать. Все, кто не был связан работой, уезжали из Парижа. Ежедневно поезда, набитые женщинами и детьми, отбывали в провинцию, а оттуда со страшным грохотом двигались по направлению к Эльзасу вагоны с солдатами в новой военной форме цвета хаки, походные кухни, платформы с противотанковыми пушками. Госпожа Вожель со своей племянницей Маринеттой переселилась в Дордонь, неподалеку от города Перигё. Тетка Маринетты, как и многие, считала, что эта часть Франции окажется далеко от поля боя, как в первую мировую войну. Правда, авиация настолько усовершенствовалась, что теперь и тыл находился под угрозой бомбардировки, но о вторжении, которое в 1914 году захватило Францию врасплох, не могло быть и речи. Ведь линия Мажино с ее железобетонными громадами неприступна. Наши солдаты уже шагают по немецкой земле. «В генеральном штабе Франция представлена Гамеленом, — твердила мадам Вожель, — и об этом не надо забывать».
Итак, мадам Вожель с племянницей и двумя прислугами, увезенными из Парижа, поселилась в загородном доме, по соседству с усадьбой Вильнуаров. Обе семьи, естественно, вскоре познакомились. Мать Вильнуара была обрадована, обнаружив, что вдова Вожель, которой еще не было тридцати, вполне приличная дама и с нею можно общаться, не роняя своего достоинства. Постепенно их знакомство вылилось в более близкие отношения.
Маринетта проходила школьную программу дома. Ее отец не подлежал призыву и остался в Детройте. Каждую неделю от него приходило письмо, он интересовался успехами дочери, советовал ей старательно изучать английский язык и развивать свои музыкальные способности. Вместе с письмом неизменно прибывал денежный перевод. Эти деньги с лихвой покрывали расходы, связанные с воспитанием Маринетты. Таким образом, тетя с племянницей могли жить, ни в чем себя не ограничивая, несмотря на необходимость содержать два дома, один в Перигё, а другой в Нейи, который был оставлен на попечение одной пожилой супружеской четы.
В свободные от занятий часы Маринетта гуляла в парке Вильнуаров, но большую часть времени проводила в библиотеке замка. Она с жадностью читала все, что попадалось под руку. Ей советовали прочесть произведения госпожи де Сегюр, Жоржа Онэ… она же предпочла Бальзака. Обнаружив Стендаля, она прочитала его целиком. Ее привлекали в этих книгах, особенно у Стендаля, описания бурных страстей, романтизм и отвага молодых людей, борющихся за высокие посты, за власть…
Именно в это время Маринетта впервые увидела Анри Вильнуара.
Было начало 1940 года. В отпуск из армии Анри Вильнуар приехал в капитанской форме, очень ладно сидевшей на нем. Он рассказывал о войне, как о спортивном состязании, в семье Вильнуаров его считали бунтарем, а Маринетте он показался прекрасным, как Фабрицио из «Пармской обители». Да и вся его жизнь была в духе героев Стендаля: он совершил отчаянный поступок, женившись в начале войны наперекор воле родителей. Казалось, этот факт должен был разрушить безумные помыслы, которые зародились у Маринетты. Но благодаря близкому знакомству с жителями замка она сделала волнующие открытия. Здесь обожали Анри и жалели его за то, что он женился на женщине более низкого положения, на существе незаметном и застенчивом, что так не вязалось с предприимчивым и честолюбивым характером Вильнуаров.
Анри, как говорила его мать, — слишком утонченная натура, чтобы не понимать, какую он совершил ошибку: его толкнули на это внезапно разразившаяся война и его благородное сердце. Правда, они ждали ребенка, но разве это причина, чтобы жениться так поспешно? Да и вообще, как он может быть уверен, что ребенок его?
Ко всему Элен, так звали жену Анри, казалось, оправдывала предубеждение, которое питали к ней в семье Вильнуаров. Она жила уединенно, показывалась лишь за обеденным столом и открывала рот, только чтобы ответить на вопрос. Последние дни беременности она провела у своих родителей, мелких лавочников в Перигё. Там она и родила мальчика за несколько дней до приезда мужа из армии.
Маринетта довольно часто встречалась с Анри. Впервые — за обедом, устроенным в честь его приезда, потом почти ежедневно они виделись то в замке, то в парке. Он называл ее «мадмуазель», здоровался с ней за руку и охотно беседовал, как со взрослой. Однажды, это было к концу его отпуска, она увидела его, прогуливаясь по аллее парка. Он, задумавшись, сидел на скамейке. На нем снова была военная форма. Заметив Маринетту, Анри предложил ей пройтись и познакомил ее с достопримечательностями парка, где он играл, когда был ребенком. Девочка была польщена и глубоко взволнована этой прогулкой. После его отъезда, роясь по своему обыкновению в библиотеке, она нашла его фотографию и вслух призналась себе, что влюблена…
Летом 1940 года Анри Вильнуар попал в плен, хотя танковая часть, которой он командовал, ни разу не воевала. Благодаря хлопотам отца он был освобожден и вернулся домой. В то время Маринетте было около шестнадцати лет. Анри нашел ее красивой и сказал ей об этом, усилив ее волнение. Впрочем, он уделял много внимания своему ребенку и жене, которая, как всегда в его присутствии, хорошела и сияла от счастья. Маринетта теперь считала недопустимым, чтобы с нею обращались, как с девчонкой, и ревновала Анри к жене.
Анри все реже и реже появлялся дома. Он был окружен какой-то тайной. Маринетта ее раскрыла. Оказывается, ее герой играл в Сопротивлении роль, для которой он и был предназначен. Говорили, что он является представителем генерала де Голля в департаменте; уточняя, добавляли: военным уполномоченным Лондона. В воображении девушки его бурная жизнь состояла из сплошных великих подвигов. Маринетта считала, что Анри пытается таким образом покончить со своим серым существованием и одновременно избежать искушения, которое он не мог не испытывать. Маринетте хотелось помочь ему, быть рядом с ним, признаться ему в любви. Веря в будущее, она изливала ему свои чувства в дневнике, и это придавало ей достаточно сил, чтобы в те редкие моменты, когда он появлялся в замке, избегать его общества.
Однажды тетя Маринетты обнаружила дневник. Вместо того чтобы отругать племянницу или устроить ей скандал, она постаралась развенчать ее героя. Несмотря на сопротивление родителей, Анри привязан к жене, сказала тетя. У них уже двое детей. В Сопротивлении Вильнуар ведет очень опасную игру. Да и вообще ему тридцать четыре года, а Маринетте всего семнадцать. Неужели она не замечает, что он уже начал толстеть…
Маринетта ничего не замечала и по-прежнему была поглощена своим чувством. Но одно событие неожиданно повернуло всю ее жизнь. В начале 1943 года при автомобильной катастрофе погиб ее отец, оставив ей в наследство только сообщение, которое ее потрясло: он был вторично женат, и у него в Америке была еще одна дочь. Маринетта оказалась нищей, и немедленно встал грозный вопрос о ее положении. Она ждала, что Анри, который знал о ее несчастье, признается в своих чувствах и предложит ей руку и свое состояние. Но он лишь выразил сочувствие. Она была жестоко разочарована. Назло ему, а также потому, что ей нестерпима была мысль об ожидавшей ее скромной жизни, она согласилась на предложенный тетей выход из положения. Через год Маринетта вышла замуж за Рауля Делорма, который был старше ее на двадцать семь лет.
Фабрикант обуви Рауль Делорм был знаком с Вильнуарами. Бывая часто в замке, он безумно влюбился в Маринетту. Делорм был богат, и когда он поделился с мадам Вожель своими намерениями, то проявил много такта и деликатности. У Маринетты не было ничего, кроме молодости, которую она ему отдала. Во время Освобождения Делорм с женой внезапно переселились. Из-за каких-то спекулятивных дел с оккупационными войсками, из-за огромных барышей, говоривших о противозаконных операциях, Делорм попал в списки тех, кто в дальнейшем был лишен гражданских прав. Вильнуары со своей стороны намекнули ему, что, встав на его защиту, они скомпрометируют себя и самое большее, что для него можно сделать, это не допустить конфискации его имущества. В конце концов он выпутался из грязного дела даже с выгодой и открыл новую фабрику около Вандома. Но заочный приговор оставался в силе, и над ним висела угроза судебного следствия, которое могло привести к тому, что ему пришлось бы выплатить государству значительную сумму денег. Его имя даже несколько раз упоминалось в Национальном собрании депутатом-коммунистом от Дордони — Мореном. Рауль Делорм облегченно вздохнул, когда в мае 1947 года министры-коммунисты были выведены из правительства. Тут он понял, какую службу может ему сослужить его старое знакомство с семьей Вильнуаров. Вот почему Маринетте снова довелось встретиться с Анри…
Анри Вильнуар к тому времени стал депутатом от своего департамента. Он возглавлял группу, которая в парламенте отстаивала позиции генерала де Голля. Маринетта приехала к нему из Вандома с просьбой помочь уладить дела ее мужа. Анри Вильнуар был ослеплен ее красотой.
— Ради вас готов сделать все, что в моих силах, — сказал он ей.
Ему было уже около сорока, он еще больше потолстел и теперь только отдаленно напоминал красавца офицера, который во время войны покорил Маринетту. Зато его депутатская деятельность развила в нем красноречие, непринужденность и превратила его в приятного собеседника. К тому же, как говорили, его ждала блестящая политическая карьера, у него были все данные стать министром, а быть может, даже и премьером…
Маринетта была до безумия тщеславна. Помимо всего, в отместку за пережитое ею разочарование ей хотелось в свою очередь вызвать в Анри страстные чувства, которые, как она предугадывала своим женским инстинктом, уже зародились в нем. Они стали встречаться, и Анри без памяти влюбился в нее. Маринетта из кокетства, а также испытывая свою власть над ним, оказала длительное сопротивление… Она стала его любовницей только после того, как дело Делорма было прекращено и когда его полностью восстановили в гражданских правах.
Этот день был радостным и для Рауля Делорма. Он смог получить крупный заказ на обувь для армии. За два года до этого он без всяких разговоров уволил со своей фабрики одного молодого инженера, которого подозревал в любовной связи с женой. Но частые поездки Маринетты в Париж его совершенно не беспокоили. Он находил естественным, что она еженедельно навещает свою тетку.
* * *
Анри Вильнуар, насвистывая, спускался по лестнице. Они с Маринеттой условились позавтракать в одном из ресторанов на бульваре Сен-Жермэн и потом вместе отправиться в Отей, если его выступление в Национальном собрании будет отложено на следующий день. Он зашел в гараж за машиной и поехал в свою контору, которая помещалась около площади Инвалидов, в небольшой квартирке на первом этаже с выходом прямо во двор. Здесь у Вильнуара был рабочий кабинет, комната для секретаря — унтер-офицера, репатриированного из Индокитая, и машинистки, а также подобие гостиной, где ожидали приема посетители. Вильнуар, как всегда, опрометью вбежал в кабинет и тут же вызвал секретаря.
— Ну, Октав, как дела?
— В гостиной ждут посетители…
— Ладно, это дело терпит. Прежде всего давай почту. Писем много?
— Штук сорок.
Вильнуар наскоро просмотрел содержимое папки. Примечания, сделанные красным карандашом, с изложением сведений об отправителях и краткого содержания письма облегчали Вильнуару работу.
— Ай-ай-ай, как будто много новых?
— Да, но почти все об одном и том же — об увеличении пенсии… о выходе на пенсию… об освобождении от налогов…
— Вы отвечаете, как договорено? В каждом случае, когда это возможно, пусть присылают мне письменное заявление, которое я лично вручу соответствующему министру и поддержу просьбу… Больше ничего?
— Вот еще два письма более личного характера.
Депутат взглянул на исписанные старательным почерком странички.
— От знакомых?
— Нет.
— А о чем тут?
— Опять о перевооружении Германии.
— Понятно. Наверняка коммунисты. Но вы все же пошлите уведомление о получении.
— Оба письма очень похожи…
— Естественно, это дело рук Морена. Дайте мне газеты.
— Вас ждут посетители.
— Сколько их?
— Двое.
— Чего они хотят?
— Поговорить с вами.
— Примите их сами, мне некогда с ними заниматься.
— Но, господин депутат, они из Дордони. Один из них уверяет, что знаком с вами, второй дал свою визитную карточку.
— Доктор Сервэ… Из Палисака… Как будто знакомая фамилия. Проведите их ко мне, — сказал Вильнуар, повертев в руках визитную карточку.
Он встал, поздоровался с посетителями за руку и усадил их в кожаные кресла перед письменным столом.
— Очень рад вас видеть, дорогие друзья…
Доктор Сервэ — по-видимому, тот, что повыше, с энергичным лицом. Вильнуар, как он теперь вспомнил, встречался с ним во время Освобождения. Второго, приземистого увальня, он видел впервые, но он-то и заговорил первым.
— Вы меня не помните, господин полковник?
— Пожалуйста, напомните мне вашу фамилию.
— Она вам ничего не скажет, но я служил под вашим командованием во время Сопротивления. Шофер с пежо.
— Да, да, вы были прикреплены к моему командному пункту.
Шофер просиял.
— Так точно, господин полковник.
— Ну, господа, я вас слушаю, — сказал Вильнуар и протянул им свой портсигар.
Одновременно он подумал, что до свидания с Маринеттой он еле успеет заехать в Национальное собрание.
IV
— Ну, что же мы еще предпримем?
Доктор Сервэ пожал плечами. Для него утро все равно было потеряно.
По настоянию своего попутчика Эжена они сразу же по приезде в Париж отправились к Вильнуару. Они прождали его около часа, затем были приняты, выслушали несколько милых слов, после чего отправились в Национальное собрание, чтобы увидеться с Мореном, но, к сожалению, тот был на собрании своей парламентской группы. Правда, он немедленно вышел к ним, но принял их наспех, извинившись, что не может посвятить им больше времени. Нет, как ему ни обидно, но он вынужден отказаться от приглашения позавтракать с ними.
— Да что ты! Это же не займет много времени. Мы тебя подождем. Назначь любой час, — сказал Сервэ.
Морен вынул из кармана записную книжку, и Эжен заметил, что у него искалечена правая рука и недостает двух пальцев.
— Видишь, немного попозже назначено еще одно собрание в помещении ЦК, потом завтрак с мэром Женнвилье, с ним я должен обсудить одно муниципальное дело. После этого — собрание бывших фронтовиков. Я даже не уверен, что успею еще раз заехать в палату. А вот вечером, если хочешь, я в твоем распоряжении.
— Ничего не выйдет, — ответил Сервэ, — мы должны выехать до темноты.
Доктор огорчился. С Мореном они были старые друзья, вместе сражались в Сопротивлении, и Сервэ очень надеялся расположить Эжена в пользу коммунистов, познакомив его со своим товарищем. Но все складывалось иначе.
Вильнуар принял их очень радушно. К радости Эжена, он начал разговор с общих воспоминаний, и беседа сразу же приняла доброжелательный характер.
Сервэ задал было вопрос об отношении депутата к перевооружению Германии, но Вильнуар умело вывернулся. Конечно, интересы Франции для него дороже всего, и он понимает, что из-за ЕОС могут сорваться некоторые договоры и французская армия попадет в иностранную зависимость, но надо также считаться с тем, что рано или поздно Германия все равно станет вооружаться. Весь вопрос в том, будет ли это делаться под контролем или бесконтрольно. А ЕОС как раз и введет контроль… Из этого не следует, естественно, что он одобряет все условия этого сообщества, отнюдь… Но все эти вопросы настолько серьезны, что надо их продумать, прежде чем ответить…
Сервэ хотелось спросить Вильнуара еще о многом и добиться более определенного ответа, но Эжен, не желая злоупотреблять радушием своего депутата, горячо поблагодарил его и тем самым оборвал разговор.
Воспользовавшись паузой, Вильнуар встал, чтобы проводить гостей.
— Надеюсь, вы приехали в Париж не только для встречи со мной?
— Доктору нужно было за машиной, и он взял меня с собой; мы решили заодно повидать вас.
— Вы мне доставили большое удовольствие. Вам хотелось бы побывать на заседании палаты?
Эжен и Сервэ получили два пропуска в Национальное собрание на вторую половину дня.
— Ваш депутат здорово осторожничает, — сказал Сервэ, когда они вышли.
— Но, во всяком случае, он не задается.
— А теперь я вас познакомлю с моим депутатом.
Свидание с Мореном было очень кратким, и сейчас Эжен и Сервэ прогуливались по бульвару Распай.
— Эжен, вам очень хочется пойти в палату?
— В общем да. Я никогда там не был, и мне жаль было бы упустить такой случай.
— Тогда вот что: мы с вами зайдем в какой-нибудь недорогой ресторанчик в этом районе, хорошенько перекусим, а потом разойдемся и встретимся часов в шесть, чтобы тут же пуститься в путь. Поужинаем в Орлеане и после этого без остановок поедем в Палисак…
Сервэ был легок на подъем. Еще накануне он и не собирался в Париж. Ему сообщили по телефону, что он может получить автомобиль, который он заказал полгода назад в магазине «Рено». Доктор тут же отправился к своему соседу Поравалю.
— Послушай, кто из твоих рабочих свободен и может сегодня вечером отправиться со мной в Париж?
— Для чего?
— Мне надо получить машину, и я хотел бы ее пригнать завтра к вечеру. Ну а так как надо проехать больше пятисот километров и машина не обкатана, я предпочел бы вести с напарником.
— Свободен Эжен, только при условии, если он послезавтра утром будет на лесопилке — мне нужно перевезти материал.
В поезде Сервэ и Эжен разговорились. Доктор, чьи политические убеждения были известны в Палисаке, предложил:
— Эжен, как вы отнесетесь к тому, чтобы заодно повидать наших депутатов?
— Великолепная мысль. У меня как раз с собой адрес Вильнуара.
Когда Сервэ расстался со своим попутчиком, у него оставалось часа два свободного времени, и он отправился в «Лютецию». Навстречу ему поспешили одновременно две подавальщицы в черных платьях и белых передниках. Сервэ обратился к более хорошенькой.
— Жак Одебер здесь работает?
— Да.
— Можно его повидать?
— Конечно.
— Пожалуйста, передайте ему, что его ждет доктор Сервэ.
— Видите ли, он не может выйти сюда в рабочее время.
— А где можно с ним встретиться?
— Вызовите его к служебному выходу… А если хотите, можете подождать его здесь. Сегодня после обеда он как будто свободен, и мы ему передадим, что вы его ждете.
— Великолепно! А что у вас можно выпить?
— Все, что желаете.
Жак пришел через четверть часа. Он уже переоделся и явно торопился.
— Ну, сынок, как поживаешь?
— Спасибо, очень хорошо.
— Я зашел повидаться и передать привет от твоего отца. Сегодня вечером я уже возвращаюсь домой. Присядь, я тебя угощу.
Жак посмотрел сквозь стекло витрины на противоположный тротуар.
— Понимаете, доктор, у меня очень мало времени…
Сервэ понимающе улыбнулся.
— Надеюсь, ты спешишь на свидание. Не волнуйся, я тебя не задержу.
Сервэ заказал подавальщице две рюмки коньяку и хитро подмигнул, глядя на девушку, удалявшуюся походкой манекенщицы.
— Послушай-ка, мне кажется, ты здесь не должен скучать.
* * *
Жак Одебер расстался с доктором через час, проклиная в душе провинциалов, которые считают своим долгом, приезжая в Париж, обойти всех своих знакомых, разглагольствовать без конца о всех событиях, происшедших у них там в провинции, и приставать к вам с нескромными вопросами о том, как вы развлекаетесь в столице…
Правда, доктор симпатичный человек. Три года назад он среди ночи поехал спасать Жака, когда тот упал с мотоцикла и крестьяне подобрали его на шоссе в бессознательном состоянии. Опасались трещины черепа. Сервэ оказал ему первую помощь, сам отвез его в бержеракскую больницу и не успокоился до тех пор, пока не смог сообщить отцу Жака утешительные сведения о сыне. С того дня он стал близким человеком в доме. Жаку нравилась резкость, с какой этот сельский врач говорил всем правду в лицо. Во время Сопротивления доктор был в макИ; его политические убеждения и личная жизнь давали пищу злым языкам. Жак хорошо относился к Сервэ, но сегодняшнее его посещение было очень некстати.
Жак вскочил в такси, надеясь, что он все же успеет застать Жаклину.
Он очень ждал этой встречи, так как после того вечера, когда он вынужден был пойти к Брисакам, между ним и Жаклиной начались недоразумения. Тогда, конечно, ему удалось освободиться только очень поздно. Заведующий погребом был в ударе и снова вернулся к разговору о гротах в Ляско. Его интересовали не картины — в них он ничего не смыслил, — а выгода предприятия, которое мог бы там открыть молодой и расторопный человек. Лора смотрела на юношу, и ее большие глаза, казалось, молили: не обращайте внимания на то, что говорит отец. А в это время Жаклина ждала его.
Днем она как бы между прочим дала понять Жаку, что сегодня освободится в десять часов… Она вышла немного раньше времени и, не видя Жака, простояла у дверей, пока не показалась ее подруга Сюзанна. Жаклина пригласила ее выпить что-нибудь в ближайшем кафе. Так и не дождавшись Жака, она села в метро и уехала домой.
— Это не очень-то красиво с твоей стороны, — сказала Жаку на следующий день Сюзанна.
— Что?
— Жаклина тебя прождала вчера до половины одиннадцатого.
— Она тебе сказала, что ждала именно меня?
— Нет, но это ясно и так.
Жак почувствовал, как его захлестнуло счастье. Но Жаклина была с ним так холодна, что он растерялся. И спросил Сюзанну:
— Ты не подшутила надо мной?
— Зачем мне это надо? Жаклина моя лучшая подруга.
— А может быть, она ждала другого?
— До чего же ты глуп.
После этого Жак, набравшись храбрости, обратился к Жаклине:
— Не сердись на меня за вчерашнее.
— А за что я должна сердиться?
— Я знаю, что ты меня ждала.
— Я? С чего ты это взял?
— Мне нужно с тобой поговорить, и я собирался прийти, но в последний момент Брисак пригласил меня к себе…
— И ты, конечно, не мог отказаться?
— Трудно было.
— Из-за его дочери, по-видимому? Если она такая же уродка, как он, я тебе желаю счастья.
— Послушай, Жаклина…
Но Жаклина не стала слушать. Она ушла, не обернувшись, и всю неделю была с Жаком подчеркнуто холодна. Она реже заходила в кондитерский цех, не задерживалась ни на секунду и обращалась к Жаку только по делу. Зато с официантами шутила и смеялась. Жак был уязвлен. Вечерами она выходила в разное время и делала вид, что куда-то торопится. Два-три раза он ее прождал напрасно…
— Когда же вы перестанете дуться друг на друга? — сказала однажды Сюзанна Жаку и Жаклине, когда те, встретившись в коридоре, молча разошлись в разные стороны.
Жаклина сделала вид, будто не слышит подругу, а Жак нагнал Сюзанну и спросил:
— Ты думаешь, она рассердилась?
Сюзанна расхохоталась.
— До чего же вы оба все раздуваете! И еще из-за таких пустяков!
— Передай ей, что я буду ждать сегодня на мосту Ар. Только не забудь.
Он назвал первое попавшееся место.
Через некоторое время Жаклина спустилась в кондитерский цех за заказом. Она облокотилась на раздаточный стол и ждала, пока Жак не спеша отсчитывал ей пирожные.
— Сюзанна тебе передала?
— Да.
— Ну?
Она не ответила ни «да», ни «нет», но по ее глазам Жак понял, что она придет.
К несчастью, Сервэ своим приходом нарушил все планы. Жак расплатился за такси и с бьющимся сердцем бросился к мосту… Ему пришло в голову, что Жаклина могла задержаться на противоположной стороне набережной, разглядывая книги у букинистов… Не обнаружив ее, он пересек двор Лувра и прошел в Тюильрийский сад… Как-то Жак сказал ей, что ему нравится этот сад, потому что сюда служащие «Лютеции» заходят реже, чем в Люксембургский. Может быть, она об этом вспомнила? Но, как и следовало ожидать, ее там не оказалось. Еще бы, он опоздал на целый час! Что она может подумать? Оставался один выход — во что бы то ни стало дождаться ее вечером и все объяснить… Но это ему не удалось, так как она вышла в сопровождении двух подруг. Они с веселым смехом направились к стоянке такси.
— Жако, пошли с нами! — крикнула ему одна из девушек.
— Куда?
— На танцы, — сказала Сюзанна.
Но Жак танцевал очень плохо. Он вернулся домой, бросился, не раздеваясь, на кровать и предался мрачным размышлениям.
«А ведь все могло повернуться иначе, не свяжись я с этим комитетом мира», — думал Жак. Накануне его снова пригласили, но он не захотел пойти. Дело в том, что оба листа с воззванием, которые он взял, были почти чистыми… После отказа Брисака он уже не так смело предлагал их на подпись даже своим товарищам, хотя мойщики подписали все, без всяких разговоров, а их начальник похвалил Жака:
— Молодец, очень хорошо. Я и не знал, что ты наш. Ты член профсоюза?
— Нет, а разве нужно быть в профсоюзе для этого?
— Не обязательно, но это было бы лучше. Мы еще поговорим.
Товарищ Жака, МейерА, подписывая, сказал:
— Ради твоего удовольствия, пожалуйста.
— Ты не знаешь, кто бы еще согласился дать свою подпись?
— Имей в виду, что из-за этого могут быть неприятности.
Старик Жюль взял воззвание и попросил дать ему подумать.
Забавный старик. Ворчун, каких мало, но сделай ему замечание «шишка», он от страха забился бы в мышиную нору. Он был баснословно пунктуален, всегда приходил на работу за десять минут до начала, но зато вечером ничто не могло его заставить задержаться хотя бы на пять минут. Он был самым старым служащим в ресторане, проработал здесь тридцать три года и, несмотря на это, не умел прилично украсить сладкое блюдо. Он занимался только тестом и в этой области не терпел никаких указаний. Никто не мог похвастаться, что знает его политические убеждения, он гордился своим званием гражданина и по любому поводу, словно удостоверение личности, показывал свою карточку избирателя. Во время первой мировой войны — ему было тогда двадцать лет — его ранило в ключицу. Он никогда не говорил о войне, вернее, как сам объяснял, не желал о ней говорить. Но ежегодно 11 ноября[2] ровно в одиннадцать часов Жюль бросал работу, даже если она была спешной и неотложной, снимал свой белый колпак и, застыв на месте с очень серьезным видом, не обращая внимания на шум и насмешки, минуту хранил молчание. Над подобными чудачествами старика любили поиздеваться ученики…
И вот, несмотря на все, Жюль вернул Жаку воззвание и многозначительно сказал:
— Я подпишу последним, когда весь лист будет заполнен.
Жак предложил подписать воззвание еще двум товарищам по работе. Те в нерешительности спросили:
— Откуда эта штуковина? Ты показывал ее начальнику?
— Клюзо?
— Упаси боже! Нашему Веберу, шеф-кондитеру. Он эльзасец и однажды чуть не убил шеф-соусника, когда тот обозвал его «фрицем».
Жак не знал, как ему быть. В это время произошли все недоразумения с Жаклиной: он положил свои листы с воззванием в ящик и забыл о них.
Одна только Томасен напоминала ему о взятых обязательствах. Встречая его, она несколько раз возвращалась к этому вопросу.
— Ну как, мсье Жак, в ресторане подписывают? У меня уже четвертый лист…
До чего же она болтлива! Жак предпочел бы поговорить с кем-нибудь, кто смог бы ответить на его вопросы… Может быть, ему обратиться к этой симпатичной даме, секретарю комитета? Но для того, чтобы с нею встретиться, нужно пойти в комитет, а комитет, надо признаться, занимал его сейчас гораздо меньше, чем мысли о Жаклине…
* * *
Ирэн Фурнье тоже была очень встревожена, и в то время как Жак был поглощен своими неприятностями, она жаловалась мужу:
— Началось все хорошо. На первое собрание пришли двадцать семь человек. На следующее — всего одиннадцать. Даже меньше половины.
— Ничего удивительного — два собрания подряд.
— Что нам теперь делать? Профессор Ренгэ, наш председатель, как ты знаешь, вот уже два месяца не подает никаких признаков жизни. И даже тот милый паренек, я тебе о нем говорила, пришел на первое собрание, казалось, очень заинтересовался, взял два воззвания, а сейчас едва отвечает на поклон консьержки Томасен.
— Ничего не поделаешь, так повсюду, — проговорил Луи. — Ты думаешь, у меня с металлистами все идет как по маслу?
— А ведь, казалось бы, все должны быть обеспокоены положением. Процесс над эсэсовцами из Орадура — это не шутки, идут разговоры, что их оправдают.
— Не все следят за событиями.
— Но об этом пишут в газетах.
— По-разному.
— Но чем это объясняется?
— Что именно?
— Безразличие.
— Ты имеешь в виду ваше собрание? Во-первых, тут дело не в безразличии. По-моему, все гораздо проще. Вы слишком поторопились с вторым собранием и, по-видимому, хуже его подготовили…
— Нет, это не так. Я написала ровно столько же приглашений, и все они были разнесены по квартирам.
— Может быть, их не удовлетворило первое собрание?
— Нет, оно получилось очень удачным.
— Ну хорошо, а что ты им написала в приглашении: обсуждение ранее намеченных задач… организация сбора подписей… или еще что-нибудь в этом роде? Одним этим не привлечешь народ.
— Ты-то всегда защищаешь отсутствующих, — с раздражением сказала Ирэн.
— А ты всегда считаешь, что они неправы. Ваш комитет работает хорошо, но в него входят очень разные люди: и преподаватели, и студенты, и даже один кюре. И ты при этом хочешь, чтобы все происходило, как в партийной организации: повестки, освещение положения, разработка заданий, проверка исполнения принятых решений, да еще чтобы все шло гладко. Не так-то это легко.
— Ну а ты почему к нам не приходишь?
— Совершенно ни к чему, чтобы все коммунисты входили в комитет. К тому же мне достаточно моих профсоюзных дел.
— Так знай, если товарищи мне не помогут…
— Почему ты так нервничаешь?
— Ну разве не обидно? Стараешься, стараешься, а тебя же еще и критикуют. В моих приглашениях не было того, что ты говоришь.
— Послушай, ведь ваш профессор Ренгэ незаурядный человек. Он преподает в Коллеж де Франс. Ты же не можешь просто написать ему, как всем остальным. Надо его повидать. Взять еще кого-нибудь с собой и пойти к нему посоветоваться, прежде чем что-то предпринимать.
— Мы так и сделали.
— По поводу воззвания?
— Да.
— Текст он читал?
— Нет.
— Ну вот видишь. А вдруг он не согласен с формулировкой? Хорошо вы будете выглядеть, если ваш же председатель откажется дать свою подпись. Да и с молодым человеком из «Лютеции» тоже надо поговорить, узнать, что он думает…
— Но у меня не хватает времени на все.
— Часто важнее повидаться с людьми, чем сидеть и писать приглашения. Это не такой народ, как мы. Мы все понимаем и находим естественным, что почти каждый день у нас собрания. Если же выдается свободный вечер, как сегодня, мы не идем в кино, а спорим…
— По-моему, мы слишком мало спорим. Мужчины любят давать советы, а когда нам надо помочь, так вы всегда находите повод, чтобы уклониться.
Луи поднял жену за локти и принялся носить ее по комнате.
— Если ты скажешь еще слово, я не буду мыть посуду.
— А я не пойду с тобой в кино.
Они споткнулись о диван, который служил им кроватью, и чуть не опрокинули стол, где стояла неубранная после ужина посуда…
— Оставь меня, — сказала Ирэн, вырываясь из его объятий. — Мы опоздаем.
Он с улыбкой посмотрел на нее. Ирэн раскраснелась, и глаза ее радостно блестели.
— Ну и опоздаем. Кто поверит, что вот уже шесть лет, как мы женаты?
V
— Хороша малолитражка?
— Она проходит по любой дороге, но тесновата, — Филипп Одебер грустно посмотрел на свою машину. — Жена предпочитает ситроен, и я с нею согласен.
— Так купите другую, а рено отдайте сыну, — сказал Пораваль.
— При его работе ему не нужен автомобиль.
— Он по-прежнему в Париже?
— Да.
— Зайдемте ко мне.
— Спасибо, но я тороплюсь, — ответил Филипп Одебер.
— Я вас не задержу. Выпейте вина, — сказал Пораваль, подавая Одеберу стул. — А супруга не с вами?
— Вчера отвез ее в Аркашон.
— А что же вы не остались с нею?
— Нельзя бросить лавку без присмотра…
С тех пор как сын от него уехал, Филипп Одебер сам руководил производством и торговлей, у него было два помощника и один ученик. В его кондитерской, одной из лучших в Бержераке, продавались не только пирожные, но и все те продукты, которыми гордится Перигор: консервированные трюфели, гусиная печенка и, уж конечно, золотисто-рыжеватое, густое, как ликер, вино монбазияк, которым славятся виноградники, расположенные на холмах вокруг Бержерака. В базарные дни в кондитерской дополнительно работали еще две помощницы, а молодая жена Одебера восседала за кассой, следила за порядком и услужливо встречала покупателей.
— Моника, пошевеливайтесь! Мадам, вас обслуживают?
Одебер ее обожал. Первая его жена, мать Жака, скоропостижно умерла в 1945 году, вскоре после того, как Одебер вернулся из концлагеря. У него остался только двенадцатилетний сын. Одебер впал в такое отчаяние, что на него больно было смотреть. Чтобы заглушить свое горе, он работал как зверь. Но прошли месяцы, и жизнь взяла свое. Его кондитерская, имевшая хорошую репутацию, процветала. Жак учился в коллеже и готовился к экзаменам для поступления в авиационный институт. Однажды отец отвел его в сторону и робко сообщил:
— Я собираюсь жениться…
— На Анриэтте?
— Откуда ты знаешь?
— Мне говорили, да я и сам догадывался.
— Ей всего на семь лет меньше, чем было бы сейчас твоей матери.
— Она на пятнадцать лет моложе тебя.
— Ты должен меня понять… В моем положении очень трудно одному. Она умеет вести дело, трудолюбива…
В этом он был прав. Анриэтта поступила работать продавщицей, но очень скоро заняла первое место среди служащих. Она была любезна с клиентами, строга с остальными продавщицами, холодна с рабочими — словом, обладала всеми качествами настоящей хозяйки. Ей исполнилось тридцать два года, она была довольно хорошенькая, в самом расцвете сил и любила одеваться. Ко всему этому, она бесподобно упаковывала конфеты и завязывала большие банты на шоколадных и сахарных зверях, которыми искусно украшала витрину.
Женитьба отца нарушила планы Жака. Как только ему исполнилось шестнадцать лет, он решил уйти из коллежа и стать кондитером. Он входил в положение отца, не осуждал его, но ему неприятно было видеть, что женщина, которая, как он и предчувствовал, не признает его, так скоро водворилась в доме, где он в течение шести лет жил вдвоем с матерью и, как маленький мужчина, был хозяином. К тому же Анриэтта полностью оправдала его предчувствия. Она сразу же стала ему говорить «ты», обращалась с ним как с ребенком и не упускала случая сделать замечание: «Жак, ничего не меняй в витрине!», «Жак, ты же видишь, что ты мешаешь…» Отец на все смотрел ее глазами и беспрерывно твердил:
— Сынок, слушайся тетю, она тебе хочет добра.
Так продолжалось до ухода Жака в армию. Юноша все больше восставал против нестерпимой для него опеки. Он научился ремеслу от отца, а также от многочисленных служащих, которые из-за трудного характера хозяйки редко выдерживали больше полугода в этой «дыре», как они называли кондитерскую.
После возвращения Жака из армии отношения с мачехой еще более обострились. Анриэтта расширила сферу своего господства. Теперь она по любому поводу позволяла себе врываться в кухню, требуя ускорить выполнение заказа, отдавая распоряжение или делая замечание.
— Марципан пересушили, — возмущенно заявила она однажды и бросила на стол хорошо подрумяненный торт. — Я отказываюсь это продавать.
— Ну так жрите сами! — и Жак в бешенстве запустил тортом в мачеху, к великой радости учеников. Отец дал ему пощечину. Бледный как смерть, Жак снял халат. — Раз так, я уезжаю.
Анриэтта ледяным голосом требовала, чтобы Жак извинился. Он твердо решил расстаться с отцом, и Филипп Одебер, раздираемый противоречивыми чувствами, пытался образумить сына.
— Я погорячился, но и ты не должен был так поступать.
— Ты тоже.
— Даже если она была неправа, этого нельзя было делать.
— Я ей противен. Она меня ненавидит и все время старается унизить.
— Ты ошибаешься, поверь мне. Она тебя очень любит.
— И ты в это веришь!
И Жак, не выдержав, расплакался. Отец был потрясен до глубины души, хоть и пытался это скрыть. Он понял, что сын очень несчастен. Он сам подыскал для него место, проводил на вокзал и, прощаясь, сказал:
— Не забывай, что у тебя есть отец, мой дом в твоем распоряжении.
Мачеха подставила пасынку щеку, но сама его не поцеловала…
— Она надолго в Аркашоне? — спросил Пораваль.
— До будущей недели. Ее привезет обратно ее брат, зубной врач. Ей надо было отдохнуть.
Филиппу Одеберу было больше пятидесяти. Он приехал в Палисак договориться о вырубке леса на принадлежавшем ему участке.
— Поедем на вашей машине или вывести мою? — спросил Пораваль.
— Если вам не тесно, поедем в моей.
Вскоре они выехали на проселок. На подступах к лесу дорогу окаймляли зеленеющие дубы и кусты терновника, усыпанные желтыми цветочками.
— Десять лет назад немцы не осмеливались сюда захаживать, — проронил Пораваль.
— Только бы не повторилось все снова. Говорят, они собираются вооружаться.
— Тогда мы опять уйдем в макИ, — сказал Пораваль.
— Вы считаете, что будет война?
— Очень возможно, что рано или поздно все равно придется воевать. Все дело испортила политика.
Пораваль был активным участником движения Сопротивления в Перигорском районе[3]. В армии, оставленной по условиям перемирия, он служил лейтенантом и одним из первых ушел в макИ. Пораваль был командиром в Тайной армии и в ФТП[4], принимал участие во многих операциях и к концу войны получил звание майора ФФИ[5]. После Освобождения он снова занялся своим лесопильным заводом и женился. Сейчас у него было двое детей. Современное оборудование завода, новый прекрасный грузовик, трактор и красивый дом, который он недавно построил у въезда в городок Палисак, свидетельствовали о том, что предприятие Пораваля процветало.
Правда, хозяин лесопилки был очень трудолюбив. Он почти никогда не расставался со своим рабочим костюмом и трудился в поте лица вместе с тремя рабочими. Пораваля много раз просили баллотироваться в члены муниципального совета, но он упорно отказывался. Он поддерживал дружескую связь с депутатом Анри Вильнуаром и был в хороших отношениях со всеми.
Пораваль и Одебер въехали в лес и остановились у холма, по которому стекали ручьи.
— Дальше, пожалуй, не проедем, — сказал Одебер. Он боялся застрять в какой-нибудь выбоине.
— Попробуем дотащиться хотя бы до фермы.
Они выехали на обсаженную яблонями аллею и увидели внизу перед собой крышу фермы. Какой-то крестьянин пахал вместе с парнем лет двадцати. Он остановил волов, вытер пот со лба и окликнул проезжающих:
— Вы кого-нибудь ищете? Ах, это вы!
Крестьянин подошел к машине и протянул руку Поравалю.
— Как поживаете, господин майор? Я вас не узнал.
— Рожэ Беро, бывший боец моего батальона, — представил крестьянина Пораваль.
— Мы знакомы, — сказал крестьянин. — Он у меня покупал вино. Пожалуйста, заходите.
Беро пошел в погреб налить бутылку вина, а его жена, крепкая, полная крестьянка, развернула пачку печенья и ополоснула большие стаканы.
— Вы по-прежнему торгуете монбазияком? — спросил Одебер.
— Да, но теперь вино ничего не стоит.
— Неужели?
— В прошлом году я продавал бочку за сорок две тысячи франков, словом, за литр я получал меньше пятидесяти франков. А в Париже, оказывается, монбазияк перепродается по триста франков бутылка и даже дороже.
— К тому же он хуже этого, — заметил Пораваль, попивая вино маленькими глотками.
— Вдобавок ко всему государство заставляет нас уничтожать лозы, — сказал крестьянин. — Теперь нам разрешено давить красное вино только для собственного потребления. Если так будет продолжаться, то лично я начну разводить спаржу.
— Вы думаете, это выгодно?
— Послушайте, на один купорос у меня уходит около ста тысяч в год; к этому прибавьте серу, известь, удобрение, а уж труда я не считаю. В среднем у меня получается восемь-десять бочек вина. А когда от града погибает половина урожая, сами понимаете, что у меня остается. Спаржа почти не дает потерь, ее хорошо покупают, и я по крайней мере оправдаю свой труд.
Крестьянин проводил приезжих до сосняка, принадлежащего Одеберу, и, как бы между прочим, спросил:
— Вы не продадите мне ваш участок? У вас здесь меньше гектара.
— Вам он нужен?
— После того как вы вырубите деревья, вам эта земля уже ни к чему, а я мог бы ее обработать, и она прилегает к моему винограднику.
— Подумаю, — ответил Одебер. — Этот участок принадлежал еще моему деду, у него здесь был когда-то виноградник. Вон видите, одичавшие лозы вьются по стволам деревьев…
— Да, виноград живуч, — проговорил крестьянин.
Пораваль обследовал лесок во всех направлениях, оценил качество деревьев, исследовал подъездные пути и нацарапал в записной книжке какие-то данные.
— О цене поговорим дома, — сказал он, — но рабочую силу я должен достать на месте. Вы не знаете, Беро, кто бы согласился?
— Мой сын не прочь подработать.
— Высокий молодой человек, который пахал вместе с вами?
— Конечно, а кто же это еще мог быть? Дядя ушел от нас, а на рабочего у меня нет денег.
— До чего же время летит! Мне казалось, что ваш Милу все еще бегает в коротких штанишках.
— В этом году он уходит в армию. Хоть бы его не услали в Индокитай!
— Кстати, о детях, — сказал Одебер на обратном пути. — Мой сын доставляет мне немало хлопот.
— Балуется? — спросил Пораваль.
— Мне сообщили, что он ударился в политику. Это мне передали по просьбе заведующего винным погребом в «Лютеции». Говорят, будто он вступил в какой-то комитет, куда входят коммунисты.
— Не стоит расстраиваться, это пройдет. Да и среди них есть неплохие люди…
* * *
— Кто эта женщина? — спросила Жаклина.
— Какая женщина?
— Которая тебя поджидала вчера вечером.
Жак знал, о чем его спрашивает Жаклина. Вчера, когда он возвращался с работы, он встретил на улице хорошо одетую молодую женщину, она ему улыбнулась.
— Кого я вижу! Добрый вечер, мсье!
Жак неловко протянул ей руку и покраснел. На Ирэн Фурнье была серая плиссированная юбка, плотная желтая куртка с поднятым воротником и широкий белый пояс, подчеркивающий ее тонкую талию. Она носила довольно длинные волосы на прямой пробор. Ее милое лицо обращало на себя внимание. По-видимому, ей еще не было тридцати.
— Очень рада, что встретила вас. Мы подготовляем еще одно собрание, значит, мне не надо будет посылать вам приглашение.
— В прошлый раз я не смог прийти. Каждую вторую неделю я кончаю работу в четверть десятого, — оправдывался Жак.
— Мы понимаем. Но если в следующий раз вы опоздаете, не смущайтесь, вам никто ничего не скажет. А вам понравилось?
— Да. Особенно ваше выступление. Вы хорошо говорили.
Теперь слегка покраснела Ирэн. Но Жак этого не заметил.
— Я уже начал собирать подписи.
— Великолепно!
На самом же деле его не за что было хвалить — прошло уже три недели, а количество подписей у Жака не увеличилось. Но на следующий день после встречи с Ирэн главный мойщик Анатоль подозвал в гардеробе Жака и спросил его:
— Скажи-ка, у тебя с собой воззвание, которое ты нам давал на подпись?
— Да.
— А на кухне ты его показывал?
— Нет еще.
— Дай мне, я знаю, кому можно предложить.
Вскоре Анатоль вернул Жаку лист с таким количеством подписей, что старик Жюль едва нашел место, где расписаться. Но он все равно попробовал сопротивляться. В тот день Жак с ним дежурил.
— Знаете, он заполнен, — проговорил Жак.
— Кто? — спросил старик.
— Лист с воззванием.
— Потом дашь его мне.
— Вот он.
— Не здесь, ты с ума сошел! Разве ты не видел Бекера? Он же бродит вокруг буфетной.
Старик Жюль отправился выяснять, что делает надзиратель; для этого он продел тряпку в ручку огромной кастрюли и, волоча ее за собой, прошел по коридору, обогнув раздаточный стол, пересек кухню, повертелся у кладовой и таким, обычным для поваров, способом, дотащил тяжелый котел до мойки.
— Бекер поднялся наверх, — сообщил он Жаку, — покажи твою бумажку.
Нацепив очки, старик вчитывался в каждую фамилию и всякий раз покачивал головой, словно приговаривая: так и знал. Дойдя до последней подписи он подскочил:
— Как, он тоже подписал?
— Кто именно?
— Шеф-мясник.
— Как видите.
— Ну, под его фамилией я свою не поставлю!
— Почему?
— Непутевый человек. Он целуется со всеми девушками, не пропускает ни одной юбки и всем предлагает с ним переспать.
— Жозеф такой же. А вы против него ничего не сказали.
— Это другое дело. Жозеф не женат. А у того пятнадцатилетняя дочь… Просто позор.
— Можно любить женщин и быть против войны.
— Кто неискренен в чувствах, не может быть честным в своих убеждениях. Подожди-ка, ты мне раньше показывал другой лист?
— Тот еще почти чистый.
— Тем лучше.
Старик уже взял карандаш, чтобы подписать.
— А ты и этот еще будешь давать подписывать?
— Да, я хочу предложить шефу.
— Веберу? Ладно, я подпишу после него.
Жак потерял терпение.
— Ну и ладно, обойдусь без вашей подписи, раз вы боитесь.
— Ты думаешь, я трус?
И старик решительно, крупными и четкими буквами написал под фамилией мясника: «Жюль Легран, воевавший добровольцем во время первой мировой войны».
— Если бы здесь было больше места, я бы тебе показал, какой я трус. Я воевал, понял?
— Ты чего кипятишься? — спросил старика шеф-кондитер.
Он пришел на работу раньше времени и на ходу завязывал фартук.
— Сопляки… еще учат нас… Никакого уважения к старикам… В мое время все было по-другому…
Вебер был добродушный человек и с давних пор привык к ворчливому характеру Жюля. В ответ он только пожал плечами. Жак решил воспользоваться случаем.
— Я попросил его подписать протест против перевооружения Германии, а он меня ругает.
— Дай-ка твое воззвание.
Вебер подписал без всяких рассуждений, добавив только:
— Надо, чтобы другие тоже подписали.
В конце этого дня у Жака состоялось объяснение с Жаклиной, начало которого польстило его мужскому самолюбию. Собственно говоря, это было их первое объяснение. До сих пор, после вечера, проведенного в кафе с Сюзанной, они два раза были в кино. В первый раз Жак, попросив прощения за то, что не смог прийти на свидание, назначенное на мосту, спросил:
— Тебе было весело на танцах?
— Безумно. У меня был очаровательный кавалер.
Ему очень захотелось дать ей пощечину.
— Сегодня ты снова пойдешь танцевать?
— Возможно.
— А я иду в кино. Ты не хочешь?
— Подумаю.
Она задержалась на работе, и они сели в метро, чтобы не опоздать в кино «Рекс», где шла новая цветная картина, которая оказалась довольно скучной. Когда они вышли из кино, лил дождь. Жаклина устала, и Жак предложил отвезти ее домой на такси. У гостиницы она мило поблагодарила его и побежала в подъезд, спасаясь от дождя.
— А меня везите на улицу Ассас, — сказал Жак шоферу.
Второй вечер начался более удачно. Жаклина, не задумываясь, взяла Жака под руку, и они сами не заметили, как оказались у маленького кино.
— Чудесно, идет картина с Жераром Филиппом!
Как только погас свет, Жак поцеловал Жаклину.
— Это еще что за номер?
Прошло немного времени и она сама прижалась к Жаку и положила голову ему на плечо. Оба потеряли представление о времени…
* * *
— О какой женщине ты говоришь? — снова переспросил Жак, делая вид, будто старается припомнить.
— Не прикидывайся дурачком.
— Сядем, я тебе все объясню.
Они вошли в скверик, где у них было назначено свидание, и сели на свободную скамейку.
— Это длинная история.
Жак рассказал о собрании комитета и о том, как он туда попал… Жаклина слушала его внимательно, улыбаясь некоторым подробностям.
— Тебе скучно слушать?
— Наоборот, меня это гораздо больше интересует, чем ты думаешь. Продолжай.
Когда он кончил, она ласково посмотрела на него и, видя его нерешительность, поцеловала его в губы.
— Жаклина…
— Скажи, а когда назначено следующее собрание? — спросила она, отстраняя его.
— Какое собрание?
— То, на которое тебя пригласили.
— Собрание комитета? Кажется, на завтра.
— Я тоже пойду.
— Ты?
— Да, я.
— Ты не веришь тому, что я тебе рассказал?
— Наоборот, начинаю верить.
— А тебя не отпугивают такие вещи?
— Мне это знакомо. Мой отец тоже сражается…
«По-видимому, она ничего не поняла; ее отец — военный, — пришло в голову Жаку, когда он расстался с Жаклиной, но он не стал над этим раздумывать и, шагая по темной улице, тихо напевал песенку Ива Монтана:
Я тебя люблю, люблю, люблю, Безумно я тебя люблю…* * *
— Ребята, послушайте меня. Потрясающее событие!
— Во-первых, что тебе заказать?
— Как обычно, кока-колу.
Хозяин кабачка налил Пибалю стакан божоле и поставил его на стойку.
— Товарищу то же самое.
— Нет, нет, я не пью вина, — отказался алжирец.
— Ну, так закажи что-нибудь другое.
— Сколько стоит фруктовый сок?
— Пусть цена тебя не заботит, я угощаю.
Огюст Пибаль с сияющим лицом обернулся к собравшимся:
— Сногсшибательно, уверяю вас…
Это происходило после собрания комитета. Человек десять остались поболтать и, чтобы вознаградить хозяина за предоставленное им помещение, заказали себе вина. Жаклина разговаривала с Ирэн Фурнье, и Жак, гордясь своей любимой девушкой, не сводил с нее глаз. Мадам Томасен и мадам Флери сели за столик, им принесли по стакану кофе.
— В общем невероятная история, — продолжал Пибаль. — Я ведь водопроводчик и хожу по разным квартирам, бываю у бедняков и у богачей, но, пожалуй, чаще у богачей — ясно, рабочие редко имеют ванну, но все же случается, что меня и туда вызывают. На днях вот я ремонтировал канализацию в одном доме в пятнадцатом районе, так там за водой спускаются во двор, даже нет крана на площадке каждого этажа…
— Огюст, ближе к делу, — прервал его молодой человек, которого, как слышал Жак, звали Леоном.
— Так на чем я остановился? — спросил Пибаль. — Ах да, я говорил, что водопроводчик бывает в самых различных местах. Позавчера, сразу же после начала работы, хозяин влетает в мастерскую и говорит: «Скорее, хватай сумку с инструментами и мчись в такси по этому адресу». Такие случаи у нас частенько бывают. Приехал я в богатый дом, рядом с Люксембургским садом, по лестнице навстречу мне бежит обалдевшая от ужаса консьержка и вопит: «Наконец-то вы пришли, садитесь в лифт, поднимайтесь на пятый, первая дверь направо, — уже протекло в нижние этажи». Я спокойненько попросил ее показать, где у них подвал. Прежде всего перекрыл воду — в таких вот больших домах они всегда забывают это сделать, — после чего со всем своим барахлом поднялся в квартиру. Мне открыла дверь девушка, похожая на кинозвезду. Она была в шелковом халате, под которым, по-видимому, ничего больше не было. Она мне сказала, что все произошло, когда она купалась…
— Огюст, поменьше подробностей, — сказала с улыбкой Ирэн Фурнье. — Не забывай, что здесь дамы.
— Она тоже оказалась дамой, настоящей дамой, сами сейчас увидите. Сперва-то я ее принял за актрису, потому что она очень красивая, а главное, из-за длинных светлых волос, которые покрывали ее плечи. Она ввела меня в комнату. Вы бы посмотрели — сплошные ковры, подушки. Постель была не застелена… А ванная! Я много их повидал на своем веку, но такие встречал очень редко — вся из мрамора! «Странно, больше не течет», — удивленно сказала девушка. А я ответил: «Ясно, ведь я перекрыл воду». Ну, я разложил свои инструменты и принялся за работу. Пустяковый ремонт, просто надо было сменить прокладку. Ну а пока я работал, мы поболтали…
— Ты, кажется, завираешься, — заметил Леон.
— Ни капельки, представь себе. Она начала первая. Спросила, нравится ли мне моя профессия и много ли я зарабатываю. Понимаешь? Ну, а так как она держалась просто, то я осмелел и перед уходом выкладываю ей: «Мадам, меня вызвали к вам в качестве рабочего. Свое дело я сделал, и теперь вы можете быть спокойны. Разрешите обратиться к вам с просьбой?» — «Говорите, в чем дело?» — «У меня с собой воззвание, которое касается всех французов. Эту петицию собираются представить депутатам и предложить им воспротивиться перевооружению Германии. Не можете ли вы поставить под ней свою подпись?» — «А много вас?» — «Миллионы, мадам». — «Впервые об этом слышу, покажите-ка вашу петицию…» — Тут уж я не мог отступить, — сказал Пибаль. — И выложил все свои доводы. «В течение последних семидесяти пяти лет во Францию три раза вторгались вражеские войска… Наши правители забыли времена оккупации… эсэсовцы могут возродиться…» Так вот, вы можете мне не верить, но дамочка, не моргнув, подписала. Должен вам сказать, что ее подпись чего-нибудь да стоит. Эти люди дают подпись, только когда убеждены, что дело правильное. А ее муж или любовник, кем он там ей приходится, не знаю, — депутат.
— Откуда ты взял?
— Так сказала консьержка. Кстати, я воспользовался случаем и у нее тоже получил подпись.
— Герой, — рассмеялась Ирэн Фурнье.
— Ну, как ты к этому относишься?
— Ты предъяви доказательства, — ответил Леон.
Пибаль гордо показал воззвание.
— Вот ее подпись, да еще какая четкая! И свой адрес написала. Сколько ей лет, я, конечно, не осмелился спросить. Да, чуть не забыл: когда я уходил, она мне еще сунула двести франков на чай. Я их внес в фонд «Юма»[6].
Жак расщедрился и оплатил половину общего счета в кафе.
— Симпатичные товарищи, — сказала Жаклина, когда они с Жаком вышли на улицу.
Они до поздней ночи гуляли по улицам, потом вышли на мост Ар и долго целовались, не решаясь еще произнести слова, которые у них готовы были сорваться, а может быть, им и не хотелось ничего говорить…
VI
— Мадемуазель, зажгите свет, ничего не видно.
Профессор Ренгэ сидел за своим письменным столом, заваленным папками. Он сунул вечерние газеты под кусок порфира, заменявший пресс-папье, достал из ящика несколько рукописных листков и взял почту, которую ему протянула секретарша. Кабинет до самого потолка был заставлен книжными полками. Большое окно выходило на узкий двор, и сюда никогда не проникало солнце. Вся мебель состояла из массивного дубового стола, десятка разрозненных стульев, двух огромных потертых кресел и грифельной доски, исписанной алгебраическими формулами. Профессор Ренгэ руководил лабораторией в Коллеж де Франс. Его владения занимали целый флигель, включая подвал. Это был довольно плотный человек с большой головой и седыми густыми волосами, спадавшими на виски. Первое письмо он подписал не читая, но тут же заметил:
— Мадемуазель, «академия» пишется через одно «к», не мешало бы это запомнить.
Девушка закусила губу.
— Простите, профессор, я перепишу письмо.
— Незачем, я уже его подписал, но ошибку исправьте.
От Ренгэ ничего не ускользало. Он был невероятно трудоспособен, аккуратен и педантичен в работе. Он наскоро просмотрел штук пятнадцать-двадцать писем, которые ему подала секретарша, и только на последнем задержался.
— Опять ошибка, профессор?
— Не ваша, а моя… Возьмите блокнот.
Он продиктовал, не задумываясь, довольно сложное письмо, которое посылал одному профессору в Кембридж. Откинувшись на спинку стула, он потер руки и сказал:
— Заполненный день, как всегда.
— А дама все еще в приемной.
— Боже! Я совершенно о ней забыл. Немедленно попросите ее ко мне.
Он встал навстречу посетительнице, предложил ей кресло и сел рядом. Ирэн Фурнье впервые была в кабинете Ренгэ и чувствовала себя неловко, но профессор очень скоро сумел рассеять ее смущение.
— Прежде всего, профессор, я должна у вас попросить прощения за беспокойство.
— Ну что вы, дорогая, это я должен перед вами извиниться. Я ответил на ваше письмо с запозданием и сейчас заставил вас ждать — так с дамами нельзя себя вести… Понимаете, когда вы пришли, я беседовал с учеником и не заметил, как прошло время. Кстати, разговор интересный; толковый парень, он многого добьется…
Профессор рассказал о споре с учеником, о выводах, которые он лично сделал в связи с этим спором по поводу одного своего опыта. Говорил он очень быстро, перескакивая с одного предмета на другой, и Ирэн сперва с трудом следила за его мыслями, но скоро приспособилась к его манере рассуждать.
Эдуар Ренгэ говорил о науке, как о любовнице. Он посвящал себя работе с рвением человека, который, достигнув расцвета своих умственных сил, стремится, пока еще есть время, сделать что-то большое. На смену росло новое многообещающее поколение исследователей. У профессора, к сожалению, не хватало необходимых средств, чтобы довести дело до конца… а время шло…
В этом человеке все резче выступал контраст между удивительно молодым умом и иссякающими физическими силами.
— Ведь нам не дают денег, — сказал профессор. — И мы-то знаем, что бОльшая часть государственного бюджета поглощается военными расходами, уходит в эту бездонную яму.
Ирэн пожалела, что не может записать слова ученого.
— Видите, все очень просто. Так естественно мы с вами подошли к занимающему нас вопросу. Теперь вы понимаете, почему я, Эдуар Ренгэ, в шестьдесят лет согласился стать председателем комитета мира?
— Мы вам за это искренне благодарны, профессор. Я к вам и пришла, чтобы сообщить о результатах нашей кампании.
— Какой кампании?
— Сбора подписей под петицией против перевооружения Германии.
— Ах да, теперь вспомнил! Мне предлагают подписать столько разных воззваний, что я запутался. Кстати, по-моему, их слишком много: против войны в Корее и в Индокитае, за освобождение Анри Мартэна… Так расскажите об этой кампании.
— Мы уже собрали больше двух тысяч подписей под текстом, который обсуждался при вашем участии.
— Покажите воззвание.
Профессор прочел текст петиции и возмущенно вскочил с места.
— Да нет, что вы, это совсем не то!
— Но, профессор… — растерянно начала Ирэн.
— Кто его составлял?
— Аббат Дюбрей и…
— Следовало прийти ко мне, как-никак я председатель!
Ирэн была озадачена.
— Конечно, ничего страшного нет, но этого можно было избежать. Повторяются одни и те же ошибки, одно слово уничтожает все, мелочь, которая придает узкий характер всему движению. «Я возражаю против перевооружения Западной Германии во всех его видах, — читаю я здесь, — и прошу французских депутатов отклонить ратификацию парижского и боннского соглашений». А я бы сказал: «Возражаю против перевооружения Германии…» — не добавляя «Западной».
— Но ведь перевооружается именно Западная Германия, а не Восточная.
— Я могу вам ответить, что об этом мне ничего не известно. Во всяком случае, написав «возражаю против перевооружения Западной Германии», вы даете право предположить, что вы восстаете против перевооружения одной только части Германии. Вероятно, некоторые ваши друзья так и считают, но, во всяком случае, не все с этим согласны. Я уверен, что именно из-за этого некоторые отказались дать свою подпись.
Профессор был прав. Хотя таких случаев было мало, но о двух из них Ирэн знала сама. И все же она не сдавалась.
— Заметьте, профессор, что дальше мы требуем сорвать ратификацию боннского и парижского соглашений. Вы сами знаете, что эти соглашения относятся к Западной Германии.
— Я все заметил. Но это не снимает моего возражения. По-моему, это его еще усиливает. Ваши друзья из Восточной Германии, если они искренни в своих намерениях, не могут считать, что требование отмены соглашений, которых они не подписывали, имеет к ним отношение. Зачем же тогда подчеркивать, что вы заинтересованы вопросом перевооружения только одной части Германии? Повторяю, это ничего не дает и сужает круг наших единомышленников.
Ирэн, убитая этим неожиданным для нее доводом, думала теперь только о том, как выйти из создавшегося положения. Профессор, заметив ее растерянность, перешел на примирительный тон.
— Поймите меня правильно, все это я говорю не из духа противоречия. Я так думаю. Раз я ставлю свое имя под воззванием, я не хочу, чтобы в нем были двусмысленности. У меня есть друзья во всех партиях, и своим авторитетом я обязан в первую очередь своим научным работам, а затем и искренности убеждений. Этим нельзя бросаться. Я уверен, что мой друг Жолио-Кюри сказал бы вам то же самое. Я примкнул к движению, которое он возглавляет, считая, что на этой почве возможно сотрудничество всех французов, но я по-прежнему не разделяю во многом его политических взглядов.
— Я не хочу от вас скрывать, профессор, что это слово прибавила я.
— Вот, детка, этого признания я от вас и добивался.
— А как теперь исправить?
— Конечно, начинать все сначала невозможно. По-моему, надо продолжать собирать подписи под новым, исправленным текстом, чтобы мог подписать его и я.
После этого Ренгэ пустился в пространное рассуждение о германском вопросе. Он считал, что Германия должна воссоединиться, но опасался, что если ее вооружат, то она, вне зависимости от существующего там строя, рано или поздно начнет новую войну в Европе. Выхода он пока не видел… Но, во всяком случае, Франция должна сказать свое слово. Вот почему он не возражал против сбора подписей, хотя, по его мнению, больших надежд на петицию возлагать нельзя…
Ирэн посматривала на часы.
— У меня к вам еще одна просьба, профессор.
— Скоренько изложите ее, мы и так с вами заболтались.
— У нас назначено собрание комитета, и мы хотели знать, подходит ли вам день.
Он записал себе в книжечку число и проводил Ирэн до самого выхода.
— Знаете, у меня довольно ворчливый характер, есть причуды, но в общем-то я неплохой. Приходите ко мне почаще, — сказал он ей на прощание.
Ирэн сияла, предвкушая, как удивит мужа рассказом о свидании с профессором. Больше всего ее поразила простота ученого. Проходя мимо театра «Одеон», она увидела Жака Одебера. На этот раз это была непреднамеренная встреча. Он был не один, и Ирэн поздоровалась, не останавливаясь. «С ним другая девушка, — отметила Ирэн. — Жаль, та выглядела очень милой».
Жак шел с Лорой. Он не был у них со дня ее рождения, и Брисак держался с ним теперь суше, чем обычно. Проходя мимо раздаточного стола кондитерского цеха, он даже не смотрел на Жака.
— Вы что-то очень мрачный, — заметила Лора.
Они встретились совершенно случайно и, так как им было по дороге, пошли вместе.
— Почему?
— Не знаю почему, но вы молчите. И шли-то вы опустив голову, с озабоченным видом. Любовные огорчения?
Он чуть было не ответил «да», но вовремя удержался. На Лоре было весеннее платьице, которое очень ей шло. Она казалась счастливой.
— Семейные неприятности, — сказал Жак.
— Не поладили с отцом? Но все равно я уверена, что с ним легче, чем с моим. Представляете себе, на днях он разозлился из-за вас. То он вас превозносит, а уже на другой день не хочет слышать вашего имени. Знай он, что я разговариваю с вами, он бы мне устроил скандал.
— Не понимаю почему.
— Он уверяет, что вы в ресторане занимаетесь политикой.
— Во-первых, это неправда. Но если б я и занимался, то это его не касается.
— Не сердитесь, конечно, это ваше дело. Но я бы на вашем месте вела себя осторожнее.
— Не будь он вашим отцом, я бы сказал, что я о нем думаю.
— Скажите.
— Его не любят служащие, и он делает все, чтобы его не любили.
— Не может быть, ведь он такой хороший! Если б вы его узнали поближе, вы бы так не говорили. Он только кажется строгим, а на самом деле он очень отзывчивый.
— С вами.
— Нет, не только. Ну взять хотя бы, как он относится к своему заместителю, вы, наверное, его знаете. Так вот, в ресторан устроил этого парня отец, и он уже десять лет работает в «Лютеции», достиг обеспеченного положения, но папа не хочет уходить на пенсию, пока не будет уверен, что его место достанется тому.
— А в то же время на прошлой неделе по его настоянию из-за пустяка уволили человека, у которого семья.
— Я знаю — выгнали вора.
— Не будем преувеличивать. Пропала бутылка портвейна, а он не хотел выдать товарища.
— Папа несет ответственность за погреб и не может допускать, чтобы его расхищали.
Жак улыбнулся, у него было свое мнение по этому вопросу. Все великолепно знали, что Брисак распоряжался винным погребом по своему произволу. Но если он обнаруживал, что служащий выпил не то вино, которое полагалось персоналу, или обменял с поварами бутылку вина на еду, Брисак его немедленно выгонял. Клюзо поступал более честно. От него нечего было ждать защиты служащему, у которого при выходе обнаружили кусок мяса или банку консервов, но на кухне он разрешал есть сколько угодно и смотрел сквозь пальцы, когда повар или даже поваренок во время обеда поджаривал себе бифштекс или тушил свежие овощи.
— Видите ли, Лора, отец рассказывает вам обо всем со своей точки зрения.
— Но он тоже был простым служащим, как и вы.
— Совершенно верно, как и я.
Жак замолчал, спрашивая себя, что она называет «простым служащим», но Лора прервала его размышления:
— Так вы поэтому и перестали у нас бывать?
— Я был у вас совсем недавно.
— Да, почти месяц назад! Может быть, вы на отца рассердились за то, что он отказался поставить свою подпись под каким-то воззванием? Если дело в этом и если вам это может доставить удовольствие, я подпишу за него.
— Не стоит подписывать только ради моего удовольствия.
— Да? Разве есть определенные условия?
— Надо верить в то, что подписываешь, мадемуазель Лора.
— Не думайте, что я ничего не понимаю. Я уже слышала обо всех этих вещах, когда училась в лицее.
— Они вас интересуют?
— До сих пор они мне были совершенно безразличны.
— А теперь?
— Теперь я подумаю. Ведь вы, мсье Жак, насколько я вижу, интересуетесь этими делами гораздо больше, чем своими друзьями.
Они расстались довольно холодно. Жак почувствовал облегчение. Во время всего разговора он непрестанно думал о Жаклине — вечером она уезжает в Бордо. Утром она получила телеграмму от отца: «Мать ложится в больницу, немедленно приезжай». Жаклина тут же представила себе создавшееся положение. Мать давно жаловалась на боли в позвоночнике, возможно, придется делать операцию. Один брат Жаклины работает на заводе, второй ходит в школу, младшей сестре Мирей всего одиннадцать лет, отец не в состоянии оплачивать прислугу… И Жаклина немедленно попросила у своего начальника отпуск.
— Вы имеете право на неделю оплаченного отпуска, но деньги получите, только когда проработаете год.
— Как же мне поступить?
— Возьмите за свой счет, в таких случаях аванс не полагается. Я могу только добиться, чтобы вы сегодня получили свою зарплату.
— А место сохранится за мной?
— Возвращайтесь, и сразу приступите к работе.
— А если я задержусь?
— Ничего не могу вам обещать.
Она пошла к представителю профсоюза Анатолю.
— Уезжай, не волнуйся, мы тебя не дадим в обиду, — сказал тот.
Жак спросил ее:
— Ты скоро вернешься?
— Если вернусь, то скоро.
— Значит, может случиться, что ты останешься там?
— А вдруг мама надолго выйдет из строя, я же не могу бросить отца!
Жак был расстроен, но всячески старался утешить Жаклину.
— Сегодня вечером зайдешь за мной в гостиницу и понесешь мой чемодан, — сказала Жаклина, когда он предложил ей свои услуги.
После работы Жак поехал на вокзал Аустерлиц и взял Жаклине билет на ночной поезд. Возвращаясь домой, он и встретил Лору. За Жаклиной он должен был зайти ровно через час, и решил повторить тот путь, который они проделали во время их первого свидания; Жак постоял на мосту Ар, сожалея, что не высказал своих чувств в тот вечер, когда они, поглощенные своим счастьем, обнимались здесь, не думая о завтрашнем дне.
Что же он сулит им? Завтра они собирались провести вместе весь день. Жак уговорил Жюля поменяться с ним выходным и условился с Жаклиной поехать в Версаль, где она еще ни разу не была. Утром они осмотрели бы дворец, потом пообедали бы на террасе в ресторане… Днем погуляли бы по королевскому саду — сейчас, наверное, уже цветет сирень… А вечером он мог благодаря переводу от отца повести ее опять в ресторан, пойти с нею в театр… Сколько радостей он ждал от этого дня, и вот теперь из-за ее отъезда все рухнуло и, возможно, навсегда…
В коридоре гостиницы Жака окликнула какая-то пожилая дама:
— Вы к кому?
— Я пришел за вещами мадмуазель Жаклины Леру.
— Седьмой этаж налево, в глубине. Она вас ждет.
Он отдышался, прежде чем постучаться.
— Кто там? — спросила Жаклина.
— Я, Жак.
— Минутку, — и она тут же открыла ему дверь. Она была в юбке и белой блузке. Волосы у нее были гладко причесаны.
Они нежно поцеловались.
— Подожди, я тебя вымазала губной помадой.
Жаклина крошечным носовым платочком вытерла ему рот, и они уселись рядышком на край кровати. Жаклина взяла его руку.
— Послушай, как у меня бьется сердце…
Он крепко прижал ее к себе, и они опять поцеловались. Она тихонько отстранила его.
— Не сейчас, Жак. Позже, я даю тебе слово…
У нее покраснели веки. Она принялась собирать оставшиеся мелочи. Картонный чемодан, аккуратно уложенный, но набитый до предела, стоял открытым на стуле. Жак закурил и оглядел комнату. Не больше его комнатушки, мансардное окно выходит во двор, Жаклина подвесила на окно два горшка с комнатными растениями.
— Они цветут?
— Нет, солнца не бывает. Но они и так хороши, правда? Хозяйка обещала поливать их.
— Значит, ты думаешь вернуться?
— Во всяком случае, очень хочу.
Жак заметил свой портрет. Он был вставлен в рамку и стоял на ночном столике, у изголовья железной кровати.
— Это я возьму с собой, — сказала Жаклина, кладя фотографию в сумку. Она осмотрела шкаф и все ящики, чтобы ничего не забыть, сложила мохнатое полотенце, висевшее рядом с туалетным столиком, постелила на кровать покрывало, взяла с камина полуувядший букетик фиалок и тоже положила его в сумку. Тот самый букетик, который подарил ей Жак…
— Мы поедем в такси, — сказал Жак, после двух неудачных попыток закрыв наконец чемодан.
— Но это дорого.
Жаклина зашла в контору гостиницы и расплатилась за комнату. В машине она спросила:
— Сколько я тебе должна?
— За что?
— За билет.
— Ничего. Я тебе дарю его.
Жаклина запротестовала было, но Жак сказал:
— Эти деньги предназначены были на завтрашний день.
Он не сказал ей, что взял билет в мягком вагоне. Она узнала об этом только на перроне, когда проводник с большой предупредительностью провел ее в купе.
— Мадам, ваша полка верхняя. Я вас разбужу, когда будем подъезжать к Бордо. У вас еще много времени, поезд отходит через сорок пять минут.
— Он меня принял за твою жену, — сказала Жаклина, когда они с Жаком вышли из вагона.
— Ну и что ж? — и Жак сжал ее руку.
Жаклина отвела глаза.
— Слушай, ты разорился на меня?
— Зато меньше устанешь в дороге.
— А ты ездил когда-нибудь в спальных вагонах?
— Иногда.
— Там очень удобно. Ты видел, дается подушечка, одеяло… А лесенку заметил? Сперва я не поняла, на что она, а потом, когда проводник сказал, что мое место наверху, догадалась. Послушай, а подо мной будут пассажиры?
— Да, купе на шесть человек.
— Ты думаешь, будут все шестеро?
— Да, билеты были проданы.
— Тем лучше.
— Почему?
— Мне бы не хотелось оказаться вдвоем с каким-нибудь незнакомым человеком. Вот с тобой — другое дело.
Жак повел ее в буфет. За соседний столик сели два молодых матроса. Они поставили на пол два огромных мешка и загородили проход. У стойки солдат в красном берете парашютиста пил вино с какой-то девушкой.
— Что, ребята, отправляетесь громить вьетнамцев? — обратился он к матросам.
— Нет, мы на побывку, — ответил один из них. — Еще сто тридцать два дня — и мы свободны.
Солдат усмехнулся.
— Ничего не известно, может, еще встретимся с вами в Индокитае.
— А ты, видно, не насытился, остался на сверхсрочную?
Парашютисту явно хотелось затеять драку, но, видимо, испугавшись решительного вида моряков, он пожал плечами и обратился к официанту, который наливал ему вино:
— Вот дураки, хотят, чтобы им набили морду.
Официант ничего не ответил.
В зале ожидания царило оживление, как всегда перед отходом дальних поездов. Обычная вокзальная толпа, которая во всем мире ведет себя одинаково, повторяет одни и те же движения, задает одни и те же вопросы: «Это поезд на Байонну, это точно?» — «Да, мадам, это поезд на Байонну, только садитесь в передние вагоны». — «Он уходит в одиннадцать часов?» — «Да, мадам, вы же видите надпись на табличке. Вы пошли не к тем вагонам, я же вам сказал, что надо сесть в один из головных, в самом начале поезда».
Предусмотрительные пассажиры, приехавшие за час до отхода поезда, заставили перрон чемоданами, и, когда к платформе подходит поезд, контролер кричит им: «Не садитесь, подождите, поезд еще не остановился!»
Прибывшие в последнюю минуту бегают от одного окошечка к другому, суетятся, толкаются, сшибают всех с ног, и кассирша кричит им вслед:
— Мсье, вы забыли взять сдачу! Мадам, ваш пакет!
Люди, привыкшие к поездкам, спокойно прогуливаются у киосков, поджидают продавщицу подушек. Методичные пассажиры стоят и списывают расписание. Рассеянные садятся не в свой поезд. Дети веселятся и играют, будто они на ярмарочной площади, в то время как их мать сторожит вещи, а отец стоит в очереди у окошечка. Здесь старики, навестившие детей и возвращающиеся к себе в провинцию; солдаты, едущие в отпуск или обратно в часть; девушка, впервые пускающаяся в путь одна; делец, который проводит половину жизни в поезде… Огромная толпа людей, одни грустные, другие веселые — безразличных почти нет…
Жак не решался затрагивать вопрос о матери Жаклины и не знал, о чем говорить.
— Скоро отправление, — сказала Жаклина.
— Уже?
Они еще постояли у вагона.
— Надеюсь, что все образуется, Жаклина. Ты мне напишешь?
— Напишу, но боюсь…
— Ты думаешь, она серьезно больна?
— Боюсь тебя потерять, Жак.
Громкоговоритель проверещал: «Пассажиров, отъезжающих в Орлеан… Тур… Пуатье… Ангулем… Бордо… прошу занять места…»
— Подожди еще немножко.
Жак схватил Жаклину за плечи и, глядя ей в глаза, сказал:
— Можешь считать меня идиотом, но я тебя люблю, люблю до безумия.
Жаклина повисла у него на шее.
— Эй, голубки, хватит ворковать! — крикнул им какой-то железнодорожник.
Она поднялась в вагон. В коридоре было так тесно, что она добралась до окошка, когда поезд уже тронулся.
Жак бежал по перрону… Вскоре он отстал и остановился.
— Пиши мне и скорее возвращайся! — кричал он Жаклине.
— Обещаю.
— Через два месяца отпуск…
Она ему послала последний воздушный поцелуй и прошла в свое купе. Жаклина обрадовалась, увидев на полке напротив себя молодую женщину, которая читала журнал.
— Разрешите погасить свет, мадемуазель?
— Прошу вас, мадам.
Остальные четыре места занимала одна семья.
Жаклине не терпелось очутиться в темноте. Она по привычке заложила руки за голову и стала мечтать под убаюкивающий шум поезда.
«Он меня любит, я его тоже люблю…» Она шаг за шагом вспоминала весь путь, который они с Жаком проделали за этот месяц. Казалось, ей всегда было знакомо его бледное лицо, откинутые назад волосы, удивительно добрые глаза, маленькая ямочка на щеке…
Она полюбила его с первого же дня, почему — она сама не знает, просто понравился, вот и все. Он не такой, как все… Может быть, потому, что он был очень внимателен к ней. Он так мило разговаривал с нею, и она не слышала от него ни одного неприятного слова. Она чувствовала, что нравится ему. А когда он, будто случайно, встретился с нею! Все было шито белыми нитками. До чего же она обрадовалась! Все это хорошо, но что за отношения у него с дочерью заведующего погребом? Конечно, это девушка его круга. Ведь он сын торговца, он должен думать о своем положении… Они опять могут начать встречаться… Жак почти не знает жизни рабочих, он даже не член профсоюза. Надо бы поговорить с ним об этом. Он активный человек и уже вошел в комитет мира… Он не понял, почему она так обрадовалась в тот вечер. Может быть, ей следовало вознаградить его, сообщив, что на танцы она пошла назло ему и очень скоро рассталась с подружками, потому что скучала без него? Собирается ли он в самом деле жениться? Он ее любит, это точно… Ну а как отнесется к этому папа?.. Он скажет: ты будешь с ним несчастна, родные вечно будут его укорять, ты только подумай — женился на дочери докера! Я как чумы боюсь этих хозяйских сынков. Но он хотя бы не пижон?.. Нет, Жак не пижон. Кроме того, она ничего от него не скрывала, он знает, с кем имеет дело. Да и чего ей стыдиться? Он у нее первый. Она не то, что многие другие девушки ее возраста, которые уже давно не устояли перед соблазном; взять ту же Сюзанну — хоть она и хорошая девушка, но легкомысленно относится к таким вещам. А что скажет мама? Мама поймет, ей она все расскажет… Ну а если придется остаться? В телеграмме ясно сказано: «…в больницу». Мама уже и раньше лежала в больнице. Бедная, она так перетрудила себя. У Жака нет матери, он как-то сказал, что не в ладах со своей мачехой… Может быть, не следовало ему говорить, что она боится его потерять? Вдруг он решит, что у нее какие-нибудь материальные интересы? Нет, он выше этого… Мой Жак, мой Жако…
Жаклина задремала, но ее разбудил голос с солонским акцентом, кричавший:
— Обрэ! Поезд следует в Тур, Пуатье, Ангулем, Бордо.
Жаклина больше не могла заснуть, теперь она думала о матери. У нее размягчение позвоночника — результат военных лишений. Болезнь Пота, как называют врачи… Нет, это было бы ужасно, тем более сейчас, когда жизнь как будто улыбнулась Жаклине…
Детство у Жаклины было трудное. Она была старшей дочерью, и ей уделяли меньше внимания, чем двум ее братьям и сестре. Когда была объявлена война, ей было всего девять лет. Жан и Поль были еще меньше и тогда еще не умели ходить. В 1940 году, на следующий день после того, как немцы вошли в Бордо, родилась младшая сестренка Мирей, которую до сих пор называют «маленькая Мирей». Пришлось потесниться в хибарке, которую они занимали, жизнь стала еще труднее. Отец отказывался работать на оккупантов — этот огромный человек целыми днями слонялся без дела в порту, изредка выполняя какую-нибудь мелкую работу, чтобы прокормить семью. Однажды он вернулся домой с раздробленной рукой — это был единственный способ получить хоть немного денег в страхкассе и купить своим малышам хлебные карточки на черном рынке. Мать занималась стиркой и уборкой у местных лавочников. Жаклина в свободное от школы время нянчила сестренку и возилась с братьями. Все они голодали, но никто не жаловался. Им жилось очень плохо, но все же и в этом бедном доме бывали счастливые минуты, когда отец, за которого мать вечно дрожала, возвращался вечером усталый, но довольный и с победоносным видом клал на стол бумажку в сто франков.
— Удачный день, ребята! Выпьем винца!
Все в семье беспрекословно повиновались ему, но относились к нему, скорее как к старшему брату. Он всегда был в хорошем настроении, любил все слегка преувеличить и смешил рассказами о своих проделках над немцами. А ведь эти шутки могли стоить ему жизни! Однажды утром в дом ворвались полицейские в сопровождении гестаповца. За два дня до этого Робер Леру исчез.
— Вы его арестовали? — спросила мать.
— Давно пора посадить такого бандита!
— Сволочи!
— Заткнись, карга!
Жаклина замахнулась на полицейского, но тот схватил ее за руку; девочка закричала от боли и обиды и укусила его в руку.
— Паршивый ублюдок…
В течение нескольких дней от отца не было никаких известий. Все члены семьи тайком друг от друга ежедневно просматривали газеты в страхе, что увидят его имя в списке расстрелянных. Наконец Леру удалось переправить им записочку, которую он нацарапал в тюрьме, потом пришли письма из Парижа — и снова пугающее молчание. Он вернулся летом 1944 года, убежав из бержеракской тюрьмы, и немедленно вступил в формировавшийся полк, который уходил сражаться в Пуант Грав.
Жаклина подросла; она рано бросила школу, чтобы помогать матери. После войны их семье отдали одну из реквизированных квартир. Дворцом ее нельзя было назвать, но, во всяком случае, они теперь имели три маленькие комнатки. Впервые в жизни Дениз, так звали мать, узнала, что такое электричество в квартире и водопровод в кухне. Отец снова работал докером, а вечера проводил в профсоюзном комитете. Жаклина не имела никакой специальности и поступила продавщицей в булочную. Ее подруга Сюзанна, работавшая подавальщицей в «Лютеции», сообщила, что и для нее найдется место, и как только Жан, старший из двух братьев, получил диплом токаря, она уехала в Париж. Второй брат, Поль, еще ходил в школу, он хорошо учился и собирался подготовиться к экзамену для поступления в почтовое ведомство. Ему-то Жаклина и посылала ежемесячно часть своего заработка. Маленькая Мирей уже стала помогать матери…
Жаклина без конца вертелась на своей полке. Перед ее глазами возникала в темноте фигура Жака, он стоял на перроне и продолжал улыбаться. «Он мне сказал: «Пиши и возвращайся», — потом крикнул, что скоро отпуск…»
Жаклина закрыла глаза и погрузилась в мечты. У нее еще никогда не было отпуска…
VII
— Как чудесно! — сказал Луи Фурнье. Через плечо он нес мешок, в одной руке удочки, в другой — старое ведро, в которое положил с килограмм пареной пшеницы, вареную картошку и банки с наживкой. Луи быстро шагал по мокрой от утренней росы траве. За ним едва поспевала его жена Ирэн. Ноги у нее были исцарапаны, подол юбки совершенно промок, покрытые росой ветки деревьев хлестали ее по лицу. Она несла большую ивовую корзину для провизии, которая в Перигоре на местном наречии называется «буйерику».
— Ты только посмотри, как красиво! — снова воскликнул Луи.
Они пошли тропинкой прямо через лес, чтобы сократить путь, и очутились в небольшой ложбинке. Только начинало светать. Тонкая пелена тумана расстилалась над отавой, которую уже пора было косить. Среди луга неподвижно возвышалось несколько тополей, окруженных пушистыми ивами, предвестниками воды. По всем признакам река должна была находиться где-то совсем близко. Горизонт розовел.
— Да, очень красиво, — согласилась Ирэн.
По правде говоря, она предпочла бы сейчас лежать в постели, но Луи так радовался, что она согласилась пойти вместе с ним, и ей не хотелось его огорчать. Он был совершенно счастлив.
— Ты только посмотри, до чего хороша неподвижная гладь реки, как щебечут птицы, как постепенно просыпается природа… Мне жаль тех, кто сейчас нежится в постели и не видит всего этого.
— А еще далеко?
— Мы почти дошли.
Но он направился к лугу, который пришлось пересечь, а трава здесь доходила почти до колен, после этого надо было перебраться через канаву, проползти под колючей проволокой…
— Почему бы нам не остановиться здесь?
— Слишком близко от жилья. Дальше есть совсем укромные места. Если тебе тяжело, дай мне корзину.
— Хорошо, а я понесу удочки.
— Только осторожнее.
Луи замедлил шаг, пытаясь расчистить Ирэн путь среди густых зарослей. Она шла с твердым намерением не сдаваться, но решив в душе, что, если ей еще раз придется принести подобную жертву, она наденет сапоги или хотя бы брюки. Наконец они остановились. Ирэн села на пень, а Луи отправился исследовать берег во всех направлениях. Его не было довольно долго.
— Я нашел чудесное место, идем.
Она с сожалением поднялась, и они прошли еще немного. Он бегом вернулся за удочками, которые они забыли, и немедленно принялся расчищать площадку от колючек. Луи находился в состоянии крайнего возбуждения.
— Ну, что ты скажешь?
В самом деле, уголок был очарователен. Прогалины в несколько метров у подножья большого дуба. Слышалось журчанье источника. Река здесь была не шире пяти метров и казалась довольно глубокой. Обрывистый берег, укрепленный толстыми корнями, нависал над водой; судя по утоптанной земле, место это часто посещалось. Стало светлее, уже четко вырисовывались листья тростника.
— Видишь, мы правильно сделали, что вышли в четыре, да и это слишком поздно.
— Но ведь еще почти темно.
Накануне Луи лег поздно. Он приводил в порядок удочки, готовил наживку, раз шесть просыпался, зажигая каждый раз спичку, чтобы взглянуть на будильник, и в три часа, не выдержав, встал. Ирэн всю ночь не могла заснуть и в тот момент как раз задремала. Она надеялась выспаться здесь, когда солнце немного пригреет землю. А пока что она не двигалась с места, так как Луи просил ее не шуметь и, главное, не ходить из-за звукопроводимости земли.
— Но разговаривать ты все-таки можешь, голос рыба не так слышит.
Он не спеша принялся распаковывать свое снаряжение. Прежде всего он вынул огромный, взятый у товарища сачок, в который могла поместиться рыбина килограммов на десять. Он выложил его на берег, чем рассмешил жену.
— Ты надеешься им воспользоваться?
— На всякий случай.
Затем он вывалил содержимое мешка на кусок брезента. Банки с приманкой он поставил рядом с собой, после чего принялся собирать удочку. Ирэн с улыбкой смотрела, как он пробует гибкость удилища, измеряет длину лески, проверяет кончик крючка.
— Ты готовишь удочку мне?
— Нет, это моя. Для тебя я захватил другую.
Луи промерил глубину реки, стараясь не опускать грузило слишком резко.
— Отлично, отлично. Полтора метра, как раз то, что нужно для плотвы. К тому же неподалеку мель.
Он нацепил на крючок пшеничное зерно, закинул удочку и стал следить за перышком, выступавшим из воды всего на два сантиметра. Потом перешел на другое место, проделал то же самое еще раза три, продвигаясь вниз по течению, которое в этом месте было очень медленное, и передал удочку Ирэн.
— На, подержи, я пойду нарежу рогулек.
Вскоре он вернулся с крючковатыми палками разной длины. Ирэн в это время сражалась с веткой дуба, пытаясь высвободить леску.
— Пробка ушла под воду, и я потянула.
Луи не сделал ни единого замечания, но, распутав лесу, решил больше не давать удочку жене, а пристроил ее на рогульке. Затем он скатал несколько шариков из теста, в которое входили глина, картошка и пшеница, и кинул их точно на середину реки. Все это он проделал с очень сосредоточенным видом.
— Да, надо было мне еще вчера прийти сюда и разбросать прикормку. А теперь я спугнул рыбу, и нам придется ждать, пока она вернется.
Луи занялся удочкой для линей. Он насадил на крючок навозного червяка, самого своего лучшего, как он сказал, и ловким движением забросил крючок к самым зарослям тростника. Наконец Луи наладил удочку Ирэн, она хотела заняться ловлей попозже.
— Поуди один.
По правде сказать, она боялась снова зацепить какую-нибудь ветку и рассердить мужа.
Луи наконец сел, закурил и с наслаждением затянулся. Солнце уже взошло. Ирэн вынула из корзины салфетку, развернула ее и отрезала себе ломоть хлеба.
— Ты что, уже собираешься завтракать?
— Я проголодалась.
— Потерпи немножко, поедим вместе.
Внезапно пробковый поплавок удочки для линей судорожно задвигался. Луи схватил удилище, осторожно вынул погруженную в воду леску и, когда поплавок ушел под воду, резко подсек.
— Ты посмотри, пескарь! Какой красивый.
— А я думала, на эту удочку идут только лини, — ответила жена.
— Во-первых, еще неизвестно, водятся ли здесь лини. Так как вода здесь холодная, то это маловероятно. Но зато здесь есть пескари. Рожэ мне так и сказал. Смотри, еще один. Ну что, покушать захотели? Да, представьте себе… Ага, ребята, мы попляшем…
Ирэн подобрала рыбешек.
— Куда их класть?
— Последуем совету Рожэ.
Луи взял банку и вылил в нее бутылку жирного молока. Пескари явно наслаждались молочной ванной.
— Они не умрут, надеюсь? — спросила Ирэн.
— Не сразу. Они перепьются, потом поднимутся на поверхность, брюхо у них будет надутое и совершенно белое. Тогда, не потроша, их надо кинуть на раскаленную сковородку. Это блюдо славится в Дордони.
— Варварский способ.
— Почему варварский? На, опусти еще этого пескаря. Они любят молоко, я же тебе сказал… Ну и улов будет!
— Мне тоже хочется поймать рыбу.
— Я знал, что тебя проймет. Вот как мы сделаем: я нацеплю зернышко на свою удочку для линей и установлю ее с той стороны, у самого пня, — у меня предчувствие, что там должна водиться рыба. А ты вооружишься удочкой с червяками для пескарей. Я же буду удить на опарышей.
Они уселись рядом. Ирэн волновалась.
— Смотри, у тебя клюет, — сказал Луи.
Ирэн потянула крючок слишком рано.
— Осторожно! Осторожно!
Ирэн потянула крючок слишком медленно.
— Подсекай!
На этот раз она потянула удочку так резко, что крючок снова зацепился за ветку.
— Больше не буду и пытаться, я все перепорчу, — сказала она.
— Нет, нет, я сейчас отломаю эту ветку. Видишь, леска уже распутана.
— Ну хорошо, только я сама.
Луи с трудом удержался, чтобы не вмешиваться, и отправился переставлять удочку для линей в другое место, так как поплавок оставался безнадежно неподвижным.
— Луи! Луи! — крикнула Ирэн.
— Ну подсекай!
— Я не могу ее вытянуть.
— Ясно, ты же зацепила за тростники, все понятно.
Он взял у нее удочку и очень удивился, вытянув застрявшую в водорослях рыбу.
— Чудесная рыбина, это же плотва. Ну конечно, я так и знал, что она здесь должна водиться. Эх, надо было, как я и хотел, захватить конопляного семени. Ну-ка, пожалуй сюда, красавица…
— Ты ее тоже пустишь в молоко?
— Нет, положу в корзину. Ты только посмотри, какая красивая!
Они продолжали удить с такими же бурными переживаниями, но вскоре рыба стала клевать хуже, и Ирэн, поймавшая уже шесть пескарей, объявила, что она вполне удовлетворена, тем более что «а ее удочку рыба совсем перестала идти. Она поднялась и пошла приготовлять завтрак.
— Иди сюда.
— Подожди, сперва я поймаю еще одну плотву.
Но плотва что-то не шла, и он с большой неохотой бросил удочку.
Они уселись на траву лицом друг к другу. Ирэн разложила на скатерти большой кусок ветчины сырого копчения, белый хлеб, лук, паштет и деревенский сыр. Все это было съедено с большим аппетитом.
— Больше ничего нет? — насмешливо спросил Луи, наливая себе стакан красного вина.
— Молчи уж! Сидони дала мне еще колбасы и хотела всучить банку с вареньем.
— Хорошие люди, правда?
Вот уже три дня Луи с Ирэн жили в одной крестьянской семье, проводя здесь свой отпуск. Луи Фурнье и Рожэ Беро были старыми друзьями, они познакомились во время Сопротивления, вместе были в макИ, и даже в одном отряде. После войны каждый вернулся к своей работе.
Беро еще в августе 1944 года, сразу же после Освобождения Дордони, уехал к себе в деревню. Луи вступил в армию, принял участие в боях за Рошель и Пуант Грав, и ему было присвоено звание лейтенанта. Несколько месяцев спустя он был демобилизован, как и большинство офицеров ФФИ, вернулся в Париж и снова поступил на завод. Со дня на день он ждал жену, которая была депортирована в один из немецких лагерей. Она так и не вернулась. Он поверил в постигшее его горе, только когда ее подруга, находившаяся с нею в одном лагере, сказала ему:
— Она умерла на моих глазах, в Освенциме.
— Они ее убили?
— Да. Изнурительная работа, голод, побои… Вела она себя очень мужественно…
Луи больше ни о чем не стал спрашивать, но долгое время его преследовала одна и та же картина — обнаженное тело его жены бросают в огонь. Они поженились в начале 1940 года. Им вдвоем было сорок лет. Недолго им пришлось прожить вместе. Луи арестовали первым, осенью, за распространение листовок на заводе Рено. В лагерь Мозак, куда его посадили, жена присылала ему письма и посылки, но потом она исчезла. Луи ничего о ней не знал до весны 1943 года, когда от нее пришла первая и последняя записочка из форта Роменвиль. Она нацарапала карандашом всего четыре слова: «Нас увозят в Германию». У Луи не было родных, и он жил в полном одиночестве, посвящая все свое время заводу и партийной работе. С Ирэн он познакомился много позже. Началась его новая любовь.
В одно воскресное утро Луи, надев спортивную куртку, в которой он обычно продавал «Юманите», постучался в квартиру к Ирэн.
— Мадемуазель, эта ваша анкета для приема в партию?
— Моя.
Ирэн явно стеснялась, что ее застали в халате, за приготовлением завтрака. Ее крошечная квартирка состояла из комнаты и чулана, в котором находилась плита и раковина. Бедно обставленная комнатка создавала ощущение наивной молодости; белоснежный паяц сидел на диване, обитом светлым кретоном; на столе лежала вышитая скатерка; несколько картинок, вырезанных из журнала мод, приятно оживляли бежевые стены; кустик настурции вился по решетке окна.
— Так вот, я из парторганизации, к которой вас прикрепили. Прежде чем вызвать нового члена, принято повидаться с ним на дому. Где вы работаете?
— На «конвейере безумных».
Ирэн объяснила Луи, что так работницы завода называют конвейер, на котором девушки в течение девяти часов в день наполняют флаконы шампунем.
— Вы знаете наш шампунь? Рекламу о нем можно увидеть на всех парижских автобусах.
— И сколько же вы наполняете бутылочек?
— По двадцать тысяч в день, а иногда и больше. За это мы получаем всего около шести тысяч франков в неделю.
— На вашем заводе существует парторганизация?
— Нет, насколько мне известно.
— Вы член профсоюза?
— Да, вот уже четыре года состою в профсоюзе ВКТ.
Второй раз Ирэн и Луи встретились в парторганизации и познакомились ближе. Ирэн почти не помнила отца, он умер в 1928 году от ранений, полученных в первую мировую войну. Мать Ирэн вышла замуж за машиниста метро и жила в домике под Парижем с детьми от второго брака. Ирэн, достигнув совершеннолетия, предпочла поселиться отдельно. Ей посчастливилось найти эту квартирку за двести тысяч отступных, которые она вносила в течение двадцати шести месяцев.
Ирэн была несколько тщедушна, но хороша собой. Ей было двадцать пять лет. Луи — тридцать. Они словно были созданы для взаимной любви и очень подходили друг другу. С тех пор как они поженились, прошло уже шесть лет, они были счастливы и жили все в той же квартирке, где впервые увиделись. По настоянию мужа Ирэн окончила курсы стенографии и машинописи и с недавних пор работала машинисткой в профсоюзном комитете металлистов. Луи перешел на завод счетчиков в Монруже.
Примерно в тот же период, когда Луи женился, он снова встретил Рожэ Беро. Это произошло в Бержераке на предвыборном собрании, организованном коммунистической партией. Когда собравшиеся уже начали расходиться, какой-то человек, небольшого роста, небритый, с худым и загорелым лицом, подошел к столу президиума и, улыбаясь, посмотрел на Луи.
— Послушай-ка, во время Сопротивления у тебя была кличка «Париго»?
— Правильно.
— Не узнаешь? Мушкетеры[7]…
Они бросились друг другу в объятия.
— Так легко не отделаешься, поехали ко мне, — заявил Рожэ.
— Я должен попасть на утренний поезд.
— Переночуешь у нас, и мы как-нибудь доставим тебя на вокзал.
После войны было несколько урожайных лет, вино хорошо продавалось, и Беро удалось накопить немного денег. Благодаря ссуде, которую он уже почти полностью вернул, он смог наконец приобрести собственную ферму и не возобновлять аренду у своего хозяина, некоего Рапиньяка, который, несмотря на закон, утвержденный парламентом, отказывался оставлять Беро две трети урожая. Луи, расставаясь с семьей Беро, дал слово, что приедет к ним в отпуск с женой. После этого они обменялись несколькими письмами, из года в год откладывали свидание и наконец договорились провести вместе первую половину августа.
С тех пор как Ирэн с Луи приехали на ферму, все их время было поглощено прогулками, гостями, трапезами… Луи от радости, что снова попал в места, с которыми у него было связано столько воспоминаний, был неутомим. Ирэн, будучи слабее его физически, непривычная к деревенской жизни, уставала от походов. Сегодня они отправились на первую рыбалку.
Завтрак прошел весело. Спокойствие было нарушено всего один раз: поплавок удочки для линей внезапно ушел под пень. Луи бросился к реке, но опоздал.
— Что это было? — спросила жена.
— Наверняка крупная рыба.
— Линь?
— Нет, они не так клюют. По-видимому, уклейка, их здесь полно. Я попытаюсь их поудить на кузнечика.
Луи еще постоял около удочки в надежде, что рыба вернется, и наконец доел свою краюху хлеба. Они взглянули друг на друга и расхохотались.
— Хорошо, что мы взяли столько еды, — сказала Ирэн. — Мы все прикончили, за исключением колбасы.
— И все выпили? Да, посмотри на бутылку. Ну ничего, повыше есть источник.
С чувством полного удовлетворения Луи встал, потянулся, снял рубашку, до пояса оголив загорелое мускулистое тело, и потер руки.
— Теперь мы им покажем. Да, господа, вам сейчас покажут, как рыбу ловят. Если вы хотите поразвлечься, так это от вас не ушло. Я вам обещаю…
Страсть к рыболовству у Луи сохранилась с детства. Он был сыном сельскохозяйственного рабочего, родом из деревушки на берегу Луанга, в департаменте Сены и Марны. Это было очаровательное местечко, там у него не сохранилось ни родных, ни жилья. Но все же он любил, когда представлялась возможность, а это бывало крайне редко, съездить на воскресенье в свою деревню и провести весь день на старой лодке — единственное, что ему досталось в наследство от отца.
Ирэн, не охваченная, как он, священной страстью рыболовства, сняла туфли, надела трусы, чтобы загорали ноги, и, вытянувшись на траве, вскоре заснула…
* * *
Сидони плакала.
— Подождите, — сказал ей Луи, — расскажите все по порядку. Явились жандармы?
— Да, двое из Бержерака. Один худой и долговязый, с ним ефрейтор. Сперва я их приняла за жандармов из Палисака. Мы их хорошо знаем, они иногда, объезжая округ, заходят к нам выпить вина. Я было подумала, что они пришли за Милу, он ведь скоро должен уйти в армию, и у меня забилось сердце. Они спросили, дома ли мой муж. Рожэ был в сарае. Он их увидел и, ничего не подозревая, вышел к ним. «Вы мсье Беро?» — спросил ефрейтор. — «Так точно». — «Нам приказано доставить вас в бержеракскую тюрьму». — «Вы что, смеетесь?» — сказал им Рожэ. Тогда начальник, который явно был смущен, достал какую-то бумажку. «Вот, на вас подана жалоба. Вы обвиняетесь в том, что в 1944 году взорвали дом и приняли участие в расстреле некоего Дюрока». — «Дом принадлежал мерзавцу, который был заодно с оккупантами, — сказал им в ответ Рожэ, — а Дюрок был сволочь и предатель, и из-за него погибло немало французов». Наверное, ему не следовало это говорить, потому что долговязый озлобился и сказал: «Нас это не касается, вы объяснитесь со следователем». Тут Рожэ вышел из себя, подозвал собак и крикнул: «Вы меня отсюда не уведете». — «Беро, не дурите, — сказал начальник, он вообще выглядел более разумным, чем второй, — вам лучше пойти с нами». — «Ни за что!» — «Поймите, мы же ни при чем. А если вы окажете сопротивление, мы вынуждены будем применить силу, прислать за вами охранников, а уж с ними все будет по-другому». — «Пусть явятся, я их встречу с винтовкой в руках, и я буду не один, предупреждаю вас. Я здесь у себя дома». — «Успокойтесь, не прибавляйте к своему делу отягчающих обстоятельств. В конце концов, все это пустяковая формальность. И если вы будете правильно защищаться, ваше дело, возможно, будет прекращено». — «Мне незачем защищаться. Не подходите. Собака перегрызет вам горло». Долговязый отступил, и мне даже показалось, что они уйдут, но ефрейтор снова принялся за свое: «Последнее предупреждение, Беро. Пойдете вы с нами?» — «Нет, я не преступник». — «Слушайте, мы же не собираемся обращаться с вами, как с злоумышленником. Вы поедете впереди на своем велосипеде. А мы издали будем следовать за вами. Я вам доверяю». Рожэ попросил время, чтобы подумать, и позвал меня в комнату. Он был белый, как полотно. «В общем-то они не могут долго меня продержать. При поджоге дома и расстреле Дюрока со мной были только Пораваль с Луи, и никто нас не видел». — «Так ты с ними поедешь?» — «Ну а что я могу сделать? Немедленно предупреди Луи, его тоже могут арестовать». Я ему дала хороший костюм и тут же послала Милу за вами.
— Сколько прошло времени, как они уехали?
— Меньше часа, Рожэ еще препирался с ними, но я поняла, что он торопился уехать до вашего возвращения.
Милу пришел, когда Луи только собирался сделать, как он выражался, «приличное» рыбное блюдо. Он быстро сложил удочки и вместе с женой отправился на ферму.
— Надо немедленно дать знать товарищам, — сказала Ирэн.
— Сейчас я этим и займусь. Поблизости есть телефон?
— Позвонить можно только из деревни, но будка закрывается в полдень, — ответила Сидони.
— Лучше самим поехать в Перигё, — сказала Ирэн.
— Где можно достать машину?
— Да у любого. Кабатчик из Палисака возит за плату. Булочник Пейроль не откажет нам в услуге… А может быть, мсье Сервэ согласится вас отвезти, они хорошо знакомы с Рожэ.
— Какой Сервэ, доктор в Палисаке?
— Он самый. Другого Сервэ и нет.
— Я тоже с ним знаком. Если он такой же, как был, он нас отвезет.
— Ну, этот-то не переменился, можете быть уверены. Он не похож на тех, которые все позабыли и проходят мимо вас, даже не здороваясь. Послушайте, но вы же должны поесть перед отъездом. Я приготовила такой вкусный завтрак!
И Сидони, вытерев передником полные слез глаза, принялась дожаривать на вертеле цыпленка.
— Милу, вставай, нечего убиваться. Твой отец — честный человек. Налей вина и вынеси им велосипеды. Отсюда до Палисака добрых пять километров, а они наверняка голодны…
Доктора они застали в саду. Он лежал в шезлонге и читал газеты.
— Я собирался подремать, — сказал он. — В это время больные не приходят.
— Вы меня не узнаете? Я — Париго!
— Черт побери, не мог сразу сказать.
Они крепко пожали друг другу руки.
— Твоя жена? Поздравляю. Сударыня, мое почтение…
Как только Луи изложил ему цель своего приезда, доктор без колебания заявил:
— Ты правильно сделал, старина, что вспомнил обо мне. Кстати, мне все равно надо побывать в Перигё.
Сервэ поехал заправиться к колонке, поговорил с булочником, остановился, чтобы побеседовать с парикмахером, и таким образом, когда они выехали из Палисака, половина городка уже знала об аресте Беро.
— Совершенно новая машина, — заметил Луи, сидевший рядом с доктором.
— Скоро износится. Я беспрерывно гоняю, как по своим делам, так и по партийным. Вот и вчера снова было собрание около Мюсидана.
— Много вас в Палисаке?
— Что ты! Не больше дюжины, да и то половина — калеки. Я занимаюсь комитетом мира, но и у нас дела неважные. Здесь нужен человек, который целиком посвятил бы себя этому. Иначе их не расшевелить.
— А ты почему не можешь?
— Времени нет, а товарищи не хотят с этим считаться. К тому же я не оратор.
— Знаете, я тоже занимаюсь комитетом мира, — вставила Ирэн. — И я очень волнуюсь, когда мне надо выступать.
— Пожалуй, нам нужна вот такая женщина, как вы. Может быть, она заставила бы их приходить на собрания.
Разговор снова зашел о Беро.
— А почему он не в партии? — спросил Луи.
— Не знаю. Правда, он занимается крестьянским профсоюзом.
— Одно не исключает другого.
— Он уверяет, что у него достаточно дел в профкоме, тем более сейчас. Они стали активны. Кстати, кажется, мы сейчас познакомимся с их деятельностью. Нам повезло…
Впереди на шоссе стояла длинная вереница машин. По обе стороны дороги, на обочинах, сидели люди. Крестьяне, собравшись маленькими группками, оживленно разговаривали. Сервэ поставил свою машину в хвост колонны и отправился на переговоры.
— Что случилось? — спросила Ирэн. — Авария?
— А вы не слышали? Виноделы перекрывают дороги. Они это делают здесь уже второй раз.
Какая-то пожилая дама, продолжая сидеть у руля, накинулась на старого крестьянина, который подошел к ней и вежливо попросил не сигналить. Она раскраснелась от возбуждения и кричала визгливым голосом:
— Но я же вас уверяю, мсье, что мы тут ни при чем!
— Возможно, мадам, но это единственный способ, чтобы нас выслушали.
Луи вспомнил, что Рожэ рассказывал ему о своем намерении организовать нечто подобное в своей деревне, но тогда он не обратил особого внимания на слова друга, зная, что тот, как истый уроженец Перигора, любит приврать.
— У нас народ зашевелился, поверь мне. Мы себя покажем не хуже, чем крестьяне на юге, — уверял его Рожэ.
— Давно пора, — вставила Сидони.
— Не волнуйся, все в свое время. Только никто ничего не должен знать заранее.
— Даже члены вашего профсоюза? — поддразнивая его, спросила Ирэн.
— В последнюю минуту им сообщат. Но нам нужны только верные люди…
Луи был поражен размахом этой манифестации. Сюда собралось из окружных деревень около ста виноградарей. Поперек шоссе, образуя баррикаду, стояли всякие повозки и сельскохозяйственные машины. Неподалеку, на лужайке, молодые крестьянки суетились у заставленного бутылками стола и угощали всех желающих.
— Попробуйте нашего вина, — приговаривали мужчины. — Конечно, это вам не монбазияк, но все же… У нас его покупают по двадцать франков за литр, а мы хотим тридцать. Сколько вы за него платите в городе?
Здесь же стояла корзина, застеленная тряпкой, и некоторые из тех, кого угощали, бросали туда стофранковую бумажку.
Сервэ договорился с руководителем и с трудом разыскал в толпе Ирэн и Луи. Когда они сели, он развернул машину, за которой уже образовался длинный хвост, и поехал в объезд. После нескольких километров пути они снова попали на шоссе в Перигё. Вскоре они встретили грузовик с охранниками. Офицер, сидевший рядом с шофером, знаком приказал им остановиться.
— Вы откуда, господа?
— Из Палисака, — ответил Сервэ.
— А заграждения на вашем пути не было?
— Какого заграждения?
Лицо офицера недоуменно вытянулось.
Сервэ поехал дальше, и Ирэн, обернувшись, с удовлетворением отметила, что грузовик стоит на месте.
— Хоть на некоторое время их задержали, — сказал доктор.
В помещении федерации они застали только машинистку Симону.
— Почему ты меня сегодня не целуешь? — пошутил Сервэ.
— Вы слишком давно не брились.
— Не волнуйся, я и не собирался с тобой целоваться. А где Шарль?
— В Париже, приедет только завтра.
— Черт побери, это нас не устраивает.
— Может быть, вам повидать Роз? Она сейчас в женском союзе.
— Собственно говоря, она нужна тебе, а у меня есть дело в городе, и я вас обоих заберу на обратном пути, — сказал доктор Луи.
Настоящее имя жены Шарля Морена было Мари, но все ее продолжали называть Роз, как во времена Сопротивления[8]. Луи заметил, что у нее все такие же черные волосы и что она почти не постарела, только немного пополнела — это ей очень шло. Роз сразу же узнала Луи.
— Шарль часто рассказывает о тебе. Он говорил мне и о твоей жене, я очень рада познакомиться.
— Как поживает Морен?
— Он устал, ему не мешало бы отдохнуть.
Не дослушав рассказа Луи об аресте Беро, Роз сняла трубку.
— Алло… Пожалуйста, соедините меня с префектом… Я говорю по поручению Шарля Морена, депутата от Дордони… Алло… Господин префект? С вами говорит Морен. Мой муж только что узнал об аресте бержеракскими жандармами одного крестьянина. Его зовут Рожэ Беро… Правильно, Рожэ Беро, герой Сопротивления… К нам явилась делегация с этим сообщением… Вы сами мне позвоните?.. Благодарю вас, господин префект.
Роз Франс казалась очень взволнованной.
— Он утверждает, будто не в курсе дела. Так мы ему и поверили! Во всяком случае, они предупреждены. Надо выпустить обращение, устроить собрание и немедленно образовать комитет защиты…
VIII
Поезд опаздывал…
Проезжая через Лимож, Шарль Морен находился еще в полусне и не обратил на это внимания. Он проделывал этот путь еженедельно, поэтому засыпал, как только поезд трогался из Парижа, и окончательно просыпался лишь в Перигё. Открыв глаза, он увидел в окно, что начинает светать, и, даже не посмотрев на часы, стал собираться. В это время по расписанию поезд должен был приближаться к Перигё, но он опаздывал на целый час. Морен ехал один в купе первого класса, он решил воспользоваться возможностью еще поспать, снял ботинки и как можно удобнее устроился на подушках. Его разбудил контролер.
— Господин депутат, мы прибываем.
— Послушайте, ваш поезд опаздывает не хуже писем.
— А что, может, и мы еще…
Последние дни почта приходила с перебоями. Это явление становилось закономерным и служило поводом для шуток. Газеты начали поговаривать об осложнениях с почтовыми чиновниками, о том, что некоторые из них бастуют. Накануне вечерние газеты сообщили о новой очередной забастовке в Бордо и уверяли, что она отразится только на обслуживании департамента Жиронды, в других районах страны никаких нарушений графика не произойдет. Когда Морен сошел с поезда, несколько пассажиров почтительно раскланялись с ним, а один из железнодорожников подошел к нему, как к старому знакомому.
— Ты уже слышал?
— Нет, я только что приехал.
— Почтовики бастуют по всей Дордони.
— Когда это началось?
— Сегодня ночью в ноль часов. Они подхватили движение, начатое в Бордо.
Морен не стал задерживаться и поспешил домой.
Он жил в нескольких шагах от вокзала. Роз, его жена, была еще в постели. Это его не удивило. Роз привыкла ложиться поздно и утром с большим трудом заставляла себя встать. Кроме того, в те дни, когда он приезжал, она даже не заводила будильник, зная по опыту, что муж и так ее разбудит рано. Правда, в этот раз он прибыл позже обычного, но все равно ходил на цыпочках. Он подогрел кофе, стоявший на плите, и принес его Роз вместе с двумя горячими рогаликами, которые купил в буфете на вокзале. Но ему не пришлось ее будить, она уже проснулась.
— Дорогой ты мой, как это мило!
Обычно в подобных случаях она пыталась выиграть время и зарывалась в подушку, но на этот раз сразу вскочила и нежно обняла его за шею.
— Присядь на кровать, мне надо с тобой поговорить.
— А ты знаешь, что уже восемь часов?
— Ничего. Я должна тебе сообщить приятную новость.
— Я знаю, почтовики забастовали.
До чего же мужчины глупый народ!
Она улыбнулась ему с таким счастливым видом, что у него мелькнула догадка, но он боялся поверить.
— Шарль, тебе ничего не приходит в голову?
— Ну-ка, скажи…
— Все в порядке. Мне не терпелось с тобой поделиться этой радостью.
— Ты беременна?
— Да.
Шарль почувствовал, как у него замерло сердце. Это такое счастье! Вот уже девять лет как они мечтают о ребенке. Первое время они часто говорили об этом, потом, когда увидели, что желание их не исполняется, обратились к доктору; тот успокоил их, но с тех пор прошли годы… Ежемесячно, приблизительно в одни и те же числа, Роз в течение двух-трех дней ходила грустная. Шарль знал, чем вызвано ее дурное настроение, и старался ее отвлечь. Но он же сам ей сказал. «Если это случится, ты мне не говори, пока не будешь совершенно уверена, а то разочарование будет слишком жестоким». Они не хотели огорчать друг друга и старались об этом не говорить. Роз теперь было тридцать два года, Шарлю — под сорок. Сейчас опять-таки он попытался оградить ее от возможного разочарования.
— Послушай, может быть, мы слишком рано радуемся?
Но ничто уже не могло поколебать уверенности Роз.
— Знаешь, я решила рожать без боли.
Роз быстро оделась. Они позавтракали на кухне, обсуждая начавшуюся забастовку и арест Беро. Шарль Морен был полон радужных надежд.
— Я не я, если при таких условиях наша кампания против перевооружения Германии не примет большого размаха.
Перед уходом он обнял жену и хотел было поднять ее кверху, как любил это делать, но она остановила его.
— Сумасшедший, меня тошнит.
Морен сбежал по лестнице, перескакивая через ступеньки и напевая песенку, модную в дни его юношества:
Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, и жизнь легка…— В веселом настроении сегодня, — сказала ему соседка, подметавшая тротуар.
— А как же, радостные события.
Другая, незнакомая женщина остановила его на улице:
— Мсье Морен, как вы относитесь к тому, что происходит?
— Очень хорошо, сударыня.
У входа в помещение федерации его ожидали Луи и Ирэн.
— Плохи дела, — сообщил Луи.
— А что такое?
— Беро вчера вечером перевели в Бордо.
— Сейчас займемся этим делом. Зайдем ко мне в кабинет.
Морен попросил извинения, что придется немного обождать. В это время явилась Симона, машинистка. Он не дал ей даже сесть и сразу же потребовал:
— Немедленно вызови товарища Гонтрана из профсоюзного объединения.
Машинистка покрутила ручку телефона.
— Странно, там никого нет…
— Где именно?
— На станции.
— Черт побери, я же забыл о забастовке. Ну-ка, дай мне трубку.
Морен услышал обычный щелчок, прошло несколько секунд, и далекий женский голос, не дожидаясь, пока назовут номер, объявил:
— Всякие соединения прекращены до особого распоряжения. Вызываем только больницы и врачей.
— В таком случае соедините меня с доктором Сервэ в Палисаке, номер тринадцать.
Морен подождал еще некоторое время и повесил трубку, потирая руки.
— В порядке? — спросил Луи.
— В полном порядке. Палисак не отвечает. Ладно, необходимо разыскать и притащить сюда Гонтрана или еще кого-нибудь. Симона, садись на велосипед и поезжай в объединение. А теперь давайте поговорим.
Луи рассказал все, что знал. Накануне, вернувшись из Перигё, они подъехали к бержеракской тюрьме справиться о Беро. Сперва надзиратель ответил, что под такой фамилией в тюрьме никто не числится, но потом под их напором все же сообщил некоторые подробности. В этой тюрьме Беро находился всего несколько часов, пока выполнялись всякие формальности. Из Бордо прибыли два инспектора, они занялись им и в начале дня увезли с собой. Надзиратель не высказал никаких предположений, но все же дал понять, что Беро, по-видимому, отправлен в форт Ха.
— Как хотите, а это уж слишком! — воскликнул Шарль, ударив кулаком по столу. — Освобождают бывших эсэсовцев и арестовывают партизан. Возможно, Беро сидит в той же камере, в которой несколько недель тому назад находился кто-нибудь из палачей Орадура. Надо драться и отстаивать Беро, чем бы они ни объяснили его арест. Ясно, они его увезли в Бордо, чтобы не судить в департаменте. Здесь это наделало бы слишком много шуму. Вот они и отправляют его подальше. Они попытаются выиграть время, и если мы замешкаемся, могут и засудить. Послушай-ка, кстати, ты ведь входил в его отряд?
— Правильно, и даже вместе с ним выполнял это задание. Мы расстреляли предателя Дюрока, а нашим начальником был Пораваль.
— Ты повидался с Поравалем?
— Да, он меня хорошо принял.
— Какого он придерживается мнения?
— Трусит.
— Не верю.
— Во всяком случае, было видно, что ему неприятна вся эта история. Прежде всего он хочет посоветоваться с тобой и с Вильнуаром.
— По-моему, они не будут настаивать на деле о Дюроке. Против этого предателя у нас слишком много материала. И им пришлось бы арестовать также Пораваля, а это не так-то просто, тем более что их цель нас разъединить. Думаю, они будут напирать на дело о ферме Борденава. Беро, перед тем как выйти из макИ, взорвал дом Борденавов и, к сожалению, хвастался этим.
— Ты думаешь, они к этому прицепятся? Ведь Борденавы сотрудничали с оккупантами и их все ненавидели.
— В те времена — да, но сейчас многие позабыли обо всем этом. Старик вернулся и разыгрывает из себя жертву, утверждая, что его дом был сперва разграблен и только потом подожжен. Он умалчивает о своем сыне, служившем в милиции, и уверяет, будто упросил немцев не преследовать жителей Палисака. Конечно, те, кто помнят, как все было, отворачиваются от него, но старик действует умело, и некоторые попадаются на его удочку. Кроме того, Борденав — друг Рапиньяка, а владелец замка из тех, благодаря кому в парламент попадают всякие Вильнуары. Как видишь, все связано между собой. С их точки зрения, Беро опасный человек — он бедняк, пользуется влиянием в профсоюзе и слывет ярым коммунистом. Да и вообще они хотят, засудив его, бросить тень на все движение Сопротивления, и это в тот момент, когда делается все для того, чтобы Франция снова капитулировала…
Шарль Морен по своей привычке пошевелил тремя оставшимися пальцами правой руки, и его лицо снова озарила улыбка, которая почти никогда его не покидала.
— Да, друг, борьба, ничего не поделаешь. И все равно мы им доставим неприятностей больше, чем они нам. Кстати, говорят, твоя жена добилась блистательных успехов в своем комитете?
— Откуда ты знаешь?
— Прочел в бюллетене движения. В шестом районе Парижа собрано три тысячи подписей против перевооружения Германии. В том же бюллетене помещена фотография какой-то консьержки, она одна собрала четыреста подписей.
Ирэн, покраснев, взяла статью.
— Да, это Томасен, так я и думала.
— А мы создадим департаментский комитет. Боевая будет организация.
Луи и Шарль виделись довольно часто. Морен снимал комнату, в которой раньше, до своего знакомства с Ирэн, жил Луи. К тому же они были соседями, и Морен иногда заходил к Фурнье поужинать.
Они обсудили еще раз практические меры, которые следовало принять для защиты Беро. Роз уже рассказала о случившемся бержеракским коммунистам. Теперь нужно связаться с соответствующими организациями, поставить в известность федерацию Бордо, договориться об адвокате, написать статью в газету, продолжить переговоры с префектурой, организовать делегации…
— Словом, — сказал Морен, — пустить в ход все имеющиеся у нас средства.
Луи и Ирэн предложили свои услуги. Морен дал им несколько адресов жителей Палисака, с которыми надо было повидаться.
— Как держится Сервэ? — спросил Луи.
— Хорошо, а что?
— Он как-то странно вел себя.
— А у него такой характер. Он кажется легкомысленным, но на самом деле очень предан нам. Мы ему ставим в упрек, что он забросил своих бывших товарищей — социалистов. У них в Палисаке появился новый учитель, социалист, неплохой человек.
Луи и Ирэн не хотели отнимать время у Морена и, увидев, что в кабинет вошли несколько человек, встали.
— У вас есть на чем уехать?
— Да, на грузовике Пораваля, он приехал за каким-то товаром. Эжен, его шофер, должно быть, уже ждет нас…
— Только не уезжайте из Дордони, не побывав у нас.
— Ладно, да мы увидимся до этого…
— Подождите минутку, — нагнал их Морен в коридоре. — Я еще никому не говорил — кажется, наконец-то Роз станет мамой.
— Поздравляю, старина. Ты счастлив?
— Еще бы!
Ирэн украдкой вытерла слезы.
— Видишь, не надо терять надежду, — сказал Луи. — Роз на четыре года старше тебя, да и я моложе Шарля.
* * *
— Вы говорите — не отчаиваться. Легко сказать! А кто будет работать? Они забрали мужа, и скоро уйдет сын.
Сидони была растеряна. Ирэн пыталась ее утешить, объяснила ей, что в Палисаке уже качали собирать подписи под петицией за освобождение ее мужа… Организуются другие комитеты защиты… Товарищи из Бордо поддерживают с ним связь… Каждый день его будет навещать адвокат, которого Луи знает…
— Ладно, а как же с виноградом? Кто его будет собирать? И чего ради Рожэ так старался? В сорок четвертом году он всех нас бросил и ушел в макИ, подумать только! И вот награда. За дом еще не все выплачено… Хорошо, хоть вы оба со мной.
И все же Сидони нелегко было сломить. Она поражала и восхищала Ирэн своим трудолюбием и всегда бодрым настроением. Вставала Сидони первой, еще до рассвета, отпирала дверь, отправлялась в сарай за охапкой сухих веток и растапливала большую плиту. Часто в горячей золе еще сохранялись тлеющие угольки, и достаточно было хорошенько подуть, чтобы вспыхнул огонь. Но бывало, что дрова сырели, западный ветер загонял дым обратно, сбивая хлопья сажи, и разжечь огонь было очень трудно. Сидони выгоняла кошек, спавших в плите, выгребала в корзину золу, высыпала ее в уголок за сараем и снова принималась раздувать огонь. Как только дрова разгорались, она бежала к колодцу, приносила ведро воды, наполняла большой котел и, подняв его обеими руками, вешала на крюк над огнем. К этому времени поднимались мужчины, и пока они возились в хлеве, Сидони подметала кухню и одновременно готовила им кофе. После этого она выгоняла скотину, насыпала зерно курам, ставила корм уткам, давала траву кроликам и возвращалась на кухню, чтобы заварить похлебку для собак (у них были две охотничьи собаки и одна овчарка, втроем они съедали в день несколько фунтов хлеба). Ей не всегда удавалось помыться до утреннего завтрака, так как надо было перемыть посуду, оставшуюся с вечера, проветрить комнаты, застелить постели… Мужчины усаживались за большой кухонный стол и ограничивались тем, что ставили на клеенку кувшин с вином и клали каравай хлеба.
«Ну, чем ты сегодня нас угощаешь?» Сидони проверяла содержимое буфета и всегда находила, чем их покормить. Рожэ бывало съедал остатки ужина. Милу — кусок вареной ветчины (сырую он не ел).
Мужчины уходили в поле, а Сидони либо принималась за стирку, либо ухаживала за только что вылупившимися цыплятами… Словом, дел у нее всегда хватало… Освободившись, она отправлялась помогать мужу и сыну. Работу на винограднике она знала не хуже, чем мужчины, и разве что не ходила за плугом, а косой, граблями, лопатой и тяпкой она орудовала с большой ловкостью, но предпочитала все делать руками, и они у нее были покрыты ссадинами от полки, от подвязывания лоз и собирания хвороста. Около полудня она уходила домой, чтобы успеть приготовить обед. Она накрывала на стол, после еды убирала посуду, мыла ее, а во время послеобеденного отдыха развешивала белье, варила в котле картофель и свеклу для свиней. Так она работала до самого вечера и ложилась последней. Круглый год она трудилась, не зная устали, даже в дождливые дни и зимой у нее всегда была работа: вычистить хлев или залатать мужу брюки. По субботам она отправлялась на рынок, чтобы продать несколько дюжин яиц или корзину фруктов, и это был ее отдых. Летом она любила ходить в лес за белыми грибами; обычно она их мариновала или продавала в городе. Иногда, по воскресеньям, когда мужчины после вкусного обеда уходили на охоту, Сидони разрешала себе наконец посидеть перед домом. Она беседовала с соседкой или же вязала толстый шерстяной пуловер своему Милу, который должен был скоро уйти в армию.
Сидони обрадовалась приезду Луи и Ирэн, они внесли разнообразие в ее монотонную жизнь. Луи таскал ей воду, приносил дрова и смешил ее до слез, подражая местному говору. Ирэн мыла посуду, накрывала на стол и так старательно убирала свою комнату, что она стала неузнаваемой.
— Мы в ней не будем теперь ночевать, — говорила Сидони. Они с Рожэ предоставили гостям единственную приличную комнату в доме, а сами спали в каморке, служившей одновременно чуланом.
Сидони расспрашивала Ирэн, как та живет в Париже. Ей казалось очень трудным высидеть целый день в конторе, и она не понимала, как можно готовить в кухне размером в два квадратных метра. Но самое большое впечатление на нее произвел рассказ Луи о прессовщицах его завода. Руки девушек в кожаных браслетах прикреплены к станку. Штамп станка то поднимается, то опускается, вырезая детали, работницы все чаще и чаще нажимают на педаль, и количество ударов пресса доходит до двух тысяч в час.
— Мы по крайней мере хоть не привязаны, — сказала Сидони.
Она находила Ирэн хилой, считала, что та зачахла, когда работала на заводе, и не позволяла гостье утомляться.
— Бросьте, — говорила Сидони, — вы же приехали отдыхать, — и вырывала у Ирэн веник, забывая, что у нее самой расширение вен и кровь приливает к голове, когда она слишком долго стоит у плиты.
Сидони вскочила с места, воодушевленная внезапным решением:
— Я поеду туда!
— Куда?
— Ясно куда — повидаться с Рожэ. Не может быть, чтобы меня к нему не пропустили.
Луи пытался ее убедить подождать еще немного, но она настаивала на своем:
— Я не успокоюсь, пока его не увижу. Отвезу ему чистое белье и жареную курочку.
Впервые в жизни она пускалась в такое далекое путешествие, и на сборы у нее ушло полночи. Утром она уехала в Бордо.
Луи с Ирэн одни остались сторожить дом, Милу на соседней ферме помогал молотить хлеб. Сидони сварила гостям полную кастрюлю супу, достала гуся, законсервированного в собственном сале, и оставила все необходимое для ухода за скотом.
Они чудесно провели время, весь день не видели ни души, даже почтальон не заходил на ферму. Они так рьяно работали, что в увлечении даже забыли включить радио в час последних известий. Когда Милу к вечеру зашел, чтобы покормить скот на ферме, работа кипела. Ирэн мыла пол в кухне, Луи выпалывал траву вокруг дома.
— Мать еще не вернулась?
— Нет.
— Она должна была приехать с шестичасовым поездом. Боюсь, что ей трудно будет оттуда выбраться. Говорят, в Бордо забастовка расширилась.
Луи успокоил Милу — ничего серьезного там не происходит, и она, по-видимому, сядет в следующий поезд. А ее задержка, возможно, хороший признак…
Сидони вернулась, когда уже стемнело. Милу первый услышал шум велосипедного моторчика. Сидони была вся в поту и в очень взбудораженном состоянии.
— Ну, друзья, какие у меня были происшествия — думала, никогда не доберусь!
— А Рожэ вы видели?
— Да. Вообще много всего повидала.
Едва отдышавшись, она принялась рассказывать о своей поездке.
— С утра все и началось. Хорошо, я приехала на вокзал заранее, а то и места не достала бы. Пассажиры так скандалили, что заставили прицепить еще один вагон. Приехали в Либурн, стоим и чего-то ждем. Вдруг появляется железнодорожник и объявляет: поезд дальше не пойдет. Вы бы видели, какой поднялся шум! Пассажиры пошли к начальнику поезда. Я стояла среди толпы. Наконец один вокзальный служащий, очень славный, сказал мне, что, если меня устраивает, я могу поехать товарным поездом. В вагоне нас было человек двадцать, и мы в конце концов добрались до Бордо.
— Долго ехали?
— Больше двух часов, представляете себе? Какой-то паренек всю дорогу шутил и смешил нас. Он уверял, что повторяется тридцать шестой год. Вы помните, что тогда было?
Так начался наполненный волнениями день Сидони. Сперва она потеряла адрес адвоката, который ей дал Луи, потом совершенно случайно нашла его контору. Адвокат еще не пришел. Сидони предложили зайти попозже. Она решила воспользоваться этим временем и позавтракать на террасе маленького кафе на набережной; там ей подали вино, которое не идет ни в какое сравнение с ее собственным. В конце концов она добилась, чтобы ее пропустили в тюрьму…
— Нас заставили ждать в коридоре, и все говорили шепотом, как в церкви. Какой ужас, подумать только, что мой Рожэ должен там сидеть, словно он какой-то жулик… Подойти к нему мне не разрешили, и я говорила с ним издали, через решетку. До чего мы дожили! Вы бы видели, как он был доволен. Когда он меня увидел, у него потекли слезы. Он не знал, что мне сказать. Больше всего его беспокоило, кто будет работать вместо него. Но он считает, что его продержат недолго. Его адвокат, молоденький, но очень милый, рассказал ему, сколько народу за него хлопочет.
Сидони пространно описала свидание. К сожалению, оно было очень коротким. Рожэ уже три дня не брился и показался ей похудевшим. И все же настроение у него бодрое. Он сидит в камере с каким-то забавным, по его словам, человеком, который арестован за долги. Курице и остальной еде он обрадовался. А вот вино ей запретили передать. Ему оставили немного денег, и он может покупать в тюремной лавчонке всякую мелочь: мыло, бумагу, табак. Он просил передать Ирэн и Луи, чтобы они о нем не беспокоились. Его адвокат подал прошение об освобождении его на поруки. Рожэ просит, чтобы Милу ему писал ежедневно. После свидания с Рожэ Сидони немного успокоилась, но вот тут-то и начались главные трудности…
— Я пришла на вокзал к поезду, а там настоящее столпотворение. Вы бы видели, дорогие мои, какая тьма народу! На доске, к которой все подходили, было написано мелом: «Все поезда отменяются. Обслуживаться будут только прибывающие поезда». Какой-то человек в красивой белой фуражке, видимо начальник вокзала, объяснил всем, что железнодорожники бастуют. Я все-таки пошла в справочное, но мне ответили то же самое. Даже на перрон не выпускали, будто бы из соображений безопасности.
Одни ждали, другие возмущались, а большинство молча уходили. Я сделала, как они, у меня уже был утренний опыт, и я не собиралась снова застрять в пути. Но домой-то надо вернуться! Как бы вы поступили? К счастью, я вспомнила об автобусах. Совершенно не могу вам сказать, по каким улицам я плутала, но все же нашла автобус на Бержерак. Вокруг машины стояла толпа. По-видимому, не мне одной эта мысль пришла в голову. Каким-то чудом я все же влезла в автобус. Но не думайте, что на этом все кончилось. Под самым Сент-Эпильоном дорога перекрыта виноградарями. Там мы проторчали около часа. Словом, до самого вечера. Мы все измучились. Но они правы, так не может продолжаться. Уже было темно, когда я добралась до Бержерака. Дорогие мои, я падаю от усталости, но очень довольна.
После ужина Луи и Ирэн вышли посидеть около дома. Стояла невероятная духота. Милу ждал грозы и заготовил заряды против града. Сидони, впервые за долгое время, ушла спать раньше всех.
— Как же мы отсюда уедем? — сказала Ирэн.
Вопрос был задан с оттенком грусти, и Луи задумался…
В самом деле, пора позаботиться об отъезде. Радио сообщало, что приняты крутые меры и забастовки кончились, но газеты перестали прибывать. Из рассказа Сидони вырисовывалась довольно ясная картина. Луи был одним из руководителей профсоюза, он не мог оставаться в стороне от борьбы. А в то же время здесь разворачивалась битва за освобождение Беро…
— Послушай, мы тут еще пробудем завтрашний день, а потом попытаемся как-нибудь выбраться.
— Раз нужно уезжать, ничего не поделаешь, — проговорила Ирэн. Шел десятый день их отпуска. Забастовки только начинались.
IX
Не они одни беспокоились о том, как вернуться в Париж. Жак Одебер тоже подумывал о возвращении. У него кончался отпуск, который он провел в отцовском доме в Бержераке. Эти три недели ему показались бесконечными. Большую часть времени Жак просидел у реки, предаваясь размышлениям. Он был очень огорчен, не показывался в городе и избегал встреч со своими сверстниками: Жаклина перестала писать.
В первом письме из Бордо она пространно изложила ему создавшееся положение. Мать нуждалась в серьезной операции позвоночника, хирург ручался за положительный результат, но после этого больной потребуется длительный отдых, и желательно — у моря. Отец при помощи своего профсоюза связался с семьей рыбаков, которые согласились поселить мать у себя. Это очень утешительно, но Жаклина не сможет уехать из дому раньше, чем через два-три месяца. Это ее огорчало, и в конце она писала: «Может быть, тебе трудно столько ждать? Я предпочитаю, чтобы ты сказал сразу». Жак ответил немедленно. Его письмо было настоящим объяснением в любви: он думает только о ней, в разлуке она стала ему еще дороже… он будет ее ждать хоть вечность… И он предлагал ей, что приедет в Бордо повидаться. Прямого ответа на это он не получил, но ее письма стали еще нежнее.
Жак и Жаклина делились своими самыми сокровенными мыслями, называли друг друга незатейливыми, нежными, вечно новыми именами, рассказывали о своих страстных порывах, старых, как мир, хотя им казалось, что одни они испытывают такое огромное счастье, и им хотелось радостно петь о нем…
Они обменивались письмами почти ежедневно, и благодаря этому время шло быстрее. Однажды Жак закончил свое послание следующими словами: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой, и так же страстно, как люблю тебя, молю выйти за меня замуж». Ответ Жаклины был в том же духе: «Я не могу поверить в свое счастье. Я буду твоей и буду тебе верна». С тех пор все их письма были заполнены мечтами о будущем. Жак, рассчитывая на помощь отца, предлагал купить маленькую кондитерскую, неважно в каком городе, лишь бы они с Жаклиной были вместе, вдвоем и только вдвоем… Жаклина ни слова не писала об этих планах и говорила только о их совместной жизни. Ничего нет прекраснее их любви… Молодость дороже всякого состояния… Ей так хочется вечерами сидеть рядом с ним в их гнездышке, которое она уже представляет себе, и, положив голову ему на плечо, вместе читать одну и ту же книгу… Время от времени Жаклина расспрашивала о комитете мира, куда она с ним заходила. Бывает ли он там? Видится ли с друзьями? А может быть… с подругами? Какие перемены в ресторане? Жак сообщил ей, что комитет — его единственное развлечение. Он посещает все собрания. Ирэн все так же мила. Но пусть Жаклина не беспокоится, та замужем за очень симпатичным парнем. Он однажды пришел с нею на собрание и выступал так хорошо, что слушать его было одно удовольствие… Огюст Пибаль по-прежнему смешит их, рассказывая свои приключения. В комитете появились люди, которых он раньше не видел, в частности профессор Ренгэ. О нем никогда не скажешь, что он ученый, так он просто держится. На работе жизнь идет своим чередом. Старик Жюль все так же ворчит… Сюзанна теперь гуляет с кондитером, который недавно поступил. Жак реже стоит у раздаточного стола… По настоянию Анатоля, бригадира мойщиков, он наконец вступил в профсоюз… Жаклина поздравила его и посоветовала дружить с такими людьми, как Анатоль. Однажды, когда он снова написал, что хочет приехать в Бордо, она ответила согласием, но предложила отложить поездку на отпуск. Ее мать скоро вернется, и у нее будет больше свободного времени… Полный отпуск полагался Жаку только в сентябре, но ему не терпелось увидеть Жаклину, и он уехал, не дожидаясь даже конца июля…
Жаклина встречала его на вокзале. Она была прелестна в новом летнем платьице. Поезд пришел утром, и день был в их распоряжении. Жак сдал вещи на хранение и предложил съездить в Аркашон. Они тут же сели в мягкий вагон скорого поезда. Жаклина провела все детство в Бордо и с океаном была знакома только по приливам и отливам, которые приносили или уносили грязную воду Жиронды. Аркашон с его сосновыми парками, с клумбами гортензий и пальмами показался ей экзотическим городом. Они постояли на молу, наблюдая бронзовых от загара купальщиков, потом сели на пароходик, чтобы переплыть через залив. Рядом с ними мчались в открытый океан моторные лодки… Много нового увидела Жаклина. Ее в одинаковой мере поразили рыбаки в красных брюках и устричные парки, огороженные кольями, обвитыми водорослями. Изящные чайки качались на фоне голубого неба, следуя за пенистой дорожкой, которую оставлял за собой пароходик. Время от времени какая-нибудь чайка ныряла в зеленую воду или подлетала совсем близко и задевала большим белоснежным крылом борт судна. Красочный пейзаж, яркие летние платья, загорелые лица и тела купальщиков убеждали Жаклину, что фантастические краски, которые она видела только в кино, существуют на самом деле.
Они пересели в автобус и доехали до мыса Феррэ. Взявшись за руки, они побежали по огромному пляжу навстречу волнам… Обедали они в очаровательной беседке из цветов. Еще по дороге на пляж Жаклина обратила внимание на ресторанчик с оранжевыми зонтами от солнца, скатерками и салфетками того же цвета.
Жаклина не знала, что ей выбрать, и Жак, не считаясь с ценой, заказал моллюсков, лангусту, тюрбо, а также бутылку пуйи, которую официант в белой куртке подал им в ведерке со льдом. Потом они выпили по бокалу шампанского, глядя друг другу в глаза… После обеда они ушли далеко в дюны и там, среди песчаной пустыни, на берегу океана, рядом с которым они казались себе крошечными, Жаклина отдалась Жаку.
Незаметно прошли часы… Зазвонил пароходный колокол. Их ждали, чтобы убрать сходни. Жак обнял ее за талию, и они, облокотившись на борт пароходика, долго не отрывали взгляда от маленького кусочка земли, который, как им казалось, они различали там, на отдалявшемся берегу… Когда они вечером вернулись в Бордо, Жак предложил проводить ее и, воспользовавшись случаем, сразу же сказать о своих намерениях ее отцу, но Жаклина отговорила его.
— Пусть этот день останется нашим, только нашим…
Они встретились еще раз на следующий день, очень рано утром на перроне вокзала. Жаклина, порозовевшая от быстрой ходьбы, пришла в последнюю минуту. На ней было другое платье, менее нарядное и уже знакомое ему. Она выглядела усталой…
— Ты виноват, я всю ночь не могла заснуть.
Больше она не заговаривала о вчерашнем дне. Жак обещал снова ее навестить.
— Когда?
— Как только я поговорю со своим отцом, я тебе напишу…
Поезд отошел, и спустя два часа Жак был уже в Бержераке. Филипп Одебер встречал его на своей малолитражке.
— Папа, я только что расстался со своей невестой, — тут же сообщил ему Жак.
— У тебя есть невеста?
— Да, мы скоро поженимся.
— Мог бы все-таки нам сообщить. Мы ее знаем?
— Не думаю, но она тебе понравится.
— Сколько уже времени вы встречаетесь?
— Не меньше полугода. Она работает со мной в «Лютеции».
И Жак с искренним восторгом описал Жаклину. Он испытывал необходимость сделать это немедленно, а заодно отмести возражения, которые он предугадывал.
Ее родители бедные, но честные люди… Состояния у нее нет, но она мужественная, трудолюбивая и умная девушка…
— Ясно, сплошные достоинства, — проговорил отец, заводя мотор. — Во всяком случае, свадьба еще не завтра, надеюсь?
— Нет. Но она будет моей женой, и ты должен понять, что я это уже решил, и твердо решил.
Они больше не возвращались к этому вопросу. Анриэтта встретила его по-своему любезно:
— Ну, блудный сын, все-таки вернулся?
Ему сразу же захотелось уехать. Отец не дал ему ответить.
— Он женится.
— Да ты скрытный! Небось на парижанке?
— Да, на парижанке.
— На Лоре Брисак?
— Нет, на другой, — продолжал отвечать за Жака отец.
Первый разговор на этом и кончился, но Жак уже чувствовал, что возникнут непредвиденные препятствия. Его женитьба на Жаклине, конечно, не вызовет сочувствия у отца, но его он еще мог переубедить, а вот что делать с мачехой? Она оказывала все большее влияние на Филиппа Одебера, знала об этом и была опасным противником.
В тот же вечер она спросила мужа:
— Жак тебе рассказал о своей девушке?
— Бегло. Мог бы найти что-нибудь получше.
Филипп Одебер, как и его жена, вбили себе в голову, что Жак должен жениться на дочери Брисака. Хотя об этой женитьбе обе семьи не договаривались, но она была на руку и Одеберам и Брисакам и поэтому считалась делом решенным. Заведующий погребом мечтал о зяте, имеющем профессию и деньги, вдвоем с которым ему легче будет осуществить свою мечту — открыть большой ресторан в Ляско. У Филиппа Одебера были честолюбивые планы на будущее сына, и он считал, что тот, женившись на Лоре, достигнет более высокого положения. Практичная Анриэтта надеялась благодаря этой женитьбе после смерти мужа остаться единственной владелицей лавки, полновластной хозяйкой которой она была уже и сейчас. А если Жак женится на девушке без приданого, Филиппу Одеберу придется оплачивать все расходы, связанные с устройством молодой четы, и он растратит часть капитала, на который она зарилась. Еще больше она боялась, что муж, поддавшись отцовским чувствам, которые, как она знала, у него сохранились, пригласит Жака с молодой женой к себе в дом и примет их в дело В обоих случаях ущемлялись ее интересы.
Анриэтта была не из тех женщин, которым можно было перечить. Поэтому прежде всего она постаралась усилить дурное впечатление, которое произвело на Филиппа Одебера сообщение о намерении Жака жениться на дочери рабочего. Но Анриэтта знала также, что Жак упрям, и боялась, как бы муж не согласился на невыгодную женитьбу сына, лишь бы избежать окончательного разрыва.
Вот почему нужно было любой ценой хотя бы отсрочить эту свадьбу, выиграть время. Для этой цели она выбрала осторожную тактику…
— Ты прав, он мог бы сделать более удачный выбор. Конечно, это не мое дело.
— Были бы мы с нею хоть знакомы… Жак в Париже встречается со всяким сбродом.
— А почему бы тебе не взять его обратно к себе? Перемена места может оказать хорошее действие.
— А как же быть с той девушкой?
— По-моему, лучше замять вопрос, вернее, добиться, чтобы Жак отложил выполнение своего решения, кстати, это будет ему же на пользу. Боюсь только, что эта девка за него держится. Ведь она наверняка чует, что здесь пахнет деньгами.
— Но они будут встречаться.
— Ты тут бессилен. Хотя Брисак может устроить, чтобы ее вызвали в Париж, разлука и время сделают свое дело…
Жак не знал о расчетах мачехи, но понял, что в ее лице у Жаклины появился серьезный враг. Подозревая о кознях Анриэтты, он затеял решительный разговор с отцом.
— У меня самые твердые намерения.
— Не сомневаюсь.
— Ничто не помешает мне жениться на Жаклине.
— Поступай, как знаешь, я не собираюсь тебя отговаривать.
— Папа, я так и знал…
— Но если тебе важно согласие твоего отца, я бы хотел, чтобы ты последовал моему совету.
— Какому?
— Видишь ли… Мы еще ничего не знаем о твоей невесте. Возможно, она и в самом деле стоющая девушка. Я бы предпочел, чтобы ты еще немного подождал, прежде чем принять окончательное решение… Вы могли бы пожениться через некоторое время, через годик например.
— Это невозможно.
— А когда ты собирался?
— Осенью.
— Надеюсь, ты не натворил глупостей?
— Не думаю. А что?
— По-моему, вы оба слишком молоды. Хотя по твоим рассказам я понял, что она старше тебя?
— Чепуха, на несколько месяцев.
— Поверь моему опыту, разумнее немного подождать.
— Но вы-то с Анриэттой поторопились.
— Заблуждаешься. Мы долго ждали. Да и вообще это совсем другое дело. В моем положении мужчина не может жить без жены. А молодые люди твоего возраста развлекаются, и ты еще можешь передумать.
— Никогда в жизни.
— Вернулся бы ты помогать мне. А к ней будешь изредка ездить, если тебе захочется…
— А она в это время будет продолжать работать у чужих людей?
— Если она в самом деле такая, как ты ее описал, возможно, она поймет все гораздо лучше, чем ты думаешь…
— Ну а если я откажусь последовать твоему совету?
— В таком случае поступай, как хочешь, но от меня ты ничего не получишь.
— Значит, все. Я обойдусь без твоей помощи.
— Жак, сынок, послушай меня. Не ссорься с отцом. Если бы твоя мать была жива…
— Она бы меня поняла…
— Ей бы, как и мне, хотелось, чтобы ты был счастлив. Послушай, если год тебе кажется слишком большим сроком, мы подумаем, но, во всяком случае, не решай ничего сейчас… Мы еще поговорим. Ты ведь только что приехал…
В своем первом письме из Бержерака Жак ни словом не обмолвился о споре с отцом. Он повторял страстные обещания, которые дал Жаклине в дюнах, но с трудом подыскивал слова. На это письмо Жаклина не ответила. Он написал снова, не пытаясь в этот раз скрывать причину своего огорчения, но и это письмо осталось без ответа… Ему пришло было в голову, что мачеха перехватывает письма, это на нее было похоже, и он стал выходить навстречу почтальону, потом попросил Жаклину писать ему до востребования. В это время заговорили о забастовках. Жак, не выдержав, решил ехать в Бордо, но тут и поезда перестали ходить. Молчание Жаклины навело его на грустные мысли и мучительные подозрения. Жаклина в своих письмах почему-то противилась его приезду в Бордо. Сперва она вообще не ответила. Потом она попросила отложить свидание на отпуск. Чем это было вызвано? Хотела ли она его просто испытать или дать себе время подумать? А может быть, у нее кто-то был, и она не порвала эту связь? Жак вспомнил, как она, вызывая в нем ревность, кокетничала с другими. Взять хотя бы тот вечер, когда она пошла на танцы без него и способна была безумно веселиться, как она сама же на следующий день призналась. Да и вообще она не ответила на его предложение пожениться, а ведь он сделал его совершенно серьезно. Ни разу Жаклина не хотела обсудить, как сложится их совместная жизнь. Он чувствовал, что на некоторые вопросы она избегала отвечать. Правда, тот счастливый день, который они провели вдвоем, он запомнит навеки, что бы ни случилось в дальнейшем. Но она сказала тогда, что занята вечером, и не позволила проводить ее домой. А утром была чем-то озабочена. Все эти мелочи и молчание Жаклины казались Жаку подозрительными, и он утешался, только перечитывая ее старые письма.
Пора было возвращаться в Париж, а положение оставалось неизменным. Жак был расстроен и не заговаривал больше с отцом о своих намерениях, а тот, надеясь, что сын одумался, был к нему крайне внимателен. Мачеха явно старалась удержаться от обидных для пасынка замечаний.
— А почему бы тебе не остаться? — предложил Филипп Одебер. — Это твой дом.
— Нет, я предпочитаю уехать.
— В газетах пишут, что забастовка скоро кончится, и ты мог бы побыть еще несколько дней.
— Я обещал, что приеду к сроку. Кроме того, товарищи не могут уйти в отпуск, пока я не вернусь.
— Ну ладно, сынок, не буду тебя уговаривать. Уезжай на моей машине, кто-нибудь пригонит ее обратно, когда кончится забастовка.
Жаку только этого и хотелось. Он не мог вернуться в Париж, не повидав Жаклину. Он уехал на день раньше, полный надежд и одновременно опасаясь, что его ждет жестокое разочарование. Отец сунул ему две бумажки по десять тысяч франков.
— На дорогу и на баловство.
— Спасибо, у меня еще остались деньги.
— Бери, бери, они тебе могут понадобиться. В случае нужды без всяких колебаний сообщи мне. Какой ты дорогой поедешь?
Впервые Жак соврал отцу:
— На Либурн, а оттуда в Париж.
— А не лучше ли тебе проехать прямо на Ангулем?
— Нет, там не такая красивая дорога.
Филипп Одебер все понял.
— Ну, развлекайся, только помни, что ты из честной семьи.
Они расстались, не поцеловавшись. Жак выехал из города и почувствовал себя свободнее. Он нажал на акселератор. Вдоль шоссе время от времени попадались люди, которые знаком просили их подвезти. Он проезжал мимо них, не замедляя хода, но внезапно затормозил, увидев двоих людей, сидевших на рюкзаке.
— Вот это неожиданность! Что вы здесь делаете?
Первой к Жаку подошла Ирэн Фурнье.
— Как видите, пытаемся уехать.
— Могу довезти до Парижа, если вас это устраивает. Но только я обязательно должен заехать в Бордо.
— Надолго?
— Не знаю. На один, два дня…
Ирэн вопросительно посмотрела на мужа — в состоянии ли они пойти на дополнительные расходы.
— Хорошо, — сказал Луи.
Он сел рядом с Жаком, а Ирэн устроилась с вещами на заднем сиденье.
— Да, нам повезло, — сказала она. — Как раз вчера мы с Луи говорили о вас.
— Вы знали, что я в Бержераке?
— Нет. Мы вспомнили о вас в связи с комитетом. Вы слышали, Абдераману гораздо лучше.
Речь шла об алжирце, которого Жак видел на собраниях комитета. Во время демонстрации в день 14 июля, когда полиция обстреляла группу арабов, Абдераман был ранен в плечо, и его оперировали. Товарищи по комитету сложились, чтобы помочь ему.
Жак был очень рад этой встрече. Он первый заговорил о забастовках.
— Как вы к этому относитесь? — спросила Ирэн.
— Они правы, о чем говорить!
Жак сам не смог бы объяснить почему, но ответил не раздумывая.
В Бордо Жак спросил Луи, куда их отвезти, тот, к его удивлению, ответил:
— К тюрьме.
— К тюрьме?
— Да, мы хотим повидать одного товарища.
Ирэн, поймав удивленный взгляд Жака, объяснила ему, в чем дело, рассказала, что они с Луи хлопочут о крестьянине Беро. На Жака словно пахнуло свежим воздухом, но тут же он подумал, что таким людям, как Фурнье, должны быть чужды его заботы.
Условившись встретиться с ними вечером, он поехал в портовые улички разыскивать Жаклину.
Ему показалось, что дом, стоящий в глубине одного тупика, если судить по ветхим зданиям, которые его окружали, соответствует описаниям Жаклины. Несколько девочек пускали бумажные кораблики в канаве. Одна из них подтвердила, что Жаклина Леру живет здесь, и он вошел в коридор. Его передернуло от затхлого воздуха, стены и сводчатый потолок были покрыты плесенью. Жак решительным шагом поднялся по деревянной лестнице, освещенной тусклой лампочкой, которая, видимо, горела круглые сутки. Когда ему открыли дверь, он был удивлен, увидев яркий дневной свет, проникавший в кухню через окно, которое выходило прямо на доки. Впустил Жака высокий худощавый мужчина. Он с недоверием оглядел его. Тут же стоял человек в форме почтальона, и Жак решил, что ошибся.
— Простите, скажите, пожалуйста, здесь живет Жаклина Леру?
— Без всякого сомнения, молодой человек. Я ее отец.
Если бы в ту минуту Жак мог придумать какой-нибудь предлог, он тут же сбежал бы, но испытующий взгляд этого могучего человека требовал объяснений.
— Мне бы хотелось ее повидать.
— Вы знакомы?
— Моя фамилия Одебер, я работал с нею в «Лютеции».
— Надо было сразу сказать.
Он пригласил его войти и познакомил с товарищем.
— Фернан Груссо, почтовик, член профсоюза ФУ[9]. С начала забастовки мы действуем сообща.
— Я тоже член профсоюза.
— ВКТ?
— Да, — ответил Жак, хоть и не твердо разбирался во всех этих названиях.
Леру приоткрыл дверь в комнату и крикнул:
— Жаклина! К тебе пришел товарищ…
— Сейчас, попроси его подождать…
У Жака забилось сердце. Не обращая внимания на его состояние, Леру предложил ему присесть и, как ни в чем не бывало, снова вернулся к разговору о комитете единства, о сборе денег в пользу бастующих и, главное, о необходимости выпустить листовку с требованием прекратить войну во Вьетнаме.
— Ты только подумай, — говорил Леру товарищу, — два миллиарда в день! На них можно было бы удовлетворить все наши требования.
Жаклина догадалась, что к ней приехал Жак, и у нее подкосились ноги. Она не меньше Жака настрадалась за последнее время. Началось с настойчивого желания Жака приехать в Бордо. Хотя ей и хотелось поскорее увидеться с ним, Жаклина боялась, что он будет разочарован. По приезде домой Жаклина сразу же погрузилась в семейные заботы.
На операцию матери и на лечение требовалось много денег, эти непредвиденные расходы лишь частично покрывались страхкассой. Жан, брат Жаклины, работал на заводе, но еще числился учеником. Второй ее брат учился и ничего не зарабатывал. Маленькая Мирей ходила в школу. Это была болезненная девочка, и на лето надо было отправить ее в детскую колонию или найти недорогой пансион где-нибудь за городом. Отец, несмотря на свои сорок пять лет, был вполне трудоспособен, но в порту не всегда бывала работа. Жаклина заменяла мать: она готовила, убирала, стирала и чинила белье, заведовала семейной кассой, в которой каждый франк был на счету, и, ничего не говоря, ежедневно добавляла на домашние расходы по сотне франков из своих сбережений.
Жак не мог, конечно, догадываться о всех ее заботах, о том, с каким трудом она купила себе платье, которое надела, чтобы его встретить: она давно приглядела его в витрине магазина и только через несколько недель смогла его приобрести. Для этого ей пришлось по субботам и по воскресным утрам поработать в булочной, где она раньше служила. Ничего не было удивительного, что при таком положении ей казались несбыточными мечты Жака. Он говорил ей о будущем так, будто все трудности преодолены. Ему незнакома была нужда, а Жаклина прошла суровую школу и боялась, как бы Жак, столкнувшись с действительностью, не был горько разочарован. Их краткое свидание и поездка на мыс Феррэ казались ей сказкой. Но после этого счастливого дня Жак написал не сразу, письмо было короче обычного, и Жаклина, несмотря на свежие воспоминания, почувствовала, что за нежными словами скрывается какая-то недоговоренность. Намерения Жака натолкнулись на сопротивление семьи, об этом она инстинктивно догадалась и была уверена, что не ошибается. Для нее это не было неожиданностью.
В минуту растерянности Жаклина поделилась своими сомнениями с отцом, и тот откровенно сказал ей:
— Если парень тебя в самом деле любит, он приедет повидаться с тобой. Если же он не приедет, значит, это хлюст. В таком случае нечего дожидаться, пока он тебя бросит.
Вот почему Жаклина не ответила на первое письмо Жака. На следующие письма она все откладывала ответ, терзаясь при этом, и наконец, не выдержав, излила ему всю свою душу, но после этого он перестал подавать всякие признаки жизни. Жаклина убеждала себя, что виной этому забастовка. Она ждала его приезда, но тщетно…
Жаклина поспешно сняла фартук, надетый поверх юбки, причесалась, подмазала губы и вышла к Жаку.
Тот встал. От волнения оба не могли ничего сказать и только назвали друг друга по имени.
Леру поднял голову и еле заметно улыбнулся.
— Не стесняйтесь, можете поцеловаться.
Жаклина провела гостя в соседнюю комнату, гостиную, по определению докера, в которой, по его же словам, не хватало только кресел, люстры и ковров. Здесь стояли две большие тахты, а посредине круглый стол, за которым сидел молодой человек, обложенный открытыми книгами, и что-то писал.
— Мой брат Поль, он готовится к экзаменам, — сказала Жаклина.
Высокий юноша, поразительно похожий на отца, встал, чтобы поздороваться, и, сославшись на какие-то дела, тактично вышел. Жаклина усадила Жака на тахту и села рядом с ним.
— Это моя постель, — сказала она. — Я сплю здесь с сестренкой.
Металлическая штанга, тянувшаяся под потолком, разделяла комнату пополам: на ней висела старенькая портьера, отодвинутая сейчас к стене. Жак догадался, что на второй тахте спят братья.
— Я решил, что ты не хочешь мне писать, — сказал он.
— А я — что ты не хочешь меня видеть.
Они поняли друг друга без лишних слов… Присутствие Жаклины красило все вокруг, и Жак неожиданно для себя сказал:
— Здесь очень мило.
— Бывшим жильцам эта комната служила столовой. У нас есть еще одна, где спят родители, и большая кухня, которую ты видел. Раньше, когда я была маленькая, мы жили в квартирке, где была только одна комната с кухней, они были меньше, чем эта спальня. Освещение было газовое, а за водой мы спускались этажом ниже.
На этажерке из простого некрашеного дерева аккуратно стояли книги. Здесь были произведения Ромен Роллана, Барбюса, Арагона, Островского, Эренбурга и многих других. Жак старался припомнить названия книг русских писателей. Он читал только «Анну Каренину» Толстого, остальные писатели ему были незнакомы.
— Ты рассматриваешь мою библиотечку? Она маленькая, правда? У братьев побольше, а у папы целая коллекция брошюр и теоретических книг.
Жак залюбовался акварельным пейзажем: крыши домов, а за ними пароходные трубы на фоне невероятно синего неба.
— Не смотри, это ужасно.
— А по-моему, очень красивая картинка.
— В свободное время я люблю рисовать. У меня есть получше, чем эта, я тебе покажу.
Жаклина сияла от вновь обретенного счастья. Жак, сам того не замечая, открывал новый мир.
Вошел Леру и прервал их беседу.
— Доченька, мы с Фернаном уходим в стачечный комитет. Вернусь к двенадцати. Товарищ пообедает с нами?
— Ну что вы… — пробормотал Жак.
— Обязательно, — ответила Жаклина. — Он пойдет со мной за покупками.
Они вышли почти вслед за Леру.
На лестнице они встретили нескольких соседей. Жаклина поздоровалась с ними, радуясь, что ее видят с Жаком. Во дворе девочка, у которой Жак спрашивал дорогу, бросилась Жаклине на шею.
— Так это тот господин, о котором ты нам говорила?
— Да, да. Иди играй…
— Мне он очень нравится, — сказала девочка, не двигаясь с места.
Жак погладил ее по голове.
— Ты и есть Мирей?
— Да, — ответила за нее старшая сестра. — Мы хотели ее отвезти в деревню, но теперь придется отложить, пока начнут ходить поезда. Мирей, ты нас подожди во дворе, мы скоро вернемся.
Жак с Жаклиной отправились по лавкам. Жаклина вынула из маленького кошелька тысячу франков и не разрешала Жаку платить за нее. То ли она заранее рассчитала, сколько ей придется истратить, то ли у нее была только одна эта бумажка в тысячу франков, но, во всяком случае, она точно уложилась в эту сумму. Они купили хлеба, бутылку вина, котлет и овощей.
По дороге Жак поглядывал на витрины, словно что-то высматривая. Он купил пакетик конфет для Мирей и букет цветов Жаклине. Это его не удовлетворило. Ему хотелось сделать хороший подарок, но такой, чтобы она не приняла его за подачку и не могла бы от него отказаться. Наконец он остановился у ювелирного магазина, взял Жаклину за руку и предложил:
— Зайдем сюда.
— Зачем?
— Я хочу купить тебе кольцо.
— Ты сошел с ума.
— В память о мысе Феррэ. Мне очень хочется это сделать. — Навстречу им услужливо выбежал старичок с маленькой бородкой и в очках.
— Мне нужно кольцо, — сказал Жак.
— Обручальное?
— Вот именно, обручальное.
— По-видимому, для мадемуазель? Поздравляю вас, мсье. Конечно, вы хотите хорошее кольцо?
Убежав за прилавок, он открыл несколько ящиков и раскрыл перед покупателями затянутый черным бархатом большой плоский футляр с четырьмя рядами колец. Потом он зажег специальную лампочку, и драгоценности засверкали.
— Вы только посмотрите, до чего хороши! Такие сейчас в моде. Нигде, даже в Париже, вы не найдете лучших колец, поверьте мне, мсье… Мадемуазель, возьмите в руки… Я могу вам предложить подешевле, тоже очень красивые. Естественно, они худшего качества…
— Не надо, — ответил Жак.
— Сразу видно, что у вас хороший вкус. Подделка остается подделкой. А в этих кольцах все настоящее: оправа из серебра, инкрустации из золота, камни настоящие, а не какой-нибудь сплав… Могу вам предложить кольца получше, но они, конечно, будут дороже…
— Нет, не стоит, — вмешалась Жаклина.
Она никак не могла выбрать, и ювелир перешел в наступление:
— Мадемуазель, примерьте вот это колечко… Чудесно, как будто сделано на заказ, оно очень идет к вашей руке и, если мсье разрешит, осмелюсь добавить, к вашим глазам… Конечно, вы можете выбрать другое… Вот это вам нравится больше? Или вот это, оно скромнее, но до чего же изящно! Я с вами согласен, трудно на чем-нибудь остановиться… Только не обращайте внимания на размер. Если оно вам тесновато или велико, ничего, у нас есть нескольких размеров. Кроме того, мы можем подогнать любое кольцо.
Жаклина перемерила несколько колец, внимательно разглядела их и в конце концов снова надела первое.
— Нравится? — спросил Жак.
— А тебе?
С улыбкой, словно она разглядывала себя в зеркало, Жаклина вертела руку, любуясь кольцом.
— Это самое лучшее, — сказал Жак. — Сколько? — спросил он продавца.
— Девять тысяч девятьсот восемьдесят франков.
Жаклина поспешно сняла кольцо.
— Прошу вас, — сказал Жак, кладя на прилавок одну десятитысячную бумажку из тех двух, которые дал отец.
— Это безумие, — проговорила Жаклина, когда они вышли, — настоящее безумие.
— Почему?
— Ты только подумай… Этого хватило бы на месяц жизни целой семье бастующего рабочего.
— Ты не рада?
— Ну что ты, очень рада, конечно. Я тебя даже не поблагодарила, мой милый.
И забыв, что они не в Париже, Жаклина остановилась и на улице поцеловала Жака.
Леру опоздал к обеду.
— Фернан — странный человек, — сказал он, усаживаясь за стол. — До сих пор был настоящей размазней, а сейчас держится молодцом. Он и предложил вручать каждому стачечному комитету все приказы о принуждении к выполнению служебных обязанностей. Мы только что составили в связи с этим воззвание объединенного комитета. Вот почему я опоздал. Да, такого я не ожидал от Фернана…
— Ты о каком Фернане? — вмешалась Мирей.
— О почтальоне. Об этом парне из ФУ, который сегодня утром приходил сюда. Мы знакомы уже двадцать лет, но после раскола не разговаривали друг с другом. В тридцать четвертом… ты, наверное, помнишь, Жаклина?
— Мне же было четыре года.
— Ты права. Время летит. Так вот, в 1934 году он был с нами. Мы тогда образовали единый фронт против фашизма. Фернан-то, конечно, был социалистом, как и сейчас, кстати… Во время борьбы против фашизма и потом, когда произошло слияние, мы с ним были заодно.
— Какое слияние, папа? — спросила Мирей.
— Слияние профсоюзов, неужели ты забыла, я же тебе объяснял. В то время было два профсоюза: УВКТ и ВКТ, в общем вроде как сейчас. Так вот, мы образовали единую конфедерацию.
— А вторую уничтожили?
— Да нет, просто слили вместе. Трудно было. Но все-таки добились… На чем я остановился? Ах да, так вот, мы были с ним вместе, сперва в одном и том же антифашистском комитете, а потом в объединении профсоюзов. Вот после этого и состоялось наступление тридцать шестого года.
Теперь Жаку хотелось спросить, что это было за наступление, но он решил не перебивать.
— О тогдашних забастовках мне не к чему рассказывать, о них вы слышали, — продолжал Леру. — Как известно, далеко не все чиновники приняли участие в стачечном движении. В основном оно велось заводскими рабочими. Фернан и его почтовики палец о палец не ударили. Он-то не был против стачки, даже помогал, но с прохладцей. А вот тридцатого ноября он сдрейфил, да еще как!
— Тридцатого ноября? — спросил Жак.
— Да, тридцатого ноября тридцать восьмого года. Правительство — в него входили Даладье и Поль Рейно — вынесло постановление о принуждении к выполнению служебных обязанностей. Фернан струсил и отошел от нас. Долгое время мы с ним не встречались, и я даже не стал с ним спорить. Разразилась война, потом организовалось Сопротивление… Вначале он не проявил особого героизма, но вел себя неплохо. А когда меня арестовали и товарищи собирали деньги, чтобы помочь моей семье, он тоже внес какую-то сумму. После Освобождения мы с ним оказались в одном профсоюзе, все шло хорошо, но раз мы с ним жарко поспорили и он перешел в банду ФУ. Ну, после этого он и не пытался встречаться со мной. А неделю назад он оказался среди первых почтовиков, объявивших забастовку в Бордо. Железнодорожники последовали их примеру. Теперь к движению примыкают повсюду. Крестьяне тоже полезли драться. Так вот, товарищи Фернана уже четыре раза отказываются подчиняться приказу о выходе на работу. Нам-то, докерам, хорошо известно, как тяжело остаться без куска хлеба, когда у тебя ребята. Ну а они не сдаются. И не только не сдаются, а действуют единым фронтом с нами…
— Кстати, о забастовках, — сказал Жак, — я слышал, что вы сегодня говорили о сборе средств в пользу стачечников. Мне бы хотелось принять участие…
— Легче легкого. У меня как раз есть подписной лист.
— Вы об этом поговорите попозже, — вмешалась Жаклина, — котлеты остынут.
— Нет, доченька, такие вещи нельзя откладывать.
Жак взял подписной лист, который был разделен на несколько колонок. Три четверти из них были заполнены цифрами и подписями. Самый крупный взнос был в триста франков. Жак четко вывел свою фамилию и в колонке «профессия» вписал: «рабочий кондитерского цеха». Он дал свой парижский адрес и после секундного колебания поставил в колонке «взносы»: «десять тысяч франков».
— Вот, мсье Леру, сегодня я еще способен внести такую сумму, а завтра, возможно, мне самому придется бастовать.
Жак отдал вторую бумажку отца. Докер был поражен и, аккуратно сложив деньги, спрятал их в конверт.
— Спасибо за наших ребят. Сделай одолжение, не называй меня «мсье Леру». Говори мне «товарищ». — Это было сказано от всей души.
— Мсье… простите, товарищ, — поправился Жак, — мне надо поговорить с вами наедине и немедленно.
Леру провел Жака в соседнюю комнату. Жаклина побледнела, но не остановила их… Они вернулись через несколько минут.
— Ага, теперь понимаю, почему ты накрыла скатерть и поставила цветы. А ты, Поль, не разыгрывай дурачка, беги в погреб и тащи сюда бутылку, которую я припрятал за мешком с углем. Там одна, не ошибешься. Я ее берег, чтобы распить после конца забастовки, но помолвку тоже необходимо спрыснуть.
— Какое у тебя красивое кольцо! — воскликнула Мирей. — Она схватила руку сестры и принялась восторженно разглядывать колечко, на которое Жаклина от избытка чувств уронила слезинку.
* * *
— Добрый вечер, товарищ!
«Ты тоже меня так называешь», — подумал Жак. Его это обрадовало, и не потому, что это обращение ему льстило, но оно выражало доверие к нему людей, которые, как ему казалось, принадлежали к семье Жаклины. Сперва его назвал товарищем Анатоль, потом Леру, а сейчас Луи Фурнье.
Жак протянул ему руку и спросил, где Ирэн.
— Как все мужья, я ее жду.
— Мы можем выехать сейчас, — сказал Жак, — я кончил все свои дела.
Вскоре в кафе, где они условились встретиться, пришла Ирэн. Она сияла.
— Все идет очень хорошо.
— Вернее, ничего не ходит, — рассмеялся Луи.
В этот час закрывались универсальные магазины и на площади Кенконс толпа служащих пыталась найти хоть какой-нибудь вид транспорта. На военных грузовиках, выстроенных в шеренгу, были прикреплены дощечки с написанными на них мелом названиями пригородов. Люди звали друг друга, что-то кричали, молоденькие солдаты в касках, толкаясь, подсаживали женщин в кузовы машин.
Жак настоял, чтобы Фурнье перед отъездом выпили с ним аперитива, и ему так хотелось поделиться радостью, что он сообщил им о своей помолвке.
— Кстати, вы мою невесту знаете.
Ирэн вспомнила, что она его встретила с какой-то незнакомой девушкой, и, боясь попасть впросак, сделала вид, будто старается вспомнить.
— Помните девушку, которая была со мной на собрании? — подсказал ей Жак. — Она разговаривала с вами, ее зовут Жаклиной. Жаклина Леру.
— А ее отец случайно не докер?
— Докер.
— Высокий и худой? У него нет пальца на руке?
— Он самый.
— Я его знаю. Он сидел в бержеракской тюрьме.
— В тюрьме? Отец Жаклины?
— Да, в сорок четвертом году. Как раз моя группа организовала его побег, его и еще шестидесяти товарищей. Красивая была работа, под самым носом у немцев.
Жак облегченно вздохнул и, раз уж заговорили о тюрьме, спросил, как дело Беро.
Луи и Ирэн не разрешили свидания с ним, но они разговаривали с товарищами, которые за него хлопотали, и им удалось передать Беро продукты и письмо. Его должен вскоре вызвать следователь. По словам Луи, настроение у их друга боевое.
Проехав Либурн, они остановились у ресторанчика и поужинали.
Луи, несмотря на протесты Жака, оплатил две трети счета. Он хотел было также взять на себя две трети стоимости горючего, когда они, немного отъехав, стали заправляться, но тут Жак решительно восстал.
— Ни в коем случае. У меня был бы тот же расход на бензин, если бы я ехал один, да и к тому же я не имел бы удовольствия разговаривать с вами.
Он сказал это не задумываясь и тут же вспомнил, что завтра, когда он выйдет на работу, у него в кармане будет только двадцать франков — все его состояние. Но зато за них он никому не обязан.
Они ехали всю ночь и правили по очереди с Луи. Машина была еще не обкатана, и ехать приходилось медленно. Время от времени они перебрасывались несколькими словами, выкуривали по сигарете. Ирэн на заднем сиденье облокотилась на рюкзак и пыталась заснуть. Жак думал о Жаклине. Скоро она вернется в Париж.
Всю вторую половину дня Жак провел в доме Жаклины. Она не захотела проводить его до кафе, где он условился встретиться с Фурнье. «Мне будет слишком тяжело прощаться», — сказала она. Сидя рядом у окна, они рассказали друг другу всю свою жизнь, ничего не утаивая… Жаку очень хотелось задержаться еще на один день и, воспользовавшись тем, что у него машина, повезти Жаклину за город, но им уже надо было думать о будущем. Жаклина в конце месяца возвращалась в Париж, и еще неизвестно, сохранится ли за ней место. Им нужно будет снять квартиру… Жаклина настояла, чтобы он уехал в тот же вечер: на шоссе большое движение, и спокойнее ехать ночью.
Уже светало. Проехав какой-то шлагбаум, Луи, сидевший за рулем, неожиданно затормозил. Он вышел размяться и сделал несколько шагов вдоль насыпи.
— Идите сюда, посмотрите! — крикнул он.
Из памяти Ирэн еще не изгладился поход по утренней росе, и она неохотно вышла из машины.
— Что случилось?
— Посмотрите!
— Что?
— Мне об этом говорили, но только теперь я вижу это собственными глазами.
— Что?
Луи величественным жестом показал на убегавший вдаль железнодорожный путь.
— Разве вы не видите — рельсы-то покрыты ржавчиной!
X
Элен Вильнуар забастовка не интересовала, но все ежеминутно напоминало о ней. Во-первых, ее муж отсутствовал дольше обычного. Началось с того, что он не вернулся в конце недели, и это было тем более удивительно, что они собирались вдвоем поехать на машине в Сабль д’Олон навестить детей. Элен газет не читала и почти никогда не выходила из дому. Она сделала несколько попыток дозвониться мужу, но, не добившись соединения, подумала, что повреждена линия, и решила отправить телеграмму. Она поручила это сделать садовнику. Тот, вернувшись, сокрушенно сообщил:
— Почта отказывается принимать телеграммы.
— Почему, собственно говоря?
— Разве мадам не знает? Забастовка. Сколько я ни говорил, что телеграмма адресована депутату, они все равно ее не приняли и сказали, что посылают частные телеграммы только с сообщениями о смерти или о болезни.
Элен узнала, что поезда тоже перестали ходить. Сперва она почувствовала облегчение, так как этим можно было объяснить задержку мужа. Она ждала, что он приедет на следующий день на машине. Но день прошел, а Вильнуар не появился. Он мог отправиться прямо в Сабль д’Олон. Это предположение заставило Элен обратиться к свекру, хотя ей это всегда было крайне неприятно.
— Мсье, Анри почему-то не вернулся, и я очень беспокоюсь… Возможно, он проехал прямо к детям.
— У такого человека, как он, сударыня, полно всяких обязанностей, и нужно уметь ждать.
— Мне было бы спокойнее в Сабль д’Олон.
— Вы хотите туда поехать? Пожалуйста, сударыня. Завтра в восемь утра машина моего сына заедет за вами и за вашими вещами.
Вильнуар-отец редко разговаривал с невесткой и относился к ней подчеркнуто холодно. Элен меньше страдала от насмешек свекрови, чем от аристократически вежливого обращения с нею свекра. Каждое его слово вонзалось в сердце, как кинжал. Так повелось с первого же дня ее замужества.
— Мадам, постарайтесь никогда не забывать, что ваш ребенок будет носить имя Вильнуаров, — заявил он Элен, когда Анри представил ее родителям.
Это было в октябре 1939 года. Анри числился офицером запаса, и в самом начале сентября его призвали. Шла война, у Элен должен был родиться ребенок… Хотя Вильнуары по-прежнему неодобрительно относились к выбору сына, но все же свадьба была отпразднована в замке, в самом узком кругу.
Элен тогда было всего двадцать три года. Ее роман с Анри начался за год до этого. Она жила с родителями, у которых в Перигё был небольшой магазин готового платья, и вела довольно независимый образ жизни. Она вместе со своими школьными подругами проводила время в компании молодых бездельников, которые благодаря свободе, предоставленной им родителями, отцовской машине и костюму, сшитому по парижской модели, считались в провинциальном городке законодателями мод. Элен была очень красива, у нее было много поклонников, но она еще ни на ком не остановила свой выбор.
Элен, обладая пылкой натурой, не так мечтала о блестящем будущем, как о настоящей любви. Анри без труда покорил ее, и она стала его любовницей. Он тоже поддался ее чарам. Пока он был ее возлюбленным, Элен слепо любила его; эта любовь превратилась в обожание, когда он стал ее мужем. Ради него Элен переносила все.
— Сударыня, — сказал ей свекор в первый же день, когда она вошла в столовую несколько позже остальных, — мы едим ровно в двенадцать, и будьте любезны не забывать об этом.
Элен попыталась извиниться.
— Не будем больше об этом говорить, сударыня. Не примите это за упрек.
— Это лишь небольшой урок, — добавила свекровь.
Элен было не по себе в этой чопорной обстановке. Ей все время приходилось обдумывать свои движения и слова. Очень скоро ее обязанности по отношению к семье мужа, в которой она оставалась чужой, стали для нее пыткой, и она мечтала избавиться от общения со свекром и свекровью. Элен не задавала вопросов, боясь резких ответов, от которых она совершенно терялась. Как только она открывала рот, свекровь неодобрительно смотрела на нее, заранее осуждая каждое слово невестки, и Элен старалась как можно меньше разговаривать… Еще и месяца не прожила она в семье Вильнуаров, как однажды, доведенная до слез, выбежала из гостиной, сославшись на недомогание… Но зато у нее был Анри, который по-прежнему любит ее и пишет ей об этом в своих письмах. Приезжая домой в отпуск, он ничего не замечал, а она, не желая его огорчать, молчала о своих страданиях. Он заранее радовался ребенку, осыпал молодую жену подарками и был с нею очень нежен.
Ги появился на свет в начале 1940 года. Элен была счастлива, родив Вильнуарам мальчика. Ей даже показалось, что она покорила родных мужа.
— Вылитый отец, — сказала свекровь, взяв на руки внука, но тут же добавила: — Ничего вашего.
Не был похож на нее и Серж, родившийся через год, в то время, когда его отец находился в плену в одном из немецких лагерей.
Элен, лишившись всякой поддержки, сдалась и полностью покорилась своей участи. После замужества она перестала встречаться с подругами, никого не приглашала к себе и уходила из замка только по понедельникам, чтобы навестить своих старых родителей. Она ни за что на свете не согласилась бы поделиться с ними своими разочарованиями, от которых мать когда-то предостерегала ее. Все дни Элен проводила в замке, целиком посвятив себя детям. Когда вернулся Анри, она расцвела от счастья.
Но он стал с нею менее нежен. Она объясняла это теми заботами, которые приносила его деятельность в Сопротивлении, и в те минуты, когда он был с нею, старалась как можно меньше говорить о том, что, по ее убеждению, мешало их любви. Но ее ласки и непрестанные заботы не привлекали, а скорее отталкивали его.
После Освобождения положение еще ухудшилось. Анри стал депутатом от своего департамента, и перед ним открылась политическая карьера, которая обещала быть блестящей. Но Элен это не радовало, и она старалась отвлечь его от политики. Она долго ждала мужа и теперь боялась его потерять. Она была его женой, матерью его детей, но ей хотелось быть также его любовницей и безраздельно владеть им. Отсюда начались их первые размолвки.
Как-то раз, когда она своим кокетством и игривым поведением напомнила ему прежнюю Элен, он предложил ей:
— Почему бы тебе не перебраться в Париж? Разрешились бы все вопросы.
— А как же с детьми?
— У них есть бонна. Ты еще молода, а совершенно погрязла в обыденной жизни, это вовсе не красит тебя.
— Милый, ты меня разлюбил.
— Да нет, откуда ты взяла? Но мне бы хотелось, чтобы ты стала другой.
— Другой?
— Тебе этого не понять.
Элен было страшно попасть в тот мир, в котором вращался муж. Ее свекр и свекровь столько оскорбляли и принижали ее, что она не представляла себе, как пойдет с мужем на какой-нибудь прием. А вдруг и он начнет ее стыдиться? И вместо того, чтобы разделять его честолюбивые стремления, она ревновала его ко всему, что отдаляло его от нее, упорно не хотела ни с кем общаться, и ее жизнь превратилась в мученичество. Анри старался как можно реже бывать с нею. Она с давних пор жила одна в комнатах, отведенных ей в крыле замка, там же ела вместе с няней и детьми и больше никого не видела. Анри проводил все время в Париже, поглощенный политикой, и приезжал на очень короткий срок. А когда она роптала, что он слишком долго отсутствовал, он грубил ей.
— Боже, ну чего ты ко мне привязалась?
Однажды у него вырвалась страшная фраза.
— Я тебя ненавижу.
Молодая женщина в полном отчаянии попыталась пустить в ход единственный оставшийся у нее козырь — свою красоту. Стараясь нравиться ему, она только ускорила развязку. Как-то вечером Анри заперся на ключ и не пустил ее к себе в спальню. Готовая на все, даже на побои, Элен униженно умоляла его:
— Скажи хоть, в чем ты меня упрекаешь.
Анри сжалился и сказал, что ошибся в ней, она может помешать его карьере… Жена политического деятеля должна уметь поддерживать разговор, принимать, бывать на людях — словом, помогать ему…
— Да, я виновата, — каялась она. — Я жила только для тебя, но не думала о твоем счастье и утомила тебя. Теперь я твердо решила сделать все, чтобы ты был счастлив. Я займусь собой, своим образованием… научусь принимать… Тебе не придется краснеть за свою жену… Поверь мне… — Он тихонько отстранил ее от себя, но был растроган ее покорностью, а она приняла это за поощрение и начала упорную борьбу за то, чтобы вернуть его любовь. Элен подписалась на литературные журналы, накупила руководств по правилам поведения и снова начала заниматься иностранными языками, которые изучала еще в школе. В этих занятиях она нашла некоторое успокоение, но вскоре выболтала свою тайну Анри:
— Знаешь, я учусь английскому.
— Лучше бы ты обратила внимание на Ги, он лентяйничает в лицее.
Все же Элен удалось вырвать у Анри обещание провести несколько дней вместе с нею и детьми в Сабль д’Олон. Этому обещанию она все еще верила…
На следующий день машина остановилась у виллы в Сабль д’Олон. По аллее, усыпанной гравием, уже бежал сторож.
— Мадам одна? — спросил он, открывая ворота.
— А разве муж не приехал?
— Нет, мадам.
Шофер снял фуражку и открыл Элен дверку машины.
— Я больше не нужен?
— Когда вам сказано вернуться?
— Мсье Вильнуар приказал мне сегодня же приехать в замок.
— В таком случае вы свободны.
Элен дала шоферу на чай и пошла за сторожем, который понес чемодан.
— А где дети?
— На пляже с бонной. Может быть, мадам позавтракает?
— Нет, я хочу отдохнуть. Пусть меня не беспокоят.
В окно, выходившее на пляж, Элен увидела Сержа, который барахтался в воде. Она хотела было его окликнуть, но бросилась на кровать и зарыдала.
Он не приехал. И, по-видимому, не приедет. Дела, политика… Жена теперь для него пустое место. «Но что же я ему сделала? Боже мой, что я ему сделала плохого?» Она посмотрела на себя в зеркало и испугалась своего вида. Слезы смыли краску со щек, и она выглядела старухой. Она уже и раньше замечала, что стареет: еще одна крошечная морщинка, первый седой волос… Но ведь и Анри с возрастом изменился. Он начал полнеть, седеть… У нее было время следить за собой, она всегда выглядела намного моложе мужа. А вот сейчас ей показалось, что она на десять лет старше Анри. Вдруг он любит другую? — закралось в ее душу подозрение. До сих пор это ей не приходило в голову. Он занят, у него неприятности, он устал, и этим она объясняла его дурное настроение. Элен почти никуда с ним не ходила и поэтому никогда не видела его в обществе чужих женщин. Зная, что он целиком поглощен работой и стал безразличен к чувственным удовольствиям, она и не предполагала о существовании соперницы более опасной, чем политика. Но эта мысль, только зародившись, начала ее жечь. Если это так, то все можно объяснить: его отъезды, упреки, презрение… В таком случае она будет защищать свое счастье, она будет драться и вернет Анри, даже если для этого потребуется отправиться на край света… Но сначала она должна все узнать. И на следующий день она узнала.
Элен обшарила и перерыла все вещи, которые Анри обычно оставлял в вилле, и у нее чуть не вырвался радостный крик, когда наконец она напала на разоблачающую его измятую и засунутую в карман пляжных трусов телеграмму, в которой было всего семь слов и подпись: «Жду тебя как всегда понедельник Париже Маринетта». Телеграмма была отправлена шестого августа 1952 года. В прошлом году в это же время Элен была здесь с Анри. Теперь она припомнила — да разве она могла забыть? Они только переехали, как Анри, сославшись на срочный вызов, сел в поезд и уехал в Париж. Вернулся он через несколько дней… Кто же подписал телеграмму?.. Имя знакомое. Маринеттой звали девочку, которая в начале войны приходила играть в парк замка. Но это невероятно… Хотя — сколько ей сейчас? Лет двадцать семь, двадцать восемь. Она вышла замуж за фабриканта, тот намного старше ее и живет под Вандомом. Правильно, и телеграмма из Вандома. Однажды Анри даже упомянул при ней о Маринетте и сказал, что она приходила к нему в Национальное собрание. Когда же это было? Сержу тогда было лет семь или восемь… Сейчас ему тринадцать…
Элен не плакала. Она долго просидела в раздумье. Ее размышления были прерваны Скарлетт, молоденькой бонной.
— Вы пойдете с детьми завтра утром?
— Нет, Скарлетт, мне придется отлучиться на два-три дня.
Вечером она послала за газетами.
На следующее утро, очень рано, она надела серый костюм, взяла дорожную сумку и отправилась на вокзал. Там почти никого не было. Стоявший на часах охранник сообщил:
— Поезда ходят только из Рош-на-Ионне.
Элен села в автобус и приехала туда часов в девять. Отдыхающие осаждали справочное бюро, билеты продавались только в одном окошечке, и очередь двигалась очень медленно. Элен попросила билет до Блуа. В окошечке вместо железнодорожного служащего сидел человек в штатском. Он заглянул в какой-то листок, порылся в ящичках, что-то записал в тетрадь и протянул ей билет.
— Могу вам выдать только до Нанта.
— Но газеты пишут, что дальние поезда снова ходят.
— Правильно, мы ждем поезд из Бордо.
Поезд, о часе прибытия которого никто не мог сообщить, прибыл часов в двенадцать. В составе было три полупустых вагона и несколько товарных платформ.
В Нанте было то же самое, но Элен узнала, что вечером отправляется скорый на Париж. Вокзал был занят охранниками, буфет не работал, и Элен пошла в город перекусить. Железнодорожники в форменных фуражках раздавали отпечатанные на папирографе листки: «Предупреждаем пассажиров, что ехать поездом опасно… сигнализация на путях не обеспечена… составы отправляются без осмотра… обслуживающий персонал сокращен, состоит не из железнодорожников, а набран среди охранников и штрейкбрехеров…» Но Элен не отступила бы и перед смертью. Поезд ночью остановился в Туре и дальше не пошел. Элен переночевала в гостинице и на следующий день поехала на такси в Вандом.
Заводы Рауля Делорма находились в пригороде. Он был у себя в кабинете и принял Элен немедленно.
— Чему я обязан вашим посещением?
— Ваша супруга дома?
— Нет, она уже десять дней в Довиле со своей теткой.
Не пускаясь в разъяснения, Элен протянула Раулю Делорму телеграмму. Тот, не торопясь, надел очки, прочел и скорчил гримасу. У него был двойной подбородок и мешки под глазами.
— Телеграмма мне ничего не говорит.
— Но она же подписана именем вашей жены.
— Маринетт много.
— В Вандоме?
— Ну а если даже это и она?
Делорм сел рядом с Элен, взял ее за руку. Она была так поражена, что даже не отняла ее.
— Вы все знали?
Он сокрушенно вздохнул.
— В таких вещах никогда нет полной уверенности… Но кое о чем я подозревал.
— И давно?
— Задолго до этой телеграммы. Я вижу, она от прошлого года.
— И вы ничего не предприняли?
— А что я мог поделать? Ваш муж оказал мне большие услуги и может еще быть мне полезным. Кроме того, не удивляйтесь, но он мне симпатичен. Как же поступить? Отнестись к этому трагически? Это глупо и не в моем характере. Устроить сцену жене? Она или бросит меня… или переменит любовника, а тот, другой, не будет мне симпатичен. Я проигрываю в любом случае.
— Ну, я-то этого не потерплю…
— Деточка, успокойтесь и, главное, не делайте глупостей. Что вы затеваете? Скандал? Вы на этом потеряете мужа, состояние и все остальное…
— Мне наплевать.
— Да, так говорят. А что с вами будет? С вашими детьми? Нет, поверьте мне, лучше самим включиться в игру… Есть другие способы отомстить… Вы еще молоды, хороши… Вам никогда этого не говорили?
И он нежно погладил ее по руке. Элен отдернула ее.
— Вы мне отвратительны.
— Сударыня, не осуждайте меня, вы же меня не знаете. Мужчине в моем возрасте тоже нужна ласка.
Зазвонил телефон, и Делорм встал, чтобы ответить.
— Алло. Что? Отдел кадров? Да, я слушаю. Что? Делегация? Нет. Нет, я не приму… От трех профсоюзов? Нет, не сейчас, я уже вам сказал… Во второй половине дня — возможно…
Он с яростью бросил трубку.
— Свиньи!
Когда он поднял глаза, Элен уже исчезла.
* * *
Анри Вильнуар волновался. Вначале он спокойно отнесся к требованию коммунистов созвать чрезвычайное совещание палаты, но те, опираясь на правила, принятые в парламенте, добились, чтобы вопрос был поставлен перед каждым депутатом в отдельности, и их идея нашла широкую поддержку… Под напором делегаций от стачечников многие депутаты-социалисты и депутаты других партий прислали председателю Национального собрания подписи под этим требованием, дисциплина внутри групп была нарушена. Если количество подписей под требованием еще увеличится, чрезвычайное совещание состоится в самое ближайшее время. Газеты уделяли этому вопросу много внимания и даже сообщали предполагаемую дату. С точки зрения промышленника Вильнуара, было величайшей глупостью поддерживать эту затею. Она встретила сочувствие ВКТ и стачечников, другими словами, она не только не помогала бороться с забастовками, но еще усиливала движение. Примеру работников транспорта и связи последуют рабочие частных предприятий. Кроме того, дебаты будут происходить под нестерпимым давлением. Побеждает тот, кто дольше всех сопротивляется, считал Вильнуар, поэтому не надо сдаваться. «Если мы не пойдем на уступки, забастовки выдохнутся». В связи со всеми этими вопросами он отправился в Париж, чтобы там встретиться с некоторыми политическими друзьями, а заодно прощупать обстановку в Национальном собрании.
Он заехал на свою квартиру около площади Инвалидов, где находился его рабочий кабинет. Его секретарь уехал в отпуск, и Вильнуар застал только машинистку.
— Письма есть? — спросил он.
— Нет. Но к вам приехала жена.
Элен сидела в его кабинете за столом и что-то писала. Она удивилась еще больше, чем он:
— Как, ты здесь?
— А ты зачем сюда пожаловала?
— Как видишь, писала тебе письмо, чтобы сообщить адрес гостиницы, где я живу.
К ней вернулось самообладание, и она говорила с таким спокойствием, что Вильнуар встревожился.
— Что это значит?
— Послушай, Анри, ты можешь одним словом все мне объяснить. Где ты был?
— У министра, в Довиле.
— Ты врешь.
— Да что с тобой?
— Я все знаю. Я только что приехала из Вандома.
Вильнуар, боясь скандала, открыл дверь в комнату, где сидела машинистка.
— Мадемуазель, я вас попрошу пойти в палату и ждать меня там в кабинете моей группы.
Элен была озадачена.
— Ну, так что же ты мне скажешь?
Его лицо приняло каменное выражение, какое бывало у его отца.
— Это правда, — ответил Вильнуар. — Пожалуй, лучше, чтобы ты знала.
Элен подошла к нему, ломая руки.
— Анри, мой дорогой Анри…
Вильнуар ледяным голосом продолжал:
— Не настаивай. Все давно кончено. Нам лучше договориться… Я распоряжусь, чтобы тебя доставили в Сабль д’Олон и обеспечили всем необходимым… Через несколько дней, по-видимому, я заеду повидаться с детьми. Но тебе придется свыкнуться с этим положением.
Элен, рыдая, бросилась в кресло. Вильнуар решил, что у нее истерика, и пытался придумать, чем ее успокоить. Проплакав довольно долго, она умоляюще посмотрела на него.
— Эта женщина никогда не полюбит тебя, как я.
— Возможно, но я-то люблю ее.
Элен застонала, как ребенок, и прерывающимся голосом рассказала ему о своих страданиях, о поездке в Вандом, о разговоре с Раулем Делормом… Вильнуар курил и терпеливо слушал ее. Она кончила, и он несколько раз переспросил ее:
— И ты это сделала, ты?
Она, казалось, обезумела.
— Да, я это сделала. И на этом не остановлюсь. Я буду вас преследовать повсюду… И если нужно будет, подниму шум, опозорю вас, но вырву тебя из объятий этой шлюхи.
— Сволочь!
Это слово подействовало на нее, как удар кнута. Она жалобно взмолилась:
— Анри, Анри, что ты делаешь?
Он взял шляпу и открыл дверь.
— Анри! Анри! Я покончу с собой!
Но он уже ничего не слышал.
«Немедленно надо послать к ней психиатра, — подумал он, — и попросить его внушить ей, что она сегодня же должна уехать в Сабль д’Олон».
Первым, кого встретил Вильнуар в кулуарах палаты, был Шарль Морен. Они были знакомы с давних пор, вместе сражались в Сопротивлении в Дордони, а после войны оба оказались в Консультативной ассамблее. Они говорили друг другу «ты», и эта привычка осталась, хотя отношения между ними ухудшились. Часто, когда происходили жаркие дебаты в парламенте, они занимали враждебные позиции и некоторое время не разговаривали, потом опять начинали встречаться, вели длинные беседы, совершенно откровенно делясь своими соображениями. Из этих разговоров оба извлекали пользу. Морену интересно было узнать реакцию такого близкого к генералу де Голлю человека, как Вильнуар, на изменения, происходящие в политической жизни. Вильнуар нередко был озабочен намерениями коммунистов и не прочь был потолковать с Мореном, которого считал «доверенным лицом партии». Они были непримиримыми противниками почти во всех вопросах, относящихся к внутренней жизни страны, но, разговаривая о международной политике, иногда находили общую точку зрения. Оба были против продолжения войны во Вьетнаме, хотя руководствовались разными мотивами и характер их возражений был разный. По мнению Вильнуара, война проиграна, поэтому надо найти способ почетно кончить ее и побыстрее отозвать войска, которые могут понадобиться для войны в Северной Африке. Морен считал войну во Вьетнаме несправедливой; нужно как можно скорее прийти к мирному соглашению, думая только о том, как бы прекратить войну. В вопросе перевооружения Германии у них были более значительные расхождения, хотя обоих беспокоила угроза возрождения германской армии.
— Хорошо, что я тебя встретил, — сказал Морен. — Мне нужна твоя подпись.
— Как ты понимаешь, я не дурак и не присоединяюсь к требованию чрезвычайной сессии.
— Не беспокойся, твое отношение к забастовкам мне известно.
Они привыкли так разговаривать и друг на друга не обижались. Они направились к буфету, и Вильнуар дружески спросил:
— Ну, так чего ты от меня хочешь?
Морен в нескольких словах рассказал ему об аресте Беро и о том, как все в департаменте взволнованы этим событием. Делом Беро занялась организация бывших фронтовиков… Пораваль, замешанный в эту историю, повидался с префектом и съездил в Бордо… Несколько видных деятелей поставили свою подпись под петицией, которая в ближайшее время будет обнародована…
— Так вот, если ты подпишешь, твое имя подкрепит подписи твоих друзей.
— Но я же не знаком с этим субъектом. Он из ваших?
— Сочувствующий. Но он секретарь сельскохозяйственного профсоюза общины, где у тебя большинство голосов.
— Хлопочете о нем, конечно, вы?
— Мы делаем все, что можем, не буду скрывать. Кстати, ты еще услышишь об этом деле. Я сделаю запрос в палате и приведу еще несколько подобных фактов. Мы не потерпим, чтобы участников движения Сопротивления отдавали под суд.
— Да, ты отчасти прав. Они перегибают палку. Знаешь, я подумаю…
— А сразу ты не можешь подписать?
— Покажи-ка петицию.
Вильнуар скорчил недовольную гримасу.
— Сам текст неплох, но подписи все те же.
— Ты всех их знаешь? Держу пари, что среди них больше твоих избирателей, чем моих.
— Ладно. Я не отказываюсь, но мы еще потолкуем.
Морен решил воспользоваться случаем и рассказал ему еще об одном мероприятии, в которое он давно пытался его втянуть. Он уже получил согласие одного депутата-католика и нескольких видных радикалов на то, чтобы сообща выпустить воззвание против перевооружения Германии и собрать под ним подписи жителей департамента Дордони.
— Это, — прервал его Вильнуар, — совсем особый разговор.
— А я считал, что ты сторонник намордника.
Вильнуар улыбнулся при напоминании о его остроте во время последних дебатов, посвященных внешней политике. Премьер-министр, отвечая на вопросы, осторожно коснулся соглашений, подписанных его правительством в Бонне и Париже. Он не стал скрывать, что проведение их в жизнь повлечет за собой перевооружение Германии, «но, — нашел он нужным оговорить, — при этом будут соблюдены определенные условия и приняты меры предосторожности, а Германии нужен…» — «Намордник!» — крикнул с места Вильнуар, заканчивая начатую фразу. Его выпад произвел сильное впечатление и был встречен смехом, аплодисментами и возмущенными выкриками, что обычно в отчетах «Журналь офисьель» именуется «разнообразной реакцией». В крупной вечерней газете появилась передовая под заголовком «Намордник». В этой статье был приведен ряд доводов, ставящих под сомнение эффективность соглашений, которые правительство собиралось представить депутатам на ратификацию. После этой истории Вильнуар был причислен к противникам ЕОС.
— Кстати, по поводу намордника, — сказал он, — на мой взгляд, в нем нуждаются не только немцы.
Спорить было бесполезно, Морен знал это по опыту. Он предпочел закончить разговор.
— Серж, как твои бойни? — остановил он проходившего мимо депутата.
Серж де Мулляк был прогрессивный депутат соседнего с Дордонью департамента и недавно был избран мэром одного городка. Он был поглощен своими муниципальными делами и лелеял два проекта, над которыми его коллеги-коммунисты дружески посмеивались: проект строительства бойни и возведения памятника Дюгеклену; в память о том, что он некогда проезжал через городок, главная площадь носила его имя.
— Мы уже купили участок под бойню, — добродушно ответил де Мулляк. — С Дюгекленом тоже в порядке. Я только что видел проект. Открытие памятника может вылиться в демонстрацию национального единства, а этим не стоит пренебрегать.
Морен с де Мулляком без труда достигли согласия в вопросе о заслугах Дюгеклена, который шестьсот лет назад помог Франции освободиться от иностранной оккупации, и перешли к более актуальным вопросам.
Де Мулляк принадлежал к старинной католической семье и гордился тем, что один из его предков во время Французской революции сражался в армии конвента. Сам он принимал участие в Сопротивлении и к концу войны был произведен в полковники ФФИ. В армии его понизили до лейтенанта, он подал в отставку и под влиянием своего друга Ива Фаржа принял участие в борьбе другого рода — стал одним из руководителей движения за мир. По просьбе своих друзей коммунистов он дал согласие поставить свое имя первым в едином списке кандидатов, блестяще прошел на выборах и в палате выделялся своими искусными выступлениями. У него были друзья среди депутатов разных партий. Именно по совету де Мулляка Шарль Морен наладил отношения с депутатом-католиком от одного с ним департамента. Этот человек, как он сказал Морену, крайне обеспокоен германским вопросом, и его можно вовлечь в борьбу за мир, если не требовать от него ничего сверхъестественного. А вот к вице-председателю комиссии по иностранным делам Вильнуару де Мулляк относился крайне скептически, и сейчас он насмешливо спросил Шарля Морена:
— Тебе удалось переубедить господина Вильнуара? Он ведь тоже из аристократов, только его семья оказалась хитрее, чем моя, и в нужный момент сумела отделаться от приставки «де».
— Я не теряю надежды. История с «намордником», о которой я ему сейчас напомнил, может мне помочь в этом деле.
— Не обольщайся. Он убежден, что ЕОС и послужит намордником при условии некоторых поправок, которые по существу ничего не изменят.
— Но может быть, он еще одумается.
— Будем надеяться.
Прощаясь, они пожали друг другу руку, и Морен, заглянув еще раз в кабинет своей группы, ушел из палаты. Он воспользовался машиной Сервэ, чтобы съездить в Париж и лично передать в секретариат председателя Национального собрания свое требование созвать чрезвычайную сессию, с тем чтобы его подпись не была признана недействительной, как это произошло недавно с одним депутатом. Морен мог уехать только на следующее утро и решил посвятить вторую половину дня свиданиям с нужными людьми. Домой он попал около семи часов вечера. В этот день они с Роз праздновали годовщину своей свадьбы. Морен приглашал Роз каждый раз в другой ресторан, обоим хотелось избежать повторения впечатлений и отметить праздник по-новому. «Благодаря этому мы не так заметно стареем, — говорил Шарль, — и всегда ждем чего-то неизведанного». Все, что способно было сблизить их еще больше, доставляло им огромную радость.
Вечер у них проходил по заведенному обычаю. Шарль заранее, тайно от Роз, выбирал ресторан, где будет праздноваться годовщина, Роз заказывала ужин, в виде исключения не обращая внимания на цены… Впервые празднование было отложено. Морен хотел было взять жену с собой в Париж, и тогда годовщина была бы отпразднована совершенно необычно, но беременность Роз протекала довольно тяжело, и ей было бы трудно вынести такое длительное путешествие в машине. Вот почему они с общего согласия перенесли празднование на другое число. Морену в такой день было особенно тоскливо сидеть дома одному, кроме того, ему не хотелось готовить себе, и тут он вспомнил, что его друзья, возможно, уже вернулись из отпуска.
— Ты попал вовремя, — встретил его Луи. — Мы как раз садимся за стол.
Ирэн поставила еще один прибор, и все сдвинули свои стулья, освобождая место гостю.
— Знакомьтесь. Жак Одебер, — сказал Луи, представляя Шарлю молодого человека, который сидел за столом.
— Кажется, я слышал вашу фамилию, — заметил Морен.
— У моих родителей в Бержераке кондитерская.
— Наверное, поэтому я и знаю. Вы тоже кондитер?
Морен расспросил Жака о его работе, о планах на будущее, и они очень быстро познакомились.
Ирэн рассказала, с каким трудом они выбрались из Бержерака. Они хорошо сделали, приехав раньше срока, так как на заводе счетчиков, где работает Луи, тоже назревает забастовка.
— Кстати, о забастовках, — сказал Морен. — Произошла очень забавная история. Сегодня вечером президент республики должен был выехать в Гавр и отплыть в Америку, но не уехал, так как поезда не отправляются.
XI
— Ешь хлеб!
Резкий окрик отца озадачил мальчика. Фернан Груссо отчетливо услышал голос диктора: «…они приглашают всех почтовиков, соблюдая спокойствие и порядок, приступить к работе… обе федерации гордятся мужественной борьбой всех служащих связи за выставленные требования и поздравляют их…»
Дальнейшее он уже не расслышал, так как в это время Пьер уронил свой бутерброд, намазанный свиным салом, и издал такой пронзительный крик, что Бернар, его старший брат, даже перестал плакать.
— Умоляю, утихомирь их, — крикнул Фернан жене.
Дети заплакали еще громче. Франсуаза, выведенная из терпения дурным настроением мужа, сделала резкое движение и столкнула кастрюлю, стоявшую на краю плиты. Когда наконец водворилась тишина, стало слышно, как женский голос по радио продолжает передавать последние известия. Теперь сообщали о собрании, которое должно состояться в бюро палаты депутатов.
Фернан Груссо дошел до исступления. Все началось с того, что набедокурил старший сын: он стащил и съел восемь кусочков сахара, оставленных к утреннему завтраку. Отец слегка ударил его по рукам, мальчишка расплакался, мать возмутилась поступком отца. После этого возникла новая сцена между родителями: Пьер отказывался от еды.
— Разве ты не видишь, дети голодны, — сказала Франсуаза.
— Тем более они должны есть хлеб.
— Они не привыкли к свиному салу, а мы не можем им купить масла.
— Капризы…
Бернар плакал, Пьер, выражая недовольство, по своему обыкновению стучал по стулу, Фернан препирался с женой, и услышал лишь обрывки сообщений о том, что забастовки прекращены. Из того, что он смог уловить, он попытался составить себе представление о ходе событий: значит, ночью профсоюзные организации договорились с правительством… федерация, в которую входит Фернан, требовала, чтобы почтовики приступили к работе… Сперва он почувствовал облегчение. Вот уже восемнадцать дней как он не работает, и продолжение забастовки потребовало бы еще новых жертв и лишений. Но в чем же суть соглашения, на которое ссылались, требуя возобновления работы? Вот этого Фернан не уловил. Радио передало правительственное сообщение; из него он ничего не запомнил — не только потому, что ему не удалось его услышать целиком, но оно вообще было непонятным. Речь шла о будущих переговорах, о том, что будет разработана форма соглашения, но никаких конкретных данных. Будут ли увеличены ставки? Дадут ли почтовикам надбавку, которой они добивались? Замалчивание всех этих вопросов не сулило ничего хорошего. Фернан допил свой кофе и порылся в карманах, выбирая крошки табаку. Жена дулась на него.
— Чего ты молчишь?
— Терпеть не могу, когда ты свое настроение вымещаешь на детях. Ты же знаешь, как нам трудно. Я должна булочнику, бакалейщику… Пьер привык к другой пище и вот уже два дня ничего не ест… А что если он заболеет? Через несколько недель Бернару идти в школу; ему нужны будут фартук, плащ, джемпер, башмаки…
Фернану Груссо в молодости не повезло. Двадцать лет назад он женился на легкомысленной девушке. Ее кокетство доставляло ему немало огорчений, но, несмотря на это, он ее обожал. Все пять лет, пока он был в лагере в Германии, он ей писал страстные письма. Он готов был все ей простить, лишь бы она от него не ушла, и все-таки она его не дождалась. Ее похождения служили предметом сплетен всего квартала. Незадолго до возвращения Фернана она уехала с человеком, который был намного старше ее, но богат — его доходы открывали ей путь к легкой жизни, о которой она всегда мечтала. «Это же кукла, какая она для вас жена? — утешали Фернана соседи. — Но в общем-то, на свой лад, она честная и хорошая, ведь она вам все оставила». Фернан горевал и жил в одиночестве, надеясь в душе, что она к нему вернется. И тут он встретил Франсуазу. Она потеряла мужа на войне и была так же одинока, как и он. Ей только что исполнилось тридцать лет. Это была крепкая женщина с соблазнительными формами. Ее нельзя было назвать красавицей, но улыбка, как это иногда бывает, преображала ее лицо и делала его привлекательным. Они виделись каждое утро: либо он заставал ее дома, принося почту, либо встречал на улице, когда она шла на работу. Однажды он спросил ее, почему она не получает писем, и она сказала: «Кто же мне может писать?» С этого все и началось. Постепенно Фернан стал пускаться с нею в продолжительные беседы и пользовался всяким случаем, чтобы делать ей весьма двусмысленные комплименты. Она отвечала в том же тоне, улыбаясь по любому поводу, поощряя его ухаживания, но не разрешая ему заходить слишком далеко. И вот Фернан, искавший вначале легкого любовного похождения, сам попался в западню. Он стал ухаживать еще настойчивее, но в то же время все больше робел, и действовать пришлось ей. Однажды она сказала:
— Мне кажется, что мы могли бы начать новую жизнь и нам вместе было бы неплохо.
Фернан почувствовал себя двадцатилетним юношей. Соединив свое нехитрое имущество, они смогли приобрести довольно удобную квартирку с приличной обстановкой.
Они поженились несколько позже, когда Фернан получил развод. Совместная жизнь убедила их, что счастье для них еще возможно. Франсуаза после рождения первого ребенка ушла с консервной фабрики. С тех пор как она перестала работать, прошло пять лет. Фернан по-прежнему служил почтальоном. Это был человек спокойный и до того пунктуальный, что заменял жителям квартала часы. Дети по дороге в школу задерживались на улице, если не видели почтальона, и пускались бежать, если он их уже опередил. Уличные торговки говорили добродушно: «И часы не нужны, вот идет почтальон». Его маршрут был тщательно разработан и никогда не менялся, но ритм работы зависел от количества писем. Когда Фернану приходилось подниматься по этажам или терять несколько минут в ожидании, пока получатель распишется, он наверстывал потерянное время, ускоряя шаг или избегая лишних разговоров. Если же, наоборот, у него еще было время, он, думая о следующем обходе, заранее предупреждал адресата каждый раз, когда это было возможно, что принесет ему перевод или заказное письмо, уже пришедшее на почту. По всему его маршруту были одному ему известные ориентировочные точки, мимо которых он, за редким исключением, проходил по расписанию, как бегун мимо контрольного пункта. До войны Фернан учился на заочных курсах, готовясь к экзаменам, которые открыли бы ему доступ к более высокой должности. Теперь его возраст не позволял ему рассчитывать на значительное изменение положения, и он стремился только сохранить за собой свое место, дослужиться до пенсии, с тем чтобы в старости не находиться на иждивении детей.
Его жена вела хозяйство, стирала, ухаживала за детьми и ведала семейным бюджетом, причем последнему она уделяла столько же внимания, сколько ее муж — подготовке своих ежедневных обходов. Все расходы у нее были записаны в тетрадку, и первое время супруги легко сводили концы с концами. Оба работали и поэтому жили неплохо, хорошо питались, хотя и не разрешали себе лишних трат. Они регулярно ходили в кино, иногда обедали в ресторане и ежемесячно вносили небольшую сумму на сберегательную книжку. У Фернана была копилка, куда он клал чаевые и новогодние наградные. Он брал из нее деньги на карманные расходы и на мелкие подарки жене, которые он делал при всяком удобном случае.
Трудности начались с появлением детей. Правда, они получали на них пособие, но оно не покрывало новых расходов. Кроме того, Франсуаза перестала зарабатывать. По взаимному согласию они стали жить скромнее. Посещение ресторанов ушло в область воспоминаний, в кино ходили в виде исключения, и развлечения ограничивались прогулкой по городскому саду или набережной. Сперва они наслаждались лепетом своих малышей, умилялись их первым шагам и не обращали внимания на все эти лишения…
Началось с ворчливых замечаний Франсуазы. Она жаловалась на дороговизну, на то, что жить становится все труднее. Вечерами по нескольку раз подсчитывала расходы и с нараставшим беспокойством спрашивала Фернана, как им быть. Но тот, поглощенный чтением газеты, отвечал рассеянно; он отдавал жене всю свою получку и привык, что всегда есть обед. Он знал, Франсуаза в конце концов выкрутится. Только после того, как несколько раз был нарушен заведенный порядок и Фернан вынужден был это заметить, он стал разделять волнения жены. Впервые это произошло в субботу во время ужина. Обычно в субботу вечером они отдыхали, засиживались подольше за столом, беседуя о событиях, происшедших за неделю, или строя планы на будущее. Франсуаза приготовляла какое-нибудь особое блюдо, чтобы побаловать мужа. Фернан любил вкусно поесть. Вдыхая аромат, исходивший от кушанья, он ел с большим аппетитом и неизменно расхваливал Франсуазу, чем доставлял ей большое удовольствие.
В тот вечер при виде поданного блюда он скорчил недовольную гримасу и нерешительно положил себе необычно скромную порцию. Франсуаза ждала, что он скажет, но не вытерпела и спросила:
— Тебе не нравится?
— Нравится, но я не голоден.
— Это мясо по-бургундски.
— Вижу, ты мне подавала то же самое на прошлой неделе.
— Но тогда ты его ел.
— Мне не хотелось тебя огорчать.
— Благодарю.
— Не думай, что я хочу тебя обидеть, но со времен моей солдатской жизни я не могу избавиться от отвращения к тушеному мясу. Кстати, должен признать, что ты готовишь его совсем по-другому. Это вкусно, очень даже вкусно…
— Но ты его не ешь. Конечно, бифштекс тебе нравится больше. Мне тоже.
— Я и не прошу бифштекса, это нам не по карману. Но почему бы тебе не приготовить, например, отварное мясо? Ты же знаешь, что я его обожаю.
— Для этого требуется дорогой сорт мяса, и вообще это невыгодно.
— А ты свари побольше гарнира.
— Ты ничего не понимаешь. Знаешь ли ты, сколько стоит кочан капусты или кило моркови?
— Ну так навари картошки — все лучше, чем это месиво.
— Какой ты нехороший. Ведь я три часа готовила это рагу и, уверяю тебя, сделала все, что можно.
Франсуаза не удержалась и заплакала. Фернан никогда не мог спокойно видеть ее слезы.
— Послушай, я же не хотел тебя огорчать.
— Очень тяжело… мне не свести концы с концами… а ты не желаешь понять. Вот уже полгода, как я ни разу не была у парикмахера, у меня всего одна пара чулок, я ничего не могу себе купить… На всем экономлю, чтобы повкуснее тебя накормить…
— Почему же ты не сказала об этом раньше? Мы бы сообща нашли выход.
— Не могу же я все время жаловаться. Да и откуда ты возьмешь деньги?
— У нас есть небольшие сбережения. Я не хочу, чтобы ты лишала себя необходимого и была несчастной.
Чтобы получить окончательное прощение у жены, Фернан доел рагу, и ее полные слез глаза постепенно озарились улыбкой.
Вскоре после этого разговора они начали тратить свои сбережения, но цены неумолимо поднимались, дети росли и требовали все больших расходов, и Фернан с Франсуазой стали жить еще скромнее. Заработная плата Фернана в течение многих месяцев оставалась неизменной, и он рассчитывал только на Новый год, чтобы при помощи чаевых пополнить семейный бюджет. Но, вопреки его ожиданиям, многие из тех, кого он обслуживал, наградили его менее щедро, чем в прошлом году. Кое-где вместо обычных ста франков он получил всего пятьдесят. Некоторые люди смущенно отказывались даже от покупки почтового календаря. Все эти мелочи убедительнее официальной статистики доказывали Фернану, что понижение жизненного уровня — общее явление. Его сосед докер Леру, торжествуя, говорил:
— Видишь, вот тебе и твоя теория заколдованного круга. Заработная плата давно блокирована, а цены все растут. Если бы в самом деле существовала зависимость одного от другого, цены не должны были бы меняться.
— А я никогда и не возражал против увеличения зарплаты.
— Прости, но когда мы требуем общего повышения ставок, вы вопите, как ослы, что это вызовет вздорожание.
— Так оно и есть.
— А ты хоть помнишь, сколько тебе в последний раз прибавили?
— Да, десять процентов.
— Ну а насколько за это время выросли цены? Скажи сам.
— Конечно, намного больше. Но есть и другие факторы.
— Сам ты фактор. Если бы твой заколдованный круг был на самом деле кругом, то увеличение должно было быть и там и здесь на десять процентов. А это не так, по твоим же собственным словам. Сколько раз я тебе твердил, что можно увеличить ставки, не вздувая цены. Для этого нужно, чтобы богачи заплатили разницу из своего кармана. Как в тридцать шестом году, дорогой мой, точно, как в тридцать шестом…
К удивлению Леру, летом 1953 года забастовки начались с почтовиков. Фернан, как и его товарищи, присоединился к требованиям, выдвинутым ВКТ: увеличение основной заработной платы и двадцать тысяч франков надбавки на дороговизну жизни.
Фернану казалось, что еще немного, и он добьется своего. И вот теперь его уговаривают приступить к работе, а он даже толком не знает, чего удалось достигнуть.
— Не горюй. По-видимому, забастовка окончена, — сказал он Франсуазе.
— Откуда ты знаешь?
— Слышал по радио. Ты не слышала? Будто бы сегодня ночью договорились.
Франсуаза улыбнулась, как бывало в хорошие дни.
— И ты получишь надбавку?
— Ничего не знаю.
— Как? Но это ужасно, у нас ничего больше не осталось.
— Не будем заранее волноваться. Прежде всего надо выяснить положение. Если сообщение правильно, то нам наверняка чего-то пообещали.
— Но тебе хоть оплатят то время, пока ты не работал?
— Надеюсь.
На это он твердо рассчитывал. Не мог же его профсоюз дать распоряжение вернуться на работу, не добившись хотя бы этого. В первую очередь нужно все узнать. В забастовке приняло участие небывалое количество служащих связи. Все как один примкнули к движению. Были сделаны попытки завербовать добровольцев для сортировки и раздачи почты. Газеты писали, что одна престарелая маркиза ежедневно приходит работать бесплатно на почтамт. Но несколько молодых служащих отправились к ней домой и спели ей на модный когда-то мотив такую серенаду, что отбили у нее всякую охоту. При помощи таких же добровольцев несколько открыток были доставлены адресатам, но Фернан великолепно представлял себе беспорядок, вызванный на почтамте скоплением корреспонденции. Профессиональным работникам понадобится несколько дней, чтобы грандиозная почтовая машина вновь заработала с точностью часового механизма. В общем-то сообщение по радио могло быть и ловушкой. К этому не привыкать. Уже и раньше все было пущено в ход, чтобы сорвать забастовку, но, несмотря на угрозы, запугивание и ложные информации, удалось набрать только горсточку неквалифицированных работников, большинство которых пошли на это из-под палки.
Фернан узнал, что приказ о возобновлении работы в самом деле исходил от его профсоюза. Если бы спросили его, мелкого служащего и рядового члена профсоюза, он бы высказался против, так как чувствовал, что цель почти достигнута. Но более сведущие люди решили за него. Может быть, у них свои соображения, о которых он узнает позже? Во всяком случае, ничто еще не вошло в свою колею… Правда, появились те, кого не было видно во время забастовки, но к работе никто не приступал. Люди собирались, обсуждали положение, и все настойчивее слышался вопрос: «Как же нам поступить?»
Руководить продолжали самые решительные. С их точки зрения, нечего было и думать прекращать забастовку на полпути. Но некоторые уже начинали поговаривать о том, что благоразумнее вернуться на работу, раз правительство дало обязательства, которые профсоюз нашел приемлемыми.
— А какие именно? — отвечали им.
Фернан, как и многие, требовал разъяснений. Все должно выясниться сегодня днем на бирже труда.
Фернан присоединился к тем, кто голосовал на собрании за продолжение забастовки. Обсуждение происходило в напряженной обстановке, образовалось два лагеря как среди сидящих в зале, так и в президиуме. Одни и те же люди выступали по нескольку раз. Ораторов часто прерывали. Результаты голосования были встречены восторженно и бурно, тем более что несколько человек упорно оставались на своих местах, а небольшая группа руководителей в знак протеста покинула зал. Всякому старому члену профсоюза было ясно, что лопнула какая-то пружинка, и Фернан возвращался домой грустный. На улице продавали первые вечерние газеты, доставленные самолетом из Парижа. В них говорилось, что работа возобновлена на почтах и на железных дорогах. «Вранье», — пробурчал Фернан и, прежде чем идти домой, заглянул к Леру.
— Ну, как ты относишься к этому предательству?! — воскликнул докер.
— О каком предательстве ты говоришь?
— Твои руководители мерзавцы, продажные твари…
— Прошу тебя, перемени пластинку.
— Да это же ясно как божий день.
— Почему ты так считаешь?
— Тебе нужны доказательства, да? Так я тебе их дам.
Прошлой ночью руководители ФУ и ФКТХ[10] в переговорах с правительством вели себя, как тряпки, капитулировали и обратились к транспортникам и почтовикам с призывом возобновить работу. Я называю это предательством. Но это предательство не остановит забастовочное движение, а только расширит его, и вот тебе подтверждение моих слов: наши докеры начинают стачку, так же как докеры Сен-Назера и Марселя. Только штрейкбрехер способен при таких условиях сложить оружие…
Фернан побледнел.
— Значит, если я завтра выйду на работу, я штрейкбрехер?
— А кто вообще собирается возобновлять работу? Предатели.
Фернан раздраженно махнул рукой и, не дослушав докера, направился к выходу.
— Ну вот, — сказал Леру, когда почтальон ушел, — бастует, а при первых же трудностях сдается. Он сдрейфит, как пить дать. Такие субъекты никогда ничего не поймут. А ты что думаешь? — спросил Леру у дочери, которая в это время чистила к ужину картошку.
Жаклина подняла свою красивую головку и, поколебавшись, ответила:
— Я нахожу, что ты слишком суров с товарищами.
— Значит, ты тоже…
Леру торопливо доел суп и стал собираться.
— Вернешься поздно?
— Наверняка. Мне нужно в профсоюз, потом партийное собрание, и еще, возможно, придется ночью расклеивать листовки.
— Надень пиджак, а то простудишься.
Леру пожал плечами.
— Мы суровый народ, как ты говоришь…
Жаклина поняла, что огорчила отца. Облокотившись на решетку окна, она ждала, не обернется ли он. Во дворе играла Мирей, отец поцеловал ее и ушел в сторону порта. Жаклина посмотрела на свое обручальное кольцо и невольно подумала, что, только когда кончатся забастовки, она сможет получить письмо от Жака, мать вернется из Бордо и в Париж снова пойдут поезда.
* * *
— Ведет поезд Мышь. Да здравствует пятьсот третий!
Украшенный гирляндами цветов локомотив медленно въехал на станцию, и тендер тихонько уперся в буфер головного вагона. Раздался пронзительный свисток, радостно подхваченный остальными локомотивами, стоявшими в депо. Железнодорожники подбежали к своему товарищу. Пассажиры удивленно выглядывали из вагонов. В наступившей наконец тишине раздалось нестройное пение Марсельезы. Припев уже был подхвачен всеми собравшимися. В тот момент, когда народ начал расходиться из туннеля, на платформу вышел Морен со своим чемоданчиком.
— Ребята, что здесь происходит?
— Представь себе, они хотели наказать Мышь и запретили ему вести поезд, но мы потребовали: или он или никто.
— Ну и что же?
— Он поведет первый поезд на Париж.
Профсоюзный делегат, по кличке Мышь, был одним из руководителей стачечного комитета. Морен отправился к нему. У паровоза снова толпился народ. Один из железнодорожников попросил Морена:
— Скажите нам несколько слов.
— А время есть?
— Да, мы отправляемся без пяти восемь.
Морен взобрался на подножку и сильным голосом начал:
— Товарищи, сегодня вы приступаете к работе по призыву ВКТ… Все вы, соблюдая полный порядок, заняли свои рабочие места, но борьба продолжается… Забастовка, во время которой вы проявили столько мужества, закончена, но она уже увенчалась успехом…
— Вот именно, — сказал Мышь, — они хоть и толстокожие, но мы в конце концов своего добьемся.
— …Так же сплоченно, как вы действовали до сих пор, добивайтесь, чтобы восстановили на работе наших товарищей…
Когда Морен кончил, ему зааплодировали и железнодорожники проводили его до вагона. Поезд тронулся. Стоя в дверях, Морен пожимал протянутые ему руки. Один из железнодорожников крикнул:
— Передай им, там, наверху, что мы не сдадимся.
— Обязательно.
Накануне бюро Национального собрания отказалось созвать сессию, и Морен ехал в Париж, чтобы повторить свое требование о созыве чрезвычайного совещания депутатов.
Утро он провел у постели Роз, она плохо себя чувствовала. Вообще беременность у нее протекала тяжело, кроме того, она твердо решила подготовиться к обезболиванию родов, и Морен собирался в скором времени повезти ее в Париж. Его беспокоила ее настойчивость в этом вопросе, и он несколько раз спрашивал:
— Ты боишься осложнений?
— Да нет, но понимаешь, таким замечательным достижением можно заинтересовать всех женщин.
Морен, как всегда, выбрал пустое купе. Так как он выспался дома, он принялся разрезать странички какого-то романа. Чтение было прервано появлением в купе нового пассажира.
Анри Вильнуар тоже ехал в Париж, но совсем по другим делам. Несколько дней назад ему с величайшим трудом удалось упорядочить свои отношения с женой. Элен упорно не хотела его отпускать и угрожала скандалом. Чтобы избавиться от нее, ему пришлось самому отвезти ее в Сабль д’Олон. Там между супругами произошло новое объяснение.
— Ты должна примириться, — сказал ей Вильнуар.
— Я покончу с собой, — твердила Элен.
Из Сабль д’Олон Вильнуар поехал в Перигё, куда его телеграммой вызвал отец. Заводы работали вовсю, и во избежание забастовки пришлось согласиться на десятипроцентное повышение заработной платы рабочим. Угроза досрочного созыва депутатов была устранена, и Вильнуар надеялся спокойно провести недели две в Довиле с Маринеттой.
Вильнуар протянул руку Морену и сел напротив него.
— Ты не возражаешь?
— Конечно, нет. Я не заметил, что ты тоже едешь этим поездом.
— А я считал, что ты едешь на локомотиве.
— Там иногда бывает приятнее, чем в купе первого класса.
— Ты думаешь, я боюсь ваших демонстраций?
— Нет, но, насколько я знаю, они тебе не по вкусу.
— Во всяком случае, ваша забастовка провалилась, и тебе придется еще немало потрудиться, прежде чем вам удастся повторить тридцать шестой год.
— А ты помнишь, в тридцать шестом с чего все началось? С пения.
— Ну и что из этого?
— А в этот раз мы кончаем с песней. Тебе это ничего не говорит?
Вильнуар пожал плечами и вынул записную книжку.
— Послушай, на днях ты мне говорил о некоем Беро. Пораваль приходил ко мне по тому же поводу. Я согласен подписать протест, но только не поднимайте шумихи вокруг моего имени.
XII
Поезд медленно, словно испустив последнее дыхание, остановился. Он прибыл ровно на тридцать секунд раньше расписания. У вокзала стояла вереница такси. Встречающие толпились у решетки, высматривая знакомые лица среди потока устремившихся к выходу пассажиров. Взявшие перронный билет поджидали у вагонов своих родственников или друзей, приехавших из провинции.
Улыбкой парижанин приветствует всех приезжающих к нему, радостно кидаются друг к другу влюбленные, со всех сторон слышатся веселые возгласы и одни и те же слова:
— Как ты доехал?
— Дай мне чемодан.
— Как здоровье мамы?
Жак Одебер влез на тележку, чтобы его было видно, и обеспокоенно оглядывал все увеличивающуюся толпу. Поток пассажиров казался неиссякаемым, и Жак уже стал опасаться, что Жаклина не приехала. Неделю назад, воспользовавшись выходным днем, он вечером выехал из Парижа на машине отца и на следующий день был уже в Бордо у Жаклины. Он собирался отвезти малолитражку в Бержерак и вернуться поездом вместе со своей невестой. Но из этого ничего не вышло. Хотя Леру снова работал и получил небольшую надбавку, Жаклина боялась оставить мать. Дениз Леру благодаря внимательному уходу за ней рыбаков-коммунистов прибавила несколько кило и выглядела хорошо, но она вынуждена была носить теперь специальный корсет и избегать тяжелой физической работы, чтобы не произошло смещения позвонков. Она очень сочувственно отнеслась к рассказу дочери о ее любви к Жаку.
— Как ты считаешь, он меня действительно любит? — спросила Жаклина.
— Думаю, что любит.
— А если его родители будут возражать против нашей женитьбы?
— Решаете вы, а не родители.
— Как тебе кажется, он достаточно меня любит, чтобы не посчитаться с родителями?
— Тебе виднее.
— Ты с ним познакомишься, и я уверена, что он тебе понравится.
У Жака с Жаклиной произошел длинный разговор. Жак хотел немедленно назначить день свадьбы, Жаклина, более благоразумная, напомнила ему об истинном положении вещей. У них нет ни денег, ни квартиры — словом, ничего, чтобы начать семейную жизнь.
Нужно было отложить все — и женитьбу и следующую встречу. Жаклина вернется в Париж, только если она найдет работу. В «Лютеции» ее место давно уже занято. Кроме того, у ее бывшей квартирной хозяйки все сдано, и в ожидании чего-нибудь получше нужно снять комнатку в гостинице. Это Жак брал на себя. С работой ей повезло. Сюзанна нашла более выгодное место и уступала свое Жаклине. Последнее обстоятельство все решило.
— Жак!
Он бросился навстречу Жаклине, и они обнялись.
Какой-то человек, сопровождавший Жаклину, поставил ее чемодан на землю и неловко раскланялся.
— Что это был за субъект? — спросил Жак, когда они сели в такси.
— О ком ты говоришь?
— Да тот, что нес твой чемодан.
— Попутчик, он предложил мне помочь. Я отказывалась, но он настоял на своем.
— И ты ничего не сказала?
— Сказала: «Мсье, меня встречает муж».
Жак снова ее поцеловал. От наплыва счастья у него закружилась голова.
— Послушай-ка, — сказала Жаклина, — куда ты меня везешь?
— К тебе.
— Как ко мне?
— Увидишь. При помощи Томасен я нашел недалеко от Монпарнаса небольшую гостиницу, совсем близко от меня. Комнатка крошечная, но милая. Там сдают семейным и девушкам и запрещают им приводить молодых людей. Пришлось сказать, что ты моя сестра, и дать ряд сведений о себе: где я работаю, сколько получаю и так далее.
— Но ведь у меня другая фамилия.
— Я сплел целую историю о том, что у нас разные отцы, но зато мать дала нам одинаковые имена.
Жак не рассказал ей, что ему пришлось внести двенадцать тысяч франков, заплатив за месяц вперед. Эта сумма составляла больше половины его заработка, но, к счастью, отец, возвращая стоимость горючего для машины, округлил сумму и дал ему десять тысяч франков.
— А как с работой?
— Ты приступаешь в понедельник на прежних условиях.
— Сколько я должна платить за комнату?
— Я уже внес за весь месяц.
Гостиница оказалась очень скромной. Вместо вывески на стене была прикреплена мраморная дощечка с надписью:
Сдаются помесячно
меблированные комнаты и квартиры.
Все удобства. Цены умеренные.
Гостиницу содержали две старые девы, удивительно похожие друг на друга, но, несмотря На сходство, различие их положений сразу бросалось в глаза.
Одна держалась как хозяйка и называлась «мадемуазель Перванш». Она носила темное платье и проводила время или на кухне, или в маленьком кабинете рядом с вестибюлем, заменявшим гостиную.
Вторую звали Матильдой. Судя по одежде, она выполняла работу горничной.
Мадемуазель Перванш попросила Жаклину заполнить бланк и, оглядев ее с ног до головы, сухо повторила правила гостиницы.
— Я пускаю к себе только положительных людей. Вы сами будете стелить себе постель. Матильда будет подметать вашу комнату и менять белье каждую неделю. Если вечером вы возвращаетесь после десяти часов, то должны в окошечко назвать свою фамилию. Если же вы придете после полуночи, не предупредив об этом заранее, наружная дверь будет заперта на засов…
После того как кончились наставления, Жак предусмотрительно спросил:
— Можно мне отнести наверх вещи сестры?
— Конечно, мсье Одебер.
Матильда повела их за собой и открыла дверь в комнату.
— Здесь прелестно! — воскликнула Жаклина.
Чуть ли не четверть комнаты была занята узким диваном, обитым веселенькой желтой материей. Напротив окна, выходившего во двор, стоял белоснежный умывальник. Выкрашенные в светлый цвет, под тон обоев, маленький шкаф, столик и два стула составляли всю обстановку. Пол в комнате был чисто вымыт.
Как только они остались вдвоем, Жак обнял Жаклину и поцеловал в губы. Жаклина резко оттолкнула его, увидев Матильду, которая вернулась в комнату с полотенцами. Через несколько секунд она опять пришла и снова чуть не застала их на месте преступления.
— Эта старая ведьма не даст нам покоя…
— Будем благоразумны, — сказала Жаклина, вытирая у Жака с губ следы помады. — Уходи и подожди меня внизу.
Она с трудом удерживалась от хохота. «Лучше было признаться, что она моя невеста», — подумал Жак, спускаясь по лестнице. Но теперь уже было поздно, и он был озадачен когда мадмуазель Перванш, не то издеваясь над ним, не то всерьез, сказала:
— Ваша сестра очень на вас похожа.
Он довольно долго прождал Жаклину. Она переоделась — теперь на ней была красная блузка и черная, подчеркивающая талию юбка. Они вышли на улицу, и Жаклина спросила Жака:
— Куда мы пойдем?
— Ужинать. Скоро восемь часов.
— А куда?
— Ко мне, если ты не возражаешь. Я уже все приготовил.
— Но я должна рано вернуться.
— Ты сможешь отдыхать весь завтрашний день. В воскресенье я попросил подежурить Жюля, и мы проведем весь день за городом.
Жаклина взяла его под руку.
— Как я рада! Ты не можешь себе представить, как я рада…
* * *
На следующее утро Жак в радужном настроении сбежал по лестнице со своего седьмого этажа. Правда, предстояло провести весь день в подвале, но зато в шесть часов он уже свободен. Жаклина будет его поджидать у выхода… В их распоряжении весь воскресный день… а начиная с понедельника сколько раз в день он будет иметь удовольствие слышать ее голос, подзывающий его к раздаточному столу кондитерского цеха! Обмен улыбками, никому не заметное прикосновение рук… ему хотелось поделиться своим счастьем со всем миром, пусть все знают, что Жаклина любит его, только его!
Консьержка окликнула Жака.
— Вам письмо.
Жак увидел незнакомый почерк и сунул конверт в карман.
— Поздравляю вас, — продолжала Томасен. — Мне очень понравилась ваша невеста… Надеюсь, вы не собираетесь прятать ее от всех и приведете к нам в комитет, тем более что она живет в нашем же районе. Комната ей нравится?
— Да, но дороговато. Нам нужно подыскать квартирку.
— Когда я вышла замуж, наша комнатка была не больше вашей, и все же самое счастливое время мы прожили в ней.
— Вы думаете, это возможно?
— А что? Будет тесновато, вот и все. Во всяком случае, я вам ничего не говорила и ничего не заметила…
Жак распечатал письмо. Лора, ссылаясь на необходимость что-то сообщить, назначала ему свидание после полудня. Жак не виделся с нею после того, как они встретились на улице, он перестал бывать у Брисаков. Отец упрекнул его:
— Ты им обязан, об этом не следует забывать. Да и вообще он может тебе еще пригодиться. Будь с ним хотя бы вежлив и, вернувшись после отпуска, передай привет от меня.
Жак хотел выполнить эту просьбу и зашел в кабинет к заведующему погребом. Но у того как раз шло объяснение с заместителем, и Жак был встречен очень нелюбезно.
— Ты же знаешь, что я не люблю, когда меня беспокоят на работе. Приходи домой.
Жак обиделся и решил, воспользовавшись случаем, окончательно порвать с Брисаками; в конечном счете ему дороже было хорошее отношение товарищей, чем это отвратительное для него покровительство.
Письмо Лоры ему польстило. Если эта гордая, капризная девушка пишет: «…несмотря ни на что, остаюсь вашим другом», — значит, она здорово в него влюблена. Но как пойти на свидание? Скрыть это от Жаклины? Ведь речь идет о каком-то касающемся его важном сообщении… эта фраза была дважды подчеркнута, и Жак решил повидаться с Лорой. Кстати, всегда можно объяснить Жаклине, почему он пошел, и, если он прав в своих подозрениях, лучше сразу же покончить со всеми недоразумениями.
Он попросил старика Жюля подежурить за него во вторую половину дня.
— Ладно, — ответил тот, — но ты заменишь меня сегодня вечером.
— Никак не могу. Я отработаю за вас на будущей неделе.
— Терпеть не могу всяких махинаций. Тогда я беру выходной в воскресенье.
— Но вы же мне обещали…
— Ни за что, раз ты сам не держишь слова. Ты же должен был заменить меня сегодня днем…
— Ладно, я не уйду.
Все утро они не разговаривали. Жаку не очень-то хотелось выяснять отношения с Лорой, и он даже обрадовался, что так получилось. Но в тот час, когда Жюль должен был уйти, Жак увидел, что тот не переодевается.
— Вы не уходите?
— За кого ты меня принимаешь? Отправляйся на свои любовные свидания, тебе по возрасту положено. Старый Жюль еще не потерял чувства товарищества. Слышишь? Он еще умеет быть товарищем. Заруби себе это на носу.
Лора ждала Жака в Люксембургском саду. Она сидела в тени уже пожелтевших каштанов, на коленях у нее лежала раскрытая книга. Два соседних стула были заняты молодыми людьми, по-видимому студентами. Жак подумал, что эти молодые люди пришли вместе с Лорой, и в замешательстве прошел мимо нее… Она заложила страничку в книге и догнала его.
— Вы меня не заметили?
— Мне казалось, вы с друзьями.
— А если даже и так?
Они нашли укромный уголок и сели за большим кустом бересклета. Жак несколько мгновений рассматривал Лору. Она была в белой шелковой блузке, в очень широкой юбке и в таких тонких чулках, что Жак даже решил было, что у нее голые ноги. Причесана она была по последней моде: короткая стрижка, челка на лбу. Жак нашел нужным сделать ей комплимент:
— Вы одеты всегда с таким шиком, что вас можно и не узнать.
— Только не думайте, пожалуйста, что это ради вас. Впрочем, вам все равно…
— Я вас не понимаю.
— Вчера вечером вы прошли мимо, не заметив меня. Правда, вы были с кем-то.
— С невестой.
— Поздравляю…
Она посмотрела на него с такой грустью, что ему стало жаль ее.
— Простите, Лора, я не хотел вас огорчить.
В ответ она неестественно рассмеялась.
— Да что вы вообразили? За кого вы меня принимаете? Огорчить? Вот вас я в самом деле огорчу: вы будете скоро уволены с работы.
Накануне Лора безразличным тоном сказала отцу:
— Я только что встретила Жака… он был с девушкой.
— Красивой?
— Да, недурна… но бедно одета…
— Меня это не удивляет. Одебер вступил на дурной путь: политика, профсоюз… Ему необходимо переменить обстановку. Надо будет поговорить об этом с Клюзо. Я знаю, что старик Одебер не намерен ему больше помогать. А оставшись без работы, он вынужден будет вернуться в Бержерак. Потом он сам же мне скажет спасибо.
— Ты хочешь, чтобы его уволили? — спросила Лора.
— Я окажу ему этим большую услугу, да и тебе тоже.
— Мне бы не хотелось, чтобы это исходило от тебя.
— Тогда пусть он придет поговорить со мной и ведет себя смирно.
— Во всяком случае, не воображай, что я ему передам твои слова.
Но все же Лора, изорвав несколько черновиков, написала Жаку. На следующее утро прислуга занесла письмо консьержке Томасен.
Сообщение Лоры не особенно удивило Жака.
— Как я понимаю, этим вниманием я обязан вашему отцу.
— Я запрещаю вам плохо говорить о папе. Он вам хочет добра.
— Странный способ делать добро.
— Но вы же сами избегаете отца!
— По-вашему, я должен прийти к нему с повинной? Нет, Лора, такой хлеб мне не по вкусу.
— А что же вы будете делать, если вас рассчитают?
— У меня есть профессия. Найду другое место.
— До чего же вы своенравный!
— Между вашим отцом и мной — стена. Не стану вам объяснять, это слишком долго…
— Имейте в виду, что, теряя место в ресторане, вы теряете и комнату.
— А я все равно уже подыскиваю квартиру.
— С тем чтобы там принимать своих возлюбленных?
— Нет, жену.
Лора гордо поднялась и ушла, разозленная.
* * *
Жаклина отнеслась к известию со смешанным чувством удовлетворения и страха. Разрыв Жака с Брисаками положил конец мучившим ее подозрениям. Лора была для нее опасной соперницей. Она до сих пор не решалась говорить об этом Жаку, но ей было нестерпимо, что он встречается с этой девушкой. Она несколько раз мельком видела Лору с матерью, они иногда приходили в кафе при «Лютеции». Жаклина находила ее некрасивой, слишком худой, но Лора умела держаться, вещи на ней выглядели необычайно изящно, а ее страстный взгляд покорял мужчин.
Итак, с этой стороны Жаклина теперь была спокойна. Но зато с предстоящим увольнением Жака появились новые заботы.
— Как же нам быть?
— Во-первых, я еще работаю. Профсоюз встанет на мою защиту. А кроме того, я немедленно начинаю искать другое место.
Накануне Жак снова заговорил с Жаклиной о женитьбе. «На нашем пути теперь нет больше никаких препятствий, — сказал он, — осталось только назначить день». Они подсчитали, сколько у них денег, обдумали предстоящие расходы и никакого решения не приняли.
— Знаешь, теперь надо действовать продуманно, — сказала Жаклина. Не стоит ездить завтра в Версаль, отложим на другой раз.
— Почему?
— Дорога, обед в ресторане и все остальное… нет, это расточительство.
— А я тебе говорю, что мы можем себе это позволить. Я почти не трогал получку, комнаты у нас оплачены вперед до конца сентября.
— Поверь мне, это неблагоразумно.
— Неужели мы с тобой проведем наш первый день после разлуки, как старики? Я уже все подготовил, так радовался.
— Ну не расстраивайся и подумай. Самое главное, что мы вместе. Я приготовлю ужин, и ты увидишь, как нам будет хорошо…
Начало их совместной жизни было полно очарования. Воскресный день они провели, как и многие другие, но им казалось, что и люди и природа — все чествуют их любовь: мир, радуясь их счастью, идет им навстречу и, улыбаясь, принимает их в свои объятия; все на земле создано для них. Париж прославляет их любовь, все, на чем останавливается их взгляд, существует, только чтобы радовать, солнце светит для них одних, они гуляют по земле, покрытой цветами…
Жак зашел утром за нею в гостиницу, и они вдвоем отправились на рынок. Они шли среди толпы обнявшись, с сияющими лицами, останавливались на каждом шагу и смеялись по любому поводу. Какая-то торговка крикнула им: «Эй, вы, влюбленная парочка, купите свежую рыбу», — и они расхохотались. Им море по колено, они счастливы.
Жаклина собиралась приготовить скромный ужин, но Жак накупил массу всего: устриц (они ведь только появились), цыпленка (Томасен позволила воспользоваться ее духовкой), ветчины (ее привезли из Байонны), букетик гвоздик (они приехали из Ниццы). И в конечном счете покупки им обошлись дороже ресторана. Но им все равно, они счастливы.
Они встретили Ирэн Фурнье. Она с двумя товарищами стояла под огромным плакатом, призывающим подписываться под протестом против перевооружения Германии. Среди рыночного шума и выкриков торговцев выделялся мужской голос, привлекавший внимание прохожих: «Сегодня в Западной Германии происходят выборы. Француженки и французы, протестуйте против создания нового вермахта!»
Какое им дело до вермахта, они счастливы.
— Милые мои, чего же вы не подписываетесь, — обратилась к ним какая-то женщина, протягивая карандаш.
— Уже подписали, — сказала Ирэн Фурнье. — Они входят в комитет.
Они постояли с Ирэн и предложили свои услуги, но ей не хотелось их задерживать, и она попросила Жака зайти на следующий день в помещение комитета и помочь ей. Жак был согласен на любую работу, лишь бы его не разлучали с Жаклиной.
— Кстати, — добавила Ирэн, — вы не видели моего мужа?
Луи Фурнье продавал «Юманите» у выхода с рынка. Жак познакомил его со своей невестой и купил у него газету. Заголовки сообщали о выборах в Германии и о предстоящем большом празднике в Венсене. Но что им до праздника, они счастливы.
Во вторую половину дня они пошли в маленькое кино и вернулись к ужину, но есть им не хотелось. Им было очень хорошо…
* * *
— Как весело было в Венсене, правда?
— Где?
— На празднике «Юманите». Мы вас искали, но там столько народу…
Жак вспомнил заголовок во вчерашней газете. Он ее даже не раскрыл… Сразу же после работы он отправился в комитет к Ирэн Фурнье. Она сидела в задней комнате кафе с Флери. Его попросили принять участие в подсчете собранных подписей и написать приглашения на следующее собрание комитета мира.
— Мы не были в Венсене, но зато посмотрели «Фанфан-Тюльпан», — ответил Жак.
— Вам понравилось?
— Это лучший фильм из всех, какие я видел за последнее время.
— Мы тоже нашли, что он очень хорош. Жерар Филипп дал свою подпись под протестом против ЕОС.
— Мой муж, — вмешалась Флери, — мне всегда говорил, что кино — это открытие, которое не уступает книгопечатанию, и в будущем оно заменит книгу. Умный был человек, правда? Бедняга.
Мадам Флери была та самая дама в черном, которую Жак постоянно встречал с Томасен. По ее словам, она была на десять лет старше века, и достаточно было провести с нею несколько минут, чтобы узнать всю ее жизнь; а ее жизнь длилась всего пять лет. Она рано потеряла родителей, была усыновлена крестьянской семьей. Детство и юность провела в деревне. Когда ей было двадцать лет, она познакомилась с одним землемером и вышла за него замуж. Он погиб в 1915 году в Шампани. В душе его вдовы лопнула какая-то пружина, Флери словно остановилась на одном месте, живя только воспоминаниями и думая все время о погибшем. Каждая мелочь напоминала ей о покойном, она заговаривала о нем по любому поводу и во всех своих поступках руководствовалась памятью о том, кто дал ей счастье. Она умерла бы с горя, если бы не ребенок. Его она воспитывала в преклонении перед отцом, дала ему образование, профессию, сделала из него человека, и вот этот человек в 1942 году был расстрелян немцами.
Новое горе, горе матери, потерявшей единственного сына, обрушилось на безутешную вдову и избороздило морщинами ее лицо, покрыло ее голову прекрасной сединой, вызывавшей всеобщее уважение. После окончания войны она поселилась в Париже, в квартире, где раньше жил ее сын. Его вдова вышла замуж, Флери не могла ей этого простить и отказывалась с нею встречаться. Только свидания с внучкой привязывали ее к жизни. Кроме Томасен, у нее не было друзей, но она охотно общалась с соседями, легко сходилась с людьми и каждому поверяла свое горе. Она не пропускала ни одного собрания комитета, хотя говорила, что все это ей ни к чему, так как последние две войны отобрали у нее все. Но муж и сын когда-то утверждали, что нужно думать и о других, о тех, у кого еще есть будущее…
Шарль Морен вошел в заднюю комнату кафе в тот момент, когда Флери, продолжая свой рассказ, говорила Жаку:
— Знаете, когда был убит Жан Жорес, мой муж тут же сказал: войны не миновать.
Морен был в радостном настроении. Он пожал руки присутствующим и спросил Ирэн:
— Луи не приходил?
— Нет, он на профсоюзном собрании.
— Он мне нужен. Я забегал к вам, и консьержка сказала, что ты здесь. Можешь ему передать…
Морен рассказал, что дело Беро будет рассматриваться в конце октября и комитет, образованный в его защиту в Дордони, вскоре организует в Бержераке большое открытое собрание.
— Понимаешь, это наделает шуму. Вильнуар уже подписал протест, и мы соберем еще подписи всех участников Сопротивления. Пораваль согласился председательствовать на митинге, будут выступать люди самых различных партий. Надо, чтобы Луи поехал…
— А почему именно он?
— Он был начальником Беро. Кроме того, он принимал участие в этом деле, и его вызывают в качестве свидетеля защиты.
Ирэн обещала Морену все рассказать мужу. Они еще поговорили о вчерашнем празднике и обсудили сообщения о германских выборах…
— Хорошие результаты? — спросила Флери.
— Не очень…
Жак, смущенный присутствием депутата, не принимал участия в разговоре и думал о Жаклине. Скоро она кончит работу, и он встретит ее у ресторана. День прошел спокойно. Клюзо не вызывал его к себе, и Жак уже начал надеяться, что Брисак не приведет в исполнение свою угрозу…
— Я спешу, — сказал Морен, — меня ждет Роз.
— Вчера мы ее видели издали у стенда Дордони, но подойти к ней не смогли.
— Нам пришлось закрыть в шесть часов, не хватало товара. Небывалое количество народа.
— Заходите завтра вместе с Роз. Луи будет дома.
— Хорошо, если меня ничего не задержит. Еще восемь подписей — и палата будет созвана.
Морен пожелал им удачи и ушел.
Роз приехала с мужем на праздник «Юманите» и, воспользовавшись случаем, поговорила о предстоящих родах с молодым доктором Симоненом, другом Жака Сервэ. Он работал под руководством одного крупного профессора, который после поездки в СССР решил применить метод обезболивания родов во Франции. Он ждал, когда соберет тысячу положительных результатов, чтобы сделать сообщение на медицинском факультете. Он уже приближался к этой цифре, и о новом методе заговорили. В газетах тоже стали писать о его работе, одни поощрительно, другие с насмешкой, третьи — их было большинство — с предубеждением. Эти споры еще не привлекли внимания широких масс, мужчин этот вопрос мало волновал, а женщины в общем относились к новому методу с недоверием. Роз не сомневалась в положительных результатах, и первое свидание с доктором Симоненом еще больше воодушевило ее.
— Все в порядке. К концу года я должна буду приехать на первые занятия. До этого я раза три покажусь доктору, но это я могу сделать и в Перигё.
— А где ты будешь рожать?
— В Париже, конечно. Пока что этот метод применяется только в поликлинике металлистов с красивым названием «Васильки». Я уже записалась.
Шарль Морен невольно улыбнулся.
— Я вижу, ты не теряешь времени. Ведь тебе осталось еще шесть месяцев.
— Они ежедневно получают массу заявок, и не только от женщин нашего круга. Доктор Симонен работает в клинике шестнадцатого района — по этому методу рожают и богатые пациентки. Они беспрекословно слушаются его, не хуже простых работниц. Им это стоит несколько дороже, вот и все.
— Ну, ты довольна?
— Мне очень хочется, чтобы все произошло поскорее.
Утомившись от поездки, от праздника в Венсене и всяких дел в городе, Роз рано легла и принялась вязать крошечные шерстяные башмачки, но когда вошел Морен, она сидела на кровати, уронив вязанье на колени, и плакала. На ночном столике маленький радиоприемник передавал тихую танцевальную музыку…
— Дорогая моя, что с тобой?
— Ничего.
— Ты больна? — взволнованно расспрашивал ее Морен. — Тебе нехорошо? Ведь ты была такой веселой, когда мы с тобой расстались!
— Я здорова, но просто боюсь.
Шарль обнял ее.
— Ведь все в порядке. Держу пари, что будет мальчик, я уверен.
— Вот в том-то и дело. Только что по радио сообщили окончательные результаты: в Германии реваншисты получили большинство голосов.
XIII
Последнее собрание комитета мира превзошло все ожидания Ирэн Фурнье — присутствовало около сорока человек и среди них восемь новых членов. Правда, председательствовал профессор Ренгэ.
Как только он вернулся в город после каникул, Ирэн и Леон Бурген отправились к нему. Это было через неделю после германских выборов.
— Партия Аденауэра получила пять миллионов голосов, — сообщила Ирэн, — и большинство мест в парламенте.
В ответ профессор пожал плечами и, к удивлению своей собеседницы, сказал:
— Таких результатов и следовало ожидать, немцы в основном хотят добиться воссоединения государства, поэтому они голосуют за сильнейшую партию. Я бы даже счел, что ЕОС может удержать их в разумных рамках, если бы дело было только в этом.
С его точки зрения, основным в германском вопросе было воссоединение Западной и Восточной Германии, в то время как, судя по заявлению, сделанному Аденауэром накануне выборов, речь шла уже не о воссоединении страны, а об освобождении восточной территории…
— Это угроза новой войны в Европе, наподобие той, которая была в Корее.
Леон Бурген, вспомнив о доводах, которые приводились на собраниях комитета, вставил:
— Возможно, они не решатся напасть на восточную часть и скорее всего начнут с запада, как это было в тридцать девятом году, то есть с Франции.
— Да, молодой человек, это не исключено. Во всяком случае, если соглашения будут ратифицированы, благоразумие подсказывает нам быть готовыми к обороне. Итак, до разоружения нам еще очень далеко, не правда ли?
Профессор был рьяным приверженцем разоружения. Он согласился стать председателем комитета лишь после того, как убедился, что сторонники мира стоят не только за запрещение атомного оружия, но и за всеобщее разоружение. Руководствуясь этими же соображениями, он поддерживал и кампанию против ЕОС.
Ирэн опасалась, что многое в рассуждениях профессора будет непонятно слушателям. Но она ошиблась. Профессор заранее подготовил свое выступление. Говорил он медленно, словно читал лекцию:
— Если ЕОС будет ратифицировано, очень скоро на Рейне возникнет новая армия. Нас-то уверяют, что она создается для защиты Европы, а вот по ту сторону Рейна уже возникают завоевательские замыслы… Гитлер готовился к войне всего пять-шесть лет. В наше время сроки могут быть еще короче… Если гонка вооружений продолжится, что будет с нами? Не лучше ли, пока еще не поздно, преградить ей путь?
Флери нагнулась к Томасен.
— Как он понятно объясняет. Вот и мой муж так разговаривал со мной.
После профессора слово взял аббат Дюбрей. Он сделал, как он это назвал, краткий обзор международного положения: атомная бомба еще не пущена в ход, но и не запрещена. Американцы встретились с китайцами в Паньмыньчжоне, но в то же время Соединенные Штаты по-прежнему не хотят признать Китай. Война кончилась в Корее, но продолжается в Индокитае…
Жак, пораженный осведомленностью аббата, внимательно следил за его путешествием вокруг света, но растерялся, когда тот перешел к выборам в Федеративной Республике Германии. Все же из слов аббата он уловил, что немцы, как и французы, против перевооружения, но правительства обеих стран не намерены с этим считаться. Аббат пришел к одинаковым с профессором выводам: надо немедленно принять меры, чтобы сорвать ратификацию боннского и парижского соглашений, воспрепятствовать созданию ЕОС…
Ирэн Фурнье сделала отчет о ходе кампании по сбору подписей. «До сих пор, — сказала она в заключение, — мы собирали подписи где попало: на улице, на рынке, по соседям… Теперь нужно заняться этим более организованно, заставить высказаться каждую семью. Для этого есть один только способ: обходить дом за домом…»
Профессор Ренгэ горячо поддержал это предложение.
— Надо спорить, убеждать, — сказал он. — Вы не можете спорить на улице с прохожими, значит, подписывает только тот, кто и так уже убежден в нашей правоте. Ну а как же быть с остальными? С колеблющимися? С теми, кто проходит мимо, не останавливаясь? Вот их-то и необходимо повидать дома…
Огюст Пибаль ликовал — наконец-то признали, что он прав.
— Нужно поступить, как я говорил, организовать бригады для сбора подписей и ходить из дома в дом, из квартиры в квартиру… А пока что это делают только несколько человек.
И в самом деле, до сих пор этим занимались одни и те же люди. Леон Бурген и Пибаль посвящали обходу домов несколько часов по утрам. Томасен действовала среди лавочников. На Ирэн в основном лежал рынок… Эта четверка дала обязательство продолжать свое дело, но нужны были помощники.
Первой среди добровольцев записалась Флери. Правда, она не могла ходить по этажам, но предложила посетить несколько семей и отказалась от посторонней помощи. Кстати, она уже приступила к делу и просила это отметить.
Обе девушки, которых Жак уже видел на предыдущих собраниях, о чем-то пошептались, и одна из них заявила:
— Мы бы пошли, но только не одни.
— Боитесь? — спросил Пибаль.
— Как-то ноги подкашиваются при мысли, что надо постучаться в дверь к незнакомым.
— Ничего, мы вас поддержим с двух сторон, пока вы будете подниматься по лестнице.
Все рассмеялись.
Записались еще двое. Один из них впервые пришел на собрание. Второй, старый член комитета, поставил условие, чтобы его не посылали к жителям улицы, на которой он живет, так как его все знают.
— Тем лучше, тебе же будет легче, — сказал Пибаль.
— Нет, мне это может повредить на работе.
Никто не стал настаивать.
Ирэн записывала добровольцев и наблюдала за теми, кто еще колебался.
— Больше нет желающих? А ведь у нас сегодня много молодежи.
— Запишите меня, — сказала Жаклина.
Жак, которому и без того уже было не по себе, похолодел.
— Только я тоже не знаю, как за это браться, включите меня в бригаду, — попросила Жаклина.
Леон Бурген поспешно предложил свои услуги.
— Мадмуазель, я вас буду сопровождать.
Аббат Дюбрей сказал, что его, как члена руководства национального движения за мир, почти каждое воскресенье посылают в провинцию, но в свободное время он охотно будет принимать участие в работе бригады. Алжирец Абдераман взял на себя обязательство собрать подписи среди своих соотечественников, живущих в одном с ним районе Парижа. Он с ними был знаком.
— Запишите меня, — попросил Жак.
— Можно подумать, что его отправляют на бойню, — прошептал Пибаль на ухо соседу.
* * *
Шел дождь. Жак видел в этом плохое предзнаменование. Он долго не мог заснуть и поэтому проспал. Всю неделю его мучила мысль о предстоящем предприятии, в котором он с большой неохотой согласился принять участие. При Жаклине он держался спокойно, самоуверенно, словно ему все нипочем, но на душе у него было тревожно.
А тут еще Жаклина, ничего не утаивая, поделилась с ним своим беспокойством и этим усилила его волнение. Она рассказала, как в детстве сопровождала мать в походах по квартирам, но тогда у них была совсем иная цель: они собирали деньги на пострадавших от войны, на организацию праздника в квартале, на стачечников. Тогда было другое дело: люди ее знали, кроме того, она была девочкой… Теперь же предстояло просить совершенно чужих людей подписать протест и в случае необходимости переубеждать их. Вот с этим она боялась не справиться.
— Ладно, видно будет. Правда, я много узнала на этом собрании, но вот изложить все это… Ну ничего, ты мне поможешь…
Жака не так страшил сам разговор, он почти ежедневно обсуждал все эти вопросы со своими товарищами по работе, но он не знал, с чего начать. Кроме того, по правде говоря, ему было стыдно ни с того, ни с сего врываться к чужим людям. Он находил это унизительным, словно он нищий и просит милостыню…
Он и Жаклина по воскресеньям были заняты на работе, и у Жака мелькнула было надежда, что из-за этого они не будут включены в бригады и кончатся все его тревоги. Но Леон Бурген отрезал им путь к отступлению.
— Когда вы оба свободны?
— По четвергам.
— Великолепно. В четверг у меня лекции с одиннадцати часов; мы сможем отправиться пораньше. В нашем распоряжении будет все утро.
Они условились встретиться в восемь часов утра в том же кафе, где обычно проводились собрания комитета. У Жака не оставалось времени, чтобы зайти в гостиницу за Жаклиной, и он отправился прямо в кафе, надеясь в душе, что из-за отсутствия Жаклины Бурген отложит всю эту затею до другого раза. Но они оба оказались на месте и беседовали у стойки. С пластмассового плаща Жаклины стекали ручьи, по-видимому, она только что пришла.
— Ты уже здесь?
— Хорошо, что я не стала тебя дожидаться, — рассмеялась Жаклина.
— Я проспал.
— Не страшно, — сказал Бурген, — у нас еще много времени. Кстати, можно я тебе буду говорить «ты»?
— Конечно, — ответил Жак и тут же в подтверждение своего согласия сказал:
— Ты что будешь пить?
— Кофе.
— С чем?
— Просто кофе.
— А ты, Жаклина?
— То же самое.
Жак непринужденным тоном заказал:
— Три стакана кофе и рюмку коньяку.
— Это ты для храбрости? — спросил Леон.
— В такой дождь необходимо согреться. А ты в самом деле ничего не хочешь?
Леон Бурген отрицательно покачал головой и изложил план дальнейших действий.
— В общем нечего мудрить, давайте прямо начнем с того конца улицы, который подходит к Люксембургскому саду. Главное, вести себя естественно. Бывает, что консьержка спрашивает тебя, куда ты идешь. Надо назвать фамилию одного из жильцов и спокойно подняться по лестнице.
— А как же мы узнаем фамилии?
— У меня уже несколько фамилий записано, я их взял из избирательных списков.
Да, Бургена ничем не собьешь с толку. Он был маленького роста, курносый, с живыми, хитрыми глазами. Внешне и по своему характеру очень похож на Огюста Пибаля, но моложе его и, как студент, гораздо образованнее. Кроме того, они были разного происхождения. Мать Бургена торговала церковной утварью в лавочке рядом с церковью Сен-Сюльпис, да и сам он в ранней юности был членом общества христианской молодежи. Вовлек его в комитет мира аббат Дюбрей. Бурген сразу развил большую деятельность, принимал горячее участие во всех обсуждениях и, по мнению Жака, был даже слишком предприимчивым, особенно с девушками. Но, во всяком случае, несмотря на то, что ему было всего девятнадцать лет, у него был большой опыт работы. Огюст Пибаль, разбиравшийся в этом деле, считал, что он мастерски собирает подписи по квартирам. В присутствии Бургена Жак почувствовал себя увереннее. Он взял Жаклину под руку, и они вышли на улицу вслед за Бургеном.
Они молча зашагали под дождем и остановились в конце одной из улиц, у самого Люксембургского сада. На углу возвышался дом с балконами, к нему примыкал более скромный дом, судя по внешнему виду, и Бурген, как генерал, выбирающий поле для битвы, остановил свой выбор на нем.
— Для начала он нам больше подойдет.
Они поднялись на пятый этаж, не встретив ни души. На площадку выходило три квартиры. Студент без раздумья позвонил в первую дверь. Жаклина машинально пригладила свои черные локоны и прикусила губу. Жак посмотрел на часы: было ровно восемь часов тридцать минут. На звонок никто не отзывался.
— Может быть, слишком рано? — сказал Жак.
Бурген дал более продолжительный звонок.
— Да, начало неважное, — рассмеялась Жаклина.
— Позвоним в соседнюю дверь, — невозмутимо сказал Бурген. В этот момент на лестнице послышались шаги. Появился человек лет сорока, типичный холостяк, с батоном хлеба под мышкой, в неглаженой рубашке. Он остановился и, слегка запыхавшись, спросил:
— Вы ко мне?
— Да, — ответила Жаклина.
Жак, несмотря на свое смущение, все же заметил, что холостяк ничего не имеет против гостей. Он не спеша достал ключ из кармана, приговаривая при этом, что невежливо принимать людей на лестнице, тем более даму.
Они прошли в большую комнату, где царил неописуемый беспорядок. Хозяин с тем же спокойным видом схватил кресло за спинку, вытряхнул из него кошку, которая спала, зарывшись в газеты, и пододвинул его Жаклине, предлагая молодым людям самим очистить себе стулья.
— Мадам или мадемуазель, не знаю, как к вам обратиться…
Жаклина, поколебавшись секунду, сказала: «Мадемуазель».
— Итак, мадемуазель, я вас слушаю…
Жаклина бросила на Бургена взгляд тонущего человека, но все же невнятно пробормотала:
— Так вот… мы по поводу ЕОС… мы собираем подписи тех, кто против…
— А что это за ЕОС?
Жаклина окончательно растерялась, но Бурген пришел ей на помощь. Он пустился в пространное объяснение, а хозяин слушал, покачивая головой, и наконец прервал его:
— Значит, мадемуазель, вы считаете, что ЕОС опасная штука?
— Да, она может нас вовлечь в войну.
— Вот тебе и на! Только этого не хватало. Знаете, меня давно уже не интересуют женщины, но все-таки совсем не хочется становиться под пули.
Лед тронулся. Этот в общем чужой человек, с которым они всего несколько минут тому назад встретились, рассказал им всю свою жизнь. У него была невеста… [ «Пожалуй, такая же прелестная, как и вы… она была еврейка… ее арестовали, как и всю ее семью. Потом Дранси, лагеря, и она не вернулась…»]
Молодые люди не знали, что ему на это ответить.
В комнате порядок был наведен только на маленьком столике у окна, на нем стояла фотография улыбающейся девушки и перед снимком, в вазочке, три маргаритки…
— Конечно, я вам дам свою подпись…
На лестнице Леон Бурген сказал:
— Замечательный парень, он просто создан для нашего комитета.
У Жака стоял комок в горле…
Соседнюю дверь открыла маленькая женщина с круглым, милым лицом. Первой заговорила Жаклина:
— Доброе утро. Мы пришли поговорить с вами об одном очень важном деле и попросить вас подписать…
Женщина отпрянула.
— Я ничего не подписываю…
Вмешался Леон.
— Мадам, вы, наверное, замужем… если ЕОС будет создано, вашего мужа могут услать далеко от дома…
— Мой муж в погребе. Да вот и он сам.
Огромный детина, настоящий геркулес, оглядел их и не ответил на приветствие.
— Они пришли, чтобы ты подписал… сейчас они тебе объяснят… Простите, но мне надо на кухню…
Леон только успел сказать несколько слов, как атлет, побелев, угрожающим жестом показал им на дверь и крикнул:
— Вон!
— Свихнулся малый, — сказал Леон, когда они вышли на площадку.
Жаку нанесенное оскорбление придало решимости, и он позвонил в третью дверь… Толстая женщина с засученными до локтя рукавами возмущенно посмотрела на них, говоря всем своим видом, что она не выносит незваных гостей.
— Мы хотим попросить вас подписать… — начал Жак. — Надо сорвать ЕОС…
— Очень сожалею, но мужа нет дома… А я не разбираюсь в политике…
— Сударыня, создание ЕОС даст Германии право перевооружиться… И может снова вспыхнуть война…
Толстуха убежала подкрутить газ под баком с бельем и вернулась, вытирая руки.
— Ну, раз это против войны, так дайте мне вашу бумагу… Мы были в эвакуации… наш дом разрушен бомбежкой…
Увидев одну только подпись холостяка, она заколебалась. Леон Бурген показал ей другие листы, заполненные фамилиями, и объяснил:
— Ваш дом мы только начали обходить.
— Надеюсь, вы не были у моих соседей? Этот жилец сотрудничал с оккупантами.
— Мы только что от него…
— Ну, детки, вы достойны уважения, если такие мерзавцы не отбивают у вас охоты… Ладно, раз вы боретесь против войны, я подпишу, чтобы вы не ушли с пустыми руками. А уж за подписью мужа вам придется еще раз прийти. Да вам, наверное, не привыкать?
— Конечно, — ответил Жак.
Он вышел с торжествующей улыбкой. Это была его первая победа.
— Видишь, не так уж это трудно, — сказал ему Леон. — С женщинами всегда так: они или подписывают, или просят зайти попозже, чтобы застать мужа.
Они спустились этажом ниже. Им открыла маленькая старушка, которую так и хотелось назвать бабушкой. Она любезно пригласила их:
— Входите, дорогие. Чем могу быть вам полезна?
Леон подмигнул Жаклине, предлагая отвечать.
— Сударыня, над нами нависла огромная опасность, — начала девушка.
— Деточка, говорите громче, я глуховата.
— Над Францией нависла большая опасность… Районный комитет защиты мира поручил нам собрать подписи против ЕОС… ЕОС — это…
— Я знаю, что это такое.
— Ну, раз вы знаете, вы не откажетесь подписать наш протест.
Старушка с сомнением покачала головой.
— Вы очень молоды и, по-видимому, мужественная девушка, раз вас не отпугивает хождение по этажам. Значит, вы в это верите, вы и ваши друзья?
— Верим.
— А я, видите ли, старая женщина и знаю, что подписями ничего не добьешься. Мой муж погиб в шестнадцатом году. Он знал, что воевать люди будут всегда. Мой сын был убит в сорок четвертом году, в момент освобождения… Вы не обратили внимания на мемориальную доску на воротах Люксембургского сада? Там его и подобрали… Так вот, несмотря ни на что, все повторяется… дурные люди живы, они жаждут мести… они хотят получить в свое распоряжение весь мир, да еще и луну и звезды в придачу…
Старушка взяла листок с текстом протеста. Бургену показалось, что она собирается его вернуть, и он поспешно сказал:
— У нас есть еще подписи… заполненные уже листы, мы можем вам их показать… у нас тысячи подписей… Этот протест мы подадим депутатам, и если все его подпишут, они вынуждены будут считаться с нашей волей…
— Значит, вы их пошлете депутатам? Неплохая мысль. Я думала, вы собираетесь оставить эти листы у себя, а общий итог напечатать в газете.
«Видимо, она читает «Юманите», — решил про себя Леон и добавил:
— Я убежден, что ваш муж и ваш сын, который погиб героем, посоветовали бы вам дать свою подпись.
— Я и не отказываюсь. Пройдите в гостиную, я возьму очки.
Она подошла к окну и попросила Жаклину:
— У вас хорошее зрение, посмотрите, не играют ли дети на тротуаре?
— Нет, никого не видно.
— Жалко, один мальчик всегда выполняет мои поручения, мне ведь трудно ходить…
— Если вам нужно что-нибудь купить, я могу сбегать…
— Очень хорошо, принесите мне хлеба. Подождите, вот деньги.
Жаклина проворно спустилась вниз и столкнулась с консьержкой.
— Вы откуда?
По ее виду Жаклина сразу догадалась, что кто-то ей пожаловался. По-видимому, геркулес с пятого этажа. И она откровенно рассказала о цели своего прихода…
Консьержка зазвала девушку в свою комнату и предупредила ее:
— Говорите потише. Наш Адольф уже поднял крик.
— Ваш Адольф? Кто это?
— Так его прозвали жильцы. Болван, с которым никто не разговаривает.
Жаклина рассмеялась.
— Да, этот господин не отличается любезностью.
— Вы снисходительны. Во время войны он был любезен и даже слишком, поверьте мне. Он перекинулся к фрицам и носил их форму. А сейчас работает шпиком или чем-то вроде этого…
Жаклина ушла за хлебом и на обратном пути снова встретилась с консьержкой.
— Кстати, перед уходом зайдите ко мне с вашим листом, — сказала та. — Боже мой, не стучите каблуками по лестнице. Адольф способен вызвать фараонов… я хочу сказать — полицейских.
— Мы можем продолжать?
— Только действуйте тихо. Ну а в случае чего — я вас не видела…
Старушка горячо поблагодарила Жаклину. Она не только дала свою подпись, но еще обещала принять участие в какой-нибудь делегации при условии, если не надо будет далеко идти и если за ней зайдут. Когда они уже вышли из квартиры, старушка неожиданно открыла дверь и тихо предупредила:
— Только не ходите к Адольфу. Он живет этажом выше, средняя дверь.
— Мы знаем, спасибо. А с вашим соседом вы знакомы?
— Тоже не сахар.
— Нас выставят?
— Нет, но у него вы ничего не получите. Он читает «Фигаро».
Посоветовавшись, они решили оставить этого жильца напоследок. Предстояло еще побывать в семи квартирах. Особых происшествий у них больше не было. Две молодые женщины приняли их довольно любезно, но попросили зайти попозже, когда мужья вернутся с работы. В двух квартирах им не открыли — наверно, никого не было дома. В остальных трех все подписали без разговора: двое стариков, одинокая женщина и инвалид, который подписал не только за себя, но и за своих двух сыновей. После этой удачи они решили отправиться к читателю «Фигаро».
Им открыла дверь изящная девушка и провела их в комнату.
— Прошу вас подождать, вы пришли слишком рано. Мсье сейчас вернется.
Они с недоумением переглянулись и еле удержались, чтобы не расхохотаться. Комната напоминала зубоврачебный кабинет. Стояло какое-то странное кресло, на столе были разложены всевозможные инструменты; в застекленном шкафу красовалась масса флаконов и сосудов; на стене висели дипломы. Жаклина вспомнила о вывеске «Педикюр» на дверях, вызвала горничную и объяснила ей, что, по-видимому, произошло недоразумение, они пришли поговорить и не собираются делать педикюр.
Девушка, покраснев, извинилась и провела их в маленькую гостиную.
Наконец пришел хозяин квартиры, очень симпатичный человек лет пятидесяти, одетый с иголочки. Он вежливо выслушал Леона Бургена, но ответил очень сдержанно. Что это за ЕОС, он не знает. О перевооружении Германии он слышал много, но разве она еще не вооружилась? Конечно, он против войны, как, впрочем, и все.
— Понимаете, политика не моя область. Мне некогда заниматься такими вещами…
— Но вы читаете газеты? Слушаете радио? Сейчас много говорят об этих вещах.
— Знаю, меня они не интересуют. Меня больше привлекает театральная страничка, да еще автомобильная выставка. А ваше ЕОС, видно, поганая штука, раз люди против нее. Но что поделаешь?
— Вы совершенно правы, это поганая штука, опасная для Франции, — и Леон постарался как можно понятнее все объяснить. Если ЕОС будет ратифицировано, а это может произойти, как говорят, осенью, то весной будет создан новый вермахт. Конечно, наименование будет другое, но немецкие генералы получат право командовать французскими солдатами в так называемой европейской армии…
— Нет, я сам офицер запаса и уверяю вас, что французы никогда не потерпят такого унижения.
— Мы тоже так думаем, но для этого нужно сорвать создание ЕОС.
— Предположим, что все это так, — несколько оживляясь, сказал педикюрщик. — Предположим, что Франции в самом деле угрожают… В таком случае надо поднять шум, надо об этом кричать, оповестить всех…
— Но мы это и делаем, — вставила Жаклина.
— Недостаточно, мадам, недостаточно. Взять хотя бы меня — я об этих вещах слышу впервые. Нужно действовать гораздо активнее и беспрерывно говорить об этом. Вы должны побывать всюду, отправиться к людям на их работу, останавливать прохожих, убеждать пассажиров метро, потолковать с лавочниками… Вот, мадам, как надо действовать. Да и в нашем доме вы обязаны обратиться не только ко мне, а собрать всех жильцов, рассказать и им о нависшей угрозе. Убежден, что вам это не пришло в голову.
Леон Бурген опешил, но хозяин был так увлечен, что не давал вставить слова.
— Вы думаете, как я набрал клиентуру? Не знаете? Говорил о себе направо и налево, знакомился с людьми, а потом они уже сами заговорили обо мне, сообщили мой адрес своим друзьям, так и пошло. А в начале у меня никого не было… Сейчас я еле справляюсь с работой. Даже подыскиваю себе помощника… Может быть, у вас кто-нибудь найдется?
— Да, вы внесли замечательное предложение, — прервал его Леон. — Мы не подумали о собрании жильцов.
— Великолепная идея! — с искренним восторгом воскликнула Жаклина. — И вы, конечно, придете?
— Если вы не возражаете, мы зайдем к вам в другой раз, чтобы посоветоваться, как организовать это собрание, — сказал Леон.
— А пока дайте мне одну петицию, я ее покажу своим клиентам.
Он сам проводил их до дверей и всучил им пачку своих визитных карточек.
— Возьмите, они могут вам понадобиться.
— И все-таки он не подписал, — заметил Жак, когда они вышли.
— Подпишет, — ответил Леон, — и мы еще проведем это собрание. Я порекомендую его одному моему приятелю, и тот поможет нам довести дело до конца.
Они подытожили результаты своего похода: подписали одиннадцать человек, включая консьержку. У семерых или восьмерых, возможно, еще удастся получить подпись. Вдобавок намечено собрание. И только один отказ.
На все это у них ушло немногим больше часа. Жаклине казалось, что они сделали мало, а Леон был в восторге.
— Дело не в количестве, а в качестве, — сказал он. — Если хотите, можем еще продолжить наше занятие.
— Я собирался предложить то же самое, — ответил Жак. — Почему бы нам не отправиться в угловой дом?
— Там, наверное, большие квартиры, много прислуги, а у нас мало времени… Попробуем все-таки в верхнем этаже.
Они сели в лифт и позвонили в первую же квартиру. Им открыл дверь аккуратно одетый господин в очках и провел их в кабинет. Он был похож на учителя. Жаклина и Жак сочли благоразумным дать говорить Леону… Но учитель прервал его:
— Нечего мне рассказывать сказки. Вы боитесь не только за Францию, но и за ваш дорогой Советский Союз! — Полюбовавшись произведенным эффектом, он насмешливо продолжал: — Благодаря ЕОС, видите ли, капиталистический мир только станет сильнее. Я вас понимаю…
Он явно забавлялся и, взглянув на Жаклину, добавил:
— Конечно, я подтруниваю над вами, но я прав. Совершенно естественно, что вы, коммунисты, встаете на защиту первого социалистического государства. Кстати, вы, наверное, именно так бы и ответили, не опереди я вас.
Но Леон Бурген не сдался.
— Я должен вам сказать, что среди нас нет членов коммунистической партии. У мадмуазель отец был брошен в тюрьму немцами, отец моего товарища попал в плен в Германию, а мой погиб…
— Не сердитесь, молодой человек, Франция — свободная страна, и вы имеете право отстаивать свои убеждения, даже если вы и коммунист. Мне это не мешает. Но я хотел вам показать, что я все великолепно понимаю. Ведь вы со мной разговариваете не от имени Комитэ де форж?
— Нет, мы пришли по поручению комитета мира.
— Великолепно. Ну а в вашем комитете, естественно, Советский Союз не осуждают?
— Зачем? Он никому не угрожает.
— Но у Советского Союза тоже есть солдаты, армия, атомная бомба… Не отрицайте хотя бы, что он готовится к обороне.
— А остальные страны?
— Вы хотите сказать — американцы? Да, у них тоже немало торговцев пушками… На мой взгляд, они хотят, чтобы дрались другие, а они будут продавать им оружие… — он усмехнулся.
— Я думаю, в один прекрасный день они вынуждены будут все свое добро отправить в стратосферу или создать в Тихом океане новые острова, чтобы избавиться от своего оружия. Нечто наподобие мусорного ящика…
Все рассмеялись.
— Я люблю пошутить, но на самом деле я гораздо серьезнее, чем кажусь. Мне бы хотелось пораздумать над вашей просьбой на досуге и проглядеть соответствующую литературу. Вы, наверное, можете мне ее дать?
Но они ничего не захватили с собой, и Жаклина предложила принести эти материалы попозже.
— Только не слишком много, мне все-таки кое-что уже известно. Видите ли, дорогая моя начинающая общественница, я бы ратовал за разоружение всех стран…
— Ваше стремление отвечает стремлениям движения за мир, — ответил Леон, — а ЕОС преследует как раз противоположную цель.
— Возможно. Принесите вашу литературу. Я бы не прочь также познакомиться с высказываниями Советской России по вопросу о Европе. Во всяком случае, выдвинутая ЕОС маленькая Европа — нелепость…
Кто-то постучал в дверь.
— Вы меня извините, но ко мне пришел ученик, — сказал хозяин квартиры. — Мне сейчас некогда продолжать наш разговор. Приходите ко мне в другой раз. Я преподаю английский и немецкий языки.
Пожимая им руки, он добавил все в том же насмешливом тоне:
— Это легче, чем учить русскому.
В соседнюю квартиру им даже не пришлось звонить. Молодая блондинка в плаще, сшитом по последней моде, стоя у дверей, искала в сумочке ключ. Она так приветливо посмотрела на Жаклину, что та, осмелев, обратилась к ней:
— Мы собираем подписи жильцов дома под протестом против перевооружения Германии…
— Я уже подписала.
— Может быть, не то? У нас речь идет о ЕОС.
— Кажется, так оно и называлось. Пожалуйста, покажите мне ваш листок.
Она внимательно прочитала текст протеста и с милой улыбкой его вернула.
— Именно это я и подписала. Недавно ко мне приходил водопроводчик и дал мне такую же бумажку. Почему вы смеетесь?
— Кажется, я с ним знакома. Маленький, растрепанный?
— Да, да.
— В таком случае прошу извинения. Он член нашего комитета. Значит, он нас опередил.
— Если хотите, я могу подписать и ваш листок.
— Зачем же, раз вы уже дали свою подпись.
Леон вспомнил, что Пибаль, рассказывая о своем похождении, добавил, будто у этой женщины не то муж, не то любовник депутат. Может быть, водопроводчик и прихвастнул? Но она была такая хорошенькая и приветливая, что Леон решился:
— Можно вас попросить еще об одной вещи?
— Пожалуйста.
— Ваш муж депутат. Скажите ему, чтобы он не голосовал за ЕОС. Французы не желают…
— Хорошо, я поговорю…
Все трое спустились вниз, но на улице Леон попрощался, он спешил на лекцию.
Дождь продолжался. Жак взял Жаклину за руку, и они побежали…
* * *
Блондинка вошла в переднюю, сняла плащ и, стоя у зеркала, причесала слегка намокшие волосы. Из комнаты донесся голос Анри Вильнуара:
— Маринетта!
Она молча вошла в спальню, села в кресло, положила ногу на ногу и закурила сигарету. Только тогда она спросила:
— Господин министр желает меня видеть?
— До чего же ты ребячлива!
Поговаривали о преобразовании кабинета, и Вильнуар надеялся на этом выиграть, тем более что Маринетта обещала, если он станет министром, взять развод и выйти за него замуж. Элен вернулась в Перигё и, казалось, образумилась. Правда, Вильнуар ожидал еще нескольких сцен, но самое трудное было позади. Элен теперь все знала. И, что еще важнее, Вильнуар-отец, поставленный в известность о намерениях сына, одобрял их. Главное теперь — избежать скандала. Элен будет неплохо обеспечена… Дети поедут учиться в лицей, а каникулы будут проводить с матерью. В общем Анри ни в чем не мог себя упрекнуть. Наконец, в сорок четыре года судьба ему улыбнулась.
Он встал из-за своего маленького письменного стола, чтобы подать Маринетте пепельницу, и, воспользовавшись случаем, поцеловал ее в затылок.
— Скажи, с кем ты разговаривала?
— С молодыми людьми.
— С молодыми людьми?
— Да, и с ними еще была очаровательная девушка.
— Чего они от тебя хотели?
— Ничего особенного, мою подпись.
— Для чего?
— Против ЕОС.
— И эти тоже! Надеюсь, ты не подписала?
— А почему? Нечего на меня так смотреть, вот уже три месяца, как я это сделала.
— И ты еще смеешься?
— По-твоему, я должна плакать?
— Но это же глупо. Кампанию проводят коммунисты.
— Знаешь, они слишком милы для коммунистов.
— Больше ни о чем они тебя не просили?
— Просили.
— О чем?
— Передать тебе, чтобы ты не голосовал за ЕОС.
— Они меня знают?
— По-видимому.
— Только этого недоставало. Они способны поднять шумиху в своей газете.
— Ну а честно говоря, как ты сам относишься к сообществу?
— Скорее отрицательно.
— Такой ответ меня не устраивает. Нужно оно французам? Да или нет?
— Нет.
— Значит, я правильно поступила.
— Подписывать не стоило.
— Почему?
— Я уже тебе объяснил, ты играешь на руку коммунистам.
— Но ты же сам сказал, что не одобряешь ЕОС.
— Да. Но из этого не следует, что нужно голосовать против.
— Я ничего не понимаю.
— Знаешь, в политике не так-то все просто…
XIV
— Мсье Ренгэ, вылетающий в Брюссель… — вызывали громкоговорители вокзала Инвалидов.
Это объявление привлекло внимание только трех человек, а именно: Ирэн Фурнье, Леона Бургена и депутата Сержа де Мулляка.
Вокруг шли обычные перед отлетом самолета приготовления. У окошек толпился народ, служащие авиакомпаний с подчеркнутой предупредительностью встречали пассажиров, на чемоданы вешались этикетки с названиями всех городов мира, на щите вспыхивали все новые надписи, приглашая вас лететь в Нью-Йорк, в Каир, в Лондон, в Дакар…
Ирэн не стоялось на месте от волнения. Она окинула взглядом зал в надежде увидеть среди прибывающих того, кого вызывали громкоговорители, и, не выдержав, снова подошла к окошечку «Эр-Франс».
— Мадмуазель, я сопровождаю профессора Ренгэ. Он должен прибыть с минуты на минуту…
Стюардесса ободряюще улыбнулась.
— У нас еще есть немного времени, но хорошо, если бы он поторопился. Автобус отправляется через несколько минут.
— А если он опоздает?
— Тогда пусть едет в Буржэ.
— Вы думаете, он поспеет?
— Наверняка. Ваш самолет отлетает только в одиннадцать часов.
Таким образом, у них оставалось еще больше часа. Значит, не все потеряно. Ирэн пошла было звонить по телефону, но ее пугала перспектива разговора с женой Ренгэ; кроме того, ей могли сообщить, что профессор передумал, и она решила позвонить в последнюю минуту.
Всю эту неделю она жила в постоянной тревоге. То ее окрыляла надежда, то терзали сомнения и преследовал страх, что в конце концов все сорвется. Началось с того дня, когда ее вызвали на улицу Пирамид. Один из руководителей Национального движения за мир попросил ее, если она может, девятого октября вылететь вместе с профессором Ренгэ и депутатом де Мулляком в Прагу. Это было для нее полной неожиданностью, и она не сразу ответила, думая, что произошло недоразумение или она чего-то не поняла.
— Там состоится конференция, и нам предложили прислать на нее своих представителей, — объяснили ей.
— Почему же вы выбрали именно меня? — удивленно спросила Ирэн. — Ведь у меня нет никаких заслуг.
— На конференции будет обсуждаться германский вопрос, а ваш комитет занял одно из первых мест в проводимой кампании. Кроме того, хорошо, чтобы в делегацию входила женщина…
Ирэн с трудом поверила в свое счастье. Она уже заранее представляла себе, как удивится Луи, когда она ему вечером сообщит: «Знаешь, я улетаю в Чехословакию». — «Ты смеешься!» — ответит муж. «Правда, уверяю тебя». Нет, это несбыточная мечта, все сорвется… Де Мулляк был одним из руководителей Национального движения за мир, и она понимала, что из-за него никаких затруднений не будет, а вот с профессором Ренгэ — дело другое.
И хотя ее уверяли, что все будет в порядке и он не откажется от приглашения, она лично не была в этом уверена. Его кандидатуру как будто бы предложил руководству Национального совета мира аббат Дюбрей. К ней отнеслись в высшей степени положительно. Профессор пользовался авторитетом в научном мире, кроме того, он не раз показал себя как рьяный противник войны и был председателем одного из комитетов мира… Самое трудное, считала Ирэн, получить его согласие. Ей-то и поручили вести с ним переговоры, сославшись на то, что она с ним встречалась. Ее предчувствия оправдались: уломать старика оказалось нелегко.
Первое ее свидание с Ренгэ произошло в его кабинете в присутствии Леона Бургена.
— Скажите, а почему меня хотят туда послать? Я не вхожу в Национальный комитет и несколько раз уже повторял, что не хочу в него входить. Значит, у меня нет права выступать от его имени…
— Но вы же принимаете участие в движении мира.
— Я работаю в Коллеж де Франс, мадмуазель. Моя частная жизнь никого не касается, но на поездку за границу я должен получить разрешение министра.
— Вы же будете отсутствовать только субботу и воскресенье.
— Правильно, но эти дни я проведу в Праге.
Ирэн, чувствуя, что все рушится, набралась храбрости и сказала:
— Я не понимаю, чего вы опасаетесь.
Профессор рассмеялся.
— Не воображайте, что я чего-то боюсь. В отличие от некоторых я не боюсь, что меня не выпустят обратно.
— Я не это имела в виду.
— Меня не страшит и порицание моего министра. Но почему посылают именно меня?
— Ваше присутствие придаст делегации вес.
— Не требуйте от меня слишком многого, я столько раз просил вас об этом. А собственно говоря, что это за конференция?
Профессор задал множество вопросов, сказал, что нужно подумать, и Ирэн пришлось навестить его еще несколько раз… В конце концов, после длительного колебания, после того, как он посоветовался с несколькими друзьями и среди них с Жолио-Кюри, он дал согласие, но при одном условии:
— Вокруг моей поездки не поднимайте шума.
— В каком смысле?
— Никаких фотографий в газете, никаких заголовков с моей фамилией. И чтобы по возвращении не было ни одной статьи, ни одного интервью, в которых от моего имени будут говориться вещи, которых я не высказывал.
— Но если появится отчет, как же избежать упоминания о вас?
— Ладно, на это я согласен, но чтобы больше нигде обо мне не писали.
Накануне отъезда Ирэн снова пришла к нему, чтобы вручить ему билет на самолет и условиться о встрече. Профессор нервничал, но не высказал никаких возражений, и она, боясь, что он в последнюю минуту передумает, поспешила уйти. Теперь она об этом сожалела. Поговори она с ним, возможно, сейчас не пришлось бы так волноваться…
Ирэн, наведя справки в окошечке, вернулась к Леону Бургену и де Мулляку. У депутата весь багаж состоял из кожаного портфеля.
— Надо было пригласить его жену, — сказал де Мулляк, тоже обеспокоенный отсутствием профессора.
— Я думаю, она бы отказалась, — возразила Ирэн.
— Все равно, надо было это сделать приличия ради. Может быть, он боится ездить без нее. А что мы будем делать, если он не приедет?
Этот же вопрос мучил Ирэн. Она уже подумывала, не следует ли в этом случае и ей остаться. Остаться, когда она уже вот-вот должна была улететь! Ирэн готова была заплакать. Хорошо, что ей пришло в голову попросить Леона Бургена проводить ее. Ему можно было поручить связаться с Национальным комитетом, узнать, какие будут указания, и передать ей ответ в Бурже. Если профессор появится после отхода автобуса, Бурген его отвезет на аэродром в такси. Но сперва нужно попытаться дозвониться Ренгэ. Ирэн направилась к телефонной будке, и в этот момент Леон крикнул:
— Вот он!
Ирэн и Леон бросились навстречу профессору. Тот шел по залу за носильщиком. Несмотря на сравнительно теплую погоду, Ренгэ был в пальто, которое могло защитить и от сибирских морозов.
— Меня задержала жена. Все читала наставления, как будто я уезжаю навсегда. И это повторяется перед каждым моим отъездом.
Ирэн занялась регистрацией его багажа. У профессора был огромный чемодан, который потянул точно столько килограммов, сколько полагалось по норме. Матерчатую сумку он решил оставить при себе.
Де Мулляк снял шляпу и представился.
— Господин профессор, я много слышал о вас, но не имею счастья быть с вами знакомым.
Профессору понравился этот высокий, изысканно вежливый молодой человек с тонкими чертами лица, и он откровенно поделился с ним своими волнениями.
— Знаете, меня тревожит эта поездка. Я не очень хорошо понимаю свою роль…
Громкоговорители снова кого-то вызывали…
— Это нас, — сказала Ирэн. Теперь, когда все уладилось, она боялась, что автобус уедет без них.
Леон Бурген попрощался, пожелав им счастливого пути.
— Боже мой! — воскликнул профессор, когда автобус тронулся. — Кажется, я забыл очки.
Он похлопал себя по карманам. К счастью, очки, а с ними и пилюли против укачивания оказались в пальто.
— Видите, жена обо всем подумала…
На аэродроме он спросил де Мулляка, не будет ли неприятностей на чешской границе.
— Почему?
— У меня с собой фотоаппарат и разные материалы.
— Литература их не интересует.
— Значит, я могу взять с собой газеты?
— Конечно.
Ирэн еще не летала и со смешанным чувством любопытства и беспокойства ждала отлета. Самолет медленно пересек поле и остановился. Когда все пассажиры заняли свои места, летчик включил один за другим все четыре мотора, самолет затрепетал, как скаковой конь, и, увлекаемый стремительной силой пропеллеров, покатил все быстрее и быстрее… Ирэн глядела, как убегает трава вдоль дорожки, и ей казалось, что она стремительно несется вперед… Еле ощутимый толчок — и огромная птица оторвалась от земли. Под ней поплыли зеленые ковры аэродрома и прилегающих полей… Самолет набрал высоту, нырнул в облака, вышел из них и понесся под яркими лучами солнца на фоне голубого неба.
— До чего же нелепо лететь через Брюссель, чтобы попасть в Прагу, — говорил профессор де Мулляку.
— Прямое сообщение прервано с пятьдесят первого года.
— Знаю. И сделали это мы. А еще говорим о железном занавесе!
Ирэн сидела у окошка и, рассеянно слушая разговор, любовалась расстилавшимся внизу бесконечным морем белых хлопьев… На мгновение ей показалось, что испортились моторы, но ее попутчики как ни в чем не бывало продолжали беседовать. У нее отлегло от сердца, только когда в приоткрытую дверку она увидела, что радист в кабине спокойно закуривает сигарету… За те пятьдесят минут, что длился перелет, у нее была еще минута испуга, когда самолет с приглушенным гулом пробивался сквозь туман, разрывая его в клочья и с безумной скоростью разбрасывая их по обе стороны своего корпуса.
— Господа пассажиры, прошу вас надеть пояса, — сказала стюардесса.
— Что случилось? — обеспокоенно спросила Ирэн.
— Мы сейчас будем приземляться.
В Брюсселе они пересели на самолет «Сабены» и благополучно долетели до Праги.
В пути им подали холодный завтрак. Ирэн дремала под мурлыканье моторов. Профессор спал почти всю дорогу. Де Мулляк читал детективный роман. Незадолго до посадки он пересел к Ирэн:
— Мы летим над Богемией.
— Откуда вы знаете?
— Здесь своеобразный пейзаж: равнины, холмы, поля и леса. Зимой все покрывается снегом и только изредка мелькают темные пятна — это еловые леса.
Самолет постепенно снижался. Яркий свет, исходивший от очистившегося неба, подчеркивал разнообразие красок осеннего пейзажа. Прямые, словно натянутые струны, дороги скрещивались, как на географической карте, и сбегались к крошечным деревушкам, Ирэн, разглядывая это необъятное пространство, пыталась найти признаки человеческого жилья. Какая-то черная палочка с медлительностью микроба ползла среди неподвижных полей. Ирэн не сразу догадалась, что это поезд. Вскоре она увидела маленькие белые точки, разбросанные вокруг домов и напоминавшие микроскопические шампиньоны…
— А что это за белые шарики?
— Гуси. В Чехословакии разводят гусей, так что нас с вами ждет вкусный обед.
Но в это время вспыхнула надпись, сообщавшая пассажирам, что самолет пошел на посадку, и Ирэн так и не узнала, всерьез говорил де Мулляк или шутил.
Бельгийская стюардесса указала им на симметрично расположенные дома с красными черепичными крышами, напоминавшие детский «конструктор», и сказала:
— Вот Лидице!
— Мне кажется, я слышал это название, — проговорил профессор.
Самолет медленно разворачивался над позолоченной солнцем Прагой… Он пролетел над голыми холмами, низко прошел над березовой рощей, над свекольным полем и с легкостью насекомого сел на летную дорожку. Постепенно замедляя ход, он пересек поле, спугивая огромных зайцев, которые убегали в сухую траву.
— Черт побери, здесь, видно, не охотятся! — заметил один из пассажиров.
— Охотятся, только не на аэродромах, — ответил его сосед.
Самолет описал полный круг и подкатил к зданию аэропорта, пропеллеры вздрогнули и замерли, моторы замолчали.
Девушка в ярко-синей форме радостно приветствовала бельгийскую стюардессу и поднялась на самолет за паспортами. Один из пассажиров выразил по поводу этого удивление.
— Чистая формальность, — ответила девушка. — Мы их вам сейчас вернем.
Фоторепортеры и кинооператор подбежали к сходням. Седой почтенный человек подошел к французским делегатам.
— Профессор Ренгэ? Разрешите приветствовать вас на нашей земле. Мы счастливы, что вы к нам приехали.
Затем он поздоровался с де Мулляком, с которым, видимо, был уже знаком. Их окружили еще какие-то люди, и все наперебой пожимали им руки и преподносили цветы.
Профессор не успевал отвечать на приветствия, и у Ирэн тревожно забилось сердце, когда она увидела, что его осаждают журналисты с блокнотами в руках и записывают все, что он говорит, а кто-то пытается подсунуть ему микрофон.
— Все здесь очаровательны, — сказал профессор, когда они в сопровождении толпы пошли к зданию аэропорта. — А что это за господин нас приветствовал? Он великолепно говорит по-французски. Я совершенно не запоминаю имен, — обратился Ренгэ к де Мулляку.
— Это ректор Пражского университета.
— Как же так! Надо было меня предупредить. А дама, заговорившая со мной по-чешски?
— Вице-председатель парламента. Она же — председатель чешского комитета мира.
Французских делегатов провели в зал ожидания и познакомили с молоденькой переводчицей Зюской и с американцем, похожим на аргентинца. Он приехал приветствовать их от Всемирного Совета Мира.
Ирэн старалась ничего не упустить, запомнить каждую мелочь в этом новом для нее мире. Она с интересом посмотрела на огромный фотомонтаж, висевший у входа. На нем было изображено строящееся здание на фоне средневековой башни. Под снимком надпись на нескольких языках:
«Чехословакия гордится своим прошлым и строит свое будущее».
Им подали аперитив с печеньем и бутербродами. Де Мулляк чувствовал себя как дома и переходил от группы к группе, обращаясь к каждому с приветливым словом. Профессор с ректором нашли общих знакомых, и их беседе, казалось, не будет конца. Но их прервала Зюска.
— Вы меня простите, господин профессор, нам надо зайти на таможню…
— А сюда мы еще вернемся?
— Если вы не возражаете, мы поедем прямо в гостиницу.
Ренгэ раскланялся со всеми приехавшими его встречать и пожал руку ректору.
— Надеюсь, мы с вами еще увидимся?
— Обязательно. Я завтра буду на конференции.
Зюска провела их к паспортному столу. В окошечке сидел военный с непроницаемым лицом. Кивком головы он разрешил им выйти.
— А паспорта разве нам не вернут? — спросил профессор.
— Потом, — ответила Зюска.
Таможенник попросил раскрыть чемоданы. Он проверил содержимое портфеля де Мулляка, слегка приподнял аккуратно сложенное белье и платья в саквояже Ирэн и вынул из чемодана профессора большую картонную коробку.
— Он спрашивает, что в ней лежит, — перевела Зюска.
— Честно говоря, я сам не знаю, — ответил профессор. — Ее всунула в последнюю минуту жена.
В коробке оказались две пачки сухарей, плитка шоколаду и немного печенья… Таможенник с бесстрастным лицом положил все на место, сам закрыл чемоданы и роздал паспорта.
У выхода их ждали две машины. Профессора поразила обтекаемая форма автомобилей и то, что мотор находится сзади.
— Чешская марка? — спросил он де Мулляка.
— Да, «татра». Они их экспортируют в большом количестве.
Де Мулляк и профессор сели в одну машину, Ирэн с Зюской — во вторую.
— Вы хорошо знаете профессора Ренгэ? — спросила чешка.
— Он председатель комитета мира нашего района.
— Тем лучше. Я робею при нем. Говорят, он крупный ученый.
Зюска была полненькая, круглолицая блондинка. Она без умолку болтала и рассказала Ирэн, что вдоль шоссе, по которому они едут, много новых зданий, а в скором времени начнут возводиться крупноблочные дома…
В Праге, городе ста башен, над которым величественно возвышается королевский замок и церковь святого Георгия, Зюска показала гостье Карлов мост и потемневшие от времени скульптуры. Ирэн казалось, что она перенеслась в далекое прошлое. Ее удивило множество церквей, и она спросила переводчицу, все ли они действуют.
— Конечно, — ответила та.
Ирэн и ее попутчики встретились в холле гостиницы «Алькрон». Кого здесь только не было! Дамы в мехах, мужчины в шляпах, две индианки, задрапированные в сари, пары, сидевшие в сторонке, деловые люди, дипломаты, журналисты, беседовавшие у стойки; у вешалки собрались латиноамериканцы и от полноты чувств похлопывали друг друга по спине.
— Какое космополитическое общество! — воскликнул профессор. — Можно подумать, что мы в Лондоне.
Зюска попросила провести гостей в отведенные им комнаты и условилась встретиться с ними попозже, чтобы идти ужинать.
— Мы не можем, — заявил де Мулляк. — Сейчас всего пять часов.
— Но вам уже все приготовили.
— Придется смириться, — сказал со смехом профессор. — Кстати, в самолете я очень плохо поел.
Отозвав Зюску в сторону, он спросил ее:
— Мне бы хотелось послать телеграмму жене. Это возможно?
— Конечно. Дайте мне текст, я все сделаю.
— А позвонить я могу?
— Если хотите…
В ресторан он пришел позже всех и, сияя, объявил:
— Все в порядке. Я разговаривал с Парижем… Знаете, у вас совсем неплохая гостиница. Мне дали отличный номер.
— Вам не нравится? — обеспокоенно спросила Зюска.
— Наоборот, даже слишком роскошно.
Он просмотрел меню, заказал метрдотелю ужин и достал из кармана записную книжку.
— Ладно, теперь скажите, какой у вас будет распорядок. Когда открывается конференция?
— Завтра в девять утра, — ответила Зюска. — За вами будут посланы машины.
— Все это чудесно, но я бы хотел еще знать, что мы должны на ней делать?
— Вероятно, наши друзья ждут, что вы выступите, — сказал де Мулляк.
— Нет, говорить будете вы.
— Я хочу вас попросить — и думаю, что мадам Фурнье меня поддержит, — выступить от имени нашей делегации.
— Конечно, — ответила Ирэн.
— Ну вот, друзья, именно этой ловушки я и опасался. Нечего на меня так смотреть, я говорю совершенно серьезно. Надо было меня предупредить…
Почувствовался холодок. Зюска объяснила, что завтрашний день будет посвящен вступительному докладу ректора и прениям по нему, а выступления гостей из-за рубежа состоятся только послезавтра.
— Очень хорошо, это меня устраивает, — сказал профессор уже более благодушно. — Таким образом, мы успеем послушать и подумать. Итак, будем считать, что на сегодня с этим вопросом покончено. Но я люблю ясность во всем, и поэтому скажите, что мы должны делать сегодня?
— Все, что вам захочется.
Де Мулляк решил повидаться с друзьями. Ирэн не терпелось осмотреть город, профессору тоже хотелось походить по Праге, но в полном одиночестве.
— А вы не боитесь заблудиться? — спросила Зюска.
— Я здесь бывал до войны.
— Тогда вам остается только подумать о том, как провести вечер. На случай, если вы захотите пойти в театр, я взяла ложу в опере.
— А что там идет?
— «Кармен».
Ирэн чуть не захлопала в ладоши.
— Да, интересно посмотреть, как ее здесь ставят, — сказал де Мулляк.
— Вы просто удивительно предусмотрительны, — добавил профессор.
Он пришел в прекрасное расположение духа, поел с большим аппетитом и, к удивлению де Мулляка, заявил, что чешская кухня восхитительна.
* * *
— Вы довольны? — спросил де Мулляк Ирэн в понедельник утром, когда они вдвоем в холле гостиницы ждали профессора.
Этот вопрос можно было не задавать. Ирэн была в восторге от оказанного ей приема. Эти два дня она провела как во сне. Огромное впечатление на нее произвела конференция, на которой присутствовало пять тысяч делегатов. В перерывах между заседаниями ее окружали девушки и юноши, они задавали ей вопросы, дарили сувениры и даже просили у нее автограф. Заключительную речь произнес премьер-министр. После окончания конференции он пожал Ирэн руку. Зюска, с которой они очень подружились, познакомила ее с многими товарищами, с шахтерами из Моравской Остравы, с пражскими студентами, словацкими крестьянами, священником из Братиславы, с чемпионом Затопеком, который носит офицерскую форму… Новые друзья расспрашивали ее о Франции, о французском народе и все повторяли слово «мир».
— Довольна ли я? Еще бы!
У де Мулляка конференция не вызвала такого восхищения. Он привык к парламентским дебатам, и, с его точки зрения, ораторы повторялись, а слушатели слишком часто и бурно проявляли восторг. Он опасался, что некоторые выражения, употребленные премьером в его выступлении, неприятно подействовали на такого объективного и щепетильного человека, как профессор Ренгэ.
Но де Мулляк не высказал своих соображений, и Ирэн решила, что он полностью разделяет ее чувства. Она все с тем же ненасытным любопытством принялась разглядывать застекленные панно в холле гостиницы «Алькрон», на которых были изображены гербы всех стран мира.
— Вы тоже обратили на это внимание? — спросил профессор, подходя к ней. — А вы заметили, что большинство республик Латинской Америки включили в свой герб фригийский колпак Французской революции?
— Интересно, — ответил де Мулляк. — Кроме того, у некоторых из этих республик тоже трехцветный флаг.
— Все это очень показательно и, по-моему, говорит о неослабевающем влиянии Франции. Этот пример не единственный. Вообще у Франции гораздо больше друзей, чем у нас принято думать. Взять хотя бы Чехословакию. С какой симпатией здесь к нам относятся! До чего волнующую овацию устроили мне вчера, когда я выступал… Из всего этого следует сделать очень определенные выводы…
У де Мулляка отлегло от сердца.
— Значит, вы довольны конференцией?
— Это не то слово — я просто в восторге. Замечательный народ!
— Я бы лично предпочел более разноречивые высказывания.
— Возможно. Но, во всяком случае, такие конгрессы, как этот, не могут делаться по заказу. А вы слышали речь их премьера? Наш премьер-министр ничего подобного не осмелился бы сказать.
— Да, я не представляю себе, чтобы наши выступили на собрании сторонников мира, да еще с разоблачением американского империализма! — улыбнувшись, сказал де Мулляк.
— Вот именно! Конечно, у выступавших особый подход ко всему, но, честно говоря, в вопросе о воссоединении Германии правы они. Я всегда твердил, что прежде всего нужно найти мирное разрешение этой проблемы… Кстати, насколько я понял, конференция с этой целью и была созвана…
Де Мулляк собирался в город, чтобы перед отъездом сделать кое-какие покупки.
— А разве переводчица ничего вам не сказала? — удивленно спросил его профессор.
— А что именно?
— Она предложила мне побывать в Лидице, и я перенес отъезд на завтра. Кроме того, сегодня вечером меня пригласил к себе ректор.
В этот момент появилась Зюска и сообщила, что ей удалось взять билеты на следующий самолет.
— Да, но меня это не устраивает, — ответил депутат. — Меня ждут сегодня вечером.
— Ничего, сделайте, как я, — сказал профессор, — позвоните жене и предупредите ее, что вернетесь на день позже. Вы же, сударыня, насколько я понимаю, не будете возражать, если ваше пребывание здесь продлится?
Ирэн очень хотелось расцеловать профессора. Зюска, главная участница этого заговора, улыбалась во весь рот.
* * *
— Вот здесь была Лидице!
— Где?
— Там, где вы стоите. Красивая была деревня, с просторными домами, с церковью, мэрией, баней, школой… Был здесь рынок, росли деревья, стояли на улицах водоразборные колонки, перед домиками были разбиты сады… В пруд вливался маленький ручеек и, выливаясь из него, с веселым журчаньем бежал по цветущему лугу… В Лидице вела обсаженная вишневыми деревьями дорога. Шестьсот лет стояла Лидице, у нее была своя история, свое прошлое, и ее детей ожидало свое будущее. Пятьсот жителей жили здесь мирной жизнью…
Перед взором профессора Ренгэ простирался пустырь с редкими пучками травы, которую колыхал ветер. Еле заметная тропинка пересекала эту опустошенную землю, сначала полого спускаясь вниз, потом взбираясь по выжженному склону холма до самого верха, где стояла заново отстроенная деревня. Посреди подъема мрачно возвышался гигантский деревянный крест. Он чернел на фоне неба и напоминал скелет.
— А я думал, что новая Лидице построена на месте бывшей деревни, — проговорил профессор. — Мы эти дома видели с самолета.
— Надо было сохранить свидетельство преступления, Там, где вы сейчас стоите, была церковь.
Де Мулляк снял шляпу. Профессор стоял с задумчивым видом. Первой нарушила молчание Ирэн.
— А там, где крест, что было?
— Ферма Хорака. Вы, наверное, знаете, как была уничтожена Лидице?
Никто не ответил.
— Если хотите, я вам вкратце расскажу, а потом в музее вы услышите все подробности…
Профессор в знак согласия кивнул головой.
— В мае сорок второго года чешские патриоты убили около Праги эсэсовца, обергруппенфюрера Гейдриха. Под предлогом, кстати вымышленным, что участники заговора скрылись в Лидице, Гитлер приказал стереть с лица земли эту деревню[11].
— А что стало с жителями?
— Фашисты расстреляли всех мужчин старше шестнадцати лет, их было сто девяносто два человека, женщин вывезли в Равенсбрук, детей в Германию… Выжило всего несколько женщин. После войны удалось разыскать и привезти обратно шестнадцать детей. А вывезено было сто пять ребятишек. Все было проделано очень методично, как всегда. Нацисты даже сняли кинофильм, в котором показаны все этапы этого преступления… Гестаповцы ночью вызвали старосту и потребовали, чтобы он вручил им список жителей деревни, общественные деньги, денежные документы и все ценные вещи. Полицейские ходили по домам и будили жителей. Был дан приказ взять с собой деньги, драгоценности, сберегательные книжки — все это было конфисковано.
Гестаповцы не пощадили ни стариков, ни больных, ни новорожденных… Мужчин согнали на ферму Хорака, женщин и детей вывезли на грузовиках. После этого гестаповцы забрали все, что было в домах: машины, мебель, белье, скот, птицу, провизию… В то время как карательный отряд расстреливал мужчин партиями по десять человек, дома были подожжены, а кошки и собаки уничтожены, с тем чтобы в селе не осталось ни одной живой души. Был составлен список тех, кто работал в ночную смену на соседней шахте или по каким-либо другим причинам отсутствовал в ту ночь, и все они в дальнейшем тоже были расстреляны. У женщин, прежде чем их отправить в лагерь, отобрали детей… В последующие дни гитлеровцы взорвали обгоревшие развалины, выкорчевали деревья, засыпали канавы и ручьи, уничтожили дороги вокруг деревни и вывезли щебень. Бульдозеры сровняли почву. И там, где все живое было стерто с лица земли, немцы посеяли колючий кустарник и чертополох. Так Лидице превратилась в этот мрачный пустырь. Они окружили его колючей проволокой и предложили госпоже Гейдрих использовать его для охоты.
У Зюски прервался голос, и Ирэн с бесконечной нежностью обняла ее. Обе женщины, прижавшись друг к другу, заплакали.
Профессор, чтобы подавить охватившее его волнение, сделал несколько шагов по направлению к кресту, Серж де Мулляк последовал за ним. При их приближении из куста выпорхнула стая воробьев и полетела к молодым деревцам, выросшим вокруг новой деревни Лидице…
XV
— Тебя просят зайти в дирекцию.
— А что такое?
Вебер, шеф-кондитер «Лютеции», не пожелал ничего объяснять, но по его озабоченному лицу Жак Одебер понял, что речь идет о чем-то серьезном. Все последние дни он ждал, что его вызовут; Брисак вел себя с ним высокомерно и бросал на него угрожающие взгляды. Ясно, что его сейчас уволят и «шишка» своим ледяным тоном сообщит ему об этом: «Мсье, зайдите в кассу за расчетом». Жак, готовый ко всему, надел синий передник, застегнул на все пуговицы белую куртку, привел в порядок как всегда безукоризненно чистую салфетку, которую он носил вокруг шеи, и направился к застекленному кабинету Клюзо… Происходило это в пять часов дня, после дневного перерыва. В огромной кухне бригада поваров занималась подготовкой рабочих мест перед ужином. Ученики разжигали плиты, помощники поваров заняли места у своих столов, шеф-повара изучали вывешенное на доске вечернее меню… Товарищ Жака, МейерА, разделывал рыбное филе. Он подставил Жаку ножку, но тому было не до шуток. Клюзо составлял меню на следующий день. Он не сразу поднял голову. Никогда никто из служащих ресторана не видел его смеющимся, и его суровый взгляд сковывал даже самых разбитных. Но сейчас Жаку показалось, что в его взгляде промелькнуло какое-то теплое чувство.
— Мсье Одебер, я должен сообщить вам печальную весть: ваш отец пострадал во время автомобильной катастрофы.
У Жака все поплыло перед глазами.
— Успокойтесь, он только ранен, а вот жена его находится в тяжелом состоянии. Оба помещены в бордоскую больницу. Вот адрес. Отец просит вас срочно приехать. Кажется, вечером есть поезд на Бордо. Я распорядился, чтобы вам выдали деньги.
Жак хотел было расспросить Клюзо, но тот сказал:
— Я не буду вас задерживать и надеюсь, что все обойдется.
— Спасибо.
Жак вышел, ничего не соображая.
Клюзо окликнул его:
— Кстати, зайдите к Брисаку, он сможет дать вам более подробные сведения.
Брисак отнесся к Жаку очень сочувственно.
— Клюзо тебе рассказал? Ты правильно сделал, что зашел ко мне…
Несчастный случай произошел во второй половине дня. Отец Жака, которого немедленно доставили в больницу, позвонил сам. Он пострадал несерьезно, но его жену не могли привести в сознание. Он впал в отчаяние и просил Брисака сообщить о происшедшем сыну.
— Я немедленно выезжаю, — сказал Жак.
— Возможно, тебе придется поработать в лавке.
— Бедный папа.
— А в общем, — сказал Брисак, провожая Жака, — может быть, все и к лучшему для тебя… Держи меня в курсе дела…
В коридоре Жак столкнулся с Жаклиной и в нескольких словах изложил ей все события.
— Ты там задержишься? — спросила она.
— Я не могу бросить отца в таком положении.
— Конечно. Но что же будет с нами?
— Не беспокойся, что бы ни случилось, ты моя жена.
— Как бы я хотела тебе помочь!
— Мы еще увидимся перед отъездом.
— Я не могу уйти с работы, ты же знаешь.
Надзиратель Бекер, делавший обход, увидел их.
— Валяйте, не стесняйтесь, — сказал он. — Вы что, не можете назначать свидания не в рабочее время?
— Плевал я на тебя! — ответил Жак.
Он пошел на кухню попрощаться с товарищами. Старик Жюль поворчал, что ему предстоит двойная нагрузка из-за отъезда помощника, но в его словах не было обычной резкости. Когда Жак одевался, к нему подошел шеф-кондитер.
— Ты собираешься вернуться?
— Надеюсь. Это будет означать, что отец поправился.
— Во всяком случае, напиши мне. Я тогда сохраню за тобой место.
Перед отъездом из Парижа Жак повидался с Томасен и попросил ее помочь Жаклине. Был уже конец сентября, а первого ноября она должна внести двенадцать тысяч франков, ей это не под силу. Хорошо бы ей во время его отсутствия пожить в его комнате.
— Уезжайте со спокойным сердцем, — сказала консьержка. — Мы о ней позаботимся. А вы со своей стороны помните, что другой такой хорошей девушки вам не встретить.
На следующий день утром Жак прибыл в Бордо. Отец, увидев его, заплакал.
— Сынок, ты все-таки приехал…
Он лежал с забинтованной головой, и его вид потряс Жака.
— Ничего, у меня всего лишь царапины на голове, перелом двух ребер и контузия. Врачи опасались перелома позвоночника. Но вот у твоей несчастной тети…
— Как она?
— Ей сегодня ночью делали трепанацию. Говорят, что операция прошла удачно, но я очень волнуюсь. Она лежит в соседней палате. Бедная моя Анриэтта!
— К ней можно зайти?
— Лучше не надо. Там день и ночь дежурят сиделки, и пока она еще в опасности. Боже мой, какой ужас…
Жак провел все утро у постели отца. Тот подробно рассказывал о несчастном случае, жалел жену, беспокоился о брошенной на произвол судьбы кондитерской…
— Вчера мы не торговали. Решили воспользоваться хорошей погодой и поехали обедать к брату Анриэтты в Аркашон. Я торопился домой, и мы рано пустились в обратный путь. Авария произошла немного не доезжая Бордо… Впереди нас шла машина, она неожиданно затормозила… Остальные пассажиры не пострадали… А твоя тетя сидела рядом со мной, и вся сила удара пришлась на ее долю… Я просил позвонить в Бержерак и предупредить о случившемся моих служащих, но там некому вести дела, и кондитерская, неверное, не работает.
— Не волнуйся, я этим займусь.
— По поводу накладных и счетов поговори с бухгалтером, а в остальном поступай по своему усмотрению… Мне должны привезти новую сбивалку. Кажется, надо заказать сахар… Кроме того, повидайся с Поравалем и выясни, как идет дело с вырубкой леса…
В палату вошел врач. Он поинтересовался температурой Одебера, пощупал у него пульс, внимательно осмотрел его, проверил подвижность суставов и удовлетворенно улыбнулся.
— Так я и думал. Через несколько дней вы будете на ногах.
— А жена?
— Надеюсь на благополучный исход, но главное для нее сейчас — полный покой.
— А когда я смогу ее повидать?
— Завтра, если все будет в порядке.
Отец немного успокоился, и Жак отправился обедать в ресторан, потом побродил по городу и, прежде чем уехать в Бержерак, решил зайти к Леру.
Он не помнил точно номер дома и блуждал по уличке. В этот момент какая-то школьница подошла к нему и спросила.
— Вы к Жаклине? А ее нет, дома только родители…
Жак узнал Мирей. Девочка обрадовалась гостю и повела его в дом. Жак застал мать Жаклины, отец был на работе.
— Мама, это знакомый Жаклины.
Дениз Леру впервые видела Жака. Он рассказал ей, чем вызван его приезд в Бордо.
— Я решил воспользоваться случаем и навестить вас. И Жаклине это будет приятно.
— Она не больна? Вот уже неделя, как от нее нет писем.
— Нет, она хорошо себя чувствует, и как только все уладится, мы поженимся.
Жак отметил поразительное сходство Жаклины с матерью, но лицо последней было очень постаревшим. Черные когда-то волосы стали пепельными, губы сжались, щеки впали, только в глазах сохранился прежний блеск. У нее был удивительно добрый взгляд…
— Жаклина вас очень любит, это я знаю. Она моя дочь, и мне не хочется, чтобы она была несчастна…
Когда Жак приехал в Бержерак, он увидел, что, как и следовало ожидать, магазин закрыт. Правда, кондитер подготовил все, чтобы в любую минуту начать торговлю. Обе продавщицы навели чистоту в магазине, ученики тоже занялись уборкой, но главным образом изводили весь день молоденькую горничную, которая разыгрывала из себя хозяйку дома.
Жак отдал необходимые распоряжения, приказал разжечь печь, поужинал вместе со служащими, как это было заведено отцом, и на следующий день в пять часов утра первым приступил к работе…
Кондитер и оба ученика, как и полагалось, пришли в половине шестого и холодно приветствовали его традиционной фразой: «Доброе утро, мсье». Жак был преисполнен чувства ответственности и одновременно стремился завоевать симпатии служащих. Он узнал у кондитера, как обычно распределяется работа, и сказал:
— Не нарушайте заведенного порядка.
Все работали, не произнося ни слова. Жак, чтобы прервать молчание, спросил кондитера, как его зовут.
— Женщины меня называют Кловисом, — ответил он, не поднимая головы.
Около семи часов Жак разбудил продавщиц и горничную и пошел открывать витрину. Ученики принесли корзины с горячими бриошами и рогаликами. Жак сам обслужил первых покупателей — торговцев с той же улицы, ответил на расспросы о состоянии его родителей и вернулся в мастерскую. Он достал из кармана пачку сигарет и протянул Кловису.
— Вы разрешаете курить во время работы? — удивился тот.
— Почему бы и нет? Мы не в «Лютеции».
За завтраком они с кондитером познакомились поближе… По мере того как двигалась работа, у Жака крепла уверенность, что он выиграет битву. Он чувствовал, как растет его авторитет, становился все более уверенным и даже размечтался о том, чтобы перевезти сюда Жаклину. Вот это было бы счастье!
В первый же вечер он написал ей длинное письмо и в дальнейшем ежедневно сообщал все подробности своей жизни… По утрам он работает в мастерской, а часов в десять спускается в магазин и садится за кассу. Во второй половине дня он принимает поставщиков, проверяет заказы и выполняет всю самую тонкую работу, как например украшение сладких блюд или фигурных тортов… На его витрины приходят любоваться… Вечером, перед тем как отправиться спать, он подсчитывает дневную выручку, прячет деньги, проверяет, все ли подготовлено для утренней работы… Нет ни одной свободной минуты, но зато им никто не командует. Он был полон радужных надежд, но пока не делился ими с Жаклиной из боязни, что они не сбудутся. Отец должен был скоро вернуться.
В воскресенье утром — это было второе воскресенье, которое Жак проводил в Бержераке, — когда он сидел, как обычно, за кассой, у магазина остановилась роскошная машина. Лора, сидевшая за рулем, изящно выскочила из автомобиля и, улыбаясь, вошла в кондитерскую.
— Почему вы так неприветливо меня встречаете?
— От неожиданности.
— А разве к вам не приезжают покупательницы?
— Приезжают, но не из Парижа.
— А вы думаете, я оттуда? Папа никогда не дал бы мне машину.
— Значит, ваши родители в Бержераке?
— Да, мы приехали на месяц, у папы отпуск.
— Кто же отдыхает осенью!
— Отцу нравится приезжать сюда, когда давят вино.
— А вы?
— Врачи прописали мне свежий воздух. Говорят, я нервная… Скажите, у вас вкусные пирожные?
— Конечно.
— Какие вы мне советуете взять?
— Выбирайте сами.
Жак подозвал продавщицу.
— Займитесь, пожалуйста.
Лора отобрала целую коллекцию разных пирожных и вернулась к кассе, чтобы расплатиться.
— Ну, знаете, нельзя сказать, чтобы вы их даром отдавали!..
— А по-вашему, слишком дорого?
— Да нет, я смеюсь. Кстати, отец просил поблагодарить вас за письмо. Мы волновались о вашем отце. Простите, я должна была прежде всего спросить о нем…
— Ему лучше, гораздо лучше.
— Папа просил также пригласить вас пообедать с нами в один из ближайших дней.
— У меня совершенно нет свободного времени.
— А разве вы никогда не закрываете кондитерскую?
— Закрываем, по вторникам.
— Вот и приходите к нам во вторник.
— Я поеду в Бордо.
— Тогда на следующей неделе.
— Ну, до этого вы же еще заедете?
— Не знаю…
— А от чего это зависит?..
— Понравятся ли мне ваши пирожные.
Пока они разговаривали, ученик принес в магазин корзину фруктовых тортов. Вернувшись в мастерскую, он сообщил товарищу:
— Знаешь, я видел хозяйскую любовницу.
— Хороша?
— На мой вкус, слишком шикарна. И хуже сложена, чем здешняя горничная.
Жак решил не писать Жаклине о посещении Лоры. Он старался придумать, как ему уклониться от приглашения, и жалел, что не сделал этого сразу… Жаклина часто писала, рассказывая Жаку о своей жизни. Благодаря Томасен ей удалось перебраться в его комнату; она произвела полную перестановку… «Ты увидишь, как теперь здесь мило», — писала она. Жаклина очень скучала. Ее спасали комитет и дружба с Ирэн… Сбор подписей продолжался, и она еще раз ходила по домам вместе с Леоном Бургеном… «Мы собрали двадцать четыре подписи… преподаватель, у которого мы с тобой были, тоже подписал, но для этого нам пришлось прийти к нему еще раз. Леон говорит, что его подпись надо вставить в рамку». Она была приглашена на ужин к Фурнье, там много говорили о Жаке… Собрание, которое Луи собирается организовать в Бержераке, отложено… «Может быть, к тому времени ты уже будешь здесь. Ведь ты же мне писал, что отец скоро вернется».
Когда Жак приехал в Бордо во второй раз, отец уже ходил, и ему разрешили уехать домой. Анриэтта находилась вне опасности и понемногу поправлялась. Она, казалось, была тронута вниманием Жака.
— Ты очень много для нас сделал, надеюсь, ты и в дальнейшем будешь помогать отцу. Меня еще не выписывают, и, как сам видишь, мне предстоит еще долго лечиться, и даже когда совсем поправлюсь, я уже не смогу работать, как прежде.
— Отец остался очень доволен тем, как без него шла торговля. Все счета были в порядке.
— Я рад, что ты стал деловым человеком, — похвалил он сына.
Он попросил Жака по-прежнему руководить работой и предложил назначить ему оклад, как шефу.
— А может быть, ты хочешь стать моим компаньоном?
— Нет, пока я предпочитаю быть на жалованье.
— Это даст тебе около тысячи франков в день.
Это было ниже утвержденной профсоюзом ставки. Правда, отец добавил:
— Но твое общественное положение обязывает, и если тебе понадобятся деньги на одежду или ты захочешь пойти куда-нибудь, не стесняйся.
— Я никуда не хожу.
— В том-то и беда. В твоем возрасте нельзя все время сидеть дома. У тебя ведь есть товарищи из хороших семей… Мне бы хотелось, чтобы ты почаще встречался с людьми своего круга.
Жак в душе надеялся, что отец заговорит с ним о Жаклине, но тщетно. Через некоторое время он сам поднял этот вопрос.
— Знаешь, я не изменил своих намерений.
— Каких?
— Я женюсь.
— На той девушке, о которой ты мне говорил?
— Да, мы любим друг друга, и ничто не может нас разлучить.
Одебер-отец насупился.
— Все, что я тебе говорил, остается в силе, поступай, как тебе заблагорассудится. Но сейчас очень неподходящее время. Твоя мачеха еще не скоро выздоровеет… И если ты нас бросишь, мне придется прибегнуть к чужой помощи или делать все самому…
Жак не ожидал такого ответа. Он думал, что отец скажет: женись и привози сюда жену. Но не тут-то было. Видимо, Анриэтта твердо решила остаться полновластной хозяйкой и возражала против появления в доме невестки. Этот разговор с отцом очень огорчил Жака. Но все равно, чтобы жениться, ему нужно было подработать хоть немного денег, к тому же он не мог бросить отца в такой трудный момент, и он решил отложить на некоторое время возвращение в Париж. На следующее утро между отцом и сыном произошел еще один разговор, который чуть было не ускорил развязку.
— Я заметил, что кондитер говорит тебе «ты», — сказал отец.
— Ну и что? Он это делает с моего разрешения.
— В том-то и дело. Я нахожу, что у тебя с ним слишком фамильярные отношения.
— Мы одного возраста.
— Это не довод.
— В «Лютеции» все служащие говорят друг другу «ты».
— А здесь ты хозяин. Поверь мне, лучше их держать на расстоянии.
— Я такой же служащий.
— Но должны же быть хозяева!
— Не все могут стать хозяевами…
После этого разговора Одебер-отец старался больше не делать замечаний сыну и пробовал образумить его другими способами. Видя, что тот любит свое дело, он при каждом удобном случае хвалил его.
— Сразу чувствуется, что ты побывал в Париже.
— Почему?
— Хорошо работаешь.
Но Жака стала тяготить жизнь в Бержераке, особенно после того, как он понял, что надежда привезти сюда Жаклину становится все несбыточнее…
Вечерами в ожидании ужина он либо ложился отдохнуть, либо шел на соседнюю уличку и смотрел, как развлекаются ученики. Иногда он отправлялся в соседнее кафе сыграть партию на бильярде или выпить рюмку аперитива с Кловисом. После этого каждый вечер повторялся один и тот же церемониал. В доме Одеберов было принято ужинать вместе со служащими. Отец усаживался первым в конце стола, направо от него сын, затем кондитер, а дальше ученики — они занимали места по старшинству. Налево от хозяина, рядом с местом хозяйки, которое оставалось незанятым, садились продавщицы. Здесь места распределялись по служебному положению. Последней сидела горничная… Хозяин сам раскладывал кушанья, ученикам выдавались, соблюдая иерархию, самые полные тарелки супа и самые маленькие кусочки мяса. Старшая продавщица следила за тем, чтобы на столе всегда был хлеб. На кондитере лежала забота о напитках, он наливал мужчинам вино, а ученикам и женщинам разбавлял его водой… За столом почти не разговаривали, за исключением тех дней, когда хозяин бывал в веселом настроении и немного отпускал узду. Существовало незыблемое правило — за столом сохранять серьезный вид, но, несмотря на это, молодежь, конечно, перешептывалась, перемигивалась, давилась от приступов беспричинного и неудержимого смеха. Юноши, ухаживая за девушками, подталкивали их, как бы невзначай поглаживали им колени или наступали на ногу. Анриэтта говаривала: «У нас служащие — члены семьи», — но на самом деле эти трапезы угнетали всех и воспринимались как неизбежное зло. Сидящие на последних местах были самыми счастливыми: они первыми вставали из-за стола. Жак, зная, как отец не любит, когда нарушается установленный им порядок, даже не попытался настаивать на своих нововведениях. За ужином он молчал, вставал вместе со всеми и поспешно уходил к себе в комнату.
Лора приезжала еще несколько раз, все такая же элегантная, но о приглашении больше не заговаривала, видимо догадавшись, что настаивать не стоит, и Жак был ей за это благодарен. Кстати, они виделись далеко не каждый раз, так как Жак теперь все меньше занимался магазином. Как-то отец сказал ему:
— У меня был Брисак, и мы с ним поговорили. Он недоволен тобой.
— Почему?
— Оказывается, он приглашал тебя в гости. Ты мне ничего не говорил.
— Во всяком случае, он не нашел нужным сказать мне об этом лично.
— Ты слишком многого требуешь. По меньшей мере будь с ним вежлив, это в твоих же интересах. Они скоро уезжают, что тебе стоит нанести им визит?
— Мне не хочется к ним идти. Кроме того, мне некогда.
В следующий вторник Жак очень кстати вспомнил про вырубку леса, о которой ему говорил отец.
— Я бы сам поехал, — сказал Филипп Одебер, — но машина до сих пор не отремонтирована. А тебе не скучно этим заняться?
— Нет.
— До чего же мне приятно это слышать, сынок.
На самом деле Жак надеялся таким образом сбежать из дому. Рано утром он сел на велосипед и поехал в Палисак. На лесопилке Пораваля не оказалось, но его рабочий Эжен сказал, что хозяин находится на участке Одебера. Вскоре туда должен был выехать грузовик. Жак решил воспользоваться свободным временем и навестить Сервэ. Он встретил его на улице. Стоя у почты, доктор разговаривал с деревенским учителем.
— Как это в наши края занесло парижанина? Ты зачем?
— Проездом… и мне захотелось вас повидать.
— Очень удачно, ты мне нужен. Дай подпись.
— Под чем?
— Против EOC.
Жак прочитал текст протеста и с улыбкой вернул его доктору.
— Я уже подписал, у меня точно такой с собой.
Доктор воздел руки к небу, словно призывая его в свидетели.
— Я же вам говорил, дорогой мой, — сказал он учителю, — по всей Франции происходит одно и то же. Повсюду подписывают протест. Этот юноша прибыл из Парижа, и вы не можете нас обвинить в сговоре.
Учитель торопился в школу и расстался со своим собеседником.
— Социалист, секретарь секции, — сказал Сервэ таким тоном, как он сказал бы «архиепископ». — Вот уже три недели обрабатываю его и только сегодня утром вырвал подпись.
Жак поделился своим опытом работы в Париже и рассказал, зачем он приехал в Палисак.
— Давай я тебя отвезу, — предложил Сервэ, — мне как раз нужно в те места по своим делам.
В машине он снова заговорил об учителе.
— Теперь мы собираемся оживить работу местного комитета, и я выдвигаю его в председатели. Не воображай, что только в Париже умеют работать. Сейчас трудное время, нужно напрячь все силы, правда? У нас в Дордони создан комитет против перевооружения Германии, в него входят Морен, депутат-католик, трое генеральных советников, все социалисты, еще есть радикалы… Вильнуар вот-вот тоже войдет… лопнет их ЕОС, как пить дать.
Они въехали во двор фермы, граничившей с участком Одебера. Из дому вышла, заткнув подол передника за пояс, толстая крестьянка.
— Жена Беро, — сказал Жаку доктор. — Мы сегодня устраиваем митинг против его ареста. Ты придешь, надеюсь?
Жак не следил за ходом дела Беро и не очень им интересовался. Правда, Жаклина неделю тому назад сообщила ему о предстоящем приезде Луи Фурнье на собрание, посвященное защите Беро, но Жака гораздо больше занимала мысль о свидании с Луи, чем цель его приезда.
Сидони Беро пригласила их в кухню и принесла бутылку белого вина. Какой-то незнакомый крестьянин пригнал быков после пахоты и чокнулся с приезжими.
— А где же ваш Милу? — удивился доктор Сервэ.
— Бедненький мальчик ушел на военную службу. Пришлось нанять рабочего. Мне жизнь не мила, я все боюсь, что его ушлют в Индокитай. И зачем затеяли эту войну? Вы мне можете объяснить?
— Она кончится, как кончилась война в Корее. Все против нее.
— Пока что не видно конца. Говорят, они собираются услать туда новобранцев. Им что, дети-то не их. Недавно там погиб один парень из нашей деревни. Он был всего на год старше Милу. Знаете, нам нужно другое правительство, вот что я вам скажу…
Сидони поговорила с ними о своем муже. Он по-прежнему в тюрьме, скоро его должны судить. Неужели его не оправдают? Это было бы слишком несправедливо. Ведь он ушел в макИ и бросил хозяйство… вот она, благодарность…
— У вас много друзей, и мы его вытащим, — поверьте мне, — утешил ее доктор.
— Вы бы только посмотрели на него, плакать хочется, не может пережить, что без него будут давить вино. Каждый раз я стараюсь его успокоить, но боюсь, что он не сможет сдержаться на суде. Вы думаете, сегодня вечером много придет народу?
— Мы все придем. И в Бордо поедем, — сказал Сервэ.
Услышав, что Жак знаком с Фурнье, Сидони рассказала о том, как они у нее отдыхали и какая милая молодая жена Луи, впервые попавшая в деревню…
— Вот что, я сейчас зарежу цыпленка, — прервала свои воспоминания Сидони, — и вы с нами поедите.
— Но я тороплюсь, меня ждут больные, — сказал доктор.
— Ничего, у вас больше свободного времени, чем у меня. Подкрепитесь и с новыми силами поедете.
На вырубке Жак застал Пораваля с рабочими. Сосновый лес был уже наполовину выкорчеван, и вокруг пилы возвышались штабеля бревен, приятно пахнувшие смолой.
* * *
На митинг пришло много народу. В перерывах между выступлениями толпа скандировала на мотив «на фонари аристократов»: «Освободите Беро! Освободите Беро!»
Жак привел с собой кондитера Кловиса, и они сели в один из первых рядов. Луи Фурнье и Шарль Морен, находившиеся в президиуме, узнали Жака. Луи жестом показал, что пожимает ему руку. Морен приветливо улыбнулся. Пораваль председательствовал, направо от него сидела Сидони в черном платье. Открывая собрание, Пораваль медленно развернул листки с приготовленной речью. Говорил он мало и робко… по-видимому, не привык к публичным выступлениям: «Беро ставят в вину участие в расстреле предателя в сорок четвертом году. Я тогда командовал его батальоном и несу всю ответственность за этот акт, совершенный в соответствии с законами войны и чести…» Слушатели встретили его слова громом аплодисментов. После этого он прочел несколько посланий от людей, выражавших свою солидарность, и письмо депутата Вильнуара, который сообщал, что, к сожалению, не сможет присутствовать на митинге. Он целиком присоединяется к требованию освободить Беро, требованию совершенно справедливому, как он убедился, лично проведя объективное расследование этого дела.
Луи Фурнье, как бывший начальник группы Беро, выступил вслед за Поравалем. Он рассказал, что крестьянин Беро в день высадки союзников в Нормандии, не раздумывая, бросил ферму, жену, сына и ушел к партизанам. Он вел себя, как герой. За расправу с предателем и уничтожение дома гитлеровского пособника теперь его бросили в тюрьму. Убийство предателя — законное дело, и руководители Сопротивления от имени всех партизан отвечают за него. Судить же за то, что была сожжена ферма фашистского прихвостня, возмутительно тем более, что эсэсовцы, участники массового убийства в Орадуре, помилованы…
После Луи Фурнье выступали адвокат от комитета защиты, один из членов Лиги прав человека, городской советник Бержерака, а также представители профсоюзной организации и делегат от бывших фронтовиков.
Шарль Морен взял слово последним.
Жак слушал всех ораторов с большим вниманием, и некоторые выступления его по-настоящему взволновали. В его представлении депутат должен был произнести самую яркую речь. Вначале он был разочарован. Морен говорил медленно, не напрягаясь. Но его голос становился все тверже, все требовательнее: «…будут судить не одного Беро, а все Сопротивление, и те, кто это делает, одновременно создает новый вермахт…» Морен назвал имена нескольких нацистских генералов, которых недавно выпустили на свободу, и после этого прочел внушительный список партизан, находящихся в тюрьмах или под следствием. Зал бурно выразил свое возмущение. «…Нам нет дела до их политических убеждений, — продолжал Морен, — они героически вели партизанскую борьбу, и мы встанем на их защиту. Наш долг — отстаивать интересы Франции, которую снова собираются предать…» Морен обратился к присутствующим с призывом оказывать давление на судей, посылать им петиции, письма протеста, телеграммы и закончил словами: «Вчера, сплотившись, мы организовали Сопротивление, сегодня на этот митинг нас привела единая воля, завтра, если мы сохраним наше единство, мы одержим победу».
Морену горячо аплодировали. Когда он возвращался на свое место, навстречу встал Пораваль и крепко пожал ему руку. Казалось, они сейчас обнимутся. Зал устроил им овацию. Сидони от волнения плакала и вытирала глаза…
После собрания многие подошли к президиуму, чтобы поздороваться и поговорить с депутатом. Он пожимал протянутые руки, улыбаясь, отвечал на вопросы. Маленькая старушка робко сказала:
— Я хотела вам написать, мне полагается пенсия…
Морен терпеливо выслушал ее объяснения и взял документы, которые она ему протянула.
— Хорошо, давайте все это и не волнуйтесь, я займусь вашим делом.
Луи Фурнье осаждали бывшие товарищи по макИ. Радуясь встрече, они весело восклицали:
— Эй, Париго, узнаешь меня?
Наконец освободившись, он подошел к Жаку Одеберу. Потрясенному настроением зала Жаку казалось, что он один из тех, кто лучше других понимает душу народа. Луи отвел Жака в сторону и вынул из кармана письмо. Жак увидел знакомый почерк.
— Заодно я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз, как мужчина с мужчиной. Только пусть это останется между нами. Возможно, я лезу не в свое дело. Скажи, твои намерения по отношению к Жаклине серьезны?
Юноша смутился.
— Какие намерения?
— Ты великолепно знаешь, о чем я говорю. Она тебя ждет. Но если ты к ней не вернешься, скажи ей об этом сразу.
— Неужели она могла это подумать?
— Она-то нет… Вообще бывает и так… Но это с твоей стороны было бы некрасиво…
Жак был так взволнован, что не мог ничего ответить. Луи почувствовал себя неловко.
— Прости, я не хотел тебя обидеть.
— Когда ты уезжаешь?
— Немедленно. Сперва в Перигё, а завтра в Париж.
— Ты обязательно скажи ей, что я вернусь.
Луи хотелось исправить свой бестактный, как он считал, поступок, и он пригласил Жака зайти с ним и его друзьями, которые уже ждали его, в кафе и на прощанье выпить.
— Я пришел с одним служащим отца, он стоит у выхода.
— Ну так что ж, тащи и его с собой.
Их собралось человек пятнадцать в одном из городских кафе. Доктор Сервэ, ни с кем не советуясь, заказал две бутылки монбазияка. Сидони Беро была с ними, доктор обещал отвезти ее домой.
— Вот уж кого не думала встретить! Фашист самый отъявленный, — сказала она, делясь своими впечатлениями о митинге.
— О ком вы? — спросил Сервэ.
— Да о нашем мэре. Он каждое воскресенье ходит в церковь.
Морен сел рядом с Поравалем, и они продолжили разговор, начатый еще на улице.
— Как хотите, но такой человек, как вы, не может допустить, чтобы Германия перевооружилась.
— Надо действовать по принципу Сопротивления и не вмешивать политику.
Жак гордился своим знакомством с Мореном. Он сел напротив депутата и не пропускал ни единого слова из его разговора с Поравалем.
Доктор примирил всех, предложив выпить за освобождение Беро…
Вернувшись в Париж, Луи Фурнье рассказал жене, как у них было принято, все подробности своей поездки.
— Сидони страшно огорчилась, что я не мог задержаться на день и побывать у нее. Она взяла с меня слово, что в будущем году мы снова приедем к ней во время отпуска.
— А ты повидался с Одебером? — спросила Ирэн.
— Хороший парень.
— Что он тебе сказал?
— Не помню, но он порядочный человек, поверь мне.
— А что он тебе ответил по поводу Жаклины?
— Ничего.
— По-твоему, это хорошо?
— Я убежден в его честных намерениях.
— Он вернется?
— Да.
— Когда?
— Он не сказал, но он приедет, в этом я не сомневаюсь.
— Надо было у него спросить.
— Знаешь, в следующий раз сама занимайся такими делами.
XVI
— До чего хороши, правда?
— А я тебя не заметила, — сказала Жаклина, оторвавшись от витрины. — Здравствуй…
Большая витрина универсального магазина «Бон маршэ», у которой встретились Жаклина и Ирэн, привлекала внимание прохожих. За стеклом открывался зимний пейзаж с серым небом. Низ витрины был задрапирован белым, из воображаемого снега поднимались молодые березки с хлопьями ваты на каждой ветке. На фоне этого условного зимнего убранства двадцать восковых манекенов подчеркивали изящные линии модных зимних пальто.
Когда Ирэн окликнула Жаклину, та уже добрых четверть часа любовалась выставкой, восторженно разглядывая последние модели. На Жаклине было демисезонное пальто, которое стало ей тесновато, на Ирэн все та же желтая куртка. Правда, она ей шла, но фасон уже начал выходить из моды.
— Мне безумно нравится бледно-лиловый цвет, — сказала Жаклина. — Он сейчас в моде, но самое дешевое пальто стоит тринадцать тысяч.
— А мне хочется меховую шубу, — ответила Ирэн. Правда, есть хорошие из верблюжьей шерсти, но они стоят еще дороже. И кроме того, этот цвет очень надоедает. Хотя меховое тоже может надоесть.
— Мода на лиловое может скоро кончиться. А есть такие красивые пальто!
— Лучше всего купить два пальто или каждую зиму покупать новое.
— К сожалению, это исключено. В конце концов я скорее всего решусь купить пальто из материи, его хоть легко переделывать.
— Вон то, с краю, в талию, с поднятым воротничком, тебе очень пойдет.
— Я тоже его приметила, но все дело в цене.
— А сколько ты можешь истратить?
— Сейчас у меня десять тысяч, но боюсь, что этого мало. Во всяком случае, пальто мне нужно, мы скоро поженимся.
Жаклина, готовясь к этому событию, считала каждый франк. В ресторане ей платили около двадцати тысяч в месяц. Четверть своего заработка она отсылала домой, вторую четверть, благодаря тому, что она жила теперь в комнате Жака, откладывала. Остальные деньги распределялись таким образом: большая часть шла на ее повседневные расходы, которые она старалась сократить до минимума, включая питание в выходные дни. Оставшиеся деньги она тоже откладывала на пополнение гардероба. Ей надо было купить пальто, над которым она столько раздумывала, платье, костюм, обувь, белье… Все это было необходимо, чтобы выглядеть не хуже других. Но и помимо этого тысячи соблазнов подстерегали ее ежедневно — красивые вещи, специально созданные для искушения двадцатитрехлетней девушки.
Несколько раз Жак в своих письмах предлагал выслать ей денег, но она решительно отказывалась. Квартирную плату он вносит, и ей вполне хватает жалованья, утверждала она.
После разговора с Луи Жак написал Жаклине о своем намерении немедленно вернуться в Париж, хотя отец еще и не нашел работника на его место. Но Жаклина, несмотря на огромное желание увидеться с Жаком, советовала ему не торопиться, расстаться с отцом по-хорошему, согласовать с ним свой отъезд и в случае необходимости проработать еще некоторое время, с тем чтобы не оставлять его в трудном положении. Наконец Жак сообщил, что он договорился с отцом и вернется в конце ноября. Таким образом, он сможет приступить к работе в ресторане до конца года. Назначенный срок приближался.
— Когда же вы поженитесь? — спросила Ирэн.
— Жак предлагает в январе, но, мне кажется, благоразумнее отложить на весну. Надо много всего купить, у нас еще ничего нет для хозяйства, кроме того, не улажено с жильем…
— А что-нибудь намечается?
— Ничего. Я на это убиваю все свободное время. Безумные цены, и ты бы посмотрела за какие трущобы! Мне рекомендовали однокомнатную квартирку за десять тысяч франков в месяц — оказалась настоящая дыра. Ремонт мы обязаны сделать за свой счет. Да и все остальное, что я видела, ненамного лучше, а стоит еще дороже. Жак не соображает, что если вычесть из заработка деньги на еду, то едва хватит на квартплату, а нам предстоит еще покупка мебели…
Ирэн нравилась Жаклина, и они подружились. Луи по-прежнему работал на заводе счетчиков в Монруже и уже три года числился в списках муниципалитета на квартиру в новостройках. Накануне Ирэн снова упрекнула его:
— Ты недостаточно рьяно отстаиваешь наше право на квартиру.
— Ну что я могу сделать? На очереди более тысячи человек.
— Если ты будешь так же бездеятелен, ты никогда не получишь.
— В первую очередь дают многодетным.
— Тебе тоже должны дать, как бывшему фронтовику.
— Дорогая моя, ты заблуждаешься.
— Но попытка не пытка.
— А разве нам так уж приспичило?
— Если мы переедем на новую квартиру, мы сможем свою уступить Жаклине.
— Но она же выходит замуж, ты мне сама сказала.
— В том-то и дело. Они не могут достать квартиру.
Ирэн не рассказала Жаклине о своих планах, но всячески пыталась ее приободрить и пообещала со своей стороны еще переговорить с товарищами… А главное, пусть она не забывает, что они молоды и любят друг друга…
— Кажется, мне придется купить вот это пальто, за пятнадцать тысяч, — проговорила Жаклина. — Как ты к этому относишься?
— Конечно, покупай. Пойти с тобой?
— Нет, пожалуй, я еще подумаю. Можеть быть, завтра решусь. Пальто придаст мне храбрости.
— А для чего тебе нужна храбрость?
— Для собрания с педикюрщиком.
— Все будет в порядке, не волнуйся.
— А послезавтра приезжает Жак.
— Тем более ты должна купить пальто. Так мы вас ждем к себе, как договорились, послезавтра вечером, и ты нам расскажешь о собрании.
* * *
Предложение педикюрщика устроить собрание жильцов не повисло в воздухе, Леон Бурген ухватился за него. Он считал вопросом чести принять вызов. Следовало, как он говорил, ковать железо, пока горячо. Неделю спустя он снова пришел к педикюрщику, тот не узнал его, и Бургену пришлось напомнить о себе.
— Ах да, вы приходили с молодой дамой и оставили какой-то листок. Я так был занят, что мне некогда было взяться за это дело. Зайдите в другой раз, у меня к вам есть вопросы.
Пришлось снова к нему прийти. Все его вопросы сводились к одному.
— Видите ли, один из моих клиентов мне сказал, что всю эту шумиху вокруг ЕОС подняли коммунисты для своей пропаганды. Видимо, и вы посланы ими?
Но Леон не растерялся. Он напомнил, что петиция исходит от комитета мира, и когда он рассказал о членах комитета, его собеседник немного успокоился, но все же явно побаивался впутываться в это дело. Леон вспомнил о конференции у Порт де Версаль, проведенной недавно Советом мира департамента Сены. На этом собрании было решено продолжать кампанию по сбору подписей и провести как можно больше собраний жильцов, чтобы организовать делегации к депутатам. Итак, сейчас не время упускать такую возможность, решил про себя Бурген и пустил в ход то, что он называл тяжелой артиллерией. Он подослал к педикюрщику под видом клиента одного своего друга, и тот неплохо поработал.
— Мои клиенты уже говорили мне о ЕОС, — сказал в следующий раз Бургену педикюрщик. — Дайте-ка мне что-нибудь почитать по этому вопросу.
Брошюры и упорство Леона сделали свое дело. Педикюрщик взялся за организацию собрания жильцов. Студент по опыту знал, что на приглашение откликнется всего несколько человек, и предложил собрать всех жителей этого района, у которых уже побывали члены комитета.
— И не думайте, — возразил педикюрщик. — Придет столько народу, что они не поместятся в моей гостиной. Нет, поверьте мне, надо действовать продуманно. Я сам извещу жильцов моего дома, они меня все знают, и уверяю вас, что для первого раза мы наберем вполне достаточное количество.
Наконец они договорились о дне собрания, которое Леон шутя называл «великим». Жаклина в ожидании этого события потеряла сон. Если Леон почему-либо не будет присутствовать на собрании, Жаклине придется одной выдержать это испытание. Кроме того, она заметила, что с некоторых пор отношение к ней Леона перестало носить чисто дружеский характер. Правда, она ни в чем не могла его упрекнуть, но после отъезда Жака студент старался как можно чаще встречаться с нею. Два раза поджидал ее у ресторана под предлогом, что ему надо сообщить о своих переговорах с педикюрщиком. На заседаниях комитета он садился рядом с нею. Они вдвоем провели целое утро, собирая подписи, и, когда расставались, он предложил ей пойти в кино… Конечно, все это пустяки, но в письме Жака, которое он написал ей в ответ на сообщение о количестве собранных ею с Бургеном подписей, проскользнула ревнивая нотка. Вот почему в тот вечер, когда должно было состояться собрание, Жаклина не позволила Леону зайти за нею. Собрание было назначено на восемь тридцать. Жаклина пришла раньше и заглянула к консьержке.
— Скажите, чем вы так подогрели педикюрщика? — спросила та. — Он сам пригласил всех жильцов, за исключением, конечно, Адольфа.
— Вы тоже придете?
— Обязательно, только после девяти. А вы поднимайтесь.
Жаклина пришла первой. Молоденькая служанка сдвинула в гостиной всю мебель и принесла сюда стулья со всей квартиры. На столике стояли закупоренная бутылка ликера и штук двадцать рюмок.
— Как хорошо, что вы пришли! — сказал хозяин квартиры. — Я не знаю, надо ли вносить стол, с ним было бы удобнее, но зато более официально. А стульев достаточно?
— Сколько вы ждете народу?
— Отказались только толстуха со второго этажа и ее горничная. Кстати, они не представляли интереса, так как хозяйка ходит к массажисту на бульвар Монпарнас и даже не знает, что я занимаюсь педикюром. Все остальные придут…
Он был в светлом костюме.
— Вы курите? — спросил педикюрщик, вынув пачку американских сигарет. Он протянул Жаклине зажженную спичку и сел рядом с нею на диван. — Жильцы предложили устроить собрание после ужина, — сказал он. — Вы понимаете, это удобнее — дети уже спят. Может быть, подать к ликеру печенье? Почему никто не идет?
Было уже около девяти. Жаклину смущало общество этого любезного и предупредительного господина. Раздался звонок. Педикюрщик сам открыл дверь. В гостиную вошла старушка, для которой Жаклина в первое свое посещение дома ходила за хлебом, и села рядом с нею. Они разговорились. Вскоре появились консьержка с мужем. Педикюрщик приготовился встречать гостей и не садился. Жаклина краем уха слушала, как консьержка ругала хозяина дома за то, что тот не делает ремонта. А время шло и шло…
Наконец-то снова позвонили. Наверное, Леон. Нет, она ошиблась, пришел преподаватель английского, жилец из соседнего дома. На него Жаклина рассчитывала меньше всего. Она вышла в переднюю, чтобы объяснить педикюрщику, как получилось, что тот пришел. Несколько дней назад она занесла ему брошюры и между прочим упомянула о предстоящем собрании… Преподаватель скептически сказал: «Интересно послушать, что говорят люди. Если будет время, я забегу…»
Педикюрщик был польщен новым знакомством и принял учителя, как знатного гостя. Тот снял пальто и прошел в гостиную. Его лицо выразило удивление. Было уже больше девяти, а собралось всего шесть человек…
Жаклина не понимала, почему нет Леона, и у нее от страха сжималось сердце. Что надо делать? О чем говорить? А тут еще консьержка трещит без умолку, рассказывая о ценах на лук-порей! Преподаватель явно торжествовал. У педикюрщика был убитый вид.
Следующим пришел холостяк с пятого этажа, тот, у которого невеста погибла в концлагере. После него никто больше не появился. Правда, раздался еще один звонок, но это какая-то девушка забежала предупредить, что к ним пришел друг и ни она, ни ее родители не смогут принять участие в собрании. Педикюрщик вызвал в переднюю Жаклину.
— Это же катастрофа! Как нам быть?
Жаклина успокоила его, пытаясь подбодрить и себя.
— Все-таки нас семь человек. Для первого раза не так уж плохо. И этим успехом мы обязаны вам.
Но она была в отчаянии.
— Ничего не понимаю, — сказал педикюрщик, вернувшись в гостиную, — я же всех предупредил.
Он откупорил бутылку с ликером и наполнил рюмки. На это ушло время, но надо было все-таки что-то предпринимать. Преподаватель, насмешливо поглядывая в сторону Жаклины, заявил:
— Видимо, мадмуазель сделает нам доклад?
Леон Бурген пришел в тот момент, когда все казалось потерянным.
— Полный провал, — сказал ему педикюрщик вместо приветствия.
— Небывалый успех, вы хотите сказать? Разве могло быть лучше?
Он попросил прощения за опоздание — его неожиданно задержали — и выступил первым, прекратив тем самым мучения Жаклины. Прежде всего он от имени присутствующих поблагодарил хозяина дома за гостеприимство. «Мы все знакомы и собрались, чтобы поговорить. Пусть каждый выскажет свою точку зрения…»
Педикюрщик прервал его. Он прочел брошюры, которые ему принесли, и нашел их очень дельными.
— Надо всех познакомить с заявлениями ученых об атомной войне, это такой ужас!
По мнению учителя, брошюры о многом умалчивают. Сначала никто не мог понять, что он хочет сказать.
— Меня волнует проблема искусства. Чтобы искусство процветало, нужны определенные условия… Я же вижу, что это сообщество — серьезная угроза французскому вкусу. Даже само название мне не нравится. Европейское оборонительное сообщество. Что это значит? Во-первых, в него входит только часть Европы. Какое сообщество? Военное? На французов и немцев наденут одинаковую военную форму, и они будут служить в одной армии? Ничего хорошего не выйдет…
— Я уже сказал Бургену, что французы ни за что на это не пойдут, — вставил педикюрщик.
Холостяк усмехнулся.
— Не представляю себе наших солдатиков, марширующих гусиным шагом. А муштра! Палочная дисциплина, как раньше в прусской армии? Нет, благодарю вас…
Муж консьержки, работавший на заводе, боялся, что образование ЕОС вызовет унификацию ставок во всех странах.
— Нужно еще выяснить, от каких ставок будут отталкиваться. Если от английских, это еще ничего, но если нам собираются дать ставки немцев, номер не пройдет — они ниже наших.
Жена прервала его:
— Слава богу, что они хоть не собираются заставить нас лопать так же невкусно, как в Англии.
— Вообще англичане умывают руки, они хотят создать ЕОС для нас, а сами в него не войдут.
— Да, они не такие дураки, как мы, — сказала консьержка.
Все рассмеялись, и она, воспользовавшись этим, перешла к волнующей ее теме.
— Взять алжирцев, которые работают во Франции. Им платят гораздо меньше, чем нашим рабочим, нехорошо получается. Ты им расскажи, — обратилась она к мужу.
Тот подтвердил слова жены и, конечно, от оплаты труда алжирцев перешел к положению французских рабочих. В подтверждение своих слов он показал расчетный листок с выписанной ему заработной платой за последние полмесяца. Включаясь в общий разговор, педикюрщик пожаловался на налоги, старушка в свою очередь высказала пожелание, чтобы увеличили пенсию.
Каждый говорил о своем, и Леон Бурген решил навести порядок. Он объяснил, что жизненный уровень зависит в основном от военных расходов. Если ассигнования на вооружение увеличатся, жить станет еще труднее. Создание ЕОС тем более тяжело отразится на общем положении, что речь идет о подготовке атомной войны…
В ответ все заговорили одновременно… Преподаватель убежденно заявил:
— Никто не решится пустить в ход атомную бомбу.
— Вы думаете? — спросила старушка.
Жаклина, вспомнив слова отца, вмешалась:
— Если бы у Гитлера была атомная бомба, он бы ею воспользовался…
— Ничего подобного. У Гитлера были отравляющие вещества, а он их не пустил в ход, — возразил учитель.
— Да что вы мне рассказываете! — возмутился холостяк. — Мою невесту в Освенциме задушили газами.
Наступило молчание. Преподаватель нарушил его, попросив прощения за то, что невольно вызвал тяжелые воспоминания. Но он настаивал на своем. В концентрационных лагерях совершались такие чудовищные вещи, что преступники вынуждены были действовать тайно. А на фронте, где ничего нельзя скрыть, никто не решился употреблять газы.
— Необходимо напомнить, — заметил Леон Бурген, — что о запрещении применения газов было договорено в Женеве. Вот почему никто и не осмелился пустить их в ход.
Жаклина, обрадовавшись поддержке, решила развить свою мысль.
— А ведь атомная бомба не запрещена.
— Так чего же ждут? Надо немедленно ее запретить, — сказал педикюрщик.
— Вообще всему этому пора положить конец, пока еще не поздно, — поддержал его холостяк.
— И оставить нас в покое, — добавила консьержка.
Старушка одобрительно кивала головой.
— Но мы-то что можем сделать? Обо всем этом нужно заявить депутатам…
Леон Бурген ухватился за эту мысль. В квартале собраны подписи против создания ЕОС. Нужно представить этот протест депутатам округа и потребовать, чтобы они голосовали против Сообщества. Нужно условиться о встрече и организовать делегацию в несколько человек.
— Я согласна, — сказала консьержка, — но я свободна только в воскресенье утром, когда муж может подежурить за меня.
Еще долго спорили, перескакивая с одного предмета на другой, пока не договорились окончательно. Педикюрщик был польщен тем, что о нем говорили как о бывшем офицере, и высказал желание войти в делегацию. Старушка сказала, что и она пойдет к депутатам, если в тот день у нее не будут болеть ноги. Преподаватель уклонился под предлогом, что и без него много желающих. Возможно, он не хотел, чтобы подумали, будто он, как консьержка, брюзжит по любому поводу, Холостяк дал согласие принять участие только в нескольких походах и попросил включить его в делегацию к женщине-депутату, «за которую я голосовал в те времена, когда еще верил в чудеса», — сказал он.
* * *
Жак Одебер не узнал свою комнатушку. За время его отсутствия Жаклина сделала героические усилия, чтобы навести уют. На тахте, покрытой яркой материей с симметричным рисунком, восседала кукла в платье маркизы, которое Жаклина сама сшила. Из остатков яркой материи она сделала абажур и повесила на окно две короткие в сборку занавески. На столике, покрытом вышитой скатеркой, стояли в рюмке три ярко-красные гвоздики… Жака ожидал еще один сюрприз. Жаклина открыла дверку шкафчика, на вид совершенно нового, и показала аккуратно расставленную на полках посуду: набор алюминиевых кастрюлек, шесть тарелок, три стакана, кофейник и ко всему еще электрическую плитку.
— Все это наше, — объявила она.
— А шкаф?
— Тоже наш. Его подарила Томасен, а я его покрасила. Тебе нравится? Нам здесь будет очень хорошо, а там, глядишь, мы найдем что-нибудь получше. Только вот диван маловат…
В ответ Жак обнял ее и снова поцеловал.
— Женушка моя дорогая.
Он только что вернулся из Бержерака. С отцом они расстались довольно холодно.
— Дай бог, чтобы ты не пожалел, — сказал тот на прощанье.
Нет, Жак не жалел ни о чем. Его мачеха Анриэтта вернулась домой, и, хотя она еще не работала, одно ее присутствие тяготило всех. Она стала еще более властной, чем раньше, и решительно во все вмешивалась, беспрерывно давала советы и не скупилась на замечания. Отец на все смотрел ее глазами, и Жак удивлялся, как ему могло прийти в голову, что он сумеет победить семейные предрассудки и ввести в семью Жаклину. Но все же он был очень привязан к отцу и жалел его, чувствуя, что тот несчастен. Вот почему он боролся с поднимавшимся в нем возмущением и, последовав совету Жаклины, не уехал, пока отец не нашел себе помощника.
— Без тебя я не останусь ни минуты на этой каторге, — сказал Жаку Кловис.
— Не удирай, пока не кончатся праздники, сделай это ради меня, — попросил его Жак.
Кловис остался, кроме того, из Бордо приехал еще один кондитер; теперь Жак был уверен, что отец управится без него, и уезжал со спокойной совестью. В Бержераке он обновил свой гардероб и подкопил немного денег.
— Я привез пятьдесят тысяч франков, и теперь ничто не препятствует нашей женитьбе, — объявил он Жаклине еще на вокзале, когда она его встретила.
Они были счастливы и в мечтах о совместной жизни забыли о действительности.
— Сегодня вечером мы пойдем с тобой в ресторан, — сказал Жак, когда они сели в такси.
— Нас пригласили Фурнье.
Жаклина все продумала за него, и он решил ей подчиниться. Сейчас ему надо повидаться со своим начальством и договориться о том, когда он может приступить к работе. Но зато завтрашний день они проведут вдвоем…
— Может быть, нам поехать в Версаль? — предложил Жак.
— Это было бы замечательно!
— Какое у тебя красивое пальто!
— Наконец-то ты заметил! — улыбаясь, сказала Жаклина. — Я купила его ради тебя.
Когда они спустились, Томасен шутливо сказала:
— Ну, детка, вы все-таки дождались своего возлюбленного?
Жаклина залилась краской.
Жак оставил Жаклину болтать с консьержкой, а сам поспешил в ресторан, чтобы попасть туда до семи часов, когда часть служащих уходит домой… Он поговорил со швейцарами у служебного входа и окликнул выходившего Анатоля.
— Ты откуда взялся? — удивился судомойщик.
— Я только что приехал.
— Кого-нибудь поджидаешь?
— Вебера, шеф-кондитера.
— Я только что видел его в гардеробе. Ты собираешься к нам вернуться?
— Вебер обещал взять меня обратно.
— Очень рад. Извини меня, но я тороплюсь на профсоюзное собрание… Придешь, надеюсь?
— Обязательно.
Вебер, увидев Жака, смутился.
— Тебе никто не сказал?
— О чем?
— Клюзо взял другого кондитера на твое место.
— А ведь я предупредил, что возвращаюсь.
— Вот-вот, вчера в связи с этим он и заявил мне, что ни в коем случае не возьмет тебя обратно.
— Но почему?
— Надзиратель Бекер написал докладную записку дирекции, будто ты с ним поругался перед отъездом.
— Я сказал, что мне на него наплевать, но к работе это не имеет никакого отношения.
— Пойдем отсюда, ладно?
Вебер повел Жака в соседнее кафе и там сообщил ему:
— Возможно, это только предлог, мне кажется, что за этим кроется другое. Ты не ссорился с Брисаком?
— А что?
— Видишь ли, «шишка» подозвал меня, выйдя из винного погреба, и сказал о твоем увольнении. Сперва он не вдавался ни в какие подробности и, только когда я сказал, что нельзя увольнять человека ни с того ни с сего, сослался на докладную Бекера.
— Но докладную-то тот наверняка написал задолго до моего возвращения.
— Конечно. И Клюзо не такой человек, чтобы откладывать свое решение в долгий ящик. Поэтому я и спросил, нет ли у тебя оснований ожидать неприятностей со стороны Брисака. Понимаешь, начальники всегда друг с другом договорятся.
— Возможно, ты и прав, — проговорил Жак.
Его удручала не столько потеря работы, сколько то, что опять придется отложить свадьбу… Кроме всего, он мог лишиться и комнаты…
— Я сделал все, что мог, — сказал Вебер.
— Верю. Вы тут ни при чем.
— Зайди ко мне, может быть, я что-нибудь для тебя придумаю.
Жак отправился к Фурнье. Жаклина была уже там и накрывала на стол. Ирэн жарила картошку. Обе женщины о чем-то переговаривались и хохотали. Почти одновременно с Жаком пришел Луи и, не дав тому произнести ни слова, торжествующе провозгласил:
— Великолепные известия, друзья. Грандиозная новость — Беро освобожден!
XVII
Темно-красные стены и потемневшая позолота придавали версальскому залу Конгресса вид старинного театра. Сквозь высокие витражи просачивался тусклый свет, освещая висевшую над трибуной большую картину Кудера, на которой было изображено заседание генеральных штатов в 1789 году. Аллегорические сцены на гобеленах с увядшими розами дополняли декорацию этого театра. Зал украшали четыре светловолосые богини: Земледелие, Торговля, Индустрия и Мир.
На одном из ярусов, предназначенных для гостей, сидела Маринетта Делорм. На ней был ярко-синий облегающий костюм. Вооружившись перламутровой лорнеткой, она обводила взглядом высокую колоннаду, которая начиная с третьего яруса тянулась по трем сторонам громадного зала. Дамы, сидевшие в первых рядах, выставили напоказ свои туалеты и драгоценности. В партере на желтых кожаных креслах, расположенных амфитеатром, тесно сидели участники конгресса. Говорили, что там всего 865 мест, а парламент насчитывал 937 депутатов и советников.
Все было тщательно подготовлено к выборам шестнадцатого президента республики, но никто не предвидел, что в декабре может выдаться теплый солнечный день, и батареи отопления были накалены. В переполненном зале люди буквально задыхались от жары.
Маринетта сняла жакет, расстегнула ворот блузки и принялась разглядывать амфитеатр, откуда доносился беспрерывный гул и выкрики. Анри Вильнуар, сидевший в правом крыле, помахал ей рукой. В ответ она так очаровательно улыбнулась, что некоторые депутаты загляделись на нее. Вильнуар, подчеркивая, что улыбка относится к нему, продолжал делать знаки, давая понять Маринетте, что заседание скоро начнется.
Она приехала вместе с ним. Их машина с трехцветным пропуском на ветровом стекле проделала путь от Парижа до Версаля в сопровождении мотоциклистов в кожаных куртках и шлемах. По обе стороны шоссе тянулись ряды полицейских в белых перчатках с красными значками боевого отличия. Хотя это происходило семнадцатого декабря, стояла необыкновенно теплая погода и яркое солнце освещало город. Туман постепенно рассеялся. В парках величественного королевского дворца было по-весеннему свежо. Редкие любопытные глазели на поток автомобилей и мотоциклов, с шумом проносившихся по аллее, более густая толпа окружала площадь Арм, доступ к которой преграждали отряды охранников и жандармов в парадной форме. Похожие на оловянных солдатиков охранники виднелись вдали, на мощеной площади; они были расставлены, как фигурки на шахматной доске. На фоне решетчатой ограды, украшенной скрещенными флагами, блестели на солнце каски парижской жандармерии, украшенные лошадиными хвостами. Напротив дворца находился военный госпиталь, солдаты, высунувшись в окна, свистом приветствовали нарядных дам, выходивших из машин, но те даже не оборачивались в их сторону — и слава богу, так как большинство было весьма зрелого возраста. Каждая из них воображала себя Марией Антуанеттой, въезжающей в Трианон.
Когда шофер открыл дверку Маринетте, раздался пушечный залп и она вздрогнула. Вильнуар принял это за салют, но кто-то из толпы крикнул: «Какое безобразие!» В дальнейшем выяснилось, что стреляли на учебном полигоне в Сатори — начальство не нашло нужным отменить занятия.
К счастью, Анри заранее заказал столик в «Трианон паласе». Они с Маринеттой пробирались к своему месту сквозь толпу депутатов, журналистов, дам в мехах и в шляпах с перьями, жен депутатов, сенаторов и министров, кинозвезд, модных красавиц, безбожно накрашенных старых дам. Около одиннадцати все они бросились в знаменитый ресторан. По принятой традиции каждые семь лет в день президентских выборов видные деятели (не обязательно из политического мира) угощают своих друзей королевским завтраком. Накануне газеты сообщили, что заготовлено 225 пулярок, 300 уток, 450 лангуст. Вся эта снедь, пройдя через руки величайших мастеров французской кухни, должна была в торжественный день закончить свой путь на украшенных цветами столах.
И хотя дело происходит во времена Четвертой республики, на разложенных у приборов визитных карточках можно встретить немало имен духовных лиц и аристократов.
Вильнуар сиял от гордости, что его видят с Маринеттой. Он целовал ручки дамам, останавливался поболтать с министрами, шутил с депутатами, наперебой рассыпавшимися в любезностях перед его хорошенькой спутницей. Несколько человек, здороваясь с ним, сказали: «Приветствую президента!»
— В чем дело? — спросила Маринетта, когда они наконец уселись за свой столик и метрдотель по ее просьбе отодвинул в сторону огромную корзину роз, которая загораживала вид на парк.
— Это обычная острота, — ответил Анри. — Так принято называть друг друга, ведь сегодня любой гражданин может стать президентом республики. И нечего над этим смеяться…
Когда было подано шампанское, Вильнуар пригласил к столику нескольких друзей. Они условились собраться перед окончательным голосованием и тогда сговориться. Тактика, которая разрабатывалась за ресторанными столиками Трианона, сводилась к выдвижению кандидатов от всех групп, с тем чтобы избежать неожиданных результатов прошлых выборов, когда коммунисты, к общему удивлению, сразу отдали свои голоса за кандидата социалистической партии и президент был избран при первом же туре голосования. Но веселое настроение, царившее за столиком после вкусного завтрака, не способствовало обсуждению столь серьезных вопросов.
Разговор перешел на сплетни. Посудачили о депутате, который почему-то надеялся быть избранным и на всякий случай захватил с собой фрак; поговорили о том, к каким уловкам прибегают некоторые кандидаты, чтобы набрать голоса; вспомнили, как один бывший премьер-министр, считая себя наконец на пути в Елисейский дворец, за несколько дней до выборов уговорил одну девицу выйти за него замуж, пообещав ей взамен любви место первой дамы Франции, и застраховал себя тем самым от неудачи; поговорили также о некоем господине Фрере, который на свой лад вел подготовительную работу к избранию своего знатного родственника, нынешнего председателя Совета республики, и проявлял при этом простодушное усердие новичка и умение помалкивать, свойственное опытному интригану.
— Я хочу с вами поделиться совершенно очаровательной историей, — неожиданно сказал один из собеседников Маринетте. — Я ее слышал от префекта полиции…
Он рассказал, что сегодня утром, когда в Версаль прибыло пять тысяч жандармов, чтобы преградить доступ во дворец, в центре парка, у грота «Рокай», был задержан мрачный человек, погруженный в размышления.
— В первый момент его приняли за соучастника какого-то заговора. Его схватили, связали по рукам и ногам, обругали, обыскали, избили…
— А на самом деле он оказался одним из тех сумасшедших, которые появляются каждый раз, когда происходят выборы, — вмешался Вильнуар.
— Еще лучше, дорогой мой, — просто влюбленный, ожидавший свою девушку. Он был счастлив, узнав, что происходит, и радостно воскликнул: «Так вот почему она так опаздывает!»
— Очаровательная история, — сказала Маринетта. — Надеюсь, его выпустили?
— Вот об этом префект ничего не говорил.
В половине второго члены парламента и их гости снова встретились в зале Конгресса; первые заняли места в амфитеатре, последние разбрелись по ярусам. У Маринетты от шампанского и духоты пылали щеки. Она решила попудриться. Ровно в два часа собравшиеся были оповещены барабанной дробью о прибытии президента республики. За несколько минут до этого прожекторы ярко осветили трибуну. В зал вошел председатель Высшего совета магистратуры Франции. Его сопровождали двое распорядителей с цепями на груди и шестеро секретарей. Он медленно поднялся по ступеням на трибуну, в то время как человек двадцать репортеров из телевизионного центра наводили на него свои аппараты. Президент охотно позировал операторам. На нем был фрак, белая рубашка, белый галстук.
— Говорят, его заставили нарумянить щеки, — сказала соседка Маринетты.
В надежде, что операторы направят свои объективы на публику, Маринетта для большей фотогеничности облизала губы.
Гул голосов постепенно затихал, и когда президент позвонил в серебряный колокольчик, который стоял справа от него, водворилась полная тишина. «Объявляю открытым конгресс парламента», — провозгласил президент и после этого прочел статьи конституции, относящиеся к избранию президента республики. Он подчеркнул, что по закону выборы проводятся без дебатов, тайным голосованием и по поименному вызову.
Президент предложил назначить тридцать шесть человек, на которых будет лежать обязанность следить за порядком голосования, и после этого объявил: «Сейчас я при помощи жеребьевки определю, с какой буквы начнется поименный вызов». Из корзины, накрытой темно-зеленой материей, он достал белый билетик, на котором оказалась буква «б». Только у одного депутата фамилия начиналась с этой буквы, и поэтому сразу перешли к букве «в». Вильнуар проголосовал четвертым. Ему аплодировали члены его группы и несколько министров, сидевших на правительственных местах.
Последнее обстоятельство очень обрадовало Маринетту. Она с интересом следила за церемонией, которая постепенно теряла торжественный характер. Один из распорядителей вызывал депутатов, те торопливо пробирались к трибуне, поднимались по ступенькам, где им вручали белый контрольный шар, который они отдавали вместе со своим бюллетенем одному из секретарей. Тот клал шар в одну урну, бюллетень во вторую. У трибуны толпились в ожидании своей очереди депутаты и сенаторы. Они образовали плотную стену, преграждая путь к лестнице. Некоторые из них, потеряв терпение, отправились в коридор или в буфет, и чиновники вынуждены были их разыскивать. Чтобы видно было, какая буква голосует, на больших картонных щитах по обе стороны трибуны попеременно вывешивались огромные буквы. Это и чисто французская суматошливость создавали атмосферу школьной перемены. Время от времени в разных концах зала вспыхивали аплодисменты — члены разных групп приветствовали своих лидеров, которые шли голосовать. Особенно горячие аплодисменты раздались с мест, где сидели коммунисты, когда голосовал их кандидат, старейший член Национального собрания — Марсель Кашен.
Маринетта, не вытерпев духоты и нескончаемой канители, вышла в коридор. Вскоре к ней присоединился Вильнуар.
— Это надолго? — спросила она.
— На час с лишним, — ответил Вильнуар. — Будут снова вызывать всех, кого не оказалось на месте.
— А президента выберут?
— Нет. Выставлено восемь кандидатур, и большинства никто не наберет.
— Мне хочется уехать. Я устала.
— Как хочешь, дорогая. Второй тур состоится вечером, ты еще успеешь вернуться.
— И тогда кого-нибудь выберут?
— Еще ничего не известно. Для этого нужно, чтобы воздержались коммунисты…
Маринетта уехала в машине. У подъезда она встретила прогуливающихся под руку Жака с Жаклиной. Маринетта узнала их и приветливо улыбнулась. Их вид напомнил ей рассказ о влюбленном юноше, задержанном сегодня в версальском парке…
* * *
Жак и Жаклина только что вышли из Люксембургского сада, где они провели всю вторую половину дня. Последние недели у них было немало огорчений, и они только начали выпутываться из свалившихся на них невзгод.
После того как Жака уволили из «Лютеции», его немедленно выселили из комнаты. Стало совершенно ясно, что и то и другое было делом одного и того же лица. Брисак лишил его не только работы, но и крова. Для этого он воспользовался разными предлогами. Из «Лютеции» его уволили будто бы по доносу Бекера, из комнаты выкинули якобы за то, что он жил в ней не один. Конечно, он мог оказать сопротивление и не выезжать еще некоторое время, но по складу своего характера он предпочел сразу со всем покончить и никому не быть обязанным. Пришлось спешно искать новое жилье. Томасен взялась ему помочь и отправилась поговорить с хозяйкой гостиницы — мадмуазель Перванш. Прежде всего надо было узнать, есть ли там свободная квартира для молодой пары. К счастью, выяснилось, что одна квартирка еще не сдана. Все дело было в цене, надо было предложить хозяйке шестнадцать тысяч франков вместо пятнадцати, которые ей уже давали. Собрав все эти сведения, консьержка набралась храбрости и сообщила хозяйке гостиницы правду о своих подопечных. Лицо старой девы стало каменным, когда она услышала, что ее бывшая жилица Жаклина и ее так называемый брат не родственники. Но консьержка так упорно защищала бедных «деток», что сердце мадмуазель Перванш дрогнуло.
— Ладно, раз ваши голубки женаты, я их возьму к себе.
— Да, но понимаете, они еще официально не поженились.
— Тогда отпадает. Моя гостиница не проходной двор.
— У них вполне серьезные намерения, уверяю вас.
— Но она-то хоть совершеннолетняя?
— Конечно…
В конце концов старая дева великодушно заявила:
— Ладно. Восемнадцать тысяч в месяц и ни франка меньше.
Пришлось согласиться на такую плату за комнату и крошечную кухоньку. Эта квартира спасала их, и они даже нашли ее роскошной, но если Жак долго будет без работы, им придется перебраться в комнату подешевле.
Окрыленный первым успехом, Жак рьяно взялся за поиски работы. Он не мог ждать, пока наступит его очередь в бюро распределения рабочей силы, и поэтому сам обходил рестораны и кондитерские, но всюду его встречали отказом, и он уже начал отчаиваться. Судомойщик Анатоль дал ему один адрес, но там место еще не освободилось. Правда, Жаку обещал еще помочь его бывший начальник Вебер, но он пока ограничился тем, что посулил устроить ему временную работу на рождество. А ведь нужно было жить, сбережения, сделанные во время пребывания в Бержераке, таяли, и каждый день отодвигал свадьбу на добрую неделю.
Отцу Жак не сообщил о своем увольнении. Он знал, что тот пришлет денег и снова предложит ему вернуться домой, но он чувствовал себя больше чем когда-либо привязанным к Жаклине и считал делом чести самому выпутаться из тяжелого положения.
Две недели, проведенные в безуспешных поисках работы, породили у Жака массу вопросов, о которых он до сих пор не думал. Как ему быть и что его ждет, если он так и останется без работы? Во что выльется их любовь, раз жизнь, которую он выбрал, начиналась с неуверенности в завтрашнем дне? А вдруг и Жаклину уволят — что тогда делать? Гордость мешала ему поделиться своими заботами с Жаклиной, и он чувствовал себя скованным в ее присутствии; сам того не замечая, он стал необщительным и забыл, что у него есть друзья. А они-то и вернули ему веру в жизнь.
— Если хотите, мы поговорим о вас с Мореном, — предложила Жаку Ирэн.
Депутат дал ему адрес одного булочника в районе Монружа, с которым когда-то был знаком и продолжал переписываться.
Жак был слегка разочарован, он считал, что Морен, как член парламента, мог сделать гораздо больше. Он отправился по указанному адресу, не веря в успех. Но, к великому своему удивлению, был принят, как спаситель.
— До чего же вы кстати пришли! — воскликнул хозяин булочной, жизнерадостный толстяк. — Я только что подал в профсоюз заявку на кондитера, но раз вы присланы Мореном — это одно и то же.
Правда, в этой булочной пирожные раскупались только в праздничные дни, и поэтому в будни работы было маловато, но для Жака и это было спасением. Он радостно поспешил в Люксембургский сад, чтобы поделиться приятной новостью с Жаклиной. Он должен приступить к работе завтра, будет занят двадцать-тридцать часов в неделю, хозяин будет ему платить по ставке, утвержденной профсоюзом.
— Замечательный парень, поверь мне. Он познакомился с Мореном еще в Бордо.
И Жаклина с Жаком снова стали строить планы на будущее. Как раз в этот момент их встретила Маринетта Делорм. Они сияли от вновь обретенного счастья.
— Кто это? — спросил Жак.
— А ты ее не узнал? Помнишь, Пибаль получил у нее подпись против ЕОС?
— Кстати, хозяин тоже заговорил со мной о ЕОС. Видимо, он из рьяных противников.
Жак проводил Жаклину до «Лютеции» и отправился к Шарлю Морену, чтобы его поблагодарить. Он знал, что депутат вместе с женой приехал в Париж, но, войдя в дом, где жил Морен, вспомнил: тот, вероятно, в Версале.
Консьержка сказала, что и его жены, Роз, тоже нет дома, она ушла к врачу.
— Она ходит готовиться к родам. Говорят, теперь женщины рожают без боли.
* * *
Доктор Симонен, еще совсем молодой человек с черными усиками и большими добрыми глазами, надев белый халат, вошел в кабинет. Здесь на расставленных в четыре ряда стульях чинно сидели пятнадцать беременных женщин. Они, естественно, волновались в ожидании первого знакомства С доктором.
Симонен потер руки и сказал:
— Значит, вы мои новые ученицы? Сидите, сидите. А вы продолжайте вязать, это я вам говорю. Ах, вы пришли со своей дочерью! Очень хорошо. Прошу блондинку, которая сидит во втором ряду, расстегнуть крючки на юбке, вы не должны затягиваться… Прежде всего нужно, чтобы вам было удобно, я хочу видеть спокойные лица… А теперь разрешите познакомиться…
Доктор представился и рассмешил своих слушательниц, признавшись, что он всегда слегка трусит перед началом занятий и поэтому его нужно подбодрить улыбкой. Он вызвал учениц по фамилии и спросил каждую из них, на каком она месяце беременности и который раз рожает, после чего сел за стол и сказал:
— Роды — это ваш выпускной экзамен. Успех зависит только от вас. Мы со своей стороны поможем вам.
Симонен заговорил о дурных предчувствиях, которые обычно пугают беременных женщин и были так хорошо знакомы Роз, хотя при муже она держалась оптимистически. Правда, она не дрожала, как ее соседка слева, совсем еще девочка, или как женщина, сидевшая справа, мать троих детей. И та и другая явно надеялись, хотя и считали это маловероятным, что Симонен поможет им избавиться от страха, который существует испокон веков. Но все же и Роз прошла через это. Вначале она испытала глубокую радость: «Я стану матерью, у меня будет ребенок, плодом моей любви к мужу будет маленькое очаровательное существо…» Потом ее начали преследовать другие мысли: «У меня будет усталый вид, я растолстею, на лице появятся пятна», но она уговаривала себя: «Все это неважно, я хотела ребенка, я горда тем, что он у меня будет, я счастлива… Девять месяцев быстро промелькнут, а там конец беременности, наступит счастливая пора…» Ожидание родов, как бы вы ни уговаривали себя, вызывает все усиливающееся беспокойство… Да и как может быть иначе? Сколько тысячелетий женщина, производя на свет ребенка, испытывает ужасные мучения, и предсказание «в муках родишь ты» висит над ней, как страшное проклятие. А окружающие, словно сговорившись, все время напоминают ей об этом. Мать, родственники, подруги и соседки твердят: «Будем надеяться на благополучный исход…», «Я рожала ужасно…», «Бедняжка, тебе предстоит трудное испытание…», «Никогда нельзя сказать, как все произойдет…», «Я не кричала, но так впилась ногтями в ладонь, что несколько дней у меня не заживали раны…», «Желаю вам не узнать моих мук…»
У двоюродной сестры Роз были такие разрывы, что она осталась инвалидом на всю жизнь; одна знакомая родила в карете скорой помощи… Роз знала о трагических случаях, когда ребенка вытаскивали по кускам. Совсем молодая женщина умерла во время родов… Из поколения в поколение передается этот страх, о нем напоминают все окружающие, он усиливается книгами известных и неизвестных писателей, где роды — это всегда крики, слезы, кровь.
— Так вот, все это неправда и отошло в прошлое, — заявил доктор Симонен. — Прежде всего, вам следует побороть страх, порожденный тем, что до сих пор считалось закономерным совершенно противоестественное явление. Роды — не болезнь, а нормальное явление, и они не должны сопровождаться страданиями.
Доктор рассказал, что, судя по всему, некогда женщины рожали, за редким исключением, безболезненно, как сейчас животные. «Вы улыбаетесь? Но каждая из вас наверняка слышала, как о некоторых женщинах говорят, что им родить так же легко, как курице снести яйцо». Симонен привел еще несколько подобных примеров и рассказал, что советские врачи, собрав все эти факты, решили дать им научное объяснение. Опираясь на работы Павлова об условных и безусловных рефлексах, они занялись, сперва в виде опыта, а потом и в массовом масштабе, применением современного метода обезболивания родов. Несколько французских врачей во время своего пребывания в СССР познакомились с положительными результатами, полученными советскими врачами, и начали применять и распространять новый метод во Франции. Таинственного в этом методе ничего нет. Все дело в воспитании сознания и мышц. Надо хорошо знать анатомию своего тела, весь процесс беременности и родов, научиться определенным образом дышать, следить за собой и уметь расслаблять мышцы…
— Все это вы постигнете с легкостью. В мою задачу входит рассказать вам об основных моментах течения беременности и родов, о происходящем в вас процессе, которому вы должны помочь, с тем чтобы роды снова протекали естественно, как когда-то.
При помощи таблиц Симонен показал своим слушательницам, как формируется и развивается ребенок в утробе матери, как он лежит и как в конце концов происходят сами роды. Он рассказал также, что зародыш уже в первые недели приобретает очертания человека и, если бы женщины это знали, ни одна не решилась бы сделать аборт. Но здесь, конечно, об этом не стоит и говорить. Он понимает, что еще не смог полностью успокоить своих дорогих учении, но убежден, что они уже поверили в возможность добиться нормальных родов. Он постарался еще подбодрить женщин, рассказав им несколько смешных историй, а также случай с одной из его пациенток, имевший место сегодня утром: ей позвонили по телефону, она сняла трубку и попросила: «Позвоните попозже, я рожаю».
Первый урок длился меньше часа, после этого слушательницы начали задавать доктору вопросы. Они спрашивали вначале робко, но постепенно разошлись так, что Симонен вынужден был их остановить, поскольку их вопросы относились уже к следующим занятиям. Но все же молоденькой соседке Роз он ответил.
— А вы применяете наркоз? — спросила та.
— Нет.
— Ну а в случае болезненных родов?
— Начиная с сегодняшнего дня болезненных родов не существует. Раз и навсегда выкиньте из своего лексикона слово «болезненный».
— А если все-таки будут боли?
— Только в случае крайней необходимости и в виде исключения можно прибегнуть к ингаляционному наркозу.
— Почему же вы против этого?
Доктор вздохнул, словно собираясь сделать признание.
— Я не могу лишить женщину счастья родить безболезненно.
Этот ответ произвел сильное впечатление. Но у молоденькой женщины был еще один вопрос, который она сперва боялась задать. Она читала в какой-то газете, что метод обезболивания сводится к наркозу и его нельзя считать новым, так как в прошлом веке английская королева Виктория тоже рожала под наркозом.
— Запомните, что применяемый нами метод не имеет ничего общего с наркозом, — твердо ответил Симонен. — Вы научитесь рожать с такой же легкостью, как ваш ребенок научится читать, с одной только разницей: вам для этого понадобится гораздо меньше времени, чем ему, вы возьмете всего пять уроков.
Слушательницы встали, улыбаясь, и Роз заметила, что большинство из них сумели так одеться, что, несмотря на грузные фигуры, остались привлекательными. Истинные парижанки, ничего не скажешь…
— Последний совет, — добавил на прощанье доктор: — с сегодняшнего дня заткните уши. Не слушайте никого: ни ваших родителей, ни подруг, ни свекровей — особенно свекровей… Одергивайте всех, кто попытается поколебать вашу уверенность, даже если это будет ваш муж… Кстати, мужей тоже надо переубедить, и это очень легко. Я советую, если это возможно, привести их на наши уроки. Им тоже полезно послушать…
Роз вышла из кабинета в приподнятом настроении. Хотя живот уже мешал ей при ходьбе, она чувствовала себя так, словно у нее выросли крылья. В метро какая-то дама уступила ей место. Убаюканная гулом поезда, она машинально глядела на первую страницу газеты, которую читал человек, сидевший напротив. В вечернем выпуске уже сообщались результаты первого тура выборов в Версале. Роз вспомнила, что Шарль не вернется к ужину. А она была так счастлива, что ей хотелось немедленно поделиться с ним своей радостью…
* * *
Шарль Морен только что пришел в маленький ресторанчик на площади Арм. Здесь ужинали депутаты-коммунисты. На мраморных столиках, покрытых бумажными скатерками, стояли тарелки с сыром, колбасой и бутылки божолэ. Повсюду висели ветки остролиста, в углах зала были флаги, а на зеркале кто-то написал мелом «Свобода — Равенство — Братство». Все были в веселом настроении и с большим аппетитом принялись есть. Стоял такой шум, что официант был вынужден несколько раз повторить фамилию депутата, которого в этот момент вызывали к телефону. Шарль Морен знал, что Роз должна была сегодня пойти к врачу, и поэтому, когда его попросили к телефону, испуганно побежал в будку, в полной уверенности, что его ждут неприятные известия, но жена его успокоила.
— Я просто хотела тебе сказать, что все в порядке. Я очень довольна. Когда увидимся, расскажу… Просто замечательно.
— У нас тоже все в порядке… битва только начинается… Будет ночное заседание и, скорее всего, завтра еще одно… Нам придется задержаться в Париже…
— Тем лучше, я смогу взять второй урок.
— Мы решили голосовать за социалистического кандидата…
Возвращаясь к своему столику, Морен столкнулся с Сержем де Мулляком и, как обычно, подтрунил над ним:
— Ты здесь, а я думал, ты торчишь в Трианоне.
— Нет, дорогой, я верен третьему сословию, как мои предки.
— Ты что-нибудь слышал?
— Они в бешенстве.
Почти в то же самое время Вильнуар звонил из Трианона Маринетте.
— Значит, ты не приедешь?
— Зачем же, раз ты говоришь, что выборы не состоятся?
— Кто знает. Мы сняли своего кандидата, осталось всего четверо…
— Ты за кого будешь голосовать?
— Трудно решить. Они все за ЕОС, а я, как ты знаешь, принимаю ЕОС с оговорками. Все, за исключением одного…
— Ну, так может, его и стоит выбрать?
— Отпадает, за него голосуют коммунисты.
XVIII
В пекарне кипела работа. Жак Одебер, как и каждое воскресенье, приехал с последним поездом метро и в час ночи, надев фартук, подошел к хозяину. Тот, голый по пояс, обливаясь потом, сажал хлеб в печь. Ловким движением он подсовывал под батоны длинную лопату, выхватывал стальную пластинку, которую держал в зубах, и уверенно и точно, как хирург, делал пять надрезов на каждом батоне с заостренными концами. После этого он открывал печь, засовывал лопату в самую глубину, рывком стряхнув батоны, вынимал ее и, не теряя ни секунды, начинал все снова… Ученик едва успевал подавать доски с хлебом. А помощник в это время месил тесто для следующей выпечки.
— Я смогу освободить печь в четыре часа, тебе хватит времени? — не оборачиваясь, спросил Жака хозяин.
— Вполне, — ответил тот. — Мне еще нужно все подготовить.
— Располагайся, как всегда, на кухне. Подогрей себе кофе. А когда проголодаешься, в буфете лежит кусок ветчины, советую его съесть. Вино на обычном месте…
Жак работал в булочной меньше месяца, но уже чувствовал себя здесь как дома. Его хозяин Ляфуркад предоставлял ему полную свободу действий. Он только показал ему в первый день, где лежат продукты и посуда.
— Конечно, здесь тебе не «Лютеция» и даже не кондитерская Одебера. Во всяком случае, постарайся обходиться тем, что у нас есть. Я в твоем деле ничего не понимаю и берусь только снабжать тебя продуктами. Муки у нас много, а все остальное, что тебе понадобится в течение недели, заказывай мне, всякие там сахар, масло, яйца. Все другие вопросы решает жена. Торговля лежит на ней, и она будет тебе передавать заказы…
Жак без труда приспособился к характерам хозяйки и хозяина. Амедэ Ляфуркад был круглолицый, добродушный человек лет сорока, с брюшком, любивший, как все гасконцы, приврать. Его занимали только две вещи: выпечка хлеба и политика. Он трудился без устали и ценил хорошо выполненную работу. Самой его большой радостью было, когда он мог сказать, вынимая из печи золотистые и хрустящие батоны: «Не зря старался».
Он не терпел никакой небрежности, следил за всем, по любому пустяку выходил из себя, но тут же остывал и говорил своему помощнику: «Ничего с собой не могу поделать, но ты же знаешь, я не выношу халтуры. С хлебом, я уже тебе говорил, нужно обращаться так же нежно, как с женой в постели». В политике у него были свои теории. Он говорил, что в принципе всегда придерживается самых левых убеждений, и, по его утверждению, был искреннее многих членов партии, другими словами, настоящим коммунистом. До тридцатичетырехлетнего возраста он работал подмастерьем и был деятельным профсоюзным агитатором, чем очень гордился. Став собственником, он любил подчеркнуть, что в отличие от других хозяев остался тем, чем всегда был, то есть пролетарием. Он платил своим служащим по установленному профсоюзом тарифу и ни в чем, как сам говорил, не мог себя упрекнуть. Хозяин-то он хозяин, но разве плохо, если рабочие будут придерживаться его взглядов? К сожалению, думал он, молодые рабочие сейчас гораздо менее воинственно настроены, чем в его время. «Почему они ничего не делают, чтобы изменить положение? Мы тогда создали Народный фронт…» Булочник был знаком с Шарлем Мореном еще до войны, верил в него и говорил, что он из тех, кто не изменяет своим убеждениям. Ляфуркаду в жизни повезло. В течение пяти лет, проведенных в плену в Германии, он работал по своей профессии, а вернувшись домой, женился на молодой вдове одного пекаря. Они продали прогоравшую булочную и, добавив к вырученным деньгам сбережения Ляфуркада, купили магазин в районе Монружа…
Люди, глядя на него и на его жену, довольно красивую, пышную и кокетливую женщину, говорили: «Да, у этого увальня есть все основания побаиваться за свое добро». В одном муж и жена были похожи: она так же ревностно относилась к торговле, как он к выпечке хлеба. В этом и крылся главный секрет их быстрого преуспевания. Жена уже с раннего утра была на ногах. Ее услужливость и неизменная улыбка покоряли покупателей. Она была любезна со всеми, никто от нее не слышал неприветливого слова; умела так аппетитно подать товар, что покупатель оказывался беззащитным. Ей-то и пришло в голову дополнительно к конфетам, шоколаду и печенью, соблазнительно выставленным в витрине, открыть производство пирожных. В течение нескольких месяцев у них работал кондитером один старик, который нанялся к ним временно, и Жак появился, как раз когда тот ушел.
Жак работал всю ночь с субботы на воскресенье и еще несколько вечеров в неделю. Благодаря высокой ставке он получал почти такую же заработную плату, как в «Лютеции», и в благодарность за это изо всех сил старался угодить своим новым хозяевам. Жена Ляфуркада сразу же оценила его мастерство и пришла в восторг от незнакомых ей сортов пирожных, которые привлекали ее покупателей не хуже, чем хороший хлеб.
— У меня теперь новый шеф-кондитер, — говорила она, — и вы можете заказать все, что вам захочется.
Она называла его «мсье Жак», но когда покупатель просил ее выполнить тот или иной заказ, кричала из магазина:
— Шеф, зайдите ко мне, нам нужно с вами посоветоваться.
И Жак, входя в роль «шефа», появлялся в колпаке, белой куртке и фартуке, край которого он затыкал за пояс.
— Не знаю, как ты этого добился, — говорил хозяин, — но жена в тебя влюблена.
Хозяева часто приглашали Жака к столу, и делалось это очень просто. Когда он задерживался на работе, хозяйка предлагала ему:
— Мсье Жак, поешьте с нами, ладно? Не отказывайтесь, я уже поставила вам прибор.
Иногда хозяин предупреждал его заранее:
— Завтра у нас хороший обед. Приходи в двенадцать и вместе с нами вкусно поешь…
За столом разговор неизменно заходил о политике, и Жак, узнав об убеждениях своего нового хозяина, которыми тот щеголял, решился предложить ему подписать протест против ЕОС.
— Ну, это уже давно сделано, хотя, честно говоря, я не верю в подписи. Нужна всеобщая забастовка…
Его жена высказывалась гораздо сдержаннее, она считала, что люди, у которых есть торговое дело, не должны заниматься политикой; это, впрочем, не мешало ей иметь свои собственные взгляды…
Хозяин и хозяйка очень нравились Жаку, он видел, что они искренне сочувствуют ему.
— Если хочешь знать мое мнение, — сказал ему как-то Амедэ Ляфуркад, — не ссорься с отцом. В конце концов он поймет тебя. Моему сыну сейчас всего пять лет, но когда ему будет пятнадцать, я пошлю его обучаться ремеслу к чужим людям, только так он станет человеком…
— Вы бы познакомили нас с вашей невестой, — попросила однажды хозяйка. — Она хорошенькая?
— Что за вопрос, — вмешался хозяин, — ясно, что хорошенькая.
Итак, Жак Одебер принялся за работу с приятным ощущением, что он в привычной обстановке и окружен славными людьми. Хотя была еще ночь, но он уже мечтал об ожидавшем его радостном дне. Теперь у Жаклины днем отдыха было воскресенье. Утром она пойдет вместе с делегатами своего квартала к районным депутатам. Жак встретится с нею в двенадцать часов в их комнатке. К этому времени она, как всегда, уже приготовит завтрак, а он, как всегда, принесет ей несколько «наполеонов», завернутых в прозрачную бумажку, и букет мимоз, который он купит у выхода из метро. После обеда он поспит, и в их распоряжении будет еще целый вечер. Куда бы им пойти? На этой неделе он неплохо заработал, можно попытаться достать дешевые билеты в Национальный народный театр… День свадьбы все еще не был назначен, но Фурнье надеялись получить новую квартиру в конце апреля — значит, Жаку нечего беспокоиться о жилье…
В Бержераке время делало свое дело. Одебер-отец так и не понял, почему сын решил остаться в Париже. В своих письмах он пока еще не упоминал о Жаклине, но все же перестал настаивать на возвращении сына в Бержерак, и Жак за это был ему признателен.
Покончив с хлебом, Амедэ Ляфуркад зашел на кухню выпить стакан вина.
— Ну, как дела? — спросил он Жака.
— Все в порядке.
— Ты читал газеты? Договорено о встрече в Берлине четырех великих держав.
— Вы думаете, что-нибудь получится?
— Трудно сказать. Во всяком случае, лучше спорить, сидя за столом, чем лезть в драку.
— Совет мира департамента Сены призывает собрать до этой встречи миллион подписей против ЕОС.
— Маловато…
* * *
Жаклина теперь чувствовала себя уверенно. У нее уже был опыт. Кроме того, в делегацию входило много народу. Сразу после собрания у педикюрщика повидать депутатов не удалось, они все находились в Версале. В течение недели было проведено тринадцать заседаний, тринадцать туров голосования, и только после этого наконец был избран президент республики. Такого еще никогда не бывало. На собрании комитета мира, когда разговор зашел о выборах, Ирэн Фурнье заметила:
— Все кандидаты, открыто выступавшие за ЕОС, были постепенно отсеяны…
— Да, ЕОС здорово пострадало, — вставил Леон Бурген.
— Не радуйтесь, — вмешался Огюст Пибаль. — Против Европейского сообщества выступил только один кандидат, но его не избрали. И им пришлось выставить такого кандидата, который занял нейтральную позицию. Совершенно неизвестный человек стал президентом.
— Мсье Пибаль, раз он президент Французской республики, он уже не неизвестный человек, — поправил его профессор Ренгэ.
После своей поездки в Прагу профессор все больше занимался вопросом, который волновал общественное мнение. В начале года он в числе ста профессоров подписал манифест против ремилитаризации Германии. Но ему не нравилось, что в коммунистической прессе то и дело упоминалась его фамилия, и он пожаловался Ирэн Фурнье.
— Зачем вы в своих газетах так часто пишете обо мне?
— Я к этому не причастна, господин профессор.
— Знаю, но надо им об этом сказать. По-моему, нечего поднимать на щит тех, кто уже подписал воззвание, разумнее воспользоваться ими, чтобы привлечь новых. А для этого лучше всего личное общение и обмен мнениями. Я сторонник встречи всех, кто интересуется этим вопросом, — я имею в виду не только участников движения за мир, но и всех остальных, а также и немцев, англичан, итальянцев, бельгийцев, чехов… словом, надо организовать нечто наподобие пражской конференции…
В местном масштабе он полностью одобрял деятельность комитета, который продолжал сбор подписей по домам и организовал свидания с депутатами…
Окрыленный поддержкой Ренгэ, Леон Бурген не прерывал связи с педикюрщиком. Парламентские дебаты в связи с концом года и рождественские каникулы снова отодвинули свидание делегатов с депутатами, но зато после споров удалось достичь единогласия.
Свидание было назначено на десять часов недалеко от дома депутата, которого было намечено повидать раньше других.
Жаклина пришла первая. Вслед за ней появилась Ирэн Фурнье. Она решила принять участие в этой делегации и потому, что это был первый опыт, и на случай, если в последнюю минуту кто-нибудь передумает. Вскоре к обеим женщинам присоединились Леон Бурген и Огюст Пибаль. Педикюрщик прибыл в своей малолитражке и, к удивлению Жаклины, привез преподавателя английского языка. Старушка плохо себя чувствовала и не поехала с ними. Леон познакомил жильцов с Ирэн, и все стали поджидать опоздавших. Прибежала, запыхавшись, консьержка.
— Представляете себе, муж ушел играть в карты с товарищами, и я его еле затащила домой.
Холостяк перепутал адрес и пришел последним. Он весело приветствовал всех, и они тронулись в путь…
— Ну и роскошь! — воскликнул педикюрщик, когда они вошли в дом, где жила женщина-депутат. — Если бы у меня была здесь квартира, я бы брал вдвое дороже.
В парадном они увидели какие-то непонятные приспособления, и учитель объяснил их назначение.
— Нажав кнопку, вы соединяетесь с жильцом, чья фамилия выгравирована на медной дощечке, и переговариваетесь с ним через эту маленькую коробку.
— Послушай-ка, Леон, — сказал Пибаль, — вот была бы умора, если бы ты меня так вызывал вниз.
— Я предпочитаю свистнуть, стоя во дворе, — ответил Леон. — По крайней мере всегда есть надежда, что какая-нибудь девушка тоже высунется в окно.
Ирэн строго посмотрела на них.
На звонок ответила горничная и кислым тоном попросила их подняться по черной лестнице. Преподаватель возмутился и гордо пошел по парадной лестнице. Остальные последовали его примеру. Дверь долго не открывали. Наконец горничная впустила их в переднюю, извинилась за промедление и объяснила, что ей пришлось пройти через всю квартиру.
— А вы по какому делу?
— Мы делегация.
— Вам не повезло. Госпожа находится в своем поместье и вернется только в понедельник вечером.
— Тогда вручите ей вот это письмо, — сказал Леон, предвидевший и такой случай. — Мы просим назначить нам свидание. Нам нужно с нею поговорить от имени шестисот пятидесяти семей, живущих на нашей улице, которые дали нам свои подписи.
— Сообщите депутату наши фамилии, — сказал педикюрщик, протягивая горничной свою визитную карточку.
— Понимаете, вы не одни, госпожа очень занята…
— А вы думаете, мы пришли сюда ради развлечения? — сказал учитель, вспомнив, как их оскорбили, предложив пройти через черный ход.
Холостяка забавляло происходящее.
— Передайте вашей хозяйке, что я — один из ее избирателей.
Горничная записала их фамилии, положила письмо на столик поверх стопки нераспечатанных писем и, вздохнув, сказала:
— Бедная госпожа. Сколько работы ее ждет!
Консьержка чуть не расхохоталась.
— Да, депутат МРП не отличается гостеприимством! — сказала она, когда они вышли на улицу.
После этой неудачи делегаты хотели было отправиться к депутату-социалисту, но учитель их отговорил. Он с ним знаком, тот и так против создания ЕОС. Не говоря уже о том, что коммунисты, упорно голосуя за кандидата в президенты, выставленного социалистами, расположили его к себе… Пибаль раскрыл газету. В ней были напечатаны фамилии тридцати девяти депутатов департамента Сены, официально выступивших против боннского и парижского соглашений.
— Что вы ищете? — спросил водопроводчика учитель.
— В списке этого депутата нет, а вдруг мы добьемся, чтобы и он публично заявил о своем протесте?
— Ну, если вы так настаиваете, идите, но без меня, — ответил преподаватель, — все равно мне уже пора с вами расстаться.
Они решили повидать независимого депутата, который, как было известно, принимал в одном кафе. Педикюрщик пригласил дам к себе в машину, а остальные сели в такси.
— Моторизованная пехота! — сострил Пибаль.
Они вошли в очень светлое помещение, в глубине которого видна была стойка и высокие табуреты.
— Депутат принимает в заднем зале, — сообщил им официант. — Вас вызовут, а пока ждите здесь.
Делегаты сели за столик. В очереди было человек двадцать, среди них много женщин с сумками, наполненными провизией. Глядя на них, Жаклина пожалела, что с утра не сходила на рынок. Педикюрщик заказал своим знакомым по стакану вина. Время от времени в глубине зала открывалась застекленная дверь и девушка с ярко-красными ногтями вызывала:
— Прошу следующего.
— Здесь как у зубного врача, — заметила консьержка. Она нервничала, что оставила дом без присмотра.
Когда они вошли, депутат, маленький толстяк, беспрерывно вытиравший пот со лба, поднял голову и воскликнул:
— Боже, сколько народу!
На столе у него лежал ворох бумаг и стояли пустые бутылки из-под воды. Огромная пепельница была наполнена окурками. Он попросил прощения за то, что не хватает сидений на всех, и послал секретаршу еще за одним стулом, чтобы усадить хотя бы дам.
Ирэн Фурнье немедленно приступила к делу и вынула листы с подписанными петициями.
— Знаете, подписи нетрудно подделать, — сказал депутат.
— Простите, — вмешался педикюрщик, — но за каждой из них следует совершенно разборчивая фамилия и адрес. Можете убедиться собственными глазами.
Депутат устремил хитрые серые глазки на отворот пиджака собеседника, где красовалось несколько орденских ленточек, и внимательно просмотрел списки.
— Все эти люди живут на одной и той же улице?
— Совершенно верно, господин депутат.
— А что это за улица?
— Наша улица, — гордо ответил Пибаль.
Добрая половина подписей была собрана им.
— Поздравляю вас, молодой человек, — с легкой насмешкой сказал депутат, но, видно, внушительный облик педикюрщика возымел свое действие, и толстяк тут же переменил тон.
— Ладно. Давайте поговорим серьезно. Какую угрозу видите все вы в этом сообществе?
Консьержка отметила, что депутат сказал «все вы», признавая тем самым, что они не первые, и с такой силой толкнула локтем Жаклину, что та чуть не прыснула со смеху. Педикюрщик изложил свои доводы: ликвидируется французская армия, и Франция теряет свою независимость…
— И если немцам понадобится рабочая сила, моего мужа тут же ушлют в Рурскую область, — добавила консьержка. — По-вашему, это правильно?
— Об этом нет и речи. ЕОС создается для защиты от Советского Союза. Может быть, именно это вам и не нравится?
— А кто, по-вашему, три раза вторгался во Францию? Русские или немцы? — жестко спросил холостяк, и беседа приняла резкий характер. В конце концов депутат, отвечая на очередной вопрос Ирэн, встал, давая понять, что разговор окончен.
— Не мне осуждать тех, кто будет голосовать за ЕОС. Возможно, это не самый лучший выход, но зато благодаря этому сообществу мы станем сильнее, Америка не будет нашим противником.
— Ну а как вы собираетесь голосовать?
— Я поступлю в соответствии с интересами государства.
— Еще немного — и мы бы победили, — сказал Пибаль, когда они вышли из кафе.
В общем они были удовлетворены результатом своего посещения.
— Вы заметили, он не нашелся что ответить на мой вопрос о французской независимости, — самодовольно сказал педикюрщик.
Он развез женщин по домам. Жаклина поспешила в магазины, она боялась, что запоздает с обедом.
* * *
— Папа! Как ты сюда попал? — и Жаклина бросилась на шею отцу. Он ждал ее в гостиной отеля. Мадмуазель Перванш при виде Жаклины встала и медовым голосом сказала:
— Наконец-то! Представляете себе, ваш отец собирался уйти, не дождавшись вас, и вернуться только после обеда. Но я знала, что вы должны скоро быть, и задержала его…
Она незаметно подмигнула Жаклине, как будто спрашивала ее: «Он знает?» Та в ответ отрицательно покачала головой.
— Папа, ты когда приехал?
— Сегодня утром. Я немного погулял, прежде чем прийти сюда.
— Ты надолго?
— До завтрашнего вечера, а может быть, и до вторника. Ты меня, конечно, приглашаешь обедать?
— Обязательно. Пойдем в ресторан?
— Ничего подобного. Мы пообедаем у тебя. Не ждала меня?
— Конечно, нет. Ты бы хоть предупредил…
— Все это выяснилось только позавчера вечером, я знал, что в воскресенье ты не работаешь, и уехал на день раньше, чем мне было нужно.
Леру повесил плащ на спинку кресла. На нем был приличный серый костюм, совсем новый пуловер, видимо связанный Дениз Леру, и галстук, который Жаклина подарила ему в день рождения. Его длинные седеющие волосы были аккуратно зачесаны назад, он только что побывал у парикмахера. Жаклина с радостным недоумением оглядывала его — она никогда не видела отца таким элегантным.
— Ну, дочурка, довольна своим отцом? Ты какая-то странная.
— Это от радости.
Она пропустила его вперед и, вспомнив на лестнице, что забыла ключ, спустилась в вестибюль. Мадмуазель Перванш была в смятении.
— Что же он подумает, когда увидит вашего жениха?
— А он уже пришел?
— Нет, но… А что ему сказать?
— Не знаю… Пусть подождет… я спущусь…?
— Ваш отец очень приличный человек. Я просто не знала, что ему говорить.
— Он вас расспрашивал?
— Нет, но он много рассказывал о вас. Боже мой, как он к этому отнесется?
Леру ждал Жаклину на площадке.
— Настоящий дворец! Я решил тебя подождать здесь, ты ведь не сказала, на каком этаже живешь.
— На самом верху, я пройду вперед…
Жаклина первой вошла в комнату и поспешно затолкнула ногой высунувшийся из-под дивана ботинок Жака. Хоть бы второй-то не валялся где-нибудь на самом виду!
— Папа, входи. Повесь плащ вон там, за дверью…
Пока он возился у вешалки, она сняла с туалетного столика стакан с зубными щетками и электрическую бритву.
— До чего же у тебя уютно! Сколько ты платишь? — спросил отец.
— Восемнадцать тысяч франков.
— В месяц? Как же ты выкручиваешься?
— Ну что ты! За три месяца.
— Твоя хозяйка сказала мне, что она сдает помесячно, поэтому я тебя и не понял. Да, но и за квартал это тоже дороговато. Я попросил, чтобы мне сдали здесь комнату на одну ночь, но хозяйка указала мне другую гостиницу, по соседству. Болтлива, как сорока. А какие она мне строила глазки, ты не представляешь себе. Да в общем-то я могу переночевать и у тебя. Там еще одна комната?
— Нет, кухня, совсем крошечная… Подожди, не ходи туда, там страшный беспорядок.
Жаклина проворно сдернула с веревки нейлоновую рубашку Жака и несколько успокоилась.
— Прости, но я даже не спросила о здоровье мамы. А как Мирей? Братья?
— Все здоровы и просили тебя поцеловать.
— Теперь входи, я сейчас приготовлю обед.
Жаклина разложила на столе содержимое своей сумки: батон, бутылку вина, кусок мяса, устрицы, картошку, салат, апельсины…
— Эге! Ты себе ни в чем не отказываешь!
— Хочешь жареной картошки?
— До чего же я удачно попал! Можно подумать, что ты готовилась к моему приезду.
— Да, ты же мне не сказал, зачем ты приехал.
— Меня включили в делегацию, которая должна повидаться с депутатами Жиронды. Мы решили отправиться к ним в палату.
— Тоже по поводу ЕОС?
— Откуда ты знаешь?
— Я сама этим занимаюсь… — и Жаклина сообщила о сегодняшнем посещении депутатов.
— Ну, доченька, ты меня очень обрадовала…
Леру принялся восторженно рассказывать дочери о последних событиях в Бордо. Там основали комитет борьбы против перевооружения Германии и собрали деньги, чтобы отправить делегацию в Париж. Пока что приехала одна делегация, но за ней последуют и другие. Он будет говорить от имени портовых рабочих.
— Мы им привезли двадцать тысяч подписей! И ты увидишь, какая у нас делегация. Доктор, профессор университета и даже один полковник в отставке. Мне пришлось одолжить у товарища костюм, чтобы достойно выглядеть… Да, я забыл еще тебе рассказать о Фернане, ну, ты его помнишь, наш почтальон, так он тоже должен был с нами поехать. Неплохо было бы иметь представителя «Форс увриер». К сожалению, он в последнюю минуту сдрейфил. Возмущен войной во Вьетнаме, а вот с ЕОС все колеблется. Ничего, и он поймет. И после этого ты будешь еще утверждать, что твой отец сектант!
— А я никогда этого не говорила.
— Знаю, но я не забыл упрека, который ты мне сделала после забастовки. А кто оказался прав?
Жаклина слушала его рассеянно, думая о том, что скоро должен прийти Жак. Не может же она скрыть правду от отца. Ну чего она боится? Он ее отругает? Но она не совершила ничего дурного. Он может не поверить в честные намерения Жака? Она сумеет его переубедить. Собственно говоря, ее смутила хозяйка гостиницы, она-то и навела на нее страх… Гораздо хуже изворачиваться, лгать…
— Послушай, папа, я должна тебе сказать…
Он посмотрел на нее такими непонимающими глазами, что вся ее решимость исчезла.
— Мне надо было бы тебе сообщить сразу…
— Ну, продолжай, ты что, боишься меня?
— Видишь ли, я живу не одна…
— Знаешь, это можно заметить и невооруженным глазом. Если ты хотела это скрыть, надо было убрать его галстук с вешалки и ботинок со стула…
— Ты его знаешь, это Жак…
— Все и так ясно, вон его фотография на столике.
Жаклина расцеловала отца.
— Ты у меня замечательный!
— Эх ты, дрянная девчонка! Да, но надо все-таки оформить ваш брак.
XIX
— «Иль де Франс», номер двести двадцать четыре… «Иль де Франс», number two twenty-four…» — выкрикнула продавщица в салоне Фардена, где и мебель и стены были выдержаны в серых тонах.
На сцене появилась хорошенькая манекенщица в костюме «Иль де Франс». Когда она проходила по эстраде мимо зрителей, раздалось всего несколько приглушенных одобрительных возгласов, но в общем модель восторга не вызвала.
Фарден, знаменитый закройщик, как всегда, присутствовал на просмотре своих новых моделей. Он сообщил гостям, что в этом костюме, на первый взгляд очень простом, он стремился обыграть самую красивую и длинную линию женского тела, которая обрисовывает бюст, подчеркивает округлость бедер и изящным изгибом спускается ниже колена.
Зрительницы, в зависимости от возраста и фигуры, по-разному отнеслись к новой модели. Одни, опустив лорнет и нагнувшись к соседке, прошептали: «Слишком узкая юбка и вообще простовато». Другие нашли, что в костюме нет ничего оригинального. Маринетта Делорм была в числе тех, кто оценил чисто парижскую изысканность модели «Иль де Франс».
Накануне Фарден принимал представителей прессы. Сегодня он показывал свои модели 1954 года избранной публике. Здесь были многие из тех нарядных дам и пожилых мужчин, которых несколько недель назад можно было встретить в версальском «Трианон паласе». Помимо зрителей, было много покупателей, немало иностранцев, в основном американцев, которые платили за право присутствовать на этом открытии сезона по 350 тысяч франков с человека. В первых рядах сидели дамы, все в темных платьях. Мужчин здесь было не меньше, чем женщин, и их интересовали гораздо больше манекенщицы, чем модели.
Маринетта с трудом сдерживала себя, чтобы не высказать свое мнение вслух. Она была в восторге от выдумок, которые обнаруживала в каждой модели. Ее ошеломил этот калейдоскоп туалетов. Она впервые попала к Фардену и была глубоко благодарна Анри за то, что он дал возможность ей, молодой и красивой женщине, насладиться прекрасными вещами и выбрать среди них любую по своему вкусу.
Просмотр начался с очень скромных моделей, к каждой из них Фарден подобрал зонтик, шляпу, перчатки, туфли и даже драгоценности. Платья были из тонких материй, всяких органди, муслинов, кружев, и придавали женской фигуре летнюю воздушность.
— Тебе что-нибудь понравилось? — спросил Анри Вильнуар Маринетту.
— Всё.
Показывали серию гладких платьев, доходящих до колен. Грудь в них казалась совершенно плоской, и из огромного декольте без воротничка вызывающе торчала голая шея. Маринетта сказала:
— Так и хочется набросить шарфик.
— А мне — укусить или поцеловать… — ответил Анри.
— У мужчин только это на уме.
В некоторых моделях Маринетта обнаружила влияние американской моды; искусственные букетики и фрукты, шляпы в форме коробок, закрывающие лоб почти до самых бровей, кричащие сочетания лимонного цвета с электрик на черном или бежевом фоне — все это не соответствовало французскому представлению о красоте. На Маринетту эта безвкусица произвела отталкивающее впечатление.
— Как можно сочетать фиолетовый цвет с коралловым? И ярко-красный с голубым?
К счастью, таких платьев было мало, видимо, это была уступка заокеанским покупателям. Маринетта восторженно разглядывала вечерние платья, в которых Фарден сумел мастерски обыграть тафту, плиссировку и кружева. Она нашла, что талант знаменитого закройщика развернулся во всю свою силу в моделях костюмов.
— Ты знаешь, «Иль де Франс» просто создан для моей фигуры, — сказала она Анри.
— Тебе бы хотелось такой костюм?
— Еще бы!
Последние модели напоминали оперетту. Внимание Маринетты привлекло роскошное белое пальто…
Фардену лестно было заполучить такого клиента, как Вильнуар, и поэтому, когда тот с Маринеттой через несколько дней снова пришли к нему, он сам вышел принимать заказ.
— Мадам, — обратился он к Маринетте, — только вы и еще одна знаменитая актриса, чье имя я пока не могу раскрыть, выбрали мой костюм «Иль де Франс». Это говорит о вашем хорошем вкусе. Во время просмотра, как вы могли заметить, эта модель почти не имела успеха. Мне жаль тех, кто не оценил этот костюм, так как теперь его судьба решена. Весной о нем все заговорят, а осенью он будет самым модным.
С изысканной любезностью Фарден познакомил заказчиков с организацией производства. На него работают двадцать мастерских, четыреста человек, десять манекенщиц. Перед подготовкой к каждому показу моделей Фарден получает двенадцать тысяч образцов материй. «…Я выбираю шестьсот. Материал, видите ли, помогает нам осуществить наши дерзания, пробуждает в нас идеи, вдохновляет нас». Два раза в год, в июне и декабре, Фарден уезжает на Средиземноморское побережье и там рисует эскизы новых моделей… Большая часть из них, примерно две трети, бракуется во время примерок. Надо еще определить, какая материя подчеркнет в каждой модели ее отличительные свойства, подобрать обувь, перчатки, украшения. До первого просмотра доходит всего около двухсот моделей. Окончательный отсев производится клиентурой.
— Сколько времени занимает создание каждой модели?
— На костюм, который вы выбрали, сударыня, ушло триста семьдесят пять рабочих часов. С момента рождения модели и до показа публике его носит одна и та же манекенщица.
В выборе материи Маринетта послушалась совета закройщика. Костюм будет из коричневого твида, на подкладку пойдет фай, а вместо холста под борта будет поставлено органди.
— Стоимость материала составляет двадцать процентов цены модели, — сказал Фарден Вильнуару. — Естественно, что сто тысяч франков, которые вы уже внесли, будут зачтены. Но я думаю, что вы, сударыня, еще что-нибудь выберете.
Маринетта не отказалась бы от белого пальто, но ей не хотелось в один прием истощить щедрость своего возлюбленного, и она, просмотрев еще несколько моделей, попросила время на размышление.
— Ну как, довольна? — спросил Анри, когда они сели за свой столик в ресторане «Лютеция»
— Ты просто ангел.
Анри Вильнуар находился на грани осуществления всех своих честолюбивых стремлений и почти достиг вершины счастья. Его назначение на пост товарища министра, а может быть даже и министра, должно было произойти в ближайшие дни. Изменения в правительстве, о которых уже шла речь, были отложены из-за берлинской конференции четырех министров иностранных дел. Правительство давно уже находилось в шатком положении, в основном из-за войны во Вьетнаме, и кризис назревал.
Председатель Совета министров и министр иностранных дел упорно проводили политику с позиции силы и оставались глухи к протестам, поднимавшимся со всех сторон против дальнейшего ведения войны, которая многим казалась безысходной. Сильная оппозиция, существовавшая в самом парламенте, угрожала при первой же возможности свергнуть опороченный в глазах общественного мнения кабинет. В предвидении этого сражения министры решили ввести в состав правительства несколько новых людей, и среди них Вильнуара. Ссылаясь на его известное всем отрицательное отношение к продолжению войны, можно было заткнуть рот оппозиции и таким образом оттянуть кризис. Кроме того, все знали, что депутат Дордони принимает ЕОС с оговорками, которые в последнее время стали еще более значительными; по-видимому, он, а за ним еще около тридцати депутатов того же направления откажутся ратифицировать парижское и боннское соглашения. Если же его назначить министром, он займет более умеренную позицию и существующий кабинет сможет еще продержаться.
Вильнуар был достаточно искушенным человеком, он понимал, какими расчетами было вызвано благожелательное отношение к нему правительства. Но так как эти расчеты помогали осуществить его честолюбивые стремления и в личной жизни достичь цели, к которой он больше всего стремился, то он решил на них сыграть.
— Если они хотят нас заполучить, пусть не скупятся, — говорил он своим близким, подразумевая под этим, что второстепенный пост его не удовлетворит.
Но у него был и более дальний прицел. Он собирался в случае, если положение правительства станет еще более шатким, со скандалом покинуть тонущий корабль, обеспечив себе таким образом возможность войти в новый состав кабинета и там получить более значительный пост. Словом, и в том и в другом случае он выигрывал, и Вильнуар отнюдь не собирался пренебрегать представившимися возможностями. Маринетта, понятно, полностью одобряла его планы.
— Получив назначение, я сразу же подаю на развод, — заявил он ей.
В ответ на это его белокурая возлюбленная устремила на него взгляд балованного ребенка. Ему каждый раз казалось, что от этого взгляда он молодеет на двадцать лет.
— О чем ты думаешь, дорогая?
— О белом пальто…
А в это время волшебницы-мастерицы Фардена всего за 160 франков в час превращали куски материи в великолепные весенние платья…
В подвале «Лютеции» тоже шла работа. Кухня напоминала преисподнюю, печь, где жарилось мясо на вертеле, пылала, как кузнечный горн, плиты были накалены добела, печи кондитерского цеха выбрасывали большими партиями печенье, покрытое еще не застывшей глазурью… Клюзо, стоя у щита, подгонял служащих. Краснолицый Брисак ждал своей очереди, чтобы включиться в хоровод. Жаклина, бегом поднимаясь по лестнице в кафе, мечтала о том, как она сегодня купит новую блузку. Ей тоже хотелось принарядиться…
* * *
Вильнуар был назначен министром только три недели спустя. Ему сообщили об этом в Перигё.
— Господин министр? — спросил по телефону чей-то незнакомый голос. — Имею честь…
— Говорите громче. Кто это?
— Председатель Совета министров… Радио и пресса скоро сообщат об этом… Президент настоял, чтобы вас поставили в известность немедленно… Да, да, министром торговли.
Вильнуар сиял. Его вполне устраивало назначение в министерство торговли, которое недавно было выделено из министерства промышленности.
На только что закончившейся берлинской встрече было решено провести конференцию в Женеве при участии Китая, на ней будут поставлены вопросы о Корее и Индокитае. Тот, кто ждал разрешения германского вопроса, был разочарован, но Вильнуар считал, что созыв конференции предвещает изменение международной обстановки и открывает в экономическом плане возможность торговать с теми странами, которые до сих пор были отрезаны от Франции. Этот вопрос давно волновал его отца, и тот еще совсем недавно заявил ему:
— Нам следует брать пример с англичан. Американский контроль, как некогда блокада Наполеона, не помешал им торговать с теми государствами, с которыми торговля выгодна.
Вильнуар знал, что перед ним стоят не легкие задачи, но, будучи министром торговли, он сможет без особого риска сделать карьеру и разыграть из себя передового деятеля. Первым поздравил его префект. В тот вечер в фамильном замке торжественно отмечали назначение Анри министром.
По этому случаю Вильнуар-отец потребовал, чтобы подавали шампанское только того года, когда родился его сын. Мать, в вечернем платье, с величием королевы принимала гостей. Одна только Элен не появилась в гостиных, и никто о ней не вспомнил. Ее поведение радовало Анри, теперь перед ним не стояло больше никаких препятствий, и ему не терпелось поскорее получить развод.
На следующий день, прежде чем сесть в свой «кадиллак» и ехать в Париж, Анри Вильнуар счел нужным попрощаться с женой. Она одетая лежала на диване и, видимо, не спала всю ночь.
— Вот как ты относишься к моему назначению!.. — сказал Анри.
— Ты же знаешь, что дело не в этом.
Вокруг Элен валялись модные журналы. Она протянула ему вырванную страничку, на которой была напечатана великолепная фотография, изображавшая просмотр моделей у Фардена.
— Посмотри…
— Ну и что?
— Это она?
— А я от тебя ничего и не скрываю.
— Вы будете жить вместе?
— Конечно, раз мы поженимся.
Элен упала перед ним на колени.
— Анри, выслушай меня… я готова на все… только не бросай меня…
Он не двигался с места и молчал, жалея, что пришел, опасаясь скандала, обычной истерики, похожей на приступ безумия. Но он торопился, у подъезда стояла машина, в которую уже были уложены вещи. Сегодня вечером в Париж должна приехать Маринетта… Она поклялась, что в Вандом больше не вернется.
— Знаешь, давай покончим с этой комедией. Так будет лучше и для тебя и для меня.
— Ни за что.
— Будь благоразумной.
— Анри, не бросай меня…
Вильнуар ожесточился.
— Хватит в конце концов.
— Не уходи от меня…
Он резко ее оттолкнул.
— Оставь меня в покое… Отстань. Я уже сказал, что мы с тобой разводимся. Ясно?
— А как же с детьми?
— Чепуха, они же в пансионе.
— А что будет со мной?
— Возвращайся в свою лавчонку, там тебе место.
— Это невозможно.
— Тогда убирайся к черту.
Она еще пыталась его удержать, соглашаясь на все, на оскорбления, на унижение, лишь бы он ее не бросил. Вильнуар снова оттолкнул ее.
— Мое терпение лопнуло, прощай.
— Анри, Анри! Оглянись…
Он обернулся и презрительно посмотрел на нее. Она жалобно проговорила:
— Если ты уедешь, я умру…
Возможно, он и не прочел в устремленных на него с мольбой глазах страшной драмы, которая назревала, и не увидел, как Элен протянула руку к открытому в ночном столике ящику и вынула револьвер.
— Умирай, раз ты не даешь жить другим. Я ничем не могу помочь…
Первая пуля попала ему в плечо, вторая в спину… Он не успел ухватиться за ручку двери и тяжело рухнул на пол, а его жена, как безумная, продолжала стрелять…
В это время в том же городе Роз, лежа на кровати, соединив ноги вместе и вытянув руки вдоль туловища, проделывала утреннюю гимнастику, которая должна была ее научить правильно дышать и расслаблять мышцы. Шарль присутствовал на одном уроке доктора Симонена и теперь с очень серьезным видом руководил Роз.
— Хорошо, выдох… расслабь мышцы…
Он поднял ее руку и опустил, она упала как плеть.
— Отлично!
Прижав к кровати ноги Роз, Шарль посмотрел ей в глаза и сказал:
— А теперь садись.
Роз прыснула со смеху.
— Что с тобой?
— Ничего, мне стало смешно… я представила себе выражение лиц твоих товарищей. Видели бы они тебя в роли акушерки!
— Ну что ж, не так уж плохо справляюсь, — сказал Морен и тоже рассмеялся.
* * *
Парижские вечерние газеты на первой странице напечатали сенсационное сообщение: «Анри Вильнуара застрелила жена… Министр торговли убит наповал…» Одна из газет дала даже следующий заголовок: «Любовная драма или политическое убийство?» В первых выпусках говорилось, что трагедия произошла совершенно неожиданно, но следующие уже объяснили, что женой руководила ревность…
Все описания убийства сопровождались биографией, восхваляющей покойного. Благодаря имени пострадавшего это происшествие превратилось в общественное событие и в течение нескольких дней давало пищу журналистам, вцепившимся в сенсацию. Газетчики жадно накинулись на первые заявления, сделанные Элен Вильнуар, которая находилась в тюрьме в Перигё. Были допрошены семья Вильнуаров и прислуга замка. Репортеры осаждали Маринетту Делорм, которая не торопилась уехать в Вандом и охотно позировала кинохроникерам. Появились очерки, репортажи, интервью и фотографии, показывающие жену и любовницу, обманутую женщину и вдохновительницу министра, глаза, полные мольбы, и глаза соблазнительницы. Иллюстрированные журналы не упустили случая сообщить, что на красавице Маринетте костюм от Фардена…
Все сочувствовали несчастной жене…
— Она была хорошая мать, — сказала Флери консьержке Томасен, ожидая начала собрания комитета мира.
— Ей наверняка нелегко жилось в такой семье, — заметила Томасен. — Но если бы у меня был такой муж, я бы все равно не валялась у него в ногах…
Смерть Вильнуара огорчила Леона Бургена. Некоторое время тому назад он и его друзья из комитета разработали новый метод воздействия делегаций на депутатов. Все труднее было добиться личного свидания с депутатами, и было решено убеждать их при посредстве их жен. Такая система имела свои преимущества. На женщин приводимые сторонниками мира доводы производили большее впечатление, чем на их мужей; члены комитета переговорили со всеми женами депутатов и уже добились положительных результатов. Так, например, независимый депутат явно начал сдаваться. Анри Вильнуар, правда, не был районным депутатом, но жил в этом же квартале, и поэтому делегаты в сопровождении учителя побывали у Маринетты Делорм.
— Она нам пообещала, что он не будет голосовать за ЕОС, — сказал Леон. — Жаль, что его убили…
— Знаешь, когда человек становится министром, он меняет свои взгляды, — утешил его Огюст Пибаль.
Пришла Ирэн Фурнье. Ждали только ее. Она попросила прощания за опоздание и объяснила, что ее вызвали в Национальный Совет Мира. Там ей сообщили одну важную новость. Группа деятелей, и среди них президент Эррио, выступили с призывом провести тринадцатого марта день протеста против перевооружения Германии. Все районные комитеты мира должны принять участие в делегациях парижского населения, которые в этот день устроят демонстрацию у Триумфальной арки и возложат цветы на могилу Неизвестного солдата.
— Хорошо бы к этой дате собрать второй миллион подписей в департаменте Сены, — сказал Пибаль. — А то нам нечем похвастаться.
— Это не относится к нашему комитету, — запротестовал Бурген. — У нас уже около десяти тысяч.
— Но мы еще не у всех жителей нашего района получили подписи. Надо использовать обращение актеров кино и театров к депутатам…
Ирэн попросила аббата Дюбрея провести собрание вместо нее и поспешила к Ренгэ. Профессор был дома, но она попала в неудачный момент. Он готовился к лекции, которую должен был читать завтра в Коллеж де Франс. Несмотря на это, он сразу ее принял.
— Прошу вас, детка, садитесь. Что вас ко мне привело? Я вижу, вы загляделись на мою библиотеку? У меня три тысячи книг, но я с закрытыми глазами найду любую из них. Вас это удивляет? Я все ставлю на место сам…
Ирэн сказала, что ей поручили сообщить ему о предстоящем мероприятии. Профессор прервал ее:
— Я уже знаю, ведь я же дал согласие. Конференция состоится двадцатого марта во дворце Орсэ, но я нахожу, что это поздновато. Ратификация ЕОС должна произойти в конце месяца, и по моему настоянию ведутся переговоры с английскими лейбористами. Немцы обязательно приедут — нельзя же обсуждать этот вопрос без них. Но здесь нужно…
— Речь идет не о конференции в Орсэ, а о народной демонстрации у могилы Неизвестного солдата…
— Это еще что за демонстрация?
Ирэн вкратце рассказала ему о намеченной манифестации.
— Очень хорошо, но как бы из-за этого не уменьшилось количество участников нашей встречи двадцатого марта. Видите ли, хотя некоторые утверждают, что берлинская конференция четырех министров провалилась, она все же открыла новые перспективы. Так, например, в вопросе разоружения…
Профессор пустился в рассуждения. Раз германская проблема сейчас не может быть разрешена, следует серьезно заняться вопросом разоружения. Большим достижением берлинской встречи было решение, принятое Соединенными Штатами, СССР, Великобританией и Францией, рассмотреть эту проблему.
— Вы понимаете мою мысль? Великие державы хоть и робко, но все же встают на путь разоружения, и даже если они только приостановят подготовку к войне, уже не будет оправдания для ремилитаризации Германии и надобность в ЕОС отпадет…
Ирэн вежливо слушала профессора, но, воспользовавшись передышкой, вставила:
— Вас просят подписать призыв к демонстрации тринадцатого марта, под которым уже стоят имена видных деятелей.
— Кто меня просит?
— Друзья из французского Совета Мира.
— Нет, это несерьезная затея. Я не против, но зачем мне подписывать? Вы говорите, Эррио поставил свое имя? Это точно?
— Да.
— Тем более, хватит подписей и без моей.
Ирэн неохотно встала.
— Что же мне передать?
— Скажите, что я все-таки пойду к Триумфальной арке.
* * *
Собрание комитета закончилось раньше обычного, и Жак успел встретить Жаклину. Выдался теплый вечер, и они пошли погулять по бульвару…
Жак был в хорошем настроении. Сегодня от отца пришло письмо, в котором он впервые заговорил о Жаклине. Конечно, Филипп Одебер не утверждал, будто рад выбору сына, но, во всяком случае, он перестал возражать против их женитьбы. Он писал, что собирается приехать в Париж на свадьбу, и просил только сообщить ему заранее дату этого торжества. По принятому обычаю он оплачивает половину стоимости свадебного ужина и собирается устроить его в хорошем ресторане.
Если же у будущего тестя и тещи его сына нет денег, он согласен взять все расходы на себя, с тем чтобы отметить этот день без особой роскоши, но пристойно. Он не убежден, что Анриэтта сможет приехать, она все еще не оправилась после аварии, да и не стоит оставлять кондитерскую на попечение чужих людей. Но Жак может рассчитывать на его присутствие на свадьбе. В конце письма отец желал ему счастья. Одновременно пришел денежный перевод для покупки двух золотых колец.
— Я сразу ему ответил и послал твою фотографию.
— Как ты думаешь, он в конце концов полюбит меня?
Юноша вспомнил радушие Леру, при первом же знакомстве назвавшего его товарищем и сказавшего ему: «Если ты останешься таким же, мы с тобой по-настоящему подружимся», — и ответил:
— Обязательно полюбит. И даже сделает тебе хороший свадебный подарок. Но скорее всего он никогда не поймет, что, выбрав тебя, я встал на новый путь. Мы с тобой, Жаклина, должны надеяться только на самих себя.
— Если ты будешь со мной всю жизнь, мне больше ничего не нужно.
— Всю жизнь… Ты представляешь себе, что это значит? Сколько счастья нас ждет…
Мимо них прошли девушка и молодой человек. Наверное, и они говорили о том же самом. Жаклина еще крепче сжала руку Жака.
— Мсье Одебер!
Жак обернулся на знакомый голос.
— Прости, я сейчас тебя догоню.
Жаклина с недовольным видом ушла вперед. Юноша, сопровождавший Лору, отошел в сторону. Дочь заведующего винным погребом первая протянула Жаку руку.
— Вы на меня сердитесь?
— Я? За что?
— Мой отец очень дурно поступил по отношению к вам. Ведь вас выгнали из-за него.
— Я знал, что так будет, вы же меня предупредили.
— Но я со своей стороны сделала все, чтобы его отговорить, имейте это в виду.
— Я вам верю, Лора.
Она, как всегда, была элегантна. На ней было желтое пальто, черные перчатки и маленькая сумочка под цвет пальто. В ее больших глазах исчезло тревожное выражение, и она, спокойно глядя на Жака, сказала:
— Я не хочу вас задерживать. Ваша невеста вас ждет.
— Вас тоже ждут.
— Очаровательный юноша, не при нем будь сказано. Тоже студент, как и я… Кстати, помните, вы мне предлагали подписать протест?
— Да, и я еще добавил, что подписывать можно, только если убежден в его справедливости.
— Ну так вот, если вам это доставит удовольствие, могу сообщить, что вчера я дала свою подпись…
— Это была Лора Брисак, — сказал Жак, догнав Жаклину.
— Я не слепая.
— Она извинилась за поступок своего отца.
— Естественно.
— Чего ты дуешься?
— Ничего.
— Ты же знаешь, что между нами все кончено.
— Надеюсь.
— Кстати, у нее появился друг.
— Неужели ей так спешно нужно было поделиться с тобой этой новостью?
— Чего ты злишься?
— Ты же упрекнул меня по поводу Леона?
— Ну, это совершенно разные вещи.
— Но ведь Леон наш товарищ.
— Называется товарищем, а сам ухаживал за тобой.
— Видишь, тебе это тоже не по вкусу.
Жак обнял ее и поцеловал в губы, не обращая внимания на прохожих.
XX
Хоть Роз Франс и знала, как все произойдет, она не ожидала, что роды начнутся так скоро. Роз ощутила подобие судороги в животе. Знакомая с этим чувством по описаниям, она и обрадовалась и испугалась. Обрадовалась, что приближается долгожданный момент, испугалась, что это только начало… Она вспомнила о советах врача на последних занятиях: «Когда начнутся схватки, не теряйте голову… Не торопитесь. Спокойно, не спеша одевайтесь, пошлите мужа за такси…»
К сожалению, мужа не было в городе и он не вернется к родам. Они высчитали, что ребенок должен родиться шестнадцатого марта. Сегодня же только тринадцатое. Шарль Морен сейчас находился в поезде, на полпути в Перигё… Он должен был завтра утром принять участие в демонстрации, которая состоится у памятника погибшим на фронте во время последней войны. Он собирался вернуться через день. Какое число это будет? Пятнадцатое. Возможно еще, что это ложная тревога. Роз зажгла свет, взяла с ночного столика раскрытую книгу, но тут же положила обратно. Из уроков она знала, чем вызваны сокращения, которые она сейчас чувствовала, и, сделав глубокий вдох, Роз не спеша расслабила мышцы… Да, сомнений нет, это схватки. Боль показалась Роз вполне терпимой, и она поняла, что сумеет ее преодолеть. Она вспомнила, что ей надо проследить за частотой схваток. Будильник, который тикал, как ей казалось, в такт биению ее сердца, показывал час ночи. Рядом с Роз лежала Ирэн Фурнье, она спала…
Ирэн и Луи настояли, чтобы Роз на время отсутствия Шарля перебралась к ним. Луи уходил на ночь к одному товарищу, шоферу такси, который жил на той же улице. Таким образом, если роды начнутся ночью, в их распоряжении будет машина…
Роз с начала марта жила в Париже и благодаря этому смогла пройти весь курс занятий у доктора Симонена. В последнее время ей стало трудно двигаться и она мечтала поскорее родить. Она мало выходила на улицу, стараясь как можно реже подниматься на шестой этаж, и целыми днями вязала, сидя в комнате мужа. Шарль забегал пообедать, снова уходил в парламент и большей частью возвращался домой к полуночи. Жили они скромно; Морен, как и все его коллеги-коммунисты, вносил депутатское жалованье на нужды партии и взамен получал заработную плату рабочего. Но у них было неисчислимое количество друзей, и они надарили им массу вещей: товарищи из профсоюза сложились и купили детскую коляску, бывшие партизаны преподнесли складную кроватку, женщины сшили приданое.
Супруги Фурнье, когда Шарль уезжал, сказали ему: «Не волнуйся, она будет не одна». Последнее время Роз плохо спала. Вчера вечером она довольно долго читала и только успела задремать, как начались первые схватки… Ирэн, проснувшись, увидела, что Роз уже одета и собирает чемоданчик.
— Плохо себя чувствуешь? — обеспокоенно спросила Ирэн.
— Нет, наоборот, я, кажется, скоро рожу.
— Ты уверена?
— Совершенно.
Ирэн вскочила с постели и стала поспешно одеваться.
— Как тебе не стыдно! Надо было сказать, разбудить меня.
— Нечего торопиться. Схватки происходят каждые четверть часа.
— Я побегу за Луи. Хорошо, что мы все предусмотрели.
— Не спеши. Я еще помоюсь…
Когда Ирэн вернулась, Роз, лежа на кровати, проделывала дыхательные упражнения.
— Тебе плохо?
Роз ничего не ответила. Луи с шофером пришли вслед за Ирэн. Они остановились у дверей в полном недоумении, не зная, можно ли им войти.
— Чего вы смотрите? — сказала Роз, расхохотавшись. — Все в порядке. Теперь схватки через каждые десять минут.
— Ты хоть точно знаешь дорогу? — спросил Луи товарища.
— Не беспокойся, мигом домчу.
Они поспорили, кому нести чемоданчик, а Роз, опершись на руку Ирэн, прошептала ей на ухо:
— Отошли воды. Мне уже недолго ждать.
Она села рядом с шофером и сказала:
— Только не гоните, вы не имеете права рисковать.
Ирэн, сидя рядом с мужем, волновалась больше всех. Луи поднес ее руку к губам и поцеловал.
— Не грусти, ты тоже еще родишь.
По совершенно пустой улице они подъехали к кирпичному зданию клиники «Васильки». В окнах не было света, и казалось, что весь дом спит. Их попросили подняться в зал, и здесь их приняла молоденькая сестра в белом халате с припухшими от сна глазами. Все оказалось в порядке. Место за Роз было закреплено заранее, теперь надо только выяснить, не ложные ли у нее схватки. Медицинская сестра увела ее в соседний кабинет. Ирэн спросила:
— А нам что делать?
— Вы ее родные?
— Да.
— Подождите здесь на случаи, если ее придется отвезти обратно.
В маленькой комнатке, которую сестра, вводя Роз, назвала рабочей, на стены, покрытые светло-зеленой масляной краской, падал мягкий свет. Роз разделась, надела больничную рубашку и легла на кровать, вернее на высокий стол, на котором был жесткий матрасик, покрытый белоснежной простыней. Сестра положила под голову Роз подушку, обернула ей живот и ноги простыней и привела акушерку, пожилую женщину, которая Роз чем-то напоминала ее мать.
— Ну как, деточка, думаешь пора?
— По-моему, да…
— Когда начались схватки?
— Около часу ночи.
— С какими промежутками?
— Вначале каждые пятнадцать минут, в такси — каждые десять.
Акушерка внимательно прослушала сердцебиение ребенка, уточнила по некоторым датам сроки, расспросила о предписаниях врача, о последних явлениях и, спокойно подняв голову, сказала:
— Отлично, продолжайте.
— На какой я стадии?
— На «монете в двадцать су». Продвижение началось.
— А надолго еще?
— По-видимому, на несколько часов. Не волнуйтесь, все у вас протекает нормально. Вы не забыли, что нужно делать?
— Помню. Дышать… расслаблять мышцы…
— Правильно. Я время от времени буду вас навещать. Кроме вас, еще две поступили вечером. В случае чего зовите. Я буду в соседней палате.
Акушерка вышла, оставив дверь открытой.
— Можете уезжать, все в порядке, — сообщила сестра друзьям Роз.
— А как нам узнать? — спросил Луи.
— Телефон у вас есть?
— Нет.
— Тогда сами позвоните утром, часов в девять.
— Я-то буду на заводе, а жена позвонит.
Роз вышла попрощаться и скорчила недовольную гримасу — значит, ей ждать еще часов шесть-семь! Она поцеловала Ирэн и Луи и вернулась в комнатку, как раз когда у нее началась очередная схватка. Она чувствовала себя утомленной, но в то же время испытывала беспредельную радость. Если так будет продолжаться, ей бояться нечего… Сестра и акушерка часто заходили к ней.
— Как дела?
— Хорошо…
Вначале Роз попыталась читать, но поняла, что переоценила свои возможности. Более сильная схватка, чем предыдущие, заставила ее сжать зубы и вернула к действительности. После этого она целиком отдалась своей работе. Было жарко, очень жарко, Роз попросила воды.
— Пить не стоит, лучше сосите лимон или апельсин, — посоветовала сиделка.
К счастью, у Роз в чемоданчике были фрукты. Закинув руки за голову, раскинув ноги, она изо всех сил помогала процессу, который через несколько часов завершится рождением живого существа. Но сколько еще пройдет времени? Если бы сейчас ее держал за руку Шарль, она была бы самым счастливым человеком на свете… Роз отогнала от себя эту неосуществимую мечту и все мысли направила на ребенка. Мальчик будет или девочка? Роз больше хотелось мальчика, Шарлю — девочку. Но они уже договорились, что в общем им все равно. Мальчика они назовут Жан-Жаком, девочку — Роз-Мари. Она связала розовые, голубые и белые распашонки… Одним словом, цвет не имел никакого значения. На кого он будет похож? Как бы папа ему обрадовался! Ему или ей? В какой-то момент Роз чуть было не заснула…
Часов в шесть она подозвала сестру.
— Акушерка занята?
— А у вас появились новые ощущения?
— Мне кажется, что уже скоро.
Схватки все учащались… Раскрытие увеличивалось, но сказывалось то, что Роз дышала и расслабляла мышцы, как ее учили, и поэтому боль была вполне терпимой.
— Ого! Вы уже дошли до «маленькой ладони». Хотите кислородную подушку? Вам легче будет дышать, — предложила акушерка.
— Не нужно, я обойдусь без нее.
— Если так будет продолжаться, мы вызовем доктора Симонена.
— Да, позвоните ему, пусть приедет.
Доктор внушал ей доверие, и она была убеждена, что при нем не может произойти никаких, совершенно никаких осложнений. Симонен приехал в семь утра. Акушерка, не отходившая теперь от Роз, сообщила, что она дошла до «большой ладони».
— Мне хочется тужиться, — сказала Роз.
— Потерпите, детка, удержитесь.
Лицо доктора было закрыто марлевой маской, но глаза улыбались.
— Вот видите, я же говорил, что вы родите тринадцатого.
— Мы вас ждали, доктор…
— Вернее, вы мне не дали позавтракать…
Доктор снял с Роз простыню.
— Ну-ка посмотрим, на какой вы стадии…
Уже полное раскрытие — значит, шейка матки полностью сократилась, она это знала. Ее учили также, что теперь в ее задачу входит помочь ребенку опуститься к промежности. Доктор напомнил Роз, что она должна для этого делать.
— Вы не забыли? Глубокий вдох, задержите дыхание, тужьтесь… Перестаньте тужиться, короткое дыхание… В порядке?
— Да.
— Ну, продолжайте.
Крепко вцепившись в края стола, слегка приподняв голову, согнув ноги в коленях и широко их расставив, Роз потужилась изо всех сил… Желание тужиться сразу прошло.
Доктор заставил ее повторить то же самое несколько раз.
— Очень хорошо, тужьтесь… Перестаньте тужиться, подождите…
И вдруг поторопил ее:
— Дышите, вдох… вдох… тужьтесь… сильнее, сильнее… Я вижу ребенка. Еще, еще… Хватит.
Доктор освободил головку, плечики. Роз, вся в поту, почувствовала нечто круглое. И вот настал незабываемый момент: маленькая ручка прикоснулась к ее животу.
— Еще немножко… Все.
Доктор Симонен в резиновых перчатках схватил маленькое синеватое существо, связанное еще с матерью пуповиной, и показал его утомленной, но сияющей от радости женщине. Жан-Жак издал свой первый крик ровно в семь часов сорок минут утра.
— Счастливы? — спросил доктор, когда сестра унесла ребенка.
— Спасибо вам, большое спасибо. Подойдите, мне хочется вас поцеловать.
— Раньше женщины после родов ненавидели акушеров, — сказал доктор, взволнованный этим порывом. — Некоторые даже проклинали мужей. Возможно, настанет день, когда рождение нового мира произойдет так же безболезненно…
* * *
Три часа спустя Шарлю Морену сообщили о радостном событии. В то время в Перигё участники первой демонстрации расходились по домам. После этой демонстрации должны были произойти еще две у памятника погибшим воинам — одна сегодня, несколько позже, вторая завтра, в воскресенье.
Правительство запретило демонстрацию на Елисейских полях в Париже и отдало приказ префектам в течение этих двух дней бороться против всяких сборищ и манифестаций в общественных местах. Но трудно преградить доступ к памятнику погибшим, к подножию которого большая часть населения собиралась, следуя призывам, возложить цветы.
Обращение видных деятелей Франции было выпущено в начале месяца. Немедленно по всей стране сформировались организационные комитеты, которые советовали действовать осмотрительно: никаких демонстраций, раз они запрещены, но в эти два дня жители каждого города, каждой деревни украсят цветами памятники погибшим во время последних двух мировых войн и тем почтят их память. «Это можно делать группами в несколько человек или в одиночку, несите при этом только государственное знамя, цветы должны быть перевиты трехцветной лентой, и пусть на них будет надпись: «Погибшим на фронтах первой и второй мировых войн. В знак протеста против перевооружения Германии».
В Перигё префект принял драконовские меры. С раннего утра на главной площади города выстроились грузовики с охранниками. Солдаты в касках окружили памятник погибшим, словно боялись, что над ним надругаются. С тротуаров глазели любопытные. Демонстранты собирались под оголенными еще платанами.
Ровно в десять часов тридцать минут на площади появились Шарль Морен, депутат-католик, два генеральных советника-социалиста; каждый был опоясан трехцветной лентой. За ними шли представители организаций бывших фронтовиков, участников Сопротивления, бывших узников немецких концлагерей. Всего человек сто. Над ними реяло не менее двадцати знамен. При виде этого шествия среди жандармов наступило минутное замешательство. Шли известные в городе люди, ордена на груди говорили о их заслугах, у некоторых вместо ног были деревянные протезы, у многих висели пустые рукава. Помимо коммунистов, тут было несколько муниципальных советников, членов партии радикалов, а также заместитель мэра, друг покойного Вильнуара. Командующий охранниками вышел навстречу колонне и, приложив руку к каске, начал:
— У меня приказ…
— А мы выполняем свой долг, — прервал его депутат-католик.
Переговоры велись довольно долго. Руководители демонстрантов держались с большим достоинством, и офицер растерялся. Видя, что толпа все увеличивается, он отошел в сторону и сказал:
— Только не задерживайтесь.
И жители города стали свидетелями необычайного зрелища.
Двое инвалидов понесли цветы к памятнику, мужчины, собравшиеся на площади, обнажили головы и застыли на месте, знамена медленно склонились, а охранники встали навытяжку, приветствуя — вопреки приказу — торжественную церемонию.
Делегаты удалились так же молчаливо, как пришли. Морен, дойдя до перекрестка, стал со всеми прощаться. В эту минуту к нему подбежала машинистка федерации Симона и, запыхавшись, сказала:
— Шарль, скорее… Твоя жена… ждет у телефона…
Не сказав никому ни слова, он помчался к помещению федерации, которое находилось неподалеку, и заперся в своем кабинете.
— Алло! Алло! Кто говорит? Это ты? В самом деле ты? До чего же я перепугался!..
Роз звонила ему из клиники «Васильки». Лежа в постели, она слабым голосом поделилась с мужем новостью… Чувствует она себя хорошо. С нею сейчас Ирэн…
Шарль бормотал:
— Спасибо. Большое тебе спасибо.
И этот человек, который командовал партизанами и чей взгляд заставил только что отступить полицейского, сейчас, улыбаясь, вытирал слезы, струившиеся у него по щекам. Неизведанное волнение охватило его. У него ребенок! Сын! Его ребенок! Морену казалось, что в эту минуту произошло событие, изменившее облик земли. Появилось существо, которое еще несколько часов назад не занимало в его жизни никакого места, а сейчас стало главным, — крошечный человечек с едва уловимым дыханием. А ведь сколько миллиардов людей до него испытали это чувство! Сколько детей рождалось и рождается сейчас, а мир, вместо того чтобы от удивления замереть и прислушаться к их первому крику, продолжает свое обычное существование. Человек, наподобие бога, не умирает, он сохраняет свой род, оставляя на земле часть своей плоти и крови.
— Симона! — громко крикнул Морен, и девушка, вбежав, встревоженно спросила:
— Что случилось?
— Лети за вином, принеси несколько бутылок монбазияка, шампанского или чего достанешь, тащи рюмки и позови товарищей.
— Да ты хоть скажи, кто у тебя?
— Мальчик, великолепный мальчик…
А на самом-то деле великолепный ли он? — закралось ему в душу сомнение, когда ушла машинистка. В течение всей беременности Роз его преследовал страх, который он скрывал от жены. Его дед был от рождения хромоногим. И Шарль знал, что его собственная мать, когда он появился на свет, сразу же спросила: не хромой? Сейчас Морен снова вспомнил о своих опасениях. А вдруг это уродство передается по наследству? Роз быстро повесила трубку и не сказала, нормальный ли ребенок, она только сообщила его вес: три кило сто граммов. Какой же он крошка! В голосе жены Морен уловил какую-то неуверенность… С нею все в порядке, раз она сама с ним разговаривала, но что с ребенком? А вдруг он урод? Или слабенький и не выживет?
Морен снял трубку.
— Барышня, прошу вас Париж… Срочный вызов… Да, скорее, как можно скорее.
Его соединили еще до возвращения Симоны.
— Алло! «Васильки»? Я бы хотел поговорить с Ирэн Фурнье… Нет, нет, она у вас — в палате, где лежит Роз Морен… Вы говорите, только что ушла? Догоните ее, прошу вас… Алло! Ирэн? Это ты? Ты видела ребенка?.. Он здоровый?.. Это точно?.. Спасибо… Просто мне пришло в голову… я тебе потом объясню… Ты правду говоришь?.. Да, послушай, купи цветов, самых красивых, и отнеси их моей жене, купи роз… Ты слышишь?..
Их разъединили.
— Черт побери! — воскликнул Морен, кладя трубку. — Я забыл сказать, что приеду завтра.
Пришли товарищи, они шумно поздравляли Морена, обнимали его, целовали, хлопали по спине, и кабинет наполнился радостными возгласами.
* * *
В Палисаке, послушавшись доктора Сервэ, муниципальный совет предложил населению собраться у мэрии. Мэр, радикал, колебался, но Сервэ настоял на своем.
— Ну чего вы опасаетесь? Ведь почетный председатель вашей партии первым подписал воззвание, которое я вам сейчас показывал. Неужели вам этого мало?
— Циркуляр префекта категоричен: никаких демонстраций.
— Но если мы вынесем единогласное решение, префект бессилен.
— Можно распустить муниципальный совет.
— А что мы на этом потеряем? Выберут снова нас, и мы станем только сильнее.
В Палисаке, как и во всех 39 тысячах общин Франции, был свой памятник погибшим. Скульптура из гранита изображала длинноволосую женщину. Она скорбно припала к каменной плите, опустив букетик, который держала в руке. К длинному списку жертв первой мировой войны гравер добавил имена жертв последней войны: убитых на фронте и в макИ, замученных в концлагерях, пропавших без вести, военнопленных. В городке не было человека, который бы открыто выступил против демонстрации.
В тот момент, когда кончалась церемония в Перигё и демонстранты расходились по домам, в Палисаке люди несли цветы к памятнику погибших, и так было во всех городах и деревнях страны…
Жан Сервэ гордился успехом демонстрации, это было в основном дело его рук. Школьный учитель, продлив утреннюю перемену, построил детей по обе стороны памятника и сам занял место среди официальных представителей городка. На площадь пришли мэр в праздничном костюме, опоясавший свой могучий живот трехцветной лентой, и все городские советники. Пораваль явился в офицерской форме, украшенной крестом Почетного легиона и военными медалями. По установившейся в Палисаке традиции две девушки возложили трехцветный букет. Знамя держал старейший житель города, еще крепкий старик, участник войны 1870 года. Не было ни речей, ни пения. Раздалась барабанная дробь, и толпа, стоявшая на площади и вдоль тротуаров, молчанием почтила память погибших.
По дороге домой доктор Сервэ встретил несколько друзей: булочника Пейроля, жандарма Ляжони, парикмахера Александра — и неожиданно столкнулся с Рожэ Беро, только что прибывшим в Палисак. После того как его выпустили из тюрьмы, доктор уже не раз виделся с ним и знал, что крестьянин обеспокоен судьбой своего сына: Милу отправили на гарнизонную службу в Алжир. Новобранцы, как говорили, заменят части, отосланные в Индокитай. Его мать, Сидони, входила в женскую делегацию департамента, которая в скором времени должна была поехать в Париж и вручить премьер-министру требование о прекращении войны. Рожэ Беро был тщательно выбрит, из-под грубой вельветовой куртки виднелась новая рубашка.
— Ты — словно карабинеры у Оффенбаха.
— А чем они отличились?
— Они опоздали. Все уже кончилось, старина.
— Ну и что? Я могу без мэра и всей его клики положить свой букет.
— А где же он?
— В кармане. Первые фиалки… Не роскошно, но я выполняю свой долг.
* * *
В Бордо было решено собраться в воскресенье на Площади 11-го ноября и почтить память погибших. Уже в субботу началась подготовка к этой церемонии: все мемориальные дощечки, прикрепленные на домах города в честь погибших бойцов Сопротивления, украшались цветами. В тот момент, когда в Палисаке участники торжественной церемонии уже расходились по домам, в бордоском порту и по всему городу можно было увидеть толпы народу.
Среди собравшихся в порту тоже мелькала трехцветная лента муниципального советника. Лица людей, совершенно непохожих на жителей Палисака, были так же торжественны и сосредоточенны. На маленькой мраморной дощечке были выгравированы имя, число и короткая надпись: «Погиб, защищая Францию». Бросался в глаза железный горшочек, прикрепленный к стене дома, в котором никогда не увядали неизвестно кем поставленные цветы. Сегодня перед дощечкой на тротуаре лежал большой букет алых гвоздик. Их принесла девочка, Мирей Леру. Вокруг стояла большая толпа, Народ продолжал прибывать.
В первом ряду выделялась высокая фигура докера Леру. Лицо его было напряжено, и скулы выступали больше обычного. У его ног, на букете гвоздик, лежала белая картонная полоска с отчетливой надписью. Леру думал о своем двадцатилетнем друге, погибшем на этом месте. Его расстрелял немецкий патруль. Он тоже был докером, и Леру, сам никогда не крививший душой, называл его неподкупным.
Отец Жаклины не видел, как рядом с ним встал человек в форме почтальона. Фернан поспешил пораньше разнести утреннюю почту, чтобы не опоздать на торжество. Он стоял с обнаженной головой и тоже, наверное, не заметил соседа. Но когда их взгляды встретились, Леру и Фернан Груссо, не колеблясь ни минуты, протянули друг другу руки. Кто из них это сделал первым — неизвестно.
* * *
В Париже делегации направились к могиле Неизвестного солдата только во второй половине дня. Организаторы демонстрации во избежание осложнений отказались от первоначальной мысли устроить шествие по Елисейским полям. Правительство не могло запретить людям приносить цветы на могилу, а народ со свойственной ему смекалкой сумеет сам придать этой церемонии надлежащий характер.
Уже в час дня по обе стороны широкого проспекта, который соединяет площади Согласия и Этуаль, выстроились шеренги полицейских. Несколько позже явился сам префект полиции в сопровождении целого генерального штаба. Они проверили меры, принятые для охраны порядка у священной надгробной доски.
— Поняли? Вы разрешаете класть цветы, но никаких сборищ, и все ленты с надписями срывать.
Была ясная погода, и с площади Этуаль открывался великолепный вид на Елисейские поля, на прямой как стрела проспект, который пересекает площадь Согласия, где возвышается обелиск из Луксора, Тюильрийский сад, выходит на площадь Карусель и упирается в Лувр.
Первая делегация, состоящая из бывших фронтовиков и инвалидов войны, появилась в три часа дня. Через час из станции метро «Георг V» вышла делегация, в которой был профессор Ренгэ. Его сопровождали члены районного комитета мира — Ирэн Фурнье, Огюст Пибаль, Леон Бурген, Жак и Жаклина, — а также двое его учеников из Коллеж де Франс. Утром все, кто смог освободиться, приняли участие в другой делегации, которая побывала у Люксембургского сада и возложила венок на месте, где был убит сын старушки, с которой члены комитета познакомились в доме педикюрщика. Консьержка Томасен отправилась туда в сопровождении своей подруги Флери, и они договорились после обеда поехать на кладбище.
— Не задерживайтесь, проходите! — раздались возгласы полицейских, как только делегация вышла из метро.
Впереди них медленно поднимались к площади Этуаль группы людей с цветами, они тоже направлялись к Триумфальной арке. Серж де Мулляк и аббат Дюбрей входили в делегацию Национального Совета Мира, они увидели Ренгэ и предложили ему:
— Присоединяйтесь к нам.
— Нет, я предпочитаю оставаться незамеченным и сопровождать делегацию моего комитета.
Они возложили цветы, минуту постояли у могилы, но к ним немедленно подошел офицер с дубовыми листьями на фуражке.
— Господа, останавливаться запрещено, — резко сказал он. Уходя, они увидели, как один из полицейских сорвал с букета трехцветную ленту с надписью, требующей прекратить перевооружение Германии. Но вслед за ними подходили другие делегации, и все росла груда цветов на плите, где вот уже больше тридцати лет горит неугасимое пламя.
Возвращаясь, они видели, как по противоположной стороне проспекта нескончаемый поток делегаций двигался к могиле Неизвестного солдата.
— Вон мой муж, — сказала Ирэн и пересекла улицу, чтобы сообщить о появлении на свет Жан-Жака Морена. — Мой муж с заводской делегацией, — сказала она своим друзьям, нагнав их. — Сегодня рабочие его цеха прервали работу и украсили цветами мемориальную доску на стене завода.
— Говорят, на Лионском вокзале здорово получилось: собрались пятьсот железнодорожников и почтовиков, все в форме! — сообщил Огюст Пибаль.
— И не только там. Мне вот говорили, что в Ботаническом саду… — начал Леон Бурген.
Ирэн остановилась, поджидая Жаклину и Жака, которые не принимали участия в общем разговоре и шли сзади.
— Ну как дела, голубки? Луи мне сообщил приятную новость: мы получаем квартиру. Если хотите, можете перебираться в нашу старую.
Жак не знал, как выразить свою благодарность.
— А мы как раз назначили свадьбу на май. Вы придете?
— Обязательно.
Жак был в радужном настроении. Он мечтал о будущем, и все радовало его. Обрадовался он и встрече со стариком Жюлем и Вебером.
— Вы что здесь делаете? — спросил он.
Старик Жюль проговорил ворчливо:
— Никто больше не захотел пойти. Всегда одна и та же история. Ну а я этот день никогда не пропускаю.
— Ты доволен новым местом? — спросил Вебер, прощаясь.
— Очень. Моя хозяйка задумала открыть торговлю мороженым, и я буду работать сорок часов в неделю.
Вскоре их нагнали педикюрщик и преподаватель английского языка.
— Я оставил машину у Большого дворца. Если дамы не возражают, у меня есть два свободных места, — предложил учитель.
Ирэн Фурнье представила его и педикюрщика профессору Ренгэ. Было видно, что оба они польщены таким знакомством.
— Я уже давно мечтал об этом и пришел сюда отчасти в надежде вас увидеть, — сознался учитель.
Машины образовали пробку из-за беспрерывного потока людей, пересекавших площадь Этуаль. Регулировщики нервничали, но толпа, хотя и более густая, чем обычно, вела себя спокойно, словно все вышли на прогулку. Небо было поразительно голубое, весеннее солнце уже начинало пригревать. Легкий свежий ветерок, возвещавший о конце зимы, развевал темные волосы Жаклины. Нежно опершись на руку Жака, она, улыбаясь, думала о будущем.
— Смотрите, ласточка! — заметил педикюрщик. — Я их еще не видел…
— Она мне напомнила о чайках в Праге, — сказал Эдуар Ренгэ учителю, с которым они дружески беседовали. — Там эти птицы прилетают в день, когда трогается лед.
— По-вашему, это предзнаменование?
— Возможно. Вот и сейчас лед тронулся. Взять хотя бы холодную войну. Вы со мной не согласны? Появились некоторые симптомы, правда еще очень робкие, но все же они показательны.
— Вы не хуже меня знаете, господин профессор, что одна ласточка еще не делает весны.
— Да, это правда. И все же за первой ласточкой следуют другие, а с прилетом ласточек всегда наступает весна.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Революционная ассоциация фронтовиков. — Прим. перев.
(обратно)2
11 ноября 1918 года было заключено перемирие, зафиксировавшее военное поражение Германии. — Прим. перев.
(обратно)3
См. «Командир Марсо». — Прим. автора.
(обратно)4
Отряды франтиреров и партизан. — Прим. перев.
(обратно)5
Французские силы внутреннего фронта. — Прим. перев.
(обратно)6
Газета «Юманите». — Прим. перев.
(обратно)7
См. «Командир Марсо». — Прим. автора.
(обратно)8
См. «Командир Марсо» и «Роз Франс». — Прим. автора.
(обратно)9
ФУ — «Форс Уориер». — Прим. перев.
(обратно)10
ФКТХ — Французская конфедерация трудящихся христиан. — Прим. перев.
(обратно)11
10 июня 1942 года по немецкому радио на весь мир было передано следующее сообщение:
«Официально сообщается, что во время розысков убийц обергруппенфюрера СС Гейдриха было точно доказано, что население Лидице, около Кладно, укрыло преступников. Доказательства были получены без участия населения, хотя оно и было предварительно допрошено. Проявленное таким образом сочувствие этому убийству усугублено еще другими враждебными действиями по отношению к Рейху. Были обнаружены антигосударственные листовки, склады оружия и боеприпасов, тайный радиопередатчик и большое количество продовольствия, принадлежащего плановому хозяйству. Кроме того, было доказано, что жители вышеназванной деревни вступили во вражеские иностранные организации.
Ввиду того, что жители этой деревни действовали противозаконно и являлись пособниками убийц обергруппенфюрера СС Гейдриха, все взрослые мужчины расстреляны, женщины вывезены в концентрационные лагери, дети помещены в воспитательные учреждения. Здания деревни полностью снесены, и название деревни уничтожено». — Прим. автора.
(обратно)
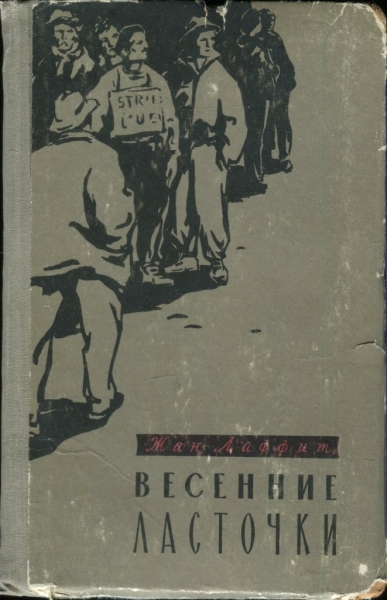
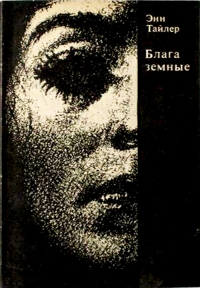

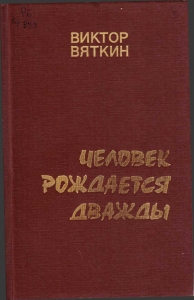
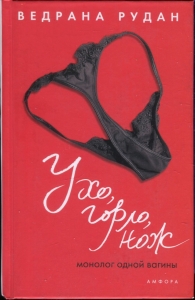


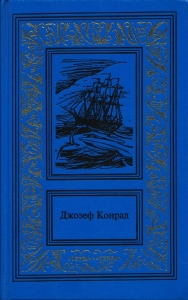


Комментарии к книге «Весенние ласточки», Жан Лаффит
Всего 0 комментариев