Эрскин Колдуэлл Дженни Ближе к дому
Дженни
1
Сумерки были словно забыты при быстрой смене времен года в этот октябрьский день — так стремительно наступила темнота, приведя за собой ночь. Стояла та пора, когда кроткое лето, если оно слишком затянулось, всегда бывает побеждено жестокой силой зимы.
В середине утра ледяной ветер с Пидмонта на севере промчался над пожелтевшими холмами, неистово бушуя под низко нависшими темными тучами и неся первые зимние холода городу Сэллисоу, окрестным полям и пастбищам в низинах. После полудня буря прошла, оставив безветрие в морозном воздухе под хмурым небом. И теперь, когда серый дневной свет быстро сменялся тьмой, высокий деревянный дом в два этажа слабо потрескивал от ночного холода, начинавшего схватывать бревна. Когда же наступит утро, желтые и красные хризантемы завянут и поникнут, побитые морозом зеленые листья начнут опадать с виноградных лоз, так буйно обвивавших летом беседку на заднем дворе.
Дженни Ройстер наклонилась вперед, сидя на стуле, и, все так же зорко глядя в окно на опустевшую улицу, прибавила огня в газовой печке. Потом она откинулась на спинку стула, греясь в уютном тепле газовой печки, и сложила руки на животе. Потом передвинула руки кверху, поддерживая тяжелую грудь.
Еще несколько минут, шевеля губами от одолевавших ее мыслей, Дженни тревожно ждала первого появления судьи Майло Рэйни в меркнущем свете. Она надеялась, что он появится раньше, чем на дворе стемнеет совсем, — ей хотелось заметить его вовремя, чтобы отпереть парадную дверь, как только он взойдет на крыльцо.
По Морнингсайд-стрит промчался автомобиль, и его фары на мгновение осветили густые кроны черных дубов перед домом, потом машина быстро скрылась из виду, и на улице стало еще темнее.
Неожиданно возникнув из ночного мрака, кто-то быстро подходил к дому.
Уверенная, что она узнала прямую фигуру судьи Рэйни, Дженни в одно мгновение вскочила на ноги и, легко неся свое полное тело, побежала в прихожую, включая по дороге свет. Она едва успела мимоходом посмотреться в зеркало и поправить взбитые каштановые волосы, прежде чем судья подошел к парадной двери.
Судья Рэйни, топая ногами, чтобы прогнать озноб, и согревая теплым дыханием сложенные руки, вошел в прихожую, не говоря ни слова. По характеру он был сдержан и на словах и на деле, и в силу этой его сдержанности редко кто видел, чтобы он вел себя экспансивно или неосмотрительно. Повесив шляпу и сняв пальто, он повернулся к Дженни с улыбкой на изрезанном морщинами лице.
— На одно я всегда могу надеяться, Дженни, приходя в ваш дом, — сказал он вместо приветствия, улыбаясь ей. — А исполнение надежд всегда не менее приятно, чем ожидание.
— Что же это такое, Майло? — спросила Дженни. — Я не всегда понимаю, что вы хотите сказать, но мне нравится, как вы говорите.
— Вы всегда встречаете меня на пороге, Дженни. За все годы, что мы с вами знакомы, мне ни разу не приходилось стоять на крыльце и барабанить в дверь, как простому смертному. Вы всегда даете мне почувствовать, что я пользуюсь особыми привилегиями.
Дженни взяла у него пальто и повесила на вешалку под шляпой.
— Просто у меня такая манера оказывать вам услуги, Майло, — сказала она. — А мне нравится оказывать вам услуги. Это моя самая большая слабость.
— И я всегда буду это ценить, Дженни, — сказал судья, когда она снова повернулась к нему лицом. — Женская ласка — одно из немногих благ, которые дарованы человеку в этой жизни.
Судья Рэйни был высокого роста, худой, подвижной и нервный, на вид гораздо моложе своих лет. Хотя в его густых черных волосах уже проглядывала седина, держался он прямо и голос у него был звучный и уверенный. Он всегда одевался в старомодные темные костюмы, носил крахмальные белые рубашки, черные башмаки и коричневого цвета галстуки бабочкой. У него были десятки галстуков разной ширины и длины, но все любых оттенков коричневого цвета. На левой руке он носил перстень с крупным брильянтом и хвастался в шутку, что такая прихоть по средствам только холостяку.
— Ну, Дженни, — говорил он, не переставая улыбаться ей, и его звучный голос гремел на всю прихожую. — Я предсказываю, что в этом году у нас будет суровая зима, как в старое время, может быть, даже со снегом и крупой время от времени.
— Я бы ничуть не удивилась, Майло, — подтвердила Дженни. — Всю мою жизнь я видела, что беды да несчастья не приходят поодиночке — они ползут целой вереницей, как эти несносные муравьи к моей сахарнице.
— Если сахар такой же сладкий, как вы сами, Дженни, то я, честно говоря, не могу осуждать муравьев. А если судьба когда-нибудь завлечет меня в брачные сети, то я искренне надеюсь, что…
Погладив ее по щеке, судья Рэйни повернулся и шагнул через порог в натопленную гостиную. Дженни ненадолго задержалась в прихожей, чтобы взглянуть в зеркало на свое раскрасневшееся лицо и поправить каштановые волосы.
Когда она вошла в комнату, судья Рэйни грел руки над газовой печкой.
— Вы всегда говорите мне такие приятные слова, — сказала она, подходя ближе и заглядывая ему в глаза. — Где уж мне думать насчет замужества, ведь я теперь всего-навсего толстая старуха, глядеть не на что. Вы не знаете, сколько раз я думала про себя, что если б мне вернуть мою молодость, да к тому же хорошую фигуру…
Резко отвернувшись от судьи Рэйни и смахнув слезы пальцами, она подошла к креслу и села.
— Дженни, что это за разговор, — сказал он, неодобрительно хмурясь. — Могу сказать со всей прямотой и искренностью, что вы были бы самой завидной супругой. Собственно говоря, я легко могу себе представить, что некто является на этих днях в суд и подает заявление. На формальном языке закона это означает просто jus primae noctis[1].
Дженни пристально глядела на него, моргая глазами.
— Это то же самое, что разрешение на брак?
— Нет. Это только относится к тому же предмету.
— Ну, Майло, перестаньте меня дразнить, — сказала она, краснея. — Не верю ни единому вашему слову. Столько есть хорошеньких девушек, с каждым днем все новые подрастают, выбирайте, закрыв глаза, а время и место вам стоит только назначить, да вы и сами это знаете.
— Большинству из них придется еще многому учиться, а время не ждет. Вы понимаете, что я хочу сказать, Дженни. Юная внешность и восторженность не всегда дают то, что обещают и что от них требуется. А мы с вами…
В комнате надолго воцарилось молчание, потом судья Рэйни отошел от печки и сел в кресло рядом с Дженни.
— Что бы ни случилось, Майло, я всегда буду вам благодарна, — сказала после паузы Дженни, — и в любое время, когда вы только захотите, я вам докажу свою благодарность, стоит вам только слово сказать. Вы со мной достаточно хорошо знакомы, чтобы знать, какой я могу быть доброй, когда есть ради чего. Я — такая, какая есть, даже силой закона меня не переменишь. Я не такая, чтобы держать полон дом любимых кошечек и собачек и представляться, будто я не нуждаюсь в мужском обществе. Если бы не вы, не знаю, как бы я выдержала все мои беды и печали. Иной раз думается, что одно только это жизнь для меня приготовила — горе, неудачи да неприятности каждый день.
— Что еще такое, Дженни? — спросил он живо. — Расскажите мне, что случилось.
Мигая затуманившимися глазами, она провела обеими руками по лбу и раскрасневшимся щекам, словно стараясь разогнать свою печаль.
Судья наклонился ближе к Дженни и в утешение потрепал ее по плечу.
— Когда вы просили меня зайти к вам сегодня вечером по дороге домой, вы не сказали, в чем дело. Что такое, Дженни? Что случилось?
Левая рука Дженни бессильно упала на колени. Подняв правую, она махнула ею в сторону красной кирпичной церкви на соседнем участке.
— А что еще могло случиться, Майло? — отвечала она, в унынии понурив голову. — Вам это давно известно.
— Так они опять у вас были? — сказал он, глядя на Дженни и понимающе кивнув головой. — Это самое и случилось, Дженни?
— Да. — На мгновение она утомленно закрыла глаза. — Да, — повторила она. Когда она заговорила снова, ее голос звучал резко и гневно. — Эти самые придиры из церкви Тяжкого Креста просто, кажется, все перепробовали, что только могли придумать, лишь бы наделать мне неприятностей. Все время, что я здесь живу, у меня не было ровно никаких неприятностей с соседями. Миссис Клара Крокмор, что живет в желтом кирпичном доме рядом с моим, такая соседка, что лучше и желать нечего, мы с ней то и дело бываем друг у друга. И Норма Поуп, моя соседка со стороны двора, всегда дарит мне цветы из своего сада, меняется рецептами блюд и уж всегда поделится сплетнями, какие доходят до ее улицы.
Но эти святоши, эти ханжи! Мне кажется, они не успокоятся до тех пор, пока не упрячут меня в тюрьму на всю жизнь или пока не зароют меня в могилу. В прошлый раз — это было после первого числа — они приходили и плели бог знает что про меня и Визи Гудвилли. Тогда они говорили, что грешно и стыдно мне сдавать ему комнату, потому что ночью мы с ним спим под одной кровлей. А теперь они собираются подать жалобу и начальнику полиции в Сэллисоу, и шерифу округа Индианола, и даже самому губернатору штата, чтобы меня арестовали, если я не заставлю Визи немедленно выехать и искать себе жилье в другом месте.
Остановившись и переведя дух, Дженни сложила руки на животе, потом передвинула их повыше.
— Бедный Визи Гудвилли! — Слезы выступили у нее на глазах, когда она произнесла это имя. — Бедный Визи Гудвилли! Другого настоящего дома у него на всем свете нет, а эти святоши хотят, чтобы он отсюда уехал. Всем известно, что это единственное место, которое он может назвать своим домом в те три зимние месяца, когда он не ездит с балаганом и не зарабатывает на жизнь, показываясь публике во вставных номерах. Он даже не знает наверное, остались ли у него в живых какие-нибудь близкие родственники, у которых он мог бы поселиться, а если и разыщет кого-нибудь из дальней родни, то он очень стеснил бы их, поселившись вместе с ними, даже если б он хорошо платил за те три зимние месяца, когда у него мертвый сезон.
А вы знаете, как трудно было бы ему найти подходящую особу, такую же, как он сам, для того, чтобы жениться на ней или хотя бы жить просто так. Прежде всего таких на свете вообще немного, и Визи говорит, что все девушки-лилипутки бывают помолвлены чуть ли не со дня рождения или вскоре после того, да и то не обходится без большой драки между самыми видными семьями, и денег это стоит порядочных. Он говорит, что давно уж бросил попытки сойтись с обыкновенной женщиной. Говорит, иной раз, когда он ездил с балаганом, бывало так, что обыкновенные женщины по секрету оказывали ему внимание, но ни за что не хотели показываться с ним на людях. Бедный Визи Гудвилли! Бедный Визи Гудвилли! Не знаю, что бы он делал, если б я не подружилась с ним. Я очень рада, что родилась общительной и сердечной, иначе некому было бы позаботиться о Визи. Если он такой маленький, это еще не значит, что он не умеет ценить женскую ласку, как всякий другой мужчина.
Дженни стряхнула слезы с ресниц кончиками пальцев.
— Разумеется, все это совершенно верно, — сказал судья Рэйни. — Но что же случилось сегодня? Вы мне так и не рассказали.
— Майло, вот уже целый год так идет, раз за разом, не одно, так другое. Эти ханжи прикидываются, будто бы они такие уж набожные, а сами чего только не делают и не говорят исподтишка, лишь бы выселить меня из моего дома. Каждый раз как они со мной про это толкуют, они твердят, будто бог им внушил забрать мой участок и возвести на нем пристройку для воскресной школы и что я будто бы оскверняю то, что ими уже заранее предназначено для святой цели. Они изо всех сил стараются меня уверить, будто бы все, что я делаю, грешно и стыдно. Я им сколько раз говорила: если им нужен мой дом, могут его забрать, только пусть заплатят мне мою цену. А они не хотят платить ни единого доллара. Говорят, если я их послушаюсь, то они обратят меня в свою веру и спасут мою душу, тогда я могу передать дом и участок церкви Тяжкого Креста, не беспокоясь насчет будущей жизни.
Было время, когда я ходила в церковь и считалась доброй методисткой, но никто не заставлял меня отдать все, что я имею, и даже сам методистский проповедник не обещал спасти мою душу авансом, если я передам все свое имущество церкви. После того я ходила одно время на проповеди в церковь Истинной Веры и иногда опускала в кружку четверть доллара. Но как-то священник пригласил меня прогуляться с ним в лесу. И только мы вошли в лес, как он схватил меня, задрал мне юбку и сказал, что если я ему угожу, то мне не понадобится больше опускать деньги в церковную кружку. А во всем остальном и методисты и сторонники Истинной Веры обращались со мной по-честному, но только я уже научилась не смешивать религию с личной жизнью и с тех пор больше ни в чью церковь не хожу.
— Дженни, — напомнил ей судья Рэйни, — о чем же на сей раз говорили с вами эти люди из церкви Тяжкого Креста?
— Сейчас скажу, Майло, — ответила она. — Мне только надо было к этому подвести, вот теперь я как раз и начинаю. Всем в нашем городе известно, что я бедная женщина пожилых лет и заработать на пропитание мне нечем, как только сдавая комнаты, и родных у меня нет ни души, не на кого опереться. Кроме этого дома, у меня на всем свете нет ничего, и такая женщина, как я, только самой себе обязана тем, что имеет свой угол на старости лет. Я им владею вот уже двадцать лет и всегда берегла и прижимала каждый доллар с тех самых пор, как молоденькой девушкой начала зарабатывать себе на хлеб. А как стала немного постарше и половчее да начала получше разбираться в жизни, тут уж и деньги пошли копиться побыстрей и я выплатила долг по закладной и теперь могу владеть домом и участком безвозбранно и беспошлинно.
И ведь я здесь поселилась гораздо раньше, чем эти крикуны-проповедники обратились к богу и построили свою церковь впритык к моему участку. Если кто имеет право жаловаться, так это я. Сами знаете, они построили эту церковь так близко к моему дому, что с утра до вечера у меня в кухне совсем темно. Я не побоюсь открыть рот и сказать, что стыдно и грешно этим святошам выкидывать такие штуки.
Телефон в прихожей зазвонил резко и пронзительно, так что эхо пошло отдаваться по всему дому. Он все еще звонил, когда Бетти Вудраф выбежала на лестницу из своей комнаты на втором этаже.
Как всегда в это время дня, на Бетти были черные вельветовые брюки, яркий облегающий свитер и белые туфли без каблуков. Это была стройная девушка лет двадцати четырех, среднего роста, державшаяся очень прямо, с твердой округлой грудью и пышными светлыми волосами. Рот у нее был крупный, с полными губами, и, когда она улыбалась, ее синие глаза блестели ярче и живей. Что бы на ней ни было надето, юбка или штаны, все это сидело хорошо и было старательно подобрано к ее слегка загорелой коже и золотистым волосам. Она выглядела моложе своих лет и, думая, что это прибавит ей солидности, надевала большие очки в темной оправе, выходя из дому. Мужчины, с которыми она знакомилась, обычно бывали приятно поражены ее серьезным и ученым видом и почти всегда спрашивали, не учительница ли она.
Бетти Вудраф целый год пробыла учительницей в городской школе Сэллисоу, первом ее месте после окончания колледжа, и все это время жила в доме Дженни Ройстер. Школьный совет остался доволен ее педагогическими талантами, и ей предложили продлить договор на второй год. Однако она отклонила это предложение, ответив, что, по ее мнению, она не подходит для профессии педагога.
Настоящей же причиной, почему Бетти бросила преподавание, была ее неудачная и очень короткая помолвка с Монти Биско, футбольным тренером и преподавателем гимнастики в городской школе Сэллисоу. Вскоре после того как они встретились впервые, Бетти по уши влюбилась в Монти Биско, и через несколько недель они были уже помолвлены. Во все время их помолвки они встречались по нескольку раз в неделю и по вечерам катались в машине Монти или бывали в кино под открытым небом на шоссе, недалеко от города. Монти не раз пытался овладеть ею, в своей машине или в гостиной Дженни, но Бетти неизменно говорила, что ему придется подождать, потому что она хочет оставаться девушкой до свадьбы.
Вышло, однако, так, что накануне рождественских каникул, не предупредив Бетти ни единым словом, Монти Биско женился на другой учительнице, Мэйрите Игер. На следующий день Монти сообщил Бетти, что Мэйрита беременна и ему пришлось жениться на ней, чтобы его не прогнали с работы, потому что она грозилась пожаловаться директору школы. Когда Бетти, убитая горем, вся в слезах, спросила, зачем же он связался с Мэйритой Игер, когда был помолвлен с ней, Бетти, он ответил, что при его атлетическом сложении ему трудно оставаться холостяком.
Бетти была так несчастна и убита горем, что до конца школьного года отказывалась от свиданий с кем бы то ни было. Лето она провела с родителями, которые жили в маленьком городке в южной части штата, но к первому сентября она вернулась в Сэллисоу и попросила Дженни отвести ей ту же комнату окнами на улицу, что и в прошлом году.
— Деточка, — плача и смеясь, сказала ей Дженни, — я так рада, что вы вернулись, что мне все равно, будете вы платить за комнату или нет. Мне вы нужны для компании гораздо больше, чем из-за денег. Во всяком случае, если вы не будете преподавать в школе, то найдете себе другую работу в городе. Такой хорошенькой девушке не придется ходить с протянутой рукой. Я достаточно прожила, столько-то о жизни знаю.
К концу второй недели, после того как Бетти вернулась в Сэллисоу, ей иногда звонили по телефону по два, по три раза в вечер. Однако никто не приходил к ней и не увозил ее куда-нибудь, а вместо этого сама Бетти выходила из дому после телефонного звонка и уезжала в своей новой синей с белым машине, которую она купила летом. Часа через два или немногим больше она возвращалась и, оставив машину стоять перед домом, разговаривала с Дженни или смотрела телевизор до нового телефонного звонка.
И судья Рэйни, и Дженни молчали все время, пока Бетти разговаривала по телефону, и молча ждали, пока она пробежит по лестнице в свою комнату. Через несколько минут она опять сошла вниз, на этот раз в тяжелом зимнем пальто. Она остановилась на мгновение в дверях гостиной, улыбнулась, но ничего не оказала и, набросив на голову ярко-красный шарф, завязала его под подбородком. Потом, поправив большие очки в темной оправе, она выбежала из дома на улицу.
2
Фары машины вспыхнули, и Бетти умчалась вверх по Морнингсайд-стрит во мрак ночи.
Судья Рэйни наклонился вперед, поставив локти на колени и грея ладони перед огнем. Он подождал, пока шум мотора не затих совсем.
— Что они говорили на этот раз, Дженни? — спросил он. — Что-нибудь про Бетти Вудраф?
Дженни кивнула.
— Что же именно они сказали?
Она сложила руки под грудью, приподняв ее, и уселась поудобнее.
— На этот раз пришли двое из церковного совета вместе с проповедником Клу. Они заявились нынче днем, постучались в дверь, я их впустила, и они стали греться перед печкой, а на стулья так и не сели, будто боялись схватить от меня какую-нибудь заразу, если сядут. Обогревшись хорошенько спереди и сзади, они встали на колени и помолились наскоро, но так бормотали, что я ни слова не разобрала. Ну да все равно, я уж знала, что это насчет меня или Бетти, или нас обеих вместе. Потом проповедник Клу поднялся на ноги и сказал, что если я не откажу от квартиры мисс Вудраф, то есть Бетти, то меня арестуют и посадят в тюрьму.
— А он объяснил, почему они этим грозят?
— Он сказал, что Бетти теперь уже не то, что была в прошлом году, когда она преподавала в школе. Я хотела было объяснить ему, как это вышло в прошлом году, когда та, другая учительница, обманом женила на себе футбольного тренера и оставила Бетти в таком горе и унижении, и вполне естественно, что всякая женщина с характером будет искать развлечений до тех пор, пока не успокоится и не станет опять сама собой. А он орал все громче и громче и так плевался и брызгал слюной, что ему пришлось утирать рукой подбородок, и все твердил, что он про это самое и говорит.
Он сказал, что всякий раз, как она выходит на улицу, с первого взгляда видно, что она собралась грешить и готова ввести в искушение любого мужчину в городе, все равно, женатого или холостого, и что не много найдется мужчин, которые смогут устоять против соблазна, если девушка такая хорошенькая.
Долго он этак кричал, а в конце концов взял да и выпалил, что она блудница. Когда проповедник так ее обозвал, я не вытерпела и сказала, что не очень-то вежливо называть так хорошенькую девушку, которая имеет высшее образование и новенькую четырехместную машину, и никогда худого слова никому не сказала, сколько я ее знаю. Он опять взбеленился и заплевал себе весь подбородок и сказал, что как бы я ее ни называла, все равно она развратная женщина, с его точки зрения. Он еще и разное другое про нее говорил, мне уж и повторять совестно, даже и вам, хотя бы зажмурившись и в темноте. Я таких словечек не слыхивала с тех пор, как война кончилась и закрыли казармы в Саммер-Глэйде.
Судья Рэйни достал из кармана сюртука сигару и закурил ее.
— Откуда у проповедника Клу такие обширные сведения по этой части, Дженни? — спросил он.
— Я его и об этом спрашивала, Майло. Он сказал, что один из его прихожан держит мотель «Приятное времяпрепровождение» на шоссе милях в трех от города и он будто бы видел на прошлой неделе, что Бетти три раза входила в три разные комнаты с тремя разными мужчинами.
Судья Рэйни, выпустив к потолку струю сигарного дыма, наблюдал, как дым расходится по комнате.
— Лучше бы они переменили название пансионата на какое-нибудь другое, не столь завлекательное, а человеческую природу изменить не старались. По правде говоря, каждый раз как я проезжаю мимо пансионата «Приятное времяпрепровождение», у меня всегда возникают самые игривые мысли. И под присягой мне пришлось бы сознаться, что я не раз давал крюку, лишь бы позволить себе это удовольствие.
— Но ведь проповедник Клу вовсе не шутил, Майло. Он по-настоящему разозлился и вышел из себя. Он говорил, а сам все время хмурился, вытирая заплеванный подбородок, и топал ногами. Он сказал, что считает своим долгом натравить закон на меня и Бетти и положить конец ее безобразному поведению.
— Дженни, сколько человек себя помнит, уже не говоря о писаной истории, всегда существовали привлекательные молодые женщины, такие, как Бетти Вудраф, и, поскольку их права твердо определены законом, всегда найдется кто-нибудь, вроде меня, для защиты их интересов. И можете быть уверены, что пути закона мне известны, поскольку всю мою сознательную жизнь я провел либо в судейском кресле, либо стоя перед ним. Закон есть несгибаемое орудие, управляемое гибкими умами. В пояснение позволю себе привести один-два примера.
Если Джон Доу взял у Ричарда Роу сто долларов с обязательством уплатить по первому требованию и не уплатил и у Ричарда имеется на руках долговая расписка, а Джон по какой бы то ни было причине не может выполнить свое обязательство по отношению к Ричарду и если Ричард обращается за помощью в суд, то суду, естественно, полагается выдать законный ордер на арест Джона в том случае, если Джон откажется выполнить предписание об уплате, и, следовательно, как полагается по закону, суд более чем вероятно принудит Джона выплатить долг Ричарду, даже если для погашения долга придется продать все имущество должника с публичного аукциона. Теперь, если вы меня слушали, вам ясно, что я имею в виду, называя закон несгибаемым орудием.
С другой стороны, однако, в суде имеется человеческая сторона, иначе говоря, гибкий ум. При условии, что дело подготовлено и ведется надлежащим образом, суд обычно признает тот факт, что природой одному полу дано право привлекать другой пол и сожительствовать с ним в приемлемых для них обоих условиях. Лично я сказал бы, что не дело суда определять такого рода условия и налагать ограничения и запреты. В это время и мысли и внимание обеих сторон бывают достаточно заняты и незачем принуждать их копаться в куче судебных постановлений. Как бы то ни было, суд почти всегда проявляет достаточную гибкость мысли, сталкиваясь с такими случаями, и обычно выносит решение, что всякие действия этого рода по самой своей природе совпадают и потому не подчиняются юрисдикции современных судов.
Судья Рэйни протянул руку и потрепал Дженни по плечу.
— Так что не огорчайтесь, Дженни. Не думайте, что я только теоретик, но не практик. Я как раз настроился на эти аспекты закона и не могу остановиться, пока завод не кончится.
Что касается вас, Дженни, то надо вам знать, я отнюдь не склонен недооценивать опасность влияния фанатиков в религии и политике. Положитесь на меня как на своего поверенного и пусть вас не беспокоят сегодняшние угрозы проповедника Клу и всех прочих. Я двадцать лет просидел в судейском кресле, пока не ушел с государственной службы и не занялся частной адвокатской практикой, и потому вы спокойно можете доверить мне защиту ваших интересов. В сущности мне даже не терпится этим заняться.
— Так, значит, мне не надо говорить Бетти, чтобы она укладывалась и съезжала с квартиры?
Он торжественно наклонил голову.
— Вот об этом я и толкую все время, Дженни.
— Даже если еще раз придут и станут грозить мне арестом и тюрьмой?
— Нет, — сказал он, опять наклонив голову. — Нет.
— Ну, у меня большое бремя с души скатилось, — сказала она, благодарно улыбаясь. — Пока вы все это говорили вот сейчас, мне не очень-то было понятно, что значат все эти громкие слова. — Она глубоко вздохнула от облегчения. — Я бы ничего не имела против того, чтобы сидеть в хорошей тюрьме новой постройки, но не в этом же свинарнике позади здания суда. Там у них в городской тюрьме просто приткнуться негде. Тюремщики со всей ихней сворой расхаживают взад и вперед целый день и глядят на тебя, что бы ты ни делала, а ночью отпирают дверь камеры и входят без приглашения. А почему я столько знаю про нашу городскую тюрьму, так это потому, что как-то раз — много лет тому назад — у нас избрали новую шайку политиканов управлять городом. И не успела я с ними хорошенько познакомиться, как они прикрыли мой пансион и посадили меня в эту самую тюрьму. Мне влетело в двести долларов выбраться оттуда и снова открыть свое заведение. Вот теперь вы знаете, Майло, какое бремя у меня с души скатилось. Теперь-то я почтенная женщина на покое и мне уж не к лицу опять садиться в эту тюрьму.
— И я рад, что сумел успокоить вас, — сказал судья Рэйни, глядя на часы. — Если вы меня угостите хорошей порцией обыкновенного пшеничного виски, я подкреплюсь, прежде чем выйти на холод. В такую погоду надо же мне чем-нибудь согреться.
Дженни выбежала из гостиной и очень скоро вернулась с бутылкой виски, двумя стаканами и кувшином воды. Судья Рэйни щедрой рукой налил виски в оба стакана, но когда Дженни хотела подлить воды из кувшина, он сурово нахмурился и резким движением отодвинул стакан.
— Нет, Дженни, нет, — сказал он твердо, все еще хмурясь. — Первый стакан мы выпьем за крепкую дружбу, а ее может укрепить только чистое виски.
Он подождал, пока она поставит кувшин на стол, потом сел на красный плюшевый диван и жестом пригласил ее сесть рядом. Они чокнулись и не спеша потягивали виски, слушая, как дом слабо потрескивает от ночного холода. Немного погодя, когда стаканы почти опустели, Дженни взяла бутылку и долила их. Потом, придвинувшись ближе к судье Рэйни, Дженни откинулась на спинку дивана.
— Дженни, — сказал судья спустя минуту-другую, положив руку ей на плечо, — Дженни, для того чтобы наша дружба отныне стала еще крепче, чтобы к ней ничего не примешивалось, самое лучшее будет вылить воду из кувшина на ваш любимый цветок.
— А откуда вы знаете, Майло, что у меня есть любимый цветок? — спросила она, тихонько смеясь и слегка вздрагивая.
Ничего не ответив, он с улыбкой смотрел на нее, а она смеялась все громче и громче.
— Майло, откуда вы знаете про мой любимый цветок? — не унималась она.
— Потому что я вылил на него кувшин воды прошлый раз, как был здесь, а я ничего приятного в жизни не забываю.
— Знаю я вашу манеру разговаривать, Майло, — сказала Дженни, живо махнув рукой. Она снова захихикала. — Но мне все равно это нравится, не могу не слушать, как вы говорите про меня такие приятные слова — это моя самая большая слабость.
Еще несколько минут они молча потягивали виски. Им опять стало слышно слабое потрескивание дерева от ночного холода, а газовая печка жарко горела перед ними.
— Знаете что, Дженни, — сказал через некоторое время судья Рэйни, оборачиваясь и глядя на нее. — Я думаю, величайшая трагедия нашей жизни в том, что мы с вами не познакомились — поближе, конечно, — лет двадцать пять — тридцать назад. Я говорю про то время, когда вы были молоды и я тоже. Нисколько в этом не сомневаюсь — мы с вами вместе достигли бы вершины счастья и покоились бы на ложе блаженства и довольства.
Слезы выступили на глазах Дженни и скатились по ее круглым щекам. Она не стала утирать их.
— Я люблю слушать, когда вы так говорите, Майло. Всю бы ночь напролет слушала. Это моя самая большая слабость.
Судья Рэйни стряхнул пепел с сигары и снова зажег ее. Дым густым слоем плавал над их головами.
— Если б можно было начать жизнь снова, я бы ее перетряхнул до основания, — сказал он, словно беседуя сам с собой. — Уж, верно, я не доживал бы свою жизнь так, как теперь — в большом пустом доме, где Сэм Моксли готовит мне еду, стелет постель и гладит мои брюки. Черт побери его черную шкуру! Следовало бы изгнать его из Штатов за то, что он устроил мне такую жизнь, какой я живу все эти годы. Это все он виноват! Ничто в жизни не может заменить теплоту тела женщины, ласковость и нежность ее прикосновения, душевность ее утешений в долгие темные часы ночи. Я одинокий человек, забытый богом одинокий человек!
— Майло, — сказала Дженни ласково, — Майло, вы можете на ночь остаться здесь. Со мной вы не будете одиноки. — Она потянулась к судье и крепко пожала ему руку. — Ведь вы останетесь, Майло?
Он быстро повернул голову и взглянул на Дженни. Поднявшись с дивана, он подошел к окну, потом повернул обратно.
— Майло…
— Нет, — твердым голосом ответил он, не глядя на Дженни. — Нет, — повторил он еще раз.
— Я вам приготовлю вкусный ужин, Майло. Можете скушать жареного цыпленка с ямсом или кусочек ветчины под винным соусом, а не то бифштекс по-деревенски. И я уж позабочусь, чтоб вы как следует выспались, это я вам обещаю.
Несколько минут прошли в молчании, а судья все еще боялся взглянуть на Дженни.
— Майло, разве вам этого не хочется? — услышал он ее голос.
— Нет. Сэм будет стряпать для меня ужин, а он всегда его готовит к определенному времени.
— Нам стоит только позвонить Сэму Моксли и сказать, что вы нынче домой не вернетесь. Ведь это не так трудно, Майло.
— Сэм теперь на кухне и не услышит звонка. Он с каждым днем все больше глохнет.
— А как было бы хорошо, если бы вы у меня остались, — ласково уговаривала его Дженни. — Ведь вы знаете, Майло, как мне нравится вам услуживать. Это самая большая моя слабость.
Она встала и налила себе и гостю еще по стаканчику виски. Передавая судье Рэйни его стакан, она подошла к нему вплотную и заглянула ему в глаза.
— Это ничего, я буду звонить и звонить, до тех пор, пока Сэм Моксли не подойдет к телефону. Мне это совсем не трудно. А кроме того, скажу прямо, мне нынче хочется показать вам, какая у меня душа широкая.
Мимо дома стрелой промчался автомобиль, и его фары на мгновение осветили окно.
Судья Рэйни снова сел на диван и, потягивая виски, уставился на дрожащее пламя газовой печки. Дженни, уже успокоившись, тихо и степенно уселась рядом с ним. Откинувшись на спинку дивана, она сложила руки на животе и устроилась поудобнее. Она доверчиво улыбнулась своим мыслям.
— Майло, — сказала она немного погодя, — Майло, вы не знаете, как я рада, что мне не придется выгонять Бетти Вудраф из дому. Мне нужны те деньги, что она платит за комнату, это прежде всего, но есть и еще кое-что поважнее. Если бы я проделала такую штуку, велела бы ей от меня съехать, я бы не знала, куда глаза девать от стыда, я бы чувствовала себя предательницей перед всем женским полом. В прошлом я жила такой жизнью, что не могу по совести осуждать Бетти за ее поступки и за ее поведение. Если хотите знать, так я ею восхищаюсь, сказать по правде.
— В личной жизни, Дженни, мы живем одной правдой. Для чужих глаз все остальное только притворство и обман.
— Вот этого уж никто про нее не скажет. Бетти никогда никого не обманула, а вот про Мэйриту Игер, что подцепила этого футбольного тренера, никто этого сказать не может. В конце концов для Бетти оно, может, и к лучшему, что ее бросили, потому что теперь она проявила свой настоящий характер. Она теперь доказала самой себе, что может нравиться мужчинам, а в этом каждой женщине хочется убедиться, все равно сознательно или бессознательно. Это такая вещь, о которой многие женщины узнают слишком поздно, когда это им уже ни к чему. А вы знаете, Майло, почему я так восхищаюсь Бетти?
Судья задумчиво посмотрел на Дженни, но ничего не ответил.
— Вы знаете почему, Майло, и другие мужчины в городе тоже успели это узнать. Вот именно поэтому столько их звонят ей день за днем — дома они не видят того внимания, какое им нужно. Я на этот счет кое-что знаю, она мне доверяет и назвала мне некоторых из этих мужчин, вы бы их ни на минуту не осудили, кабы посмотрели, какие у них жены. Таких девушек, как Бетти Вудраф, надо бы называть особым словом, как-нибудь достойно и уважительно, в отличку от обыкновенного сорта. Такие, как Бетти, совсем не то, что эти распустехи домашние хозяйки или обыкновенные шлюхи. Этих на свете сколько угодно, а таких, как Бетти, днем с огнем поискать. Уж вы мне поверьте, если б я была мужчиной…
Парадная дверь отворилась, и кто-то вошел в прихожую. Не слышно было, чтобы машина Бетти проехала по улице и остановилась перед домом, и в дверь никто не стучался.
Немного погодя в прихожей кто-то сильно зашаркал ногами, и в дверях гостиной появился Визи Гудвилли. Робко и неуверенно потирая озябшие руки, он смотрел на Дженни, радостно ухмыляясь и дрожа от озноба всем телом. Он стоял, весь съежившись от холода, моргая темными глазками на ярком свету, И казался еще меньше и миниатюрнее, чем всегда. Обычно, возвратившись домой после игры в покер в городском пожарном депо, а не то из какой-нибудь пивной или бильярдной в центре города, он подбегал к Дженни, обнимал ее пышный зад и глядел на нее снизу вверх, как ребенок. Но когда у Дженни в гостиной сидели гости, он всегда смущался, не зная, как себя держать, пока Дженни ему не скажет, что от него требуется.
— Ничего, Визи, — сказала Дженни, улыбаясь ему и кивком приглашая войти в комнату. — Я просто сижу тут и занимаю разговором судью Рэйни. Входи и грейся. Должно быть, ты весь замерз, как сосулька, на таком холоде.
Благодарно ухмыляясь, Визи вошел в гостиную.
— Для таких маленьких, как я, ночь будет уж очень холодная, — сказал он, потирая руки перед теплой печкой. — Не хотелось бы мне остаться нынче на морозе и совсем замерзнуть. Я и так весь съежился, ничего от меня не осталось, похвастаться даже нечем.
Повернув голову, он в первый раз взглянул на судью Рэйни.
— Что ж, здравствуй, Шорти[2], — сказал судья Рэйни с приветливой улыбкой. — Anguis in herba[3].
— Я тоже могу вас ругнуть, — сердито взглянув на судью, отвечал Шорти, — только если я выругаюсь, вы-то поймете, как я вас обозвал.
— Что это значит, Майло? — спросила Дженни.
— Это я просто дружески напомнил Шорти, что он опасен, как змея в траве.
— Ах вы, крючкотвор! — закричал Шорти. — Что же вы не живете где-нибудь за границей? Там бы понимали, что вы говорите!
— Ну, Визи, не выходи из себя, — ласково уговаривала его Дженни.
— Я не выхожу из себя. Я-то сдержусь, только пусть он не говорит со мной на непонятном языке. Мне это надоело. Каждый раз, как мы встречаемся, он говорит что-нибудь на этом иностранном языке просто потому, что это меня злит.
— Ну, Визи, — ласково повторила Дженни еще раз, — не будем ссориться. Я уговорила судью Рэйни остаться и перекусить с нами. Пока я готовлю ужин, вы бы перекинулись с ним в карты по-дружески, вот было бы мило с вашей стороны…
— Нет, сэр! — выкрикнул Шорти своим тонким голоском. — Только не я! Не стану я ни во что играть, даже пасьянс не стану раскладывать с этим крючком, он и в покер плутует!
3
Дженни и судья Рэйни после ужина ушли из столовой наверх, а Бетти с Шорти Гудвилли сидели в гостиной и смотрели по телевизору состязание борцов. Судья Рэйни уже закурил последнюю перед сном сигару, и запах табака, медленно расходясь по коридорам, проникал в гостиную.
Бетти, глядя на двух дюжих атлетов, была настроена тревожно и чувствовала себя окончательно несчастной. Каждое движение их мускулистых тел напоминало ей Монти Биско, и она не могла не думать о том, где он сейчас и что делает.
Бетти понимала, что она все еще влюблена в Монти попреки всему, что произошло, и желала его больше, чем когда бы то ни было. Она давно уже поняла, что если бы не была влюблена в него, как она думала, всерьез и надолго, то никогда не вернулась бы в Сэллисоу. Вместо того она уехала бы как можно дальше и постаралась бы его забыть. Она вернулась в Сэллисоу для того, чтобы быть ближе к нему, но в то же время она чувствовала, что надо было бы его помучить как следует. Ночь за ночью, каждый раз, как она встречалась с другими мужчинами, она думала о близости с Монти, но тем не менее ей хотелось, чтобы он об этом знал, был бы глубоко уязвлен и ревновал ее. А после она возвращалась в свою комнату и, бросившись на кровать, отчаянно рыдала.
Немного погодя экран телевизора расплылся и помутнел перед нею, и Бетти закрыла глаза, стараясь удержать слезы. Однако она не попросила переменить программу, зная, что Шорти Гудвилли больше всего любит смотреть борьбу и бокс.
Было уже около десяти часов, и на чистом небе высыпали звезды. В окне над вершинами дубов, росших по обеим сторонам Морнингсайд-стрит, ярким шаром поднималась луна. Если даже к утру не станет холоднее, можно предсказать наверно, что лужайки и крыши на рассвете будут покрыты белым слоем инея.
Шорти Гудвилли сидел на самом краешке стула, болтая ногами, и восторженно вскрикивал, глядя на борцов на экране. Он восхищался огромным ростом обоих борцов и тем, как они щеголяли своей мускульной силой. Никогда в жизни он не весил больше пятидесяти фунтов, и росту в нем было ровно три фута. Однако он ухитрился прибавить себе еще около трех вершков, нося башмаки на толстой подошве, сделанные по особому заказу.
С тех пор как ему исполнилось семнадцать лет и врачи сказали его родителям, что он больше не вырастет, Шорти Гудвилли разъезжал по стране с балаганом или цирком. Мать плакала и умоляла его остаться, когда он решил уехать из дому, зато отец только пожал ему руку и ничего не сказал. В течение всех этих лет он получал хорошие деньги за то, что его показывали вместе с другими лилипутами и карликами, и каждый год он откладывал порядочную часть этих денег на старость. Из-за крохотного роста и нежелания общаться с людьми нормальных размеров, почти все другие лилипуты и карлики во время зимнего сезона жили вместе в маленьком городке штата Флорида.
Шорти ни разу не съездил на родину навестить отца с матерью из боязни их стеснить, и теперь, после стольких лет, он не знал даже, живы они или нет. И все-таки он никогда не забывал послать матери рождественскую открытку, но только не указывал обратного адреса.
Однажды летом, когда балаган целую неделю давал представления в Сэллисоу, Шорти познакомился с Дженни Ройстер, и та сразу же им заинтересовалась. Дженни, по-матерински его жалея и вдобавок любопытствуя насчет его телосложения, заговорила с ним после одного из представлений и пригласила к себе в гости. Сначала Шорти не решался идти к незнакомой женщине в незнакомом городе, но Дженни настаивала и убеждала, обещая, что угостит его хорошим ужином, а потом он уйдет или останется, как захочет сам. Был уж первый час ночи, когда он приехал к ней в такси после последнего представления и остался до полудня следующего дня, когда ему надо было возвращаться на работу.
В ту ночь в доме Дженни они подружились, и с тех пор Шорти каждую зиму снимал у нее комнату на три месяца. Теперь, когда ему скоро должно было исполниться тридцать пять лет, все привычки у него уже установились, он не мог обходиться без Дженни и без ее горячей любви и надеялся, что для него всегда найдется комната в ее доме и что ее пыл никогда не остынет.
Телефон в прихожей зазвонил, и Бетти встала и вышла из комнаты. Через несколько минут она вернулась, надела пальто и отыскала свой шарф.
— Бетти, не пропустите самую интересную часть состязания, — сказал Шорти, неодобрительно покосившись на нее. — Время у них истекает, сейчас они начнут лупить друг друга по чем попало. Того, что в белых трусах, пожалуй, объявят победителем, он, по-моему, уже включен в программу на будущую неделю, ну а я держу за того, что в черных трусах. Вы посмотрите только, какие у него мускулы! Он бы одной рукой дух из меня вышиб! Хотелось бы мне быть такого роста, чтобы попасть на этот ринг! Я бы их просто отшлепал!
Не глядя больше на борцов, Бетти накинула свой красный шарф на голову и стала завязывать его под подбородком.
— Наподдай ему в живот! — кричал Шорти, соскальзывая со стула и в возбуждении подскакивая на месте. — Сверни ему шею! Оторви ему руку и стукни его этой самой рукой по голове!
Бетти надела свои большие очки и ушла в прихожую. Выйдя на улицу и усевшись в машину, она завела мотор, дав полный газ, так что мотор громко зафыркал в холоде ночи. Потом она включила фары и поехала по Морнингсайд-стрит, направляясь к пансионатам на шоссе штата Джорджия.
Рефери поднял руку борца в белых трусах, объявляя его победителем. Зрители вокруг ринга негодующе закричали, а мгновением позже побежденный борец, перебежав ринг, сшиб рефери и начал топтать его ногами. Изображение на экране постепенно бледнело и наконец совсем исчезло. Некоторое время свет мерцал, потом дали следующий номер программы. Двое мужчин, одетые ковбоями, начали стрелять друг в друга.
Учащенно дыша от возбуждения, Шорти все еще стоял перед экраном телевизора, крепко стиснув свои крохотные кулачки, когда в парадную дверь начали громко стучать. Он прислушался: стук становился все громче и настойчивей; потом выключил телевизор и пошел в прихожую посмотреть, кто это стучится в такое позднее время.
Как только Шорти открыл дверь, в лицо ему ударил порыв холодного ветра и Сэм Моксли вошел в прихожую.
Сэм был в потрепанном черном дождевике, лоскут желтой шерстяной материи обматывал его шею. Это был высокий ширококостый негр лет шестидесяти, с правильными чертами лица и седеющими, коротко остриженными волосами. Держался он смирно, говорил тихо, но силы и энергии у него оставалось еще довольно. В молодости он был женат, но его жена рано умерла бездетной. После этого Сэм всегда говорил, что на всем свете у него не осталось близких и от жизни он хочет только одного — до конца дней работать для судьи Рэйни. Последние тридцать лет он был слугой и садовником у судьи Рэйни и с гордостью и усердием смотрел за домом и садом, а также и за самим судьей.
— Добрый вечер, мистер Шорти, — сказал Сэм, наклоняясь и глядя на него сверху вниз.
Шорти взобрался на стул у стены, чтобы быть в более выгодном положении, разговаривая с Сэмом.
— Ты зачем сюда явился? — спросил его Шорти.
Сэм начал разматывать длинную полосу желтой материи, которую он всегда носил в холодную погоду, чтобы не застудить горло. Аккуратно сложив этот лоскут, он убрал его в карман и снял тяжелый черный дождевик. Потом начал энергично потирать руки одна о другую, отогревая онемевшие пальцы.
— И холодная же ночь для нас, негров, — сказал Сэм, слегка вздрагивая. Когда он заговорил, его белые зубы блеснули в свете лампы. — И для белых она ни чуточки не лучше, так я думаю. Этот мороз всякого до костей проберет, не разбирая, какого цвета кожа. Да только в это время года от холода никому не уйти — как белохвостому кролику на гороховом поле от желтого гончего пса.
— Знаю я, как на улице холодно, нечего мне про это рассказывать, — сказал Шорти. — Ты лучше расскажи, зачем ты сюда пришел?
— Вам бы следовало это знать, мистер Шорти.
— Откуда я знаю, чего тебе надо.
— Я пришел за тем, чтобы доставить мистера Майло домой.
— А он за тобой посылал?
— Нет, мистер Майло за мной не посылал.
— Так почему же ты думаешь, что он захочет идти домой? Уходи-ка ты лучше, Сэм Моксли, и оставь его в покое. Он наверху и уже лег в постель.
— Именно так я и думал с самого начала, — сказал Сэм огорченно. — Так я и знал. Так я и предчувствовал.
— Что же ты теперь намерен делать?
— Я намерен исполнить свой долг. Вы позовете мисс Дженни и пусть она поднимет его потихоньку и полегоньку, чтобы не очень его потревожить в такое позднее время.
— Нет уж! — запротестовал Шорти, мотая головой. — Не стану я ее звать, а не то она обозлится и начнет меня ругать. Судья Рэйни поужинал и ушел наверх курить сигару и устраиваться на ночь. Уж лучше бы ты оставил его в покое, а не то тебе же будет хуже.
— Я знаю свой долг и пришел сюда затем, чтобы его исполнить.
Пройдя мимо Шорти в конец коридора, Сэм остановился у лестницы.
— Мисс Дженни! Мисс Дженни! — громко позвал он. — Это Сэм Моксли здесь внизу! Я пришел за мистером Майло, чтобы взять его домой. Вы слышите меня, мисс Дженни?
Повсюду в доме было тихо. Шорти слез со стула.
— Разве вы не слышите меня, мисс Дженни? — еще громче начал Сэм. — Это Сэм Моксли здесь внизу, я уже пришел за мистером Майло.
Скрипнула дверь, и Дженни, стараясь запахнуть поплотнее цветастый розовый халат, появилась на верхней площадке лестницы. Ее каштановые волосы распустились, и она поправляла их рукой, силясь рассмотреть высокую фигуру Сэма внизу под лестницей.
— Здравствуйте, мисс Дженни, — сказал Сэм, глядя вверх и улыбаясь ей. — Как вы себя чувствуете нынче?
— Что тебе здесь понадобилось, Сэм Моксли? — сердито спросила Дженни. — Разве ты не знаешь, как сейчас поздно? Ты бы должен понимать и не беспокоить судью Рэйни в такое время.
— Извините, что беспокою его и вас, мисс Дженни, но иначе я никак не могу, — твердым голосом отвечал Сэм. — Мне, право же, очень жаль, но я должен доставить мистера Майло домой, что бы вы ни говорили. Я вот уже тридцать лет хожу за ним днем и ночью и теперь прямо-таки обязан остаться при нем. Если вы будете любезны передать, что я прошу его встать с постели и сойти вниз, то я ни минуты лишней не задержусь тут.
— Судья Рэйни не маленький и знает, что делает, Сэм Моксли, он имеет право остаться там, где хочет. Если ты не уйдешь и не оставишь его в покое, он может рассердиться и тогда уж тебе не поздоровится!
— Я все понимаю, что вы говорите, мисс Дженни, оно, может быть, и правда, но для меня значения не имеет. Я обещал мистеру Майло ходить за ним до самой смерти, и слову своему не изменю. Вот это самое я и делаю тут — держу свое слово.
Подождав немного, Сэм стал подниматься по лестнице.
— Ты за это потеряешь свое место, Сэм Моксли, — предупредила его Дженни, отступая назад. — Погоди только, судья Рэйни сам тебе это скажет. Пожалеешь тогда, что меня не послушался.
— Может, оно и так, мисс Дженни, не стану с вами спорить, — отвечал он, поднимаясь по лестнице, — но сперва я должен выполнить свой долг. Я во всю ночь ни на минуту глаз не сомкну, если его не выполню.
Дженни, запахнув поплотнее розовый халат, все отступала и отступала от лестницы, пока не остановилась в дверях комнаты.
— Последний раз тебя предупреждаю, Сэм Моксли, и ты лучше меня послушай. Пожалеешь еще, что на старости лет потерял такое хорошее место. Некому будет кормить тебя досыта по три раза в день, да и ночью крова над головой никто не даст. Будешь просить милостыню на улице и жалеть, что не послушался меня.
— Я слышу, что вы говорите, мисс Дженни, только для меня это значения не имеет, — отвечал Сэм решительно. — Что ж, буду ходить голодный и оборванный, если уж так придется.
Сэм протянул руку за дверь и в темноте долго шарил по стенке, пока не нашел выключатель. Он повернул его, и секундой позже судья Рэйни сел в кровати, моргая от яркого света.
— Добрый вечер, мистер Майло, — степенно сказал Сэм.
— Черт бы побрал твою черную шкуру, Сэм Моксли! — прикрикнул на него судья Рэйни. — Что тебе здесь понадобилось? Я за тобой не посылал! Что с тобой такое? Ты, верно, рехнулся! Не видишь, что ли, что я тут делаю?
— Мне не надо видеть своими глазами, мистер Майло. Я это и так чувствую. Я уже понял, что должно случиться, после того, как мисс Дженни позвонила мне по телефону и не велела готовить вам ужин, потому что она сама его приготовит. Вы же мне сами говорили, что когда леди собирается готовить для вас ужин и оставляет вас ночевать, то это верный признак, что дело пахнет не одним только ужином. После того как мисс Дженни сказала мне это по телефону, я подождал ровно столько времени, чтобы дать вам поужинать и выкурить сигару, а потом скорей побежал сюда. Я уж знаю, когда приходит время выполнить мой долг, как вы же сами заставили меня пообещать, на случай ежели попадете в такую вот переделку. Не беда еще поболтать вечерком с доброй знакомой в гостиной, а вот остаться ночевать у нее в доме — это и до беды может довести. Вы же сами сколько раз мне это говорили, мистер Майло, и я вам обещал, что всегда приду за вами и заберу вас домой, пока не поздно.
— Ах ты, африканская рожа! — сердито сказал судья Рэйни. — Пускай я ничего другого не сделаю, но в суд я пойду, и пусть тебе вручат повестку о выселении. Зашлют тебя в Африку, в такие дебри, что ты и света божьего не увидишь. Вот уже тридцать лет ты мне жить не даешь, ну и хватит с меня.
— Это все правда, мистер Майло. Я всегда так и поступал, как вы говорите. И я вам вот как благодарен за то, что вы позволяете мне ходить за собой.
Сэм нашел носки судьи Рэйни и откинул в сторону одеяло. Он успел надеть один носок судье на ногу раньше, чем тот отпихнул его от кровати. Потом, нырнув вперед, он крепко зажал локтем ногу судьи Рэйни и натянул ему второй носок. Крепко держа судью Рэйни, Сэм впихнул его ноги в штанины.
— Слышишь, что я говорю, Сэм Моксли? — закричал на него судья Рэйни, пыхтя и фыркая от напряжения. — Говорят тебе, мне надоело, что ты мной командуешь и во все лезешь! Надоело мне все время есть твою стряпню! И не нравится мне, что ты с меня снимаешь костюм, когда надо его погладить! И еще; не нравится мне тоже, что ты каждое утро стягиваешь с меня одеяло и заставляешь вставать к завтраку!
Сэм застегивал на судье рубашку.
— Да, сэр, мистер Майло, я все слышу. И верю каждому вашему слову. Ничего, вы себе говорите все, что вам хочется. А теперь вам только надо встать на ноги, и я вам заправлю сорочку в панталоны. Только не выпячивайте живот, пока я застегиваю вам пояс. Я уж и так тороплюсь изо всех сил, лишь бы нам поскорей отправиться домой. Вот ваш галстук, а если не хотите, то и не надевайте, я могу положить его к себе в карман. Скажите только, куда вы девали ваши ботинки, после того как сняли, и я их разыщу и надену вам.
— Удивляюсь вам, Майло, — сказала Дженни, стоя в дверях. — Вот уж никогда не думала, чтобы вы позволили кому-нибудь командовать собой. Неужели у вас совсем характера нет?
Шорти Гудвилли протиснулся в дверь рядом с Дженни, чтобы хорошенько разглядеть, что тут делается.
Сэм отыскал ботинки судьи под кроватью. Надев ботинки ему на ноги и крепко завязав шнурки, Сэм подал судье пиджак.
— Отстань, смола негритянская! — выбранил его судья Рэйни, стоя посреди комнаты в полном облачении. — Последний раз ты меня этак поднимаешь среди ночи. Первое, что я сделаю завтра утром, — это добьюсь, чтобы тебе вручили повестку, как lunatico inquirendo [4]. Тогда засадят тебя, куда следовало засадить еще тридцать лет назад. Я сам виноват, что раньше не отправил тебя в сумасшедший дом.
— Вы себе говорите все, что вам хочется, мистер Майло. Я на ваши слова не обижаюсь. Вы уж столько раз мне говорили это самое, что я очень хорошо понимаю, что оно значит. А полоумным меня и раньше никогда не считали, да и на этот раз вряд ли сочтут.
Крепко ухватив судью под руку, Сэм повел его из спальни в прихожую. Дженни и Шорти вышли за ними на площадку.
— Не могу себе представить, почему вы позволяете Сэму Моксли так собой командовать, — сказала Дженни резким обиженным голосом, когда они стали спускаться по лестнице, — если только это вы не сами подстроили, чтобы не оставаться здесь на ночь. А если не это, всякий подумал бы, что уж такой-то человек, как вы, сумеет поставить на своем. И все-таки мне не нравится, что вы меня оставили на бобах, после того как я приготовила вам ужин и так рассчитывала на всю остальную ночь. Теперь выходит, что это еще новое несчастье на мою голову. А ведь как будто я имею право на внимание после всех моих хлопот.
Застенчиво опустив голову, судья Рэйни спускался вместе с Сэмом по лестнице. Избегая ожесточенного взгляда Дженни, он не произнес ни слова, пока Сэм подавал ему шляпу и надевал на него пальто.
За это время Дженни и Шорти тоже успели сойти с лестницы. Шорти поскорей залез на стул, боясь упустить что-нибудь из происходящего.
Перед тем как выйти на улицу, судья Рэйни обернулся и взглянул на Дженни, но, увидев ее разгневанное лицо, так и не сказал ни слова. Она же только собралась что-то ему сказать, как Сэм выпихнул его на улицу и закрыл за собой дверь.
После того как они ушли, Дженни долго стояла на месте, глядя на парадную дверь с изумлением на круглом раскрасневшемся лице. Вдруг она нагнулась, схватила горшок с цветами и изо всех сил швырнула его в дверь. Осколки горшка и обломки цветущих веток усыпали пол в прихожей.
Даже не взглянув на то, что она натворила, Дженни плотно запахнула розовый цветастый халат вокруг своих мощных бедер и пошла наверх. Не пройдя еще и половины пути, она вдруг остановилась и обернулась. Шорти с готовностью глядел на нее, радостно ухмыляясь.
— Не знаю, почему бы это, — сказала она обиженным тоном, — как только мне захочется оказать кому-нибудь внимание, а это моя самая большая слабость, — непременно что-нибудь да случится. Никогда ничего из этого не выходит.
Она опять стала подниматься по лестнице на второй этаж. Дойдя почти до самого верха, она остановилась и поглядела вниз, на Шорти. Тот все еще стоял у лестницы, в надежде, что его позовут.
— Визи, — позвала Дженни, поманив его рукой. — Визи, иди со мной наверх.
4
Дженни Ройстер в цветастом розовом халате и стоптанных желтых шлепанцах гладила на кухне свою любимую блузку, когда Клара Крокмор вышла из своего дома, перебежала соседний двор и легонько постучалась с черного хода.
Была середина утра, между десятью и одиннадцатью часами, дул мягкий юго-восточный ветерок, и солнце жарко светило после холодной ночи. Дженни была одна на кухне, она тихонько напевала что-то и чувствовала себя Свободно и легко, не стесненная лифчиком и корсетом. В это утро она не дала себе труда причесать и уложить свои жидкие каштановые волосы, и они космами падали ей на шею. Как всегда в это время дня, Бетти Вудраф еще спала в своей комнате наверху. Возвращаясь домой очень поздно, большей частью в полночь, а то и в два-три часа, Бетти повадилась спать целое утро, а потом читать лежа в постели чуть не весь день. После этого она спускалась в кухню, жарила себе хлеб и варила кофе. В конце дня она принимала ванну, одевалась в свое лучшее платье для прогулки и медленно шла в центр города, на площадь к зданию суда. Там она проводила час-другой, не спеша делала нужные покупки или сидела в аптеке у стойки с газированной водой. Теперь она уже знала почти всех дельцов, адвокатов и учителей в Сэллисоу и всегда была любезна и приветлива, если с ней заговаривали в магазине, но никогда не останавливалась поговорить с кем бы то ни было на тротуаре. Бетти всегда возвращалась домой на Морнингсайд-стрит засветло и переодевалась к вечеру в брюки и свитер.
Шорти Гудвилли после завтрака ушел в город посмотреть, нет ли ему писем на почте. Хождение за письмами всегда занимало много времени, и, кроме того, это стало для него переживанием, доставляющим удовольствие каждый день. Люди интересовались Шорти, часто останавливали его на улице или приглашали в бар распить бутылочку пива. Каждому хотелось послушать его рассказы про лилипутов и карликов, которых он знал лично, и рассказать ему про свои знакомства с циркачами.
Шорти любил получать письма и часами носить их в кармане нераспечатанными, представляя себе, что в них может быть написано, и потому он никогда не терял надежды, что кто-нибудь ему напишет. Однако бывало, что за несколько недель он не получал ни одного письма. Состоя платным членом Клуба лилипутов США, Шорти мог быть уверен, что раз в месяц обязательно получит клубный журнал. Изредка приходил циркуляр от директора компании балаганов с изменениями в маршруте будущего турне. Иной раз он бывал очень доволен, получив открытку от кого-нибудь из лилипутов, зимовавших во Флориде. В сущности Шорти получал больше писем, разъезжая с балаганом, потому что Дженни часто ему писала о том, как она скучает и как ей одиноко в доме без него.
Отворив дверь Кларе Крокмор и улыбнувшись ей, как обычно, беглой улыбкой, но не обменявшись с ней ни единым словом, Дженни вернулась к гладильной доске, чтобы, не торопясь, догладить блузку.
Дженни и Клара так привыкли обмениваться визитами в любое время дня и виделись так часто из недели в неделю, что иной раз, встречаясь, не разговаривали по получасу. Однако обе они были довольны этим молчанием и им просто нравилось составлять компанию друг другу, пока одной из них не вздумается заговорить.
Когда Клара направлялась через всю кухню к столу, Дженни кивком головы указала ей на кофейник, стоявший на плите. Клара подошла к плите и налила себе чашку горячего кофе с сахаром и сливками. Потом она уселась, скрестив ноги и с удобством откинувшись на спинку стула. Прихлебывая кофе, она терпеливо ждала, пока Дженни неторопливо и старательно гладила блузку.
Клара Крокмор была вдова лет около пятидесяти, немногим моложе Дженни, с очень светлыми, всегда аккуратно причесанными и завитыми волосами. Она была маленькая, изящная, с ярко-голубыми глазами и ямочками на щеках, и фигура у нее до сих пор оставалась такой же, как в молодости. Если Клара и не вышла во второй раз замуж, то вовсе не потому, что ей этого не хотелось. Она часто говорила Дженни, что надеется, что ей не придется провести остаток своей жизни в одиночестве, а уж если она дойдет до крайности, то не побоится выйти за порог своего дома и подцепить первого мужчину, какой попадется навстречу. Совсем недавно, под видом шутки, а на самом деле вполне серьезно, она сказала, что если кто-нибудь не поторопится сделать ей предложение, то она пустит к себе жильца.
В течение тех пяти лет, которые прошли после смерти ее мужа Джорджа Крокмора, Клара жила одна в соседнем доме и посвящала много времени уходу за цветами в саду позади дома. Кроме того, она была искусная швея и гордилась тем, что сама кроила и шила все свои платья. Джордж Крокмор много лет прослужил кассиром в банке, и благодаря своей предусмотрительности и умению вести денежные дела он смог оставить Кларе большую страховую премию и сбережения, так что она всю свою жизнь могла прожить, не нуждаясь. Ее двухэтажный кирпичный дом был оплачен полностью, и автомобиль у нее был дорогой, последнего выпуска.
Дженни кончила гладить блузку к полному своему удовольствию и, подняв ее на руках и одобрительно оглядев, повесила на вешалку, чтобы не измять, когда понесет наверх, в свою комнату, После этого она выбрала одну из ситцевых юбок, выстиранных накануне, и раскинула ее на гладильной доске. Прежде чем снова приняться за глажение, она оглянулась на Клару, выразительно приподняв брови, что означало готовность к разговору.
— Ужас какой мороз был нынче ночью, правда, Дженни?
Клара выпалила это с такой быстротой, которая давала понять, что все это время она только и дожидалась удобной минуты начать беседу.
— Видела ты хоть что-нибудь похожее так рано осенью, Дженни? Я в жизни ничего подобного не видела, сколько себя помню.
— Страшный был мороз, — согласилась Дженни, мерно кивая головой. — Просто страшный.
Осторожно приподняв полу юбки, Клара положила ногу на ногу, потом вытянула ногу кверху, рассматривая тонкую лодыжку.
— Старость, что ли, подходит, — говорила Клара, наклоняясь и поглаживая икру, — но зима как будто становится все холодней и холодней с каждым годом. Если будут еще такие заморозки, как прошлой ночью, придется поехать в центр города и купить себе еще одно одеяло потеплее. Сказать по правде… то есть… ну, каждую зиму я все больше и больше зябну по ночам, с тех пор как Джордж умер. — Она замолчала и опять принялась растирать икру. — Всего обиднее в этом вчерашнем морозе то, что после всех моих летних трудов и забот у меня на утро ни единого цветочка в саду не осталось. Так это меня расстроило, просто хоть плачь.
Когда Клара кончила говорить и умолкла, Дженни закивала головой в знак согласия.
— У меня пропали этой ночью все мои красные и желтые хризантемы, все до единой, — сказала Дженни со вздохом. — А таких красивых мне еще ни разу не удавалось вырастить. Уж не знаю почему, только ухаживать за цветами и за всякими растениями самая моя большая слабость. Просто стыд и срам, что холода завернули так рано. Погода точно назло нам испортилась, а то, пожалуй, еще недели три не было бы такого жестокого заморозка. Я только одному рада. Все мои цветы в горшках я внесла в дом вчера вечером, а если б забыла и оставила в саду, их побило бы морозом. Просто хоть ложись да помирай, так жалко было бы, если б они пропали.
— У тебя, Дженни, прелесть какие цветы в горшках, — сказала Клара. — Я всегда на них любуюсь.
— И я тоже всегда любуюсь на те цветы, что ты разводишь за домом.
Дженни продолжала гладить юбку, а Клара допивала кофе, косясь на Дженни из-за края чашки. Минуты проходили в молчании.
Клара встала со стула и понесла чашку с блюдечком к раковине. Она довольно долго простояла спиной к комнате, старательно моя и полоща чашку с блюдечком в горячей воде. Кончив вытирать их посудным полотенцем, она обернулась и посмотрела на Дженни.
Дженни весело напевала про себя, водя утюгом взад и вперед по юбке.
— Не знаю, правда это или нет, только я слышала, что твои жильцы у тебя не останутся, — сказала Клара, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно непринужденнее. — Я очень удивилась, когда это услышала, и никак не могла решить, правда это или нет.
Дженни поставила утюг, с размаху стукнув им по доске. Она сразу перестала петь, но не подняла глаз от юбки, которую гладила.
— Что такое ты слышала? — спросила она у Клары немного погодя. — Как ты сказала?
— Ну, я слышала, что твои жильцы, может быть, переедут от тебя куда-нибудь в другое место. Да ведь я уж говорила, неизвестно, правда это или нет…
Медленно обернувшись, Дженни посмотрела Кларе прямо в глаза. Лицо Дженни покраснело, и губы слегка вздрагивали. Словно подкошенная внезапной болезнью, она опустила руку на гладильную доску и оперлась на нее всей тяжестью.
— Где это ты такое слышала? — спросила Дженни резким и дрожащим голосом. — Кто это шляется по городу и сплетничает на мой счет? От кого ты слышала такую гадость? Я хочу все знать!
Опустив глаза и избегая гневного взгляда Дженни, Клара повернулась к своему стулу и села. Дженни бросила гладильную доску и, перейдя через всю кухню, остановилась перед Кларой.
— Ну, выкладывай, не стесняйся, — сказала Дженни.
— Что ж, Дженни, я думаю, теперь чуть ли не весь город про это слыхал, — сказала Клара. — Я-то уж, во всяком случае, последняя узнаЮ, что говорят.
— А когда ты это слышала?
— Нынче утром.
— Кто тебе сказал?
— Норма Поуп.
— А что она говорила?
— Ну, я была у себя в саду вот только что, а она подошла к забору и начала про это рассказывать, не знаю только, от кого она слыхала. Думаю, какая-нибудь соседка рассказала. Знаешь ведь, Дженни, как такие слухи разносятся с одной улицы на другую. Это уж всегда так бывает. Самый пустяк подхватят и разнесут по всему городу, как пожар по ветру.
Запахнув цветастый розовый халат, Дженни тяжело опустилась на первый попавшийся стул и вздохнула тяжелым, глубоким вздохом. Ее круглое полное лицо раскраснелось еще сильнее.
— Ну-ну, не стесняйся, рассказывай все, что ты слыхала, Клара, — сказала Дженни натянутым тоном, стискивая руки на животе. — Я хочу точно знать все, что говорили, — все, до последнего слова. Что про меня говорили, Клара?
Клара приподняла юбку и положила ногу на ногу.
— Право, я тут ни при чем и винить меня не за что, — принужденно начала Клара. Наклонившись вперед, она растирала икру во время разговора. — Я только повторила то, что мне сказали другие — Норма Поуп. Мы с тобой все это время дружили, были хорошими соседками, ты же знаешь, за твоей спиной я ничего такого не стала бы говорить, чего не скажу тебе прямо в глаза. У меня, может, есть свои недостатки, но я не из таких подруг.
Клара выпрямилась и начала вертеть верхнюю пуговицу на блузке.
— Я и не говорила, что обижаюсь на тебя — я хочу только знать, что ты про меня слышала.
Не сводя глаз со своей юбки, Клара время от времени обдергивала ее обеими руками.
— Ну так вот, — сказала Клара, все еще избегая глядеть на Дженни, — ну так вот, я слыхала — я ведь только повторяю слово в слово то, что мне говорила Норма Поуп нынче утром, — так вот, Норма говорила, будто некоторые люди… то есть, она слыхала, будто кое-кто собирается наделать тебе таких неприятностей, что тебе придется продать свой дом и уехать из города, если ты не заставишь Бетти Вудраф немедленно съехать с квартиры.
Дженни еще плотней завернулась в розовый халат и уверенно улыбнулась. В первый раз за все время разговора она откинулась на спинку стула.
— Я больше ничуть не беспокоюсь насчет этих святош из церкви Тяжкого Креста, что напротив, — ответила она Кларе. — Мой адвокат сказал…
— Дженни, это не святоши говорили про то, что я слышала…
— А кто же еще станет про меня такое говорить?
— Это те женщины, которые узнали, что их мужья встречаются с Бетти Вудраф в пансионатах на шоссе.
Моргая глазами, Дженни смотрела на Клару и не видела ее.
— Жизнь моя — это сплошные беды и несчастья, не одно, так другое, сказала она, помолчав, — и похоже, что конца этому не будет, пока я не помру. Я думала, все мои неприятности кончатся, когда я уйду на покой. В прежнее время, когда я была еще молоденькая и мужчины за мной гонялись, вот уж не приходилось беспокоиться, что обо мне говорят. Все, что сейчас творится, только доказывает, что одно дело, когда женщина молодая и красивая, и другое, когда она состарится и подурнеет — с ней совсем по-другому обращаются. Что еще ты слыхала?
— Ну…
— Не стесняйся, Клара, выкладывай.
— Ну, говорили, будто Бетти Вудраф каждый божий день ходит в центр города выставлять себя напоказ и в конце концов всегда подцепит не одного мужчину, так другого, каждую ночь ездит по пансионатам и ведет себя скандально. Говорят, она потому может соблазнить любого мужчину, что держит себя с ними по-особенному, прямо-таки неприлично. Что это значит, не знаю, но догадываюсь. Как бы там ни было, говорят еще, что во всем этом ты виновата — мужчине стоит только позвонить тебе на дом, поговорить с Бетти, и через четверть часа она выезжает на свидание с ним куда угодно.
Дженни поджала губы.
— Еще что, Клара?
— Это почти и все, разве вот только говорят еще, будто бы она всему, что знает, выучилась от тебя, иначе она не умела бы проделывать все эти гадости.
— Ты следила бы за собой, Клара, а за своим поведением я и сама услежу! Я теперь почтенная женщина на покое и ничуть не хуже всякой другой! А кроме того, каждая девушка обязана знать все, что мужчина может от нее потребовать.
— Дженни, не злись на меня за то, что я тебе про это рассказала, — начала Клара. — Ты же сама говорила, что хочешь знать все, что я слышала, а ведь я только передала то, что Норма Поуп слышала от кого-то.
— Я имею право сердиться на всякого, кто не считает меня за порядочную женщину на покое, — гордости у меня не меньше, чем у других прочих. А если я по своей доброте что-нибудь и посоветую Бетти с глазу на глаз, так это никого не касается, уж во всяком случае. Для нас, женщин, разговор по душам — такое же обыкновенное дело, как для мужчины выпивка, сама знаешь. Кроме того, для Бетти большой удар, что ее бросил этот футбольный тренер, надо же кому-нибудь, вроде меня, помочь ей стать на ноги. Некоторые девушки после такого удара и мужчину к себе не подпустят, так и останутся в старых девах, а другие в конце концов выйдут на улицу просить, чтобы им доллар разменяли. Я не желаю Бетти ни того, ни другого.
Дженни замолчала, тяжело и часто дыша.
— Ну, выкладывай остальное, Клара. Что еще ты про меня слышала?
— Больше я уж ничего не помню, — осторожно отвечала Клара.
— Это верно? — настаивала Дженни. — Больше так-таки ничего про меня и не говорили?
— Ну, может, и еще кое-что было.
— Что же?
— Ну, кто-то там сказал, что если ты сейчас пожилая женщина на покое, то это еще не значит, что ты бросила прежние свои повадки, и жить рядом с церковью тебе совсем не к лицу.
Дженни вскочила с места и принялась расхаживать по кухне взад и вперед. Она так разволновалась, что даже не заметила, как один из желтых шлепанцев соскочил у нее с ноги.
— Знаю я отлично, откуда эта мерзкая сплетня пошла, — с горечью заговорила Дженни. — Это всё эти ханжи из церкви Тяжкого Креста, да еще проповедник Клу. Никто другой не стал бы говорить про меня такие гадости. Они сюда приходили вчера и грозили мне всякими неприятностями, если я не прогоню Бетти с квартиры. Это для них предлог оттягать мой участок, чтобы поставить на нем пристройку к церкви. Вот именно из-за этого я и упираюсь и ни за что не соглашусь! Я им покажу! Даже если они после этого одумаются и станут давать больше, чем я прошу, я теперь ни за что не продам им свой дом. Я их проучу!
Заметив наконец, что она потеряла один из желтых шлепанцев, Дженни остановилась и, окинув взглядом кухню, увидела его. Не нагибаясь, она сунула ногу в шлепанец и снова зашагала по кухне.
— Нипочем не уступлю, уж я знаю, как сделать по-своему. Скажу Бетти Вудраф, пусть живет у меня хоть десять лет, если ей хочется, и еще найду таких жилиц, как она, столько напущу, что ни единой свободной кровати не останется. А когда будет у меня в доме полно жилиц, так, наверно, пожалеют эти святоши со своим проповедником, что говорили про меня всякие гадости. Этот дом ославит весь город лет на сто.
Слезы уже стояли у нее в глазах, и она принялась рыдать так, что сотрясалось все ее тучное тело. Ничего не видя от слез, она подошла к стулу Клары и упала на колени. Клара обняла ее и в утешение похлопала по спине. Плача, как малое дитя, Дженни уткнулась лицом в колени Клары.
— Не плачь так, Дженни, — нежно сказала Клара, гладя ее по спутанным каштановым волосам. — Не стоит расстраиваться и терять голову из-за таких людей. Из твоего дома никто тебя не выселит. Имеешь право жить здесь, сколько тебе вздумается.
Дженни отвернула край розового халата и утерла им лицо.
— Иной раз мне кажется, будто у меня ни одного друга нет на всем белом свете, — прорыдала она, судорожно всхлипывая. — Люди со мной обращаются, как с негодной старой шваброй, которую пора выбросить на помойку. Когда я была молоденькой и хорошенькой девушкой, никто ко мне так гадко не относился. А когда я состарилась да расплылась и пришлось мне уйти на покой, никто не хочет обращаться со мной по-хорошему. Как же они думают, куда женщине деваться, когда она уходит на покой? Надо же мне где-то жить, ведь правда? А разве я не скопила деньги и не заплатила за свой дом, чтобы жить в нем на покое? Ведь заплатила же! Так почему же мне нельзя жить в своем собственном доме, жить и дышать, как всем другим людям?
— Да, Дженни, — успокоительно повторяла Клара. — Да, Дженни.
— Это просто стыд и срам так обращаться с человеком, как они со мной обращаются. На сорок миль в окружности не было мужчины, который не гонялся бы за мной, когда я была молода и хороша, — а теперь, когда я состарилась и подурнела, они хотят от меня отделаться. Я привыкла получать все, что ни попрошу, когда была молоденькой девушкой, а теперь они не дают мне жить в моем собственном доме, который я купила на свои собственные деньги. Могла бы я назвать кое-кого из этих самых мужчин, которые, бывало, проводили со мной время, когда они еще не уверовали в бога и не примкнули к этой церкви — и я умела им угодить, можешь мне поверить, — а теперь все они против меня, такие стали ханжи, и стараются выжить меня из города. До того это меня злит, просто плюнуть хочется!
— Дженни, я тебе друг, ты всегда можешь на меня рассчитывать, — сказала Клара, все так же нежно поглаживая ее по волосам. — Брось-ка расстраиваться из-за того, что люди говорят. Про всякую женщину когда-нибудь да сплетничают, вот теперь пришел и твой черед.
Вытерев слезы, Дженни подошла к плите и налила кофе в чашку. Она положила туда несколько ложек сахару и начала так энергично его размешивать, что кофе выплеснулся на ее розовый халат.
— Так смотри же, Клара, помни, что я тебе сказала, — заговорила Дженни настойчивым тоном. — Я решила, что не выгоню Бетти Вудраф из моего дома. Не так давно эти ханжи со своим проповедником хотели, чтобы я выгнала Визи Гудвилли, однако он все еще тут. Это когда они говорили, что мне грешно и безнравственно жить с Визи под одной крышей. Не знаю, как они узнали, чем мы с Визи иной раз занимаемся, ведь я на ночь всегда спускаю шторы, ну, а если и так, женщина имеет право заниматься своими личными делами, когда ей вздумается. Я лет тридцать пять так живу, не меньше, и теперь ни от чего такого отказываться не собираюсь.
Клара встала и вышла в соседнюю комнату.
— Мне пора домой, — сказала она. — Скоро уж полдень.
Она пошла к черному ходу, но, сделав несколько шагов, остановилась.
— Дженни, если что-нибудь случится… я хочу сказать, если Визи Гудвилли придется выехать из твоего дома… — Клара так нервничала и волновалась, что ей пришлось замолчать и перевести дух, не докончив фразы, — так вот, у меня в доме есть свободная комната, он может в нее переехать.
Дженни опустила чашку с блюдечком в мойку, так что они зазвенели. Сердито глядя на Клару, с раскрасневшимся от гнева круглым лицом, она вышла на середину кухни.
— Это уж такая низость, Клара Крокмор, что я в жизни ничего подобного не слыхивала! Я знаю, что у тебя на уме! Ты меня не проведешь! Стараешься переманить Визи к себе в дом! Думаешь, что можешь отбить его у меня, так ведь? Ну, а я тебе вот что скажу, Клара Крокмор: он мой — и я не позволю тебе его переманивать!
Дженни бросилась к Кларе, не дав ей добраться до двери. Клара не успела еще отворить дверь, как Дженни вцепилась ей в короткие светлые волосы обеими руками и дергала их из стороны в сторону так, что у той моталась голова. Клара, не в силах вырваться, пронзительно визжа, тянула и дергала розовый халат Дженни, пока совсем его не сорвала. Заметив, что случилось с халатом, Дженни попробовала тоже сорвать с Клары платье, и они обе повалились на пол. Клара, более проворная, сумела вырваться и отворить дверь. Не оглядываясь назад, она скатилась по ступенькам крыльца и бросилась к себе во двор.
Отбежав на безопасное расстояние, Клара остановилась и оглянулась. Дженни стояла на крыльце, зажав в руке лоскут розового халата.
— Не смей подходить к моему дому, пока жива, ты, подлая, скверная тварь! — кричала Дженни Кларе. — Ноги твоей чтобы не было в моем доме, а не то я все твои желтые космы повыдеру! Сорву с тебя все твои тряпки, будешь голая, как вареная курица! И разговаривать с тобой больше не желаю! А если будешь Визи Гудвилли к себе в дом переманивать — я из тебя душу выну! Мужчину у меня никто не отобьет, пока он мне самой нужен! Визи — мой душенька, смотри не забудь про это!
5
Как раз перед сумерками проповедник Томас Клу положил свой чемодан в машину и, сгорбившись и сжавшись за рулем, в надежде, что его не узнают, пока он едет по городу, торопливо проехал по городской площади. Его тревога почти улеглась, когда он достиг городской черты, хотя он все еще нервничал и волновался.
Он повернул на шоссе штата, ведущее к Саммер-Глэйду, маленькому городку в низменной сельской местности, расположенному в десяти милях на юг от Сэллисоу. Жаркое солнце весь день светило с ясного неба, и в конце дня ветер переменился с юго-восточного на юго-западный. С наступлением ночи ветерок с Мексиканского залива принес тепло и туман.
Проповедник Клу весь день строил планы и обдумывал то, к чему так стремился, потом, утвердившись в своем решении, нетерпеливо ждал, когда стемнеет. Он убедил себя, что его долг, как проповедника, узнать о жизни все, что только возможно, и строить свои проповеди на реальной основе личного опыта и наблюдения. После этого ему уже не трудно было убедить себя в том, что ему необходимо провести ночь в пансионате, для того чтобы из первых рук составить представление об этой своеобразной стороне жизни.
Каждый раз, услышав о том, как Бетти Вудраф ездит в пансионат «Приятное времяпрепровождение», проповедник Клу испытывал сильное, неотразимое желание поехать туда самому. Несколько раз, спрятавшись за живой изгородью церковного двора, он подглядывал, как Бетти выходит из дома Дженни Ройстер и уезжает в ночную темноту, а однажды он погнался за ней в своей машине, чтобы узнать, куда она едет. Каждый раз, увидев ее, он возвращался домой и не спал всю ночь, часами ворочаясь в кровати, терзаемый опустошительными мыслями о ней.
На шоссе между Сэллисоу и Саммер-Глэйдом стояло около десятка пансионатов, одни — веселые и новые, другие — полуразвалившиеся, ветхие домишки, и каждый раз, как он проезжал мимо одного из них, его все больше тревожило и волновало то, что он собирался делать.
В некоторые из пансионатов поновей к ночи съезжались постояльцы, и он видел, как мужчины и женщины высаживались из своих машин и входили в комнаты. И хотя он чувствовал себя все более и более одиноким, ему было приятно думать, что скоро он и сам войдет в одну из таких комнат. Когда он доехал до Саммер-Глэйда и торопливо повернул обратно к Сэллисоу, было уже темно и в пансионатах зажглись огни и яркие электрические вывески.
Проповедник Клу был еще молодой человек, моложе тридцати лет, с редкими черными волосами и бледной вялой кожей. Роста он был маленького, немногим больше пяти футов, худой и щуплый телом. По натуре нервный и возбудимый, он легко волновался и приходил в раж от собственных проповедей. Бывали случаи, когда он вопил и выкликал с таким жаром, что к концу проповеди терял голос и едва мог говорить хриплым шепотом. В такие минуты, когда его слов нельзя было расслышать, он возбужденно подпрыгивал и подскакивал, а иногда, бросившись на пол, катался по нему до полного изнеможения. Благословив и отпустив паству, он обычно бывал весь в поту, а его синий костюм оказывался измят и весь в пыли.
Он родился в нижней части округа Индианола в поселке, где гнали скипидар — отец его был кочегаром на перегонном заводе, а мать — вольнопрактикующей стряпухой и подавальщицей, и ему ни разу не пришлось побывать дальше чем за сорок миль от места своего рождения. Два года он ходил в школу, потом пошел работать на лесопилку, и у него не было возможности подготовиться к пастырскому служению. Тем не менее в двадцать три года на собрании верующих он обратился к богу и, став напористым церковным сборщиком и сильным и пламенным оратором, с тех пор успешно проповедовал слово божие. С особенным успехом он собирал деньги на построение церквей.
Некоторые прихожане церкви Тяжкого Креста говорили между собой, что было бы гораздо лучше, если бы их проповедник имел жену и детей, хотя бы для соблюдения приличий, но до сих пор он не проявлял никакой склонности к браку. Один из членов церковного совета заговорил с ним как-то раз на эту тему, намекнув, что неженатому проповеднику всегда угрожает опасность быть замешанным в какой-нибудь скандал, но проповедник так взволновался и расстроился, что больше этого вопроса уже не касались.
Ближе всего проповедник Клу был к женитьбе в тот вечер, когда ему случилось провожать домой после спевки молоденькую солистку из церковного хора. Они так долго сидели в машине перед ее домом, что отец девушки вышел на улицу и застал их любезничающими на заднем сиденье. Он до того изумился, что поскорей отошел в сторонку, подумав, что по ошибке заглянул не в ту машину. Однако, постояв и пораздумав, он, хотя и не узнал проповедника Клу без синего костюма, все же почувствовал твердую уверенность, что узнал его желтую двухместную машину, и вернулся посмотреть еще раз. Они все еще любезничали, и на этот раз отец прикрикнул на них и светил в машину фонариком до тех пор, пока проповедник Клу не пришел в себя.
Почти целый час после того как проповедник Клу вылез из машины, шли разговоры и споры, угрозы и оправдания. Однако девушка была слишком молода для замужества, и даже получить разрешение на брак в ее возрасте было бы невозможно, и проповедник Клу дал слово, что не только не станет за ней больше ухаживать, но и не будет провожать ее домой после спевки. Но все равно отец забрал ее из церковного хора, так что ни в каких таких спевках она больше не участвовала.
Доехав до пансионата «Приятное времяпрепровождение», проповедник Клу без всяких колебаний направил машину по ярко освещенной подъездной дороге. Перед пансионатом уже стояло несколько машин, и он увидел, как Стэнли Причард отпирает дверь комнаты для только что приехавших мужчины и женщины. Остановив машину перед конторой, проповедник Клу в тревоге стал дожидаться возвращения Стэнли.
Стэнли Причард, владелец и директор пансионата, был верным прихожанином церкви Тяжкого Креста, и, не говоря уже о том, что проповедник заранее решил поехать в этот пансионат, он думал, что благоразумнее будет провести ночь там, где его знают. Хотя ему не приходила в голову мысль о каких-либо осложнениях или неприятностях, он впервые останавливался в пансионате и чувствовал себя в безопасности, находясь под защитой одного из своих прихожан.
Пока он дожидался в машине, в голове у него с лихорадочной быстротой проносились мысли о том, что он собирался проделать. Он надеялся, что Стэнли вернется в контору без задержки: теперь, когда уже стемнело и он действительно попал в пансионат, ему не терпелось поскорей занять комнату на ночь.
Наконец, прокопавшись, как показалось проповеднику, излишне долго, Стэнли Причард вернулся в контору. Через несколько минут, заметив, что Стэнли смотрит на него в окно, он торопливо вылез из машины и направился к дому.
Стэнли посмотрел на него неузнающим взглядом, когда он вошел в маленькую контору и закрыл за собой дверь.
— Это я, — сказал проповедник Клу, застенчиво ухмыльнувшись. Нервным движением руки он пригладил редкие черные волосы. — Проповедник Клу.
— Провалиться мне! — сказал Стэнли, выходя вперед и пожимая ему руку. — Вот это так сюрприз, проповедник Клу. Когда я увидел вашу машину на дороге, то подумал, что это какой-нибудь турист хочет прицениться к комнатам на ночь. И в голову не приходило, что это вы.
Засунув руки в карманы, проповедник Клу усмехнулся, судорожно кривя губы.
— Думаю, что я и есть турист, — сказал он.
Озадаченный Стэнли посмотрел на него вопросительно.
— Как же так, проповедник Клу? Разве вы можете быть туристом?
— Что ж, я вам объясню, мистер Причард, — начал тот, беспокойно улыбаясь. — Последнее время я много думал и пришел к заключению, что должен изучать жизнь и поведение людей, странствующих по дорогам Америки в наше время. Это новый и совсем особый образ жизни, и бдительный проповедник не может заниматься своим делом, не собрав таких сведений и не изучив всех важных перемен в обычаях и нравах. Вот почему я и решил поехать к вам, чтобы получить сведения из первых рук.
— Так вы и вправду хотите переночевать здесь в пансионате? — спросил Стэнли.
— Ну конечно, мистер Причард.
— А с вами никого нет — вы совсем один?
— Да, разумеется. Я один.
— Глупо с моей стороны было спрашивать, — сказал Стэнли, коротко рассмеявшись от смущения. — И вы не подумайте, проповедник Клу, будто я имел в виду что-нибудь личное. Я просто привык задавать туристам этот вопрос, а то, знаете ли, иной раз бывает, сдашь туристу одиночную комнату, и не успеешь оглянуться, а женщина уж тут как тут, снует взад-вперед, то в комнату, то из комнаты, а бывает, что и на всю ночь останется. Вот почему я всегда стараюсь выяснить наперед, не двое ли их, и тогда уж плата будет двойная. Раз человек уже вошел в комнату и запер за собой дверь, из него не так-то легко выколотить еще доллар-другой.
— Сколько мне это будет стоить? — спросил проповедник, вынимая руки из карманов и переминаясь с ноги на ногу.
— Вам? — отвечал Стэнли, мотнув головой. — Вам это ничего не будет стоить, проповедник Клу. Я только объяснял, как мне приходится поступать с обыкновенными туристами. Я вам отведу самый лучший номер, какой у меня имеется, ведь это для меня большая честь, что вы остановитесь в пансионате «Приятное времяпрепровождение». Кроме того, со своего проповедника я и вообще не хочу ничего брать. Как это можно!
— Но я не хочу вам обязываться…
— Никому вы не обязываетесь, проповедник Клу. Вы делаете мне большую честь. Да и комнат свободных у меня в это время года много. Большой наплыв туристов еще не начался, а вот через месяц много народу поедет мимо нас во Флориду. Но я люблю все-таки, чтобы и до начала сезона у меня как можно больше комнат было занято, это полезно для дела. Когда средний турист увидит, что пансионат всегда полон и перед домом стоит много машин, это даст его мыслям благоприятный оборот — ему и самому захочется здесь остановиться.
Стэнли зашел за конторку и достал ключ из шкафчика на стене.
— Я отведу вам номер двадцать четвертый, проповедник Клу, — сказал он. — Как я вам уже говорил, я хочу дать вам лучший номер в пансионате. Кроме того, он в дальнем конце двора, там тихо и вроде как бы изолированно, вас не будет беспокоить хождение взад и вперед. Мне хочется как следует о вас позаботиться, вот почему я не помещу вас в самом центре; ведь некоторые люди, стоит им заехать в пансионат, начинают вести себя совсем по-другому. Об этой странности в человеческом характере я не знал, пока не начал вращаться среди публики.
— Вот это, между прочим, я и хотел узнать…
— Могу вам сказать, что я многое понял, наблюдая, как люди себя ведут в пансионате. Что верно, то верно — мужчины пьют куда больше виски, а женщины в номере пансионата становятся куда игривее, чем у себя дома. Мужчины стучатся в дверь к незнакомому человеку и прямо из себя выходят, ругаются на чем свет стоит, если ты не хлебнешь виски из их фляги. Приходилось видеть тоже, как женщины бегают наполовину одетые и сами напрашиваются, чтобы мужчины заглянули под другую половину.
— Не в моих правилах пить виски, — тут же отрезал проповедник.
— Я знаю, что не в ваших, а если кто-нибудь к вам пристанет с этим, так вы сразу же дайте мне знать. Я вовсе не хочу, чтобы с вами что-нибудь этакое случилось, проповедник Клу. А теперь садитесь в вашу машину и поезжайте за мной на другой конец двора. Я вам покажу, как попасть в вашу комнату.
Следуя за указующей рукой Стэнли Причарда, проповедник Клу подкатил свою запыленную рыжую машину к двери номера двадцать четвертого. Достав из машины свой чемодан, он внес его в номер.
Стэнли уже включил свет и электрическую печку и теперь спускал шторы на окне. В одном углу стоял телевизор, в другом — маленький холодильник, а у стола — два удобных кресла. Широкая кровать, застланная ярко-оранжевым покрывалом, занимала почти все остальное место в комнате. Был тут еще ковер во всю комнату и несколько ламп под абажурами.
Проповедник Клу, разинув рот от удивления, поставил чемодан на пол и загляделся на кровать.
— Никогда в жизни не видел такой широкой кровати, — сказал он, подходя к ней ближе. — Я и не знал, что бывают такие кровати. Почти вдвое шире любой кровати, какую мне приходилось видеть. Она такая широкая, что в ней могут спать трое, а то и четверо.
— Довольно и двоих, проповедник Клу, — слегка улыбнувшись, сказал Стэнли. — Если больше двоих, остальным придется взять другую комнату.
— Так для чего же кровати делают такими широкими? — спросил он.
— Что ж, я вам объясню, проповедник Клу. С тех пор как я открыл пансионат и начал вращаться среди публики, я понял, что время от времени привычки у людей меняются и одна из новых привычек — это спанье в таких вот широких кроватях. Еще не так давно все туристы говорили, что им нужны две кровати в номере, и приходилось-таки ставить две кровати, чтобы угодить публике и дать ей то, что она желает. Прошло совсем немного времени, и вдруг туристы стали требовать вот такие широкие кровати, и мне пришлось спешно приобретать их, чтобы не остаться внакладе. Если вы сумеете объяснить мне, почему люди так скоро меняют свои привычки, значит, вы знаете о человеческой природе больше моего.
Проповедник только покачал головой.
— Я уже начинаю узнавать больше, чем знал когда-либо.
— И этого еще мало, — продолжал Стэнли. — Вы, может быть, мне не поверите, но некоторым туристам непременно подавай кровать еще шире этой. Вчера вечером останавливается один турист и заявляет, что им с женой требуется кровать королевских размеров, а у меня нет шире вот этой, что вы видите. Само собой, откуда же я мог узнать, действительно это его жена с ним или еще какая-нибудь женщина, так что был рад-радехонек, что он не остался у меня, а поехал дальше по шоссе искать пансионат с такой кроватью, какая ему требовалась. Может, я и ошибаюсь, только та женщина, что с ним была, не походила на его жену, да и вообще вела себя не как замужняя, а я не желаю, чтобы этого сорта люди останавливались в моем пансионате. На этот счет я очень строг и слежу за этим каждую минуту, так чтобы можно было сразу же прекратить безобразие, пока оно еще не начиналось.
Он передал проповеднику Клу ключ от номера.
— Тут как раз через дорогу есть хорошенькое чистенькое кафе, на случай если вам захочется перекусить, — сказал ему Стэнли. — Совсем недалеко, только перебежать дорогу, вам даже и машина не понадобится.
— Я поужинал, перед тем как выехать за город, — сказал проповедник. — Больше не смог бы и куска проглотить. — Он начал беспокойно расхаживать взад и вперед по комнате. Ему не терпелось, чтобы Стэнли поскорей ушел и оставил его одного. — Да я и, вообще говоря, никогда много не ем.
— Что ж, может, вам все-таки захочется выпить там чашечку кофе. — Стэнли замолчал и подмигнул ему. — Там есть очень хорошенькие и молоденькие официанточки, можно сесть за стойку и полюбоваться на них.
Проповедник повернулся и взглянул на Стэнли, но ничего не ответил.
— Ну, а если вам что-нибудь потребуется, — сказал Стэнли, направляясь к двери, — вы только позвоните по телефону.
Проповедник с трудом глотнул слюну.
— А если захотите посмотреть телевизор, вам надо только включить его. Это бесплатно, входит в цену номера.
Он повернул голову и посмотрел в угол.
— А если захотите вызвать по телефону городской номер, прямо набирайте его сами. Пришлось поставить телефон по новой системе, потому что многие туристы делового склада требуют такого рода изоляции, чтобы их не подслушивал кто-нибудь, когда они ведут деловые переговоры. Конечно, если это междугородный разговор, телефонная компания меня уведомит и я зайду получить с вас плату. Хотя к вам-то, я знаю, мне не придется заходить и беспокоить вас из-за этого, вы же не станете никому звонить по междугородному телефону.
— Да, так далеко я никому звонить не буду, — быстро отозвался проповедник Клу.
— Ну, мне пора обратно в контору, — сказал наконец Стэнли. Он подошел к двери и отворил ее. — Может, в контору кто-нибудь заглянул как раз сейчас спросить насчет комнаты, а мне не хотелось бы, чтоб он уехал и дал заработать другому пансионату. В нашем деле каждый доллар имеет значение. На шоссе столько нынче развелось пансионатов и в ту и в другую сторону от города, что каждый вечер идет собачья грызня.
Стэнли вышел и прикрыл за собой дверь почти вплотную. Потом опять распахнул ее настежь.
— Да, помню, было еще что-то важное, о чем я хотел вам сказать, проповедник Клу. Если вам придет охота поговорить и понадобится собеседник, вы прямо заходите в контору. Не стесняйтесь на этот счет, я-то знаю, каково человеку сидеть в комнате одному. Вот почему я и приглашаю вас: приходите в контору, если вам захочется поговорить. Я там пробуду до полуночи.
После того как дверь наконец закрылась, проповедник, уверившись, что Стэнли Причард действительно ушел, присел на широкую кровать. Он посмотрел на часы, потом на блестящий новенький телефонный аппарат на столике перед кроватью. Стараясь сосредоточиться на том, что он собирался сделать, он никак не мог забыть рассказа Стэнли про ту пару, которая останавливалась в пансионате вчера ночью. Лучше бы уж Стэнли ничего такого не рассказывал.
Вскочив с места, он в волнении прошелся несколько раз по комнате взад и вперед. Шагая по ковру, он услышал женский смех из соседней комнаты и остановился, прислушиваясь. Чем дольше Клу прислушивался к этому беззаботному смеху, тем больше он волновался. Пока он пытался представить себе, какая она и что сейчас делает, смех перешел в девическое взвизгивание. Весь дрожа, он подошел к изножью кровати и остановился, глядя на нее. Еще минута, и он бросился на кровать и схватил подушку. Зажмурив глаза и уткнувшись лицом в подушку, он стиснул ее изо всех сил.
Через некоторое время он окончательно разволновался, сел в кровати и снова посмотрел на часы. Было около восьми вечера.
— Я отступать не собираюсь, — сказал он вслух. У него были опасения насчет того, что он собирался делать, но теперь его подбодрил звук собственного голоса. Передвинувшись на край широкой кровати, он протянул руку за телефонным справочником и начал его листать. — Я знаю, что делаю, и отступать не собираюсь.
Разыскав номер в справочнике, он дрожащими руками снял телефонную трубку и набрал номер.
Ему было слышно, как телефон звонит и звонит раз за разом, но никто не отвечал, пока наконец он не услышал голос Бетти Вудраф так ясно, как будто она сидела рядом с ним. Он знал, что собирается ей сказать, но во рту у него пересохло и язык не слушался, когда он попытался заговорить; он побоялся, как бы Бетти не положила трубку, если он не поторопится и не начнет говорить.
— Мисс Вудраф… Мисс Вудраф… — еле слышно выговорил он в трубку.
После этого он услышал ее голос, звучащий как будто за тысячу миль, — она спросила, кто говорит.
— Это говорит Том, — ответил он с жаром, стараясь сдержать дрожь в голосе. — Это я, Том… меня зовут Том. А вам я позвонил потому… ну… я хочу вас видеть — и сейчас же!
Дрожь в пальцах передалась дальше и пошла по рукам до самых плеч, когда она спросила, как его имя полностью. Единственное, что приходило ему в голову, была его фамилия, а он знал, что она не приедет в пансионат, если узнает, кто он такой.
— Я Том, Том… это я — Том! — отчаянно твердил он. — Меня все знают! И вы меня знаете! Я же Том!
Бетти не отвечала, и он, вскочив с кровати, встал перед телефонным столиком, дрожа всем телом. Почувствовав, что и лицо и спина под рубашкой у него взмокли от пота, он вытер лоб рукой. Хоть он и дошел до потери рассудка, но все же знал, что не позволит себе солгать.
— Я говорю правду — вы должны мне поверить! Я в номере двадцать четвертом — в пансионате «Приятное времяпрепровождение»… На шоссе… все знают, где это… Мисс Вудраф… Бетти… я, Том… я вам звоню потому…
После этого на другом конце провода долго молчали, и он напряженно ждал, что же она скажет. Все его тело трепетало от волнения, пока он ждал. И наконец он понял, что ее уже нет у телефона и больше говорить с ним она не будет.
Дрожа от слабости, он сел на кровать и все же как-то ухитрился положить трубку на место, не уронив ее. Тяжело и часто дыша, он не сводил глаз с телефона.
— Я не солгал, — громко сказал он самому себе. — Я сказал правду. Неправды я не говорил. Никто не может меня в этом обвинить. В этом я не грешен. Я не солгал.
Потом он встал и начал мерить комнату нетерпеливыми шагами, расхаживая по комнате от одной стены до другой. Не было никакой возможности узнать, приедет ли она к нему, и он мог только ждать и надеяться, что она скоро будет здесь. Он не знал, что и делать, если она не приедет.
6
Стэнли Причард сидел за своим столом в конторе, читая вечернюю газету, когда блестящий синий с белым автомобиль свернул на дорогу к пансионату и, не замедлив скорости, пронесся в дальний конец двора. Сочетание цветов было не из редких, и такие машины Стэнли видел каждый вечер.
Окинув автомобиль быстрым взглядом и предположив, что это машина какого-нибудь туриста, который возвращается к себе в номер после обеда в ресторане, Стэнли опять взялся за газету. Был девятый час вечера, в воздухе стоял легкий туман, и многие туристы, привыкшие вставать рано, уже легли спать. У него в пансионате оставались еще свободные комнаты, но дело шло к ночи, и он уже не надеялся сдать сегодня хотя бы одну.
Через некоторое время Стэнли дочитал газету и отложил ее в сторону. Заметив, что начинает сонно позевывать, он встал и прошелся по комнате к окну, чтобы немножко встряхнуться. Наблюдая легковые машины и грузовики, мчавшиеся по шоссе в ночном тумане, он начал думать про синий с белым автомобиль и попытался вспомнить, у кого же из туристов была машина именно такой расцветки. Чем больше он думал, тем больше убеждался, что ни у кого из сегодняшних туристов не было точно такой машины, и все же он был уверен, что видит этот самый автомобиль не впервые.
Подстрекаемый любопытством и становясь все более озабоченным и подозрительным, он вышел из конторы и зашагал по дороге, усыпанной гравием. Ему хорошо видна была каждая машина на ярко освещенном дворе, и он зашагал быстрее, стремясь найти ту, которую искал.
Стэнли увидел синюю с белым машину, только зайдя в самый конец двора, там она и стояла, отведенная как можно дальше от других машин. Она оказалась не только знакомой, но он припомнил и ее номер, потому что всего неделю назад он записал его у себя в конторе. Убежденный, что Бетти Вудраф находится в одной из комнат пансионата, хотя он не имел представления в которой, он решил это узнать и позвонить шерифу, чтобы ее немедленно арестовали.
Стэнли поспешил вернуться в контору и сразу же позвонил шерифу округа. На его звонок ответил помощник шерифа.
— Говорит Стэнли Причард, владелец пансионата «Приятное времяпрепровождение». У меня здесь в одной из комнат находится женщина, которая не зарегистрирована. Это та самая, что была здесь три раза на прошлой неделе, и я намерен положить этому конец. Я требую, чтобы шериф приехал сюда как можно скорее, арестовал бы ее и посадил в тюрьму. Она нарушает закон и не зарегистрирована, и мало ли что еще. Во всяком случае, есть закон против того, чем она занимается.
— Вы говорите, что вы владелец заведения, мистер Причард? — с интересом спросил помощник шерифа.
— Конечно, владелец, а кроме того, и директор. Весь город меня знает. Передайте шерифу, что я сказал…
— Я вас не знаю, мистер Причард, но слышал про ваш пансионат, — прервал его помощник шерифа. — Название звучит хорошо: «Приятное времяпрепровождение». Он стоит на дороге в Саммер-Глэйд, милях в трех от Сэллисоу. Вы выбрали отличное название. Каждый раз об этом думаю, как проезжаю мимо. Один мой приятель рассказывал, что ночевал там одну ночь с неделю назад и отлично провел время. Говорит, что скоро опять туда собирается.
— Вот как? — сказал Стэнли, повышая голос. — Именно насчет этого я и звоню сейчас в контору шерифа. Я держу пансионат для настоящих туристов и намерен положить конец всем беззакониям, которые тут творятся вот уже несколько недель.
— Вы подпишете жалобу, мистер Причард?
— Конечно, подпишу! Хоть двадцать жалоб! Так вы скажите шерифу, что я прошу его приехать поскорей, арестовать ее и забрать в тюрьму.
— Одно вам следует знать, мистер Причард, — сказал помощник шерифа, помолчав.
— Что вы имеете в виду?
— Ну, ведь это не шутка ошибиться в таком деле. Очень много людей, состоящих в законном браке, останавливаются нынче в пансионатах, и они не любят, чтобы их беспокоили. Вот почему вам бы лучше сначала проверить все как следует и действовать наверняка. Незаконный арест — вещь очень серьезная, за такие шутки люди платились большими деньгами по суду. Если хотите послушать моего совета, повесьте телефонную трубку и подумайте об этом сколько-нибудь. Можете позвонить мне позже.
— Думать мне тут нечего: я знаю, что делаю, — раздраженно ответил Стэнли. — Я решил положить конец тому, что здесь происходит, и никаких уговоров слушать не желаю. Я держу приличный пансионат для туристов и намерен следить за тем, чтобы он оставался приличным. Я плачу налоги и знаю свои права. Если я не могу добиться помощи от шерифа, так я и сам управлюсь. Разыщу эту женщину и…
— Хорошо, мистер Причард. В каком она номере?
— Не знаю, в каком — это дело шерифа ее найти. За это он и получает большое жалованье из средств налогоплательщиков. Год назад я помогал выбирать Клинта Хафмена на эту должность, потому что он обещал следить, чтобы законы выполнялись, а теперь я требую, чтоб он делал свое дело, за это ему и деньги платят. Если он хочет остаться шерифом округа Индианола на второй срок…
— Хорошо, хорошо, мистер Причард! — отвечал помощник, стараясь перекричать Стэнли. — Не выходите из себя и не кричите так! Я свяжусь с шерифом Хафменом и передам ему вашу жалобу. А вы сядьте и остыньте немного, пока кто-нибудь не приедет для расследования.
И прежде чем Стэнли успел сказать что-нибудь, помощник шерифа положил трубку.
Стэнли достал отмычку и опустил ее в карман. Не отходя от стола, он выдвинул ящик и посмотрел номер машины, записанный им на клочке бумаги неделю назад. Он был совершенно уверен, что машина та самая и что Бетти Вудраф и сейчас где-нибудь тут, в пансионате.
Из конторы он вышел во двор и стал расхаживать взад и вперед по усыпанной гравием дороге, с нетерпением дожидаясь прибытия Клинта Хафмена. Сквозь дымку тумана он следил за белой с синим машиной, твердо решив, что не даст Бетти Вудраф улизнуть до того, как шериф приедет и арестует ее. Шагая взад и вперед, он начал раздумывать, в какой из комнат они ее найдут. В пансионате было тридцать комнат, и семнадцать из них были заняты на ночь. И только тут, неожиданно вспомнив, что еще одну комнату занимает проповедник Клу, он остановился как вкопанный.
До этой самой минуты он ни разу не вспомнил, что проповедник находится здесь, а теперь встревожился. Уж лучше бы проповедник заехал в пансионат как-нибудь в другое время, но только не в эту ночь, и он колебался, не попросить ли проповедника Клу одеться и уехать, пока не прибыл шериф. Он понимал, как это было бы неприятно для проповедника, если б он узнал, что тут происходит.
Стэнли все еще стоял на том же месте, решая, что ему делать, когда машина шерифа свернула на дорогу к пансионату. Помощник шерифа, который вел машину, поставил ее поперек дороги, загородив единственный выезд со двора.
Шериф Клинт Хафмен вышел из автомобиля и потянулся, расправив плечи. Это был крупный мужчина, веселого и общительного нрава, мускулистый и широкогрудый. Хотя он был выбран шерифом округа Индианола на первый срок, но почти всю свою жизнь стоял на страже закона, а до этого служил и судебным исполнителем и начальником тюрьмы. Теперь, когда он занимал политический пост, он старался быть как можно снисходительнее при расследовании жалоб по уголовным делам и насколько возможно избегал арестов, желая расположить к себе избирателей в виду будущих выборов.
— Ну, Стэнли, как вы себя чувствуете в такой прекрасный вечер? — говорил Клинт, пожимая руку Стэнли. — Выглядите вы прекрасно. Надеюсь, и ваша жена тоже хорошо себя чувствует.
Прежде чем Стэнли успел ответить, Клинт продолжал:
— Чтоб приехать сюда, Стэнли, мне пришлось встать из-за стола и бросить отличную партию в покер в пожарном депо, но надо вам сказать, что я поехал с радостью, узнав, что это по вашему вызову. Я уже два раза обставил судью Рэйни, а в конце партии обыграл бы и Шорти Гудвилли. И если это дельце в вашем прекрасном пансионате не отнимет слишком много времени, то я еще успею вернуться в депо, пока игру не кончили. Ну, а что такое могло здесь случиться, Стэнли? Искренне надеюсь, что ничего серьезного.
— В одной из комнат находится женщина, и я требую, чтоб ее арестовали и отправили в тюрьму. Хочу положить конец тому, что здесь творится. Ее зовут Бетти Вудраф, она живет в доме Дженни Ройстер на Морнингсайд-стрит, рядом с церковью Тяжкого Креста. В прошлом году она была учительницей у нас в Сэллисоу, ну а теперь она все, что угодно, только не учительница. Вы понимаете, что я хочу сказать. На прошлой неделе она была тут три раза, это я могу сказать наверное и, насколько мне известно…
Лицо Клинта приняло грустное выражение, и он медленно покачал головой.
— В чем дело? — спросил его Стэнли. — Что это вы так качаете головой?
Клинт сдвинул шляпу на затылок, глядя на Стэнли все с тем же печальным выражением.
— Стэнли, я должен вам кое-что сказать. Если вы настаиваете на своей жалобе, я буду вынужден арестовать эту женщину, потому что дал присягу стоять на страже закона, пока хватит сил. Но должен вам сказать по совести: не думаю, чтобы это было правильно.
— Почему же нет?
— Я вам отвечу начистоту, как мужчина мужчине, Стэнли. Вы этим не приобретете себе новых друзей и, уж конечно, потеряете кое-кого из старых. Пока что я знаю эту прекрасную молодую девицу только с виду, да и то издали, а вам не хуже моего известно, что она очень хорошенькая. А ведь никому не понравится, что с хорошенькой девушкой обращаются грубо, притесняют ее и сажают в тюрьму только за то, что она ведет себя так, как ей полагается от природы. Почему вы не оставите ее в покое, Стэнли? Это было бы более достойно мужчины. Сколько я слышал, она никому вреда не делает, и очень многие мужчины в Сэллисоу будут против вас, если вы доведете до конца то, о чем говорите.
— Это не имеет никакого отношения к тому, о чем я говорю. Она здесь, в моем пансионате, и нарушает закон.
— О каком законе вы говорите? — спросил Клинт.
— Я не знаю, как он называется, но это самое она и проделывает, во всяком случае.
— Погодите-ка минуту, Стэнли. Остановитесь и подумайте. Половина людей на свете — женщины, и если вы начнете придираться к одной из них за то, что она женщина, вы ни черта этим не докажете, сами знаете.
— Я могу доказать, что она непорядочная женщина.
— А можете вы доказать, что какая-нибудь другая женщина порядочная?
— Это не одно и то же.
— Ну, хорошо, а какие у вас доказательства?
— Она находится в одной из комнат. Хватит и этого.
— А в других комнатах тоже есть женщины, черт их возьми, — сказал Клинт. — Занимаются тем же самым, никакой разницы нет от того, что кто-то заплатил два доллара за разрешение на брак. Будьте же благоразумны, Стэнли. Мы с вами давние друзья, я очень ценю ваш голос и голос вашей жены и буду говорить с вами по-честному. Сами знаете, я не того сорта, чтобы глядеть в одну сторону, а плевать в другую. Если вы только послушаете моего совета насчет…
— Никто меня не отговорит, если я знаю, что поступаю правильно, — упрямо твердил Стэнли. — Я человек верующий, прихожанин церкви Тяжкого Креста, и не хуже вашего знаю, куда мне плевать. Я вас приглашал не для того, чтобы спорить. Я требую, чтобы ее арестовали.
Клинт надвинул шляпу на лоб.
— Вы это серьезно?
— Да, серьезно!
— Хорошо, — сказал Клинт унылым голосом. — Хорошо.
Он сделал знак своему помощнику, стоявшему рядом с машиной.
— Идем, Джо. Давайте начинать.
Они двинулись по дороге сквозь туман, хрустя каблуками по гравию.
— В которой комнате находится эта молодая особа? — спросил Клинт без всякого энтузиазма.
— Не знаю, — сознался Стэнли. — Двенадцать номеров нынче свободны, а остальные восемнадцать заняты.
— Лучше бы, черт побери, все они сегодня стояли пустые, — пробормотал Клинт, расшвыривая носками гравий.
Они постучались в первую дверь. Когда ее отперли, на пороге стоял мужчина, блестя лысиной. Он спросил, что им нужно.
— Вы один? — спросил его Клинт.
— Нет, — отвечал тот ворчливо. — А что?
— Кто тут с вами?
— Моя жена. Дальше что?
Клинт обернулся и взглянул на Стэнли.
— Это она?
Стэнли подошел к двери и увидел пожилую женщину, смотревшую телевизор.
— Нет, — ответил Стэнли, поспешно откупая назад.
— Что же это значит все-таки? — спросил мужчина.
— Простите, что мы вас побеспокоили, — сказал Стэнли извиняющимся тоном, все еще пятясь назад. — Вышла ошибка. Больше этого не случится.
— А как же это случилось в первый раз? — спросил лысый, мало-помалу разгораясь гневом. — Я ведь к вам не лезу, когда вы смотрите телевизор? А к чему все эти личные вопросы? Не для того я платил деньги за эту комнату, чтобы ко мне приставали. И кто вы такой, черт вас побери?
— Досадная ошибка, — сказал Стэнли, — но я вам обещаю, что это не повторится. Вы продолжайте заниматься тем, чем занимались.
Отойдя от двери первой комнаты, они подошли ко второй. Помощнику шерифа пришлось постучаться в нее несколько раз, прежде чем им открыли.
— Что вам нужно? — спросил толстяк в нижней рубашке, отворив дверь.
— Кто тут с вами? — спросил его Клинт.
— А вы кто такие? — спросил толстяк, распахивая дверь настежь и сердито глядя на них. — Какого черта вы суете нос не в свое дело?
Клинт достал из кармана значок шерифа и протянул его на ладони. Грузный мужчина нагнулся, разглядывая значок.
— Что все это значит? — сказал он.
— Это ваша жена тут с вами? — спросил Клинт.
— Ну да. Она моя жена. Ну, а дальше что?
Стэнли, поднявшись на цыпочки, заглянул через плечо мужчины и увидел темноволосую девушку, которая сидела на кровати, натянув простыню до самого подбородка. На вид ей казалось лет восемнадцать, и заметно было, что она испугана допросом. Отступив назад, Стэнли толкнул Клинта локтем и кивнул головой.
— Она еще слишком молода, чтобы быть за кем-нибудь замужем, а меньше всего за этим типом, но эта не та, которую мы ищем, — сказал он Клинту. — Придется искать дальше.
— Черт, до чего мне не нравится так пугать людей, — сказал Клинт, когда они подходили к следующей двери. — По закону так делать не полагается, это прежде всего. Я буду чувствовать себя дурак дураком, если кто-нибудь попросит меня предъявить ордер на арест. Джо, вы и Стэнли ступайте вперед и обследуйте остальные комнаты. А я пойду за вами.
Когда они добрались до номера двадцать четвертого, Стэнли проскользнул мимо, не постучавшись, и направился к следующей двери. Клинт, поравнявшись с ним, схватил его за руку.
— Постойте-ка, — сказал он. — Погодите одну минуту. Почему вы не заглянули в ту комнату?
— Не стоит заходить в номер двадцать четвертый, — сказал Стэнли, силясь вырвать руку и подойти к следующей двери.
— Почему же не стоит, Стэнли?
— Потому что там проповедник Клу.
— А что он там делает?
— Ну, я, право, не знаю, — ответил Стэнли, все еще порываясь к следующей двери. — Уж так ему вздумалось. Он сказал, что хочет изучать жизнь в пансионате, и я ему отвел эту комнату на ночь бесплатно. Он теперь спит, и незачем его беспокоить. Кроме того, мне будет трудно объяснить ему, в чем дело.
— Джо, отоприте эту дверь, — сказал Клинт своему помощнику. — Если Стэнли вообще нужно расследование, то я проведу его на совесть, по всем правилам. Отоприте номер двадцать четвертый, Джо.
— Погодите минуту, Клинт, — не на шутку взмолился Стэнли. — Не надо этого. Пожалуйста, не надо. Проповедник Клу расстроится. Он никогда еще не ночевал в пансионатах и не привык к таким вещам. Ведь все проповедники на один лад, сами знаете.
Клинт локтем оттолкнул Стэнли в сторону.
— Делайте, что я вам сказал, Джо, отворяйте дверь.
Тот постучался в дверь, но никто не ответил. Он постучался еще раз, погромче, но, когда и на этот стук не ответили, Джо спросил у Стэнли отмычку. Стэнли упирался, но в конце концов все же отдал ее.
Когда дверь была взломана и распахнута настежь, они увидели проповедника Клу, который пытался спрятаться за жиденькими оконными занавесками. Бетти Вудраф, которой очки в темной оправе придавали ученый и невозмутимый вид, сидела на кровати, обхватив колени руками и глядела на вошедших, упираясь подбородком в колени.
— Тут что-то совсем не то! — взволнованно сказал Стэнли. — Закройте дверь! Не смотрите! Закройте дверь!
Джо не дал Стэнли закрыть комнату, просунув ногу в дверь. Стэнли повернулся и хотел было оттолкнуть Клинта подальше от двери.
— Уходите, Клинт, — упрашивал он. — Не смотрите!
— Руки прочь! — грубо приказал Клинт, отталкивая Стэнли. — Я шериф! Вы не имеете права меня толкать!
— Но ведь это проповедник Клу с ней в комнате! — протестовал Стэнли. — Вы не можете его арестовать! Это же проповедник!
— Помолчите, говорить буду я, — сказал ему Клинт. — Ведь вы же сами просили ее арестовать, обещали, что подпишете жалобу.
— Но это совсем другое дело! Я не знал…
— А разве я не пробовал вас урезонить? Разве я не говорил вам, что по закону так делать не полагается? Но вам вздумалось заупрямиться. Отлично. Проповедника я не арестую, но я вызову его в суд, как свидетеля против этой особы.
— Но ведь ему будут задавать всякие каверзные вопросы — знаете, какого рода вопросы бывают у адвокатов, и ему придется говорить правду, потому что он духовное лицо. Весь город узнает, что он был с ней здесь, в номере пансионата!
— Конечно, узнает, — сказал Клинт, кивнув головой. — Вы правы, как никогда в жизни.
— Погодите минутку, постойте, — сказал Стэнли. — Я сейчас вызову моего адвоката. По закону я имею на это право. Сейчас пойду в контору и сразу же ему позвоню.
— Ступайте звоните, — сказал Клинт. — Я могу подождать еще немного.
Стэнли побежал на передний двор пансионата.
— Джо, не выпускайте этих людей из комнаты, пока я не вернусь, — сказал Клинт своему помощнику. — Пойду посмотрю, что там делает Стэнли.
Когда Клинт дошел до конторы, Стэнли уже набрал номер. Он ждал долго, но ему никто не ответил.
— Вот всегда так бывает, — пожаловался Стэнли. — Если адвокат тебе нужен до зарезу, его никогда не застанешь.
— Если вам нужен дельный юридический совет, то позвоните судье Майло Рэйни, — подсказал ему Клинт. — Он вам сразу скажет, чего надо держаться. И кстати я вам могу сказать, где вы его найдете. Позвоните в пожарное депо. Они там все еще играют в покер.
Несколько минут Стэнли был в нерешимости, но как только ему вспомнился проповедник Клу, он больше не стал раздумывать. Он позвонил в пожарное депо и попросил к телефону судью Рэйни. Прошло не больше минуты или двух, как судья Рэйни взял трубку.
— Говорит Стэнли Причард, из пансионата «Приятное времяпрепровождение», на шоссе Саммер-Глэйд, — начал он волнуясь. — Судья Рэйни, мне нужен юридический совет.
— Когда вы мне уплатите гонорар, Стэнли?
— А сколько нужно платить?
— Двадцать пять долларов.
— Это слишком дорого за простой разговор.
— Сколько же, по-вашему, будет довольно?
— Ну, пять долларов, самое большее — десять.
— Если дельный юридический совет в такое время, когда стряслась беда, по-вашему, стоит не дороже этого, то я вам дам совет бесплатно: найдите себе жулика адвокатишку, он с радостью возьмет ваши паршивые деньги и по дешевке даст вам совет, какого вы заслуживаете.
— Хорошо, судья Рэйни, я уплачу вам двадцать пять долларов, — поспешил согласиться Стэнли. — Я заплачу вам завтра утром.
— Наличными, Стэнли, наличными.
— Хорошо, судья Рэйни. С утра я первым долгом уплачу вам наличными.
— Ну, так что же вас беспокоит, Стэнли? Голос у вас какой-то встревоженный.
— Шериф Хафмен здесь, в моем пансионате, и я требую, чтобы он арестовал Бетти Вудраф и посадил ее в тюрьму. Он говорит, если ее арестуют, то проповеднику Клу придется выступать в суде свидетелем. А я не хочу, чтобы проповедника Клу впутывали в такое безобразие…
— Погодите, Стэнли. Не так быстро. Кому, вы говорите, придется быть свидетелем?
— Проповеднику Клу.
— А что проповедник Клу делает там, у вас, с Бетти Вудраф? — спросил судья Рэйни.
— Ну, это трудно объяснить — тут ничего не разберешь. Я знал, что проповедник Клу находится в номере двадцать четвертом, а что она тоже там, этого я не знал. Я позвал Клинта Хафмена, чтобы он ее арестовал, а насчет проповедника Клу я ничего не знал. Во всяком случае, дело плохо, судья Рэйни.
— Чего же вы хотите, Стэнли?
— Я хочу, чтобы Клинт Хафмен арестовал Бетти Вудраф и посадил ее в тюрьму, но только чтобы проповеднику Клу не пришлось из-за этого таскаться по судам. Его репутация пострадает, если…
— Ну, так чего же вам больше хочется, Стэнли? Подумайте и решите.
— Я хочу, чтобы ее арестовали, а его оставили в покое.
— Хорошо, Стэнли, — спокойно ответил судья Рэйни. — Я вижу, что вы находитесь в состоянии полной растерянности, и потому дам вам совет. Вы уже согласились уплатить мне двадцать пять долларов гонорара наличными завтра утром и потому имеете право получить от меня совет.
— Какой, судья Рэйни? — живо спросил он.
— Возьмите обратно вашу жалобу на Бетти Вудраф.
— Этого я не сделаю! — крикнул Стэнли.
— Даже после того, как вы обратились к адвокату, согласились уплатить за консультацию и получили дельный юридический совет?
— Нет, сэр! Я этого не сделаю!
— Отлично, Стэнли. Я хорошо понял, что вы сказали. Завтра утром я отправлюсь в суд и предъявлю проповеднику Клу обвинение в том, что он заманил Бетти Вудраф в пансионат с явно неблаговидной целью. Потом вам вручат вызов в суд и придется еще доказывать, что ваш пансионат не представляет собой опасности для общества, а иначе его опечатают и закроют. Вдобавок вас обвинят в том, что вы содержите заведение, пользующееся дурной репутацией. А кроме того, я рассчитываю получить завтра утром эти самые двадцать пять долларов. Я думаю, этим ситуация приблизительно исчерпывается. Будут вопросы, Стэнли?
— Погодите минутку, судья Рэйни! — кричал Стэнли, от волнения повышая голос. — Не надо! Прекратите все это. Я принесу вам деньги завтра, с самого утра!
— А как же быть с Бетти Вудраф, Стэнли?
Стэнли взглянул на Клинта Хафмена. Держась вполне непринужденно и не проявляя никакого интереса к разговору, Клинт изучал дорожную карту. Его палец медленно двигался по развернутой карте, исследуя живописную дорогу к Флориде.
— Судья Рэйни… я уже не прошу, чтобы ее арестовали.
— Вы передумали?
— Да, — сказал Стэнли слабым голосом. — Я передумал. Ничего не надо делать. Пусть все остается так, как есть. Я и шерифу так скажу. Не надо мне никаких непонятностей.
— А что скажет на это Клинт Хафмен? — спросил судья Рэйни. — Может быть, он думает, что по долгу службы обязан принять меры по вашей жалобе, Стэнли?
— Вот он! — Стэнли сунул Клинту телефонную трубку. — Поговорите с ним сами! И скажите ему, что я никакой жалобы подавать не собираюсь!
Сначала Клинт неторопливо и аккуратно свернул карту дорог и положил ее на стол, потом взял трубку у Стэнли.
— Ну, как там, судья Рэйни? — спросил он.
— Скоро вы вернетесь сюда заканчивать партию, черт вас возьми? Вы у меня выиграли три доллара, и я хочу вернуть свои деньги. Ну, поторопитесь, Клинт. Мне уже давно пора ужинать, я проголодался и хочу домой.
— Я буду через десять минут, судья Рэйни, — сказал он, кладя трубку на место.
Клинт быстро прошел в конец двора, не дожидаясь Стэнли; он без стука вошел в комнату и кивнул Бетти Вудраф.
— Вам бы лучше поторопиться домой, мисс, — сказал он, улыбаясь и отворяя перед нею дверь. — Поздновато становится для такой хорошенькой девушки разгуливать без провожатых.
7
Телефон в прихожей на нижнем этаже звонил вот уже несколько минут почти без перерыва, и, хотя его резкий звон был слышен по всему дому, Бетти не выходила из своей комнаты на звонки.
Вечер был еще не поздний, всего половина десятого, а Бетти обычно подходила к телефону до полуночи, а то и позже. Дженни знала, что Бетти сидит у себя в комнате, потому что она вернулась домой вскоре после девяти. Шорти Гудвилли не мог подойти к телефону — он все еще был в городе, где играл в покер в пожарном депо, — и вместо того чтобы самой ответить на звонок, чего она не делала последние несколько недель, потому что вечером вызывали всегда одну только Бетти, Дженни вышла из своей спальни и пошла по коридору стучаться в дверь к Бетти.
Но еще не дойдя до комнаты Бетти, Дженни услышала громкие рыдания. Поэтому она вошла не постучавшись, остановилась на минутку в темноте и прислушалась, прежде чем зажечь свет.
Бетти, повалившись на кровать вниз лицом, судорожно всхлипывала. Она обхватила руками подушку, прижимаясь к ней и зарывшись в нее лицом, словно ничто другое на всем свете не могло ее утешить. Она сбросила белые туфли без каблуков, красный шелковый шарф свалился у нее с головы, но зимнего пальто она так и не сняла. Черная кожаная сумочка валялась на полу в дальнем конце комнаты, словно ее швырнули об стенку. Ключ от машины, губная помада, мелкие деньги были рассыпаны по полу.
Подбежав к кровати и присев на край рядом с девушкой, Дженни попробовала успокоить ее, похлопывая в утешение по спине и гладя по встрепанным волосам. Уткнувшись еще глубже лицом в подушку, Бетти рыдала так, что все ее тело вздрагивало.
— Что такое случилось, детка? — ласково спросила Дженни, наклонившись над ней и пытаясь заглянуть ей в лицо. — Скажите Дженни, в чем дело, милая. Раньше я никогда не видела вас в таком расстройстве. Что за беда с вами стряслась? Какой-нибудь мужчина обидел? Мне вы можете рассказать. Вы всегда мне были как родная дочь, и я хочу, чтобы вы доверились мне. Ну, расскажите Дженни все, деточка.
Только мотнув головой и еще глубже зарывшись лицом в мокрую подушку, Бетти продолжала безутешно рыдать.
Сбегав в ванную и намочив полотенце холодной водой, Дженни принесла его Бетти и приложила к ее пылающим щекам и лбу. Через некоторое время Дженни смогла повернуть ее на бок и освежить ей лицо прохладным мокрым полотенцем. Скоро Бетти открыла глаза и взглянула на Дженни.
— Никогда в жизни не слыхала, чтобы так плакали, — сказала Дженни, ласково отводя волосы с лица Бетти. — Будто с вами случилось такое, хуже чего на свете не бывает, деточка. До того жалостно было слушать, просто сил нет. А ведь я и не знала бы ничего, если бы телефон не зазвонил, — надо же было пойти узнать, почему вы не подходите и не отвечаете на звонки. А теперь он замолчал, но, должно быть, скоро опять зазвонит. Когда я услышала звонок, то он звонил так, будто кому-то очень нужно вас видеть. Может быть, это только мое воображение, но звонок бывает совсем другой, когда мужчине невтерпеж. Знаете, какой тогда бывает звонок, а особенно если вы ждете и надеетесь, что кто-то вам позвонит. Вот такие звонки я больше всего люблю. Уже подходя к телефону, вы чувствуете, что звонят не попусту.
— Нет! — крикнула Бетти, ударяя стиснутым кулаком по кровати, и яростно замотала головой. — Нет! Я не подойду! Никогда! И не говорите мне! Я не хочу ничего слышать! Никогда больше не подойду к телефону! Никогда! Никогда!
Дженни посмотрела на нее с удивлением. Бетти все мотала головой.
— Никогда? — недоверчиво сказала Дженни. — Что это вы как странно говорите, деточка. Так уж и никогда! Вы это серьезно? В чем дело, милая? Скажите мне, что случилось. Вы же знаете, Дженни можно все сказать, я пойму.
Бетти снова зарыдала. Обхватив руками подушку, она судорожно сжала ее.
— Право не знаю, что теперь и думать, — сказала Дженни, покачивая головой. — Я совсем одурела и растерялась. Вы же всегда подходили к телефону, а теперь говорите такое. Я же знаю, всего час или два назад вы подходили в последний раз к телефону — ведь я слышала, как вы с кем-то разговаривали, а потом сейчас же ушли из дому. Что это нашло на вас так сразу, деточка?
— Да, я не шучу, я никогда больше не подойду к телефону! — крикнула Бетти. — Никогда! Никогда!
Дженни приложила руку к разгоряченному лицу Бетти и погладила ей лоб нежно и ласково.
— Кто-нибудь обидел вас, милая? — спросила она Бетти. — Это самое с вами и случилось? На всех почти мужчин можно положиться, они вас не обидят, потому что вы им очень нужны, только в это время они и будут обращаться с вами по-хорошему. Но бывает иной раз, что наткнешься на мужчину, в котором черт сидит, и главное, что ему нужно — это кусать и бить женщину. Бог его знает, отчего это так, сказать не могу, но только это верно. От таких мужчин надо держаться подальше, прямо бежать от них, пока они не начали кусаться и драться, даже если придется выскочить в окно в чем мать родила. Ведь ничего такого с вами не случилось, деточка?
Бетти опять замотала головой.
— Тогда это что-нибудь с тем футбольным тренером в школе — от этого вы так расстроились?
Она подождала, но Бетти так и не ответила ей.
— Думаю, что это имеет к нему отношение, не знаю только, какое именно, — сказала Дженни. — Он просто скотина, что так поступил с вами, но если вы все еще любите его, так тут уж ничем не поможешь. Я знаю, каково это, если никто другой вам не нужен. Я так же вот отношусь к судье Майло Рэйни, а до сих пор мне приходится довольствоваться Визи Гудвилли. Во всяком случае, после того как вы вернулись в город, я поняла, что вы еще не забыли этого футбольного тренера. Если вы из-за него расстраиваетесь, я прямо пойду к Монти Биско и посмотрю, что можно сделать. Если мужчину заставили жениться обманом, так он недолго проживет с такой женой.
Бетти раз за разом качала головой, и слезы ручьем текли по ее лицу.
— Ну, если беда не в этом, я просто не знаю, что и подумать, — говорила Дженни. — Вы должны мне сказать, милая, не могу же я позволить, чтобы вы так и оставались и выплакали себе все глаза. Сами знаете, вы можете рассказать Дженни все на свете, потому что я за последние тридцать — тридцать пять лет пережила все, что только приходится на женскую долю, и знаю все неприятности, какие сыплются женщине на голову. Больше того, я за свою жизнь испытала все беды и несчастья, о которых вы читали в книжках, и знаю, каково это, когда некому слова сказать. Ну же, я отсюда не уйду, пока вы мне не расскажете, в чем дело, отчего вы так расстроились.
Бетти открыла глаза и взглянула на Дженни. Та опять отвела с ее лица спутанные светлые волосы.
— Это отвратительно! Ужасно! — Бетти замолчала, кусая губы и стараясь удержать слезы. — Я сама себя ненавижу! Мне хочется умереть! После этого я и жить не хочу! Я бы покончила с собой, если бы знала как! Лучше умереть!
— Послушайте! Разве у вас в этом месяце ничего не было?
Бетти мотнула головой.
— Тогда помолчите и не болтайте зря, что хотите покончить с собой. Вы только потому это сказали, что расстроены, деточка. Не годится так говорить молоденькой девушке. Да вы этого и не думаете.
— Нет, думаю! Лучше бы я умерла! Я не хочу жить! Это такой ужас! Я так себя ненавижу!
— Милая, посмотрите на меня! — сурово заговорила Дженни. — Вы красивая молодая девушка, у вас есть все для того, чтобы жить дальше. Я много старше вас и настолько же опытней. Если вы думаете, что сделали что-нибудь не так, всегда можно это исправить. Всегда есть время исправить что бы то ни было — для такой молоденькой и хорошенькой, как вы.
— Я все делала не так, а теперь уже слишком поздно, — сказала Бетти, вытирая слезы полотенцем. — Вела себя очень глупо, с тех пор как вернулась в Сэллисоу. Я сама не понимала, что делаю, — я была не в своем уме. Надо было быть не в своем уме, чтобы встречаться со всеми этими мужчинами, как встречалась я. Не знаю, что со мной стряслось, — не могу поверить, что это делала я. Как я могла? Я не такая… никогда раньше не была такой. Как подумаю об этом теперь — похоже, что я была в бреду и не понимала, что делаю. Вот почему я так себе ненавистна теперь. Вот почему мне хотелось бы умереть. Как вспомню всех этих мужчин — мне становится так стыдно! Это ужас! Но я и сама не понимаю, почему я так себя вела!
Бетти замолчала, переводя дыхание, и взглянула на Дженни.
— Нет! — сказала она минутой позже. — Неправда! Я знаю, почему. Это из-за Монти. — Она отвернулась, глядя в сторону. Взяв Дженни за руку, она крепко сжала ее. — Когда я поняла, что он моим не будет, я просто не могла не вести себя дурно. Я старалась быть дрянью — старалась, как только могла. Потому что мне хотелось посильней его обидеть. Я бы теперь что угодно отдала, лишь бы взять все это обратно, — лишь бы этого со мной не случилось. Я не хочу быть дрянью… и никогда не хотела. Я хочу быть хорошей… и чтоб Монти был мой. А теперь слишком поздно — весь город узнает, что я делала… и Монти тоже узнает. Ему расскажут — всё, до последнего слова. Что Монти обо мне подумает теперь? Разве я могу ему нравиться после этого?
— А откуда он и все остальные в городе это узнают? — спросила Дженни. — Почему вам так кажется?
Бетти рассказала ей про телефонный звонок какого-то, как ей показалось, знакомого, про то, как она поехала в пансионат «Приятное времяпрепровождение» и очутилась в одной комнате с проповедником Клу. Дженни сидела, не говоря ни слова, пока Бетти не кончила рассказывать про то, как шериф Хафмен с помощником взломали дверь в комнату и как Стэнли Причард раздумал и уже не требовал, чтобы ее арестовали, поговорив с судьей Рэйни по телефону.
— Иной раз мне думается, что уж слишком много людей на этом свете заботится о благе человечества, — торжественно изрекла Дженни. — Всем остальным жилось бы куда лучше, если б можно было убрать кое-кого из них.
Подтвердив кивком свою мысль и сложив руки на животе, Дженни уселась поудобнее.
— Во всяком случае, я рада, что у кого-то нашлось довольно здравого смысла, чтобы позвонить Майло и отменить то, что они собирались с вами сделать, — одобрительно заметила она. — Если дело касается всяких уловок закона, так Майло на этом собаку съел. Это ему повезло в жизни, что он двадцать лет пробыл судьей. Теперь он знает в законе такие ходы и выходы, какие другому и в голову не придут.
— Но все равно все услышат про то, что случилось в пансионате, — сказала Бетти.
Как будто не слыша слов Бетти, Дженни уставилась неподвижным взглядом в дальний угол комнаты, на желтые и красные розы обоев. Ее лицо хмурилось все больше и больше.
— Ну, можно ли себе представить что-нибудь подобное? — вдруг воскликнула Дженни, словно поняв наконец, что произошло в пансионате. Порывистым движением она поджала руки, сложенные на животе. — Это просто стыд и срам, что шериф Хафмен взломал дверь в комнату, даже если его подбил на это Стэнли Причард. Как подумаешь, для женщины нигде на свете укромного уголка не осталось. А что еще хуже, так это то, что некоторым мужчинам непременно хочется арестовать женщину только за то, что она женщина. По-моему, в этом никакого смысла нет. Они ведут себя точь-в-точь, как те люди, которые хотят перебить всех кроликов на свете и все-таки не могут обойтись без перчаток из кроличьего пуха, как только ударят зимние холода.
Но кто бы мог подумать, что проповедник Клу отправится в пансионат и станет вот так звонить вам по телефону? Да еще скажет, что его зовут Том и заманит вас в пансионат, так и не сообщив вам, кто он такой на самом деле. Я знала, что его зовут Томас, но первый раз слышу, что он зовет себя Том. Кроме того, имя Том звучит не очень-то прилично для проповедника, даже если он проповедует в этой самой церкви Тяжкого Креста.
Тяжело вздохнув, Дженни в глубокой задумчивости посмотрела в дальний угол комнаты. Ей было удивительно, как это она не догадалась накануне, что проповедник Клу собирается ухаживать за Бетти, когда он явился сюда и угрожал ей арестом, если она не выгонит Бетти из дому.
— Это я виновата, что не сообразила сразу, в чем дело, и не предупредила вас насчет него, — немного погодя сказала она, глядя на Бетти и покачивая головой. — Должно быть, нюх потеряла, с тех пор как живу на покое. Ведь как раз это я знаю о мужчинах давно, с тех пор как сама была молоденькой девушкой, и всегда оно оказывалось верно, без ошибок и без промахов. Вот потому-то и проповедник Клу не исключение, а такой же, как первый прохожий, которого вы встречаете по дороге в город. Когда мужчине приспичит развлекаться, он уж до этого дорвется, сколько бы речек ни пришлось перейти вброд, сколько бы заборов ни пришлось перелезть. И если башмаки у него насквозь промокнут и штаны раздерутся о колючую проволоку, он ни перед чем не остановится, пока не попадет, куда ему надо. Вы это и сами узнаете, деточка, когда станете постарше.
Дженни остановилась на минутку и улыбнулась.
— Но проповедник Клу! Не могу себе представить! Этот сморчок! Только вчера он был здесь, в этом самом доме, такой благочестивый, все внушал мне, чтобы я вас выгнала. А потом, вечером, ему приспичило, он и выманил вас в пансионат, чтоб ему там было посвободнее. Одно я знаю наверное. Если он еще когда-нибудь вздумает прийти в мой дом, я с ним так поговорю, что он не скоро забудет. Я ему скажу такое, что у него уши сгорят от стыда.
Бетти закрыла лицо руками.
— Но ведь это теперь не поможет, — сказала она убитым голосом. — Не знаю, что со мной будет. Я до того глупо себя вела. Просто не знаю, как я этого не понимала. Я так несчастна, мне так стыдно, я просто не знаю, что мне делать. Лучше бы мне умереть, чем жить дальше и так себя чувствовать! Я покончу с собой!
Шорти Гудвилли подошел к дверям и несколько раз постучался, но так легко, что Дженни не сразу его услышала.
— В чем дело, Визи? — спросила она, обернувшись и взглянув на него.
— Бетти просят к телефону, — сказал он. — Не знаю, кто это хочет с ней говорить. Он не сказал.
Бетти, услышав его, снова громко зарыдала.
— Что с ней такое? — спросил Шорти.
— Не твое дело, Визи. Скажи там, чтобы повесили трубку и больше не звонили по этому телефону. — Дженни говорила сердито и громко. — И скажи там, кто бы это ни был, что это Дженни Ройстер так распорядилась и что она не шутит.
— А почему? — спросил Шорти.
— Тебя это не касается! — резко прикрикнула она. — Делай так, как я велела, а потом вернись сюда и помоги мне. Мне надо уложить Бетти в постель и поухаживать за ней. Нервы у нее совсем расшатались.
— Но, может быть, Бетти хочет…
— Ничего не может быть! Ты меня слышал?
Шорти попятился от дверей и побежал вниз по лестнице к телефону в прихожей. Пронзительный звук его голоса разносился по всему дому.
Когда Шорти вернулся, Дженни уже сняла с Бетти пальто и силилась стянуть с нее свитер через голову.
— Подержи ее за руки, пока я сниму свитер, — сказала ему Дженни. — Влезь на кровать, так тебе будет удобнее.
— Почему вы ее раздеваете? — спросил Шорти, стоя на кровати.
— Потому что она совсем без сил и нуждается в уходе, вот почему.
Сняв с Бетти свитер, Дженни расстегнула на ней всю остальную одежду.
— Ступай в мою комнату и принеси мне коробочку с пилюлями, ту, что на туалетном столике, — сказала она Шорти. — И принеси еще стакан воды.
Дженни уже раздела Бетти, когда Шорти вернулся в комнату. Приподняв ей голову, Дженни дала ей принять снотворное и выпить глоток воды.
— Какая она красивая, — восхищенно заметила Дженни, глядя на лежавшую Бетти. — Поглядеть, так просто картинка. Нарисовать бы ее на календаре да повесить на стенку, чтобы все любовались.
Шорти полез на стул и стал на сиденье, чтобы лучше видеть.
— По совести сказать, я никого из мужчин не осуждаю за то, что они к ней липнут, — заметила Дженни, — да и кто отказался бы, если б могли хоть глазком взглянуть на нее сейчас.
Дженни повернулась к Шорти и смерила его строгим взглядом.
— Но только ты не забирай себе ничего такого в голову, Визи. Ты мой душенька и, пожалуйста, помни это. — Потом она задумчиво посмотрела на Бетти. — Не очень-то приятно в этом сознаться, но, кажется, я не была такая хорошенькая в ее возрасте. Я всегда была широковата в бедрах и толстовата сзади, и сколько я себя помню, с годами все это только хуже становится.
— Почему же вы ей не позволяете подходить к телефону? — немного погодя спросил Шорти.
— Нечего теперь задавать вопросы, — сказала она ему. — Для этого и потом будет сколько угодно времени. Откинь покрывало, а я ее уложу в постель и укрою хорошенько.
Визи слез со стула, взобрался на кровать и откинул покрывало.
— А почему вы не надели на нее ночную рубашку? — спросил он Дженни.
— На этот раз ей не понадобится ночная рубашка, — сказала Дженни, укрывая девушку одеялом. — Она теперь сразу уснет. Снотворное вот-вот начнет действовать. А когда она проснется утром после крепкого сна, расстроенные нервы опять успокоятся, и она снова станет сама собой. Нет ничего лучше хорошей дозы снотворного, когда надо успокоиться после каких-нибудь передряг.
Дженни придвинула стул к кровати и села поближе к Бетти.
— Визи, — сказала она через некоторое время, понизив голос до шепота, — ступай вниз и подожди меня в гостиной. А если телефон опять зазвонит, не забудь, что я тебе сказала. Все равно, кто бы это ни был, говори, что Дженни Ройстер не велела больше сюда звонить.
После того как Визи вышел из комнаты, она еще раз вытерла Бетти лицо мокрым полотенцем.
— Ну, а теперь успокойтесь и дайте Дженни за вами поухаживать, деточка, — сказала она мягко. — На сегодня хватит вам неприятностей, а сейчас вам надо уснуть и хорошенько выспаться за ночь. Ну же, закройте ваши глазки, и пусть вам приснится все самое приятное, что только бывает на свете.
— Но что же мне делать? — сонно спросила Бетти. Ее глаза закрылись, и она спокойно дышала. — Я такая несчастная… мне так стыдно… я вела себя так глупо. Мне надо было уехать куда-нибудь, я знаю, что надо было… не знаю только — куда. Но я не хочу уезжать от Монти… я хочу остаться там, где он… может, если б он только знал… если б я могла ему сказать… Монти…
Дженни нагнулась и осторожно поцеловала ее в щеку.
Убедившись, что Бетти заснула, Дженни на цыпочках прошла через комнату и погасила свет. Потом она притворила дверь как можно тише и пошла по коридору к лестнице.
8
Когда Дженни спустилась вниз и вошла в гостиную, Шорти Гудвилли сидел в дальнем углу комнаты, радостно ухмыляясь и болтая ногами, далеко не достававшими до полу.
Вместо того чтобы смотреть телевизор, чем Шорти обычно занимался в это время, он даже не включил его. Он уже успел выкурить несколько сигарет, и дым густыми слоями плавал по комнате. Дженни собралась было сказать ему, чтобы он вел себя поаккуратнее и не ронял пепел на ковер, как вдруг увидела незнакомую черноволосую девушку, которая сидела на стуле у окна.
Сначала Дженни остановилась в изумлении и вгляделась в девушку пристальнее, потом, убедившись, что никогда прежде не видела незнакомки, она подошла к Шорти.
— Визи, кто это такая? — спросила Дженни, нагнувшись к нему и понизив голос.
— Не знаю, — ответил он ей, осклабившись и энергично болтая короткими ногами. — Она мне не сказала, как ее зовут.
Даже разговаривая с Дженни, он не переставал улыбаться черноволосой девушке. Та заботливо одернула юбку, натянув ее на колени.
— Что она тут делает? — спросила Дженни шепотом. — Что ей нужно?
Шорти выпустил дым кверху.
— Она постучалась в дверь, и я ей отпер. Она сказала, что ищет, где бы ей остановиться, и я подумал, что, может, вы ей захотите сдать комнату. Она сказала, кто-то в городе ей говорил про вас. Я ей сказал, что у вас есть две свободные комнаты и, может быть, вы ей сдадите одну, только я не знаю, сколько вы с нее возьмете. А вы сами всегда говорите, что вам хочется сдать побольше комнат. Чемодан у нее с собой, она хоть сейчас останется, не то будет уж очень поздно, если она пойдет еще куда-нибудь искать комнату.
Опустив свое полное тело на красный плюшевый диван, Дженни приветливо улыбнулась девушке.
— Ну что ж, пока у меня в доме есть свободные комнаты, я всегда готова бросить все на свете и потолковать на этот счет, — заговорила Дженни своим обычным голосом. Она сложила руки на животе и уселась поудобнее. — Не так-то легко свести концы с концами в наше время, когда только прокормиться и то стоит ужасно дорого. Это просто стыд и срам, что лавочники дерут такие деньги за свои паршивые товары да еще и обвешивают. Пришлось бы мне просить милостыню на улице, если бы я не получала время от времени хоть что-нибудь со своих комнат. Нынче для почтенной женщины на покое, вот как я, нет другого способа заработать прилично на жизнь. Если б был другой способ, я бы уж узнала про него.
Девушка наклонилась вперед на своем стуле.
— Ведь вы миссис Ройстер, правда? — спросила она.
— Деточка, я мисс Ройстер, мисс Дженни Ройстер. Не знаю, как вы, а я никогда не была замужем. А все-таки не могу сказать, чтобы я этого стыдилась. Это просто одно из несчастий моей жизни. Я все еще ношу свою девическую фамилию, и больше ничего девического во мне не осталось. Но все равно, если вы мне покажете замужнюю женщину, которая столько раз стелила себе постель и ложилась в нее, сколько я, то я вас угощу на обед самым лучшим цыпленком, какого сумею приготовить.
— О, я тоже не была замужем, мисс Ройстер. И я вовсе не собиралась задавать вам такие личные вопросы.
— Деточка, я теперь почтенная женщина на покое, — уверила ее Дженни, — и в настоящее время моя жизнь такая же приличная, как у всякого другого. И я желаю, чтобы это всем было известно.
— Но ведь вы сдадите мне комнату, не правда ли? — тревожно спросила девушка, стискивая руки на коленях. — Я целый день ищу себе комнату и просто не знаю, что мне делать, если…
— Сперва вы расскажите мне что-нибудь про себя, а потом уж я решу, как мне поступить, — осторожно ответила Дженни. Она обернулась и, строго нахмурившись, смотрела на Шорти до тех пор, пока он не перестал болтать ногами. — Я всегда сдаю с разбором, а не кому попало, мне хочется знать наверное, что под моей крышей нет никаких неподходящих элементов. Все в городе знают, что я добрая и сердечная, но есть же границы некоторым вещам, вот почему мне и приходится быть разборчивой. Кроме того, есть такие люди в нашем городе, которые завели себе привычку придираться ко всем, кому я сдаю комнату, вот почему мне и надо знать все о моих жильцах заранее. Ну, для начала вы можете сказать мне, как вас зовут и откуда вы приехали.
Черноволосая девушка, стиснув колени и сложив на них руки, подвинулась на самый краешек стула.
— Меня зовут Лоуэна Нели, — сказала она, волнуясь. — Я приехала в Сэллисоу…
— Какое хорошенькое имя для девушки! — воскликнула Дженни. Она передвинула повыше руки, сложенные на животе, и устроилась поудобнее. — Подумать только о таком хорошеньком имени и то уже приятно. Не помню, чтобы я когда-нибудь раньше слышала такое имя, и вряд ли я теперь его забуду. Лоуэна Нели, Лоуэна Нели. Оно, в самом деле, звучит очень мило и приятно, и к тому же очень идет такой хорошенькой девушке, как вы. Стоит только подумать про все эти заурядные, простые имена для девушек — вроде Этель, Берта, Нэнси и даже Шарлотта — мне даже грустно становится, как-то падаешь духом. Это просто стыд и срам, что девушкам приходится жить с такими именами, какие некоторым из них навязывают. Мне никогда не нравилось, что меня зовут Дженни, но раз я такая, тут уж ничего не поделаешь. Каждый раз как, бывало, придумаю себе имя покрасивее и попрошу, чтобы меня так называли, люди мне говорят, что Дженни мне больше подходит и ни за что не хотят звать меня по-другому[5]. Я просто завидую вам, что у вас такое хорошенькое имя. Лоуэна Нели, Лоуэна Нели.
Девушка понимающе улыбнулась.
— А теперь давайте дальше, расскажите мне еще что-нибудь про себя, — сказала Дженни.
— Так вот, я приехала в Сэллисоу нынче утром на автобусе и везде искала себе комнату. Я заходила в десятки домов. Прочла все объявления в газете, смотрела вывески на домах, но нигде ничего не нашла. Одни говорили сначала, что у них сдаются комнаты, потом отказывали, неизвестно почему. Или говорили мне, что они решили больше не сдавать комнат или что плата будет мне не по карману. И так было везде, куда бы я ни зашла. Я так устала и отчаялась, что совсем не знала, как мне быть, и наконец вернулась на автобусную остановку и села отдохнуть. Должно быть, я заплакала, и тут один шофер такси спросил, что со мной случилось. Я ему рассказала, и он на это ответил, что если кто-нибудь в городе и сдаст мне комнату, так это вы. Я не была уверена, можно ли на него положиться, а теперь очень рада, что послушала его.
— В Сэллисоу есть такие шоферы, которым можно верить, а есть и такие, которым верить нельзя, — это вы должны запомнить на будущее. Одно могу сказать, на этот раз вам попался шофер из надежных. А теперь скажите, откуда вы приехали?
— Я приехала из Дженкинстауна — это милях в тридцати пяти отсюда. В округе Пальметто.
— Я знаю про Дженкинстаун, слыхала про него, — сказала Дженни, — но все как-то не было времени съездить туда и посмотреть самой. Говорят, там разводят много арбузов и дынь. Арбузы я не так люблю, зато дыни просто обожаю. У меня слюнки текут, как только про них подумаю. Каждый год я жду не дождусь, пока дыни поспеют, а потом объедаюсь ими все лето. Вот это единственное, что мне никогда в жизни не надоедало.
— Мой отец разводит дыни на своей ферме под Дженкинстауном, — опять улыбнувшись, сказала Лоуэна. — Каждый год он засевает дынями целые акры. Когда я жила дома, я помогала собирать их и грузить на машины. Иногда он собирал больше, чем мог продать, и остаток приходилось скармливать свиньям.
— Вот это стыд и срам! Кормить дынями свиней, когда я сама готова объедаться ими по-свински!
Закрыв глаза и словно думая о своих любимых дынях, Дженни сложила руки на животе.
— Ну, расскажите мне еще что-нибудь про себя, — сказала она немного погодя. — Почему вы приехали в Сэллисоу и стали искать комнату?
— Я хочу найти какую-нибудь конторскую работу, — вся просияв, отвечала Лоуэна. — Два года я училась в коммерческом колледже, и теперь мне хочется получить место секретаря. Я хорошо знаю стенографию, могу писать на машинке все, что угодно, умею вести отчетность. И на всяких счетных машинах я тоже могу работать. Всему этому я научилась в коммерческом колледже. Дженкинстаун такой маленький городок, что там вообще очень трудно получить работу. Я и решила поехать в Сэллисоу — я знаю, что могу найти здесь место получше.
Дженни медленно покачала головой.
— Не знаю, как вам сказать. Сэллисоу не такой уж большой город. В нем живет всего тысяч пять человек, и из года в год он никак не становится больше. Вот почему здесь не так-то легко найти работу. Но я не хочу вас разочаровывать. Молодежь вроде вас всегда находит то, что ищет. Думаю, что докторам и адвокатам часто приходится искать заместительниц девушкам, которые почему-нибудь бросают работу — выходят замуж, рожают или еще что-нибудь. Потом у нас есть электрическая и газовая компания, банки, правительственные учреждения. Если подумать как следует, так, по-моему, когда вы познакомитесь поближе с кем-нибудь из наших воротил в здании суда…
Дженни остановилась, не договорив того, что хотела сказать. В тишине гостиной она задумчиво глядела на черноволосую девушку. Во время разговора были минуты, когда Лоуэна держалась застенчиво и замкнуто, словно чего-то боялась и тревожилась, но когда она улыбалась, то вся ее повадка делалась наивной и доверчивой, как у беззаботной девочки-школьницы. Чем дальше Дженни смотрела на нее, тем привлекательней и трогательней она ей казалась. Густые волосы Лоуэны были черные с синим отливом, кожа смуглая, словно от загара. Она была тоненькая, среднего роста, с изящными руками и мягкими чертами лица и выглядела не старше двадцати с чем-нибудь лет.
— Я, право, любуюсь вашими прелестными черными волосами, — сказала Дженни с завистливой ноткой в голосе. Ее тяжелая грудь поднялась и опустилась с глубоким вздохом. — Может, вы еще слишком молоды и не знаете, какое это счастье иметь такие красивые волосы. Вы видите, чем меня наделила природа, и вам остается только спросить, если хотите знать, какое это было горе и несчастье. Мне просто стыдно становится за свои жалкие косички, как взгляну на ваши прелестные волосы. Я все перепробовала, что только в голову приходило и что под руку попадало, лишь бы мои волосы выглядели хоть немножко получше, но ничего не помогает. Всегда они были вот такие, как сейчас. Сколько я денег потратила на всякие эликсиры, краски, промывания и на все, что только продается в аптеках, а они все-таки выглядят бог знает как, если не хуже. Поверьте моему слову, Лоуэна, вам надо благодарить свою счастливую звезду за то, что у вас такие волосы.
Лоуэна улыбнулась.
— Я очень рада, что вам нравятся мои волосы.
— Мне они очень нравятся, — сказала Дженни с чувством. Несколько минут она молчала, пристально глядя на девушку из своего угла. — Только не помню, чтобы я видела у кого-нибудь такую темную кожу, как у вас. То есть, кроме как у настоящих негритянок. — Она опять помолчала, потом прибавила: — Я хочу сказать, у мулаток.
Сжав руки еще крепче, Лоуэна тревожно улыбнулась.
— Это потому, что я отчасти индианка, — сказала она. — Отец моей матери… мой дедушка…
— Понимаю, — заметила Дженни, еще пристальнее разглядывая девушку и медленно кивая головой. — Понимаю, — повторила она еще раз. — Сама бы я нипочем этого не распознала, если бы вы не сказали мне. По совести говоря, я уж начала сомневаться. Столько везде видишь мулатов, что просто диву даешься, какое нынче пошло смешение рас. Во всяком случае, настоящих индейцев, говорят, осталось не так уж много в этой части страны. Я слыхала, что совсем недавно их было много — пока они не начали смешиваться с белыми. А может, и наоборот — белые с ними, оно больше похоже на правду. Да ничего другого и ждать не приходится, кроме смешения, такова уж человеческая природа, стоит только посмотреть на всех этих мулатов в Сэллисоу, сразу увидишь, как это верно. Много идет разговоров насчет того, чтобы белые и негры держались подальше друг от друга и не смешивались, но ведь это только одна болтовня. Это днем слышишь такие разговоры, а как ночь придет, они больше ничего не значат. Сама знаю, если б я была мужчиной…
В прихожей громко и настойчиво зазвонил телефон. Дженни хотела было не обращать на него внимания и не подходить к нему, в уверенности, что это вызывают Бетти, но звонки повторялись раз за разом, и ее это раздражало.
— Визи, подойди к телефону и, кто бы ни звонил, скажи, что никто в этом доме с ним разговаривать не станет, а если он позвонит еще хоть один раз, я с ним церемониться не буду. И скажи ему, что это велела передать Дженни Ройстер.
Встав со стула и просеменив через гостиную своими короткими ножками, Шорти вышел в прихожую. Поговорив с кем-то по телефону, он вернулся и стал в дверях.
— Это судья Рэйни, он сказал…
— Что?
— Судья Рэйни сказал…
— Майло Рэйни! — воскликнула Дженни. — Этот трус, этот старый мошенник! Взбеленился он, что ли, что такие шутки проделывает! Вот уж никогда не думала, что он станет звонить Бетти Вудраф! Оказывается, он не лучше других мужчин в городе! Дайте-ка я с ним поговорю! Я ему скажу такое, что он до старости не забудет!
Дженни уже поднималась с дивана, как вдруг заметила, что Шорти отрицательно мотает головой.
— Судья Рэйни не говорил, что хочет разговаривать с Бетти, это насчет вас.
— Насчет меня? — спросила Дженни, смягчившись. Она тяжело опустилась на диван. — Хочет со мной говорить?
— Он вот что сказал: чтоб я спросил вас, не можете ли вы зайти к нему ненадолго. Он сказал, что ему нужно поговорить с вами о чем-то очень важном.
Глубоко вздохнув, Дженни откинулась на спинку дивана и сложила руки на животе.
— Ну, это совсем другое дело. Скажи Майло, что я буду у него, как только освобожусь — мне остается тут кое-что закончить. Только не смей передавать того, что я минуту назад говорила.
Шорти, вернувшись в гостиную и взобравшись на стул, что-то ворчал себе под нос.
— Ну, Визи, что в этот раз сказал тебе Майло на своем иностранном языке?
— Он сказал «компас — не компас»[6], что-то в этом роде.
— Не обижайся, Визи. Это он обращается с тобой по-дружески и хочет показать, что ты ему нравишься.
— Как-нибудь на днях я ему тоже придумаю такое — прозвище, что он взбесится, на каком бы языке ни говорил.
Удивляясь, о чем это судье понадобилось говорить с ней, Дженни нервно постукивала пальцами по подлокотнику дивана.
— Ведь вы все-таки сдадите мне комнату, мисс Ройстер? — услышала она вопрос Лоуэны.
Шорти, опять ухмыляясь, начал болтать ногами.
— Ну что ж, — ответила Дженни, глядя со своего места на Лоуэну и кивая ей, — мне кажется, вы очень хорошая девушка, и я решила сдать вам комнату.
— Спасибо, мисс Ройстер, — живо ответила Лоуэна.
— Но вы должны мне обещать одну вещь, в сущности даже две вещи.
— Какие же?
— Я хочу, чтобы вы обещали мне запирать вашу дверь на ночь — обязательно. Этот вот Визи Гудвилли, он мой любимый постоялец. Хоть он и маленький, это еще ничего не значит, понятия у него, как у настоящего мужчины. И я вовсе не желаю слышать, как жильцы топают наверху, бегая из комнаты в комнату. Этого я не потерплю. А еще вы должны обещать, что если у вас будут свидания с посторонними мужчинами, так пускай они видятся с вами в этой гостиной, или ведут вас в кино, или еще куда-нибудь. Но только чтобы вы не уходили одна из дому, чтобы встретиться с мужчиной где-то еще. Из-за этого у меня уже были неприятности, и я твердо решила положить этому конец, раз и навсегда.
Лоуэна взглянула на Шорти, потом снова перевела взгляд на Дженни.
— А какого рода эти меблированные комнаты? — спросила она тревожно.
— В высшей степени приличные и респектабельные, — обиженно ответила Дженни. — И с этих пор только для порядочных девушек.
Лоуэна натянуто улыбнулась.
— Надеюсь, вы не подумали, что я непорядочная. И, конечно, я не хотела бы жить в доме, который не считается приличным.
— Деточка, я очень рада, что вы это говорите. Вам только остается доказать, какая вы хорошая.
Дженни встала с дивана.
— Я теперь очень тороплюсь. Мне надо пойти сделать один визит, пока еще не очень поздно. Насчет платы мы уговоримся утром, когда будет свободное время. Но пусть вас это не беспокоит. С платой все будет по-честному. Можете положиться на меня, я лишнего не возьму.
Дженни обернулась и подозвала Шорти.
— Визи, покажи Лоуэне, как пройти в ту свободную комнату, что напротив Бетти. А по дороге покажи ей кстати, где ванная. И когда поднимешься наверх, постарайся не шуметь — совсем не шуметь! — я хочу, чтобы Бетти не будили до самого утра. И еще одно, Визи. Как только ты покажешь ей, куда идти, немедленно вернись сюда, в гостиную, и смотри что-нибудь по телевизору. И не уходи отсюда. Если тебе захочется спать до моего прихода, можешь прилечь на диване и вздремнуть. Смотри же, держись подальше от верхнего этажа, пока меня нет дома.
Выйдя из гостиной, Дженни подождала внизу у лестницы, пока Лоуэна возьмет свой чемодан. Шорти уже начал подниматься по лестнице, когда Дженни положила руку на плечо Лоуэне.
— Погодите минутку, — сказала ей Дженни.
Она пристально разглядывала Лоуэну в ярком свете прихожей.
— В чем дело? — беспокойно спросила Лоуэна, переводя дыхание и ставя чемодан на пол. — Почему вы на меня так смотрите?
Дженни все смотрела на нее испытующим взглядом.
— Мне любопытно было бы знать, — с расстановкой сказала Дженни, вертя головой то в одну, то в другую сторону. — Просто ужасно хотелось бы знать. Вас никогда не принимали за мулатку… за негритянку?
Губы Лоуэны задрожали.
— Свет в гостиной немножко тусклый, — сказала Дженни, — я вас плохо разглядела, пока мы не вышли сюда.
— Зачем вы про это спросили? — сказала Лоуэна, и слезы выступили у нее на глазах. На мгновение она закусила губу. — Зачем?
— Не знаю, — ответила Дженни, качая головой. — Не знаю, зачем я об этом спросила. Должно быть, это было первое, что пришло мне в голову.
— Я же вам сама сказала, — быстро заговорила Лоуэна, стараясь удержать слезы. Она опять закусила губу. — Не надо было про это спрашивать!
Дженни протянула руку и погладила ее по плечу.
— Деточка, мне очень жаль, что я про это спросила, — ответила Дженни, подходя ближе и похлопывая ее по руке, — я же не хотела вас расстраивать. Всегда говорю первое, что в голову взбредет, а потом жалею. Но я никогда до сих пор не видела индианок и просто не могла не поинтересоваться на этот счет. Но все равно, мне кажется, тут и кому-нибудь другому легко было бы ошибиться, столько у нас в стране развелось мулатов, и с каждым днем их все больше становится.
Лоуэна попятилась так, что Дженни не могла до нее дотянуться. Рука Дженни повисла в воздухе.
— Я горжусь тем, что я есть! — с трудом выговорила она. — Я все равно гордилась бы, кем бы я ни была — негритянкой или индианкой! Горжусь не меньше, чем вы или кто угодно из белых!
Подхватив чемодан, Лоуэна быстро побежала вверх по лестнице. Она заплакала, добежав до второго этажа, где Шорти поджидал ее, чтобы показать ей дорогу к комнате в конце коридора.
Дженни стояла внизу под лестницей, глядя на Лоуэну, пока та не скрылась из виду. Слезы выступили на глазах Дженни, и ей пришлось вытереть их, чтобы хоть что-нибудь видеть. После этого она надела пальто и вышла из дому.
9
Судья Рэйни щедрой рукой налил виски в стакан и подал его Дженни. В стакане лежал кубик льда, но воды в нем не было.
— Это не для того, чтобы вы согрелись, — сказал он торжественно. — А для того, чтобы вокруг вашей головы появилось сияние и я бы им любовался.
— Я не захватила с собой мой любимый цветок, чтобы полить его, Майло, — сказала она, смеясь так, что затряслась грудь. — Я ушла из дому второпях и совсем забыла про него. Уж очень меня разволновал ваш личный вызов по телефону.
Он налил себе виски и бросил в стакан маленький кубик льда.
— Вам не понадобится ваш любимый цветок нынче вечером, Дженни, — сказал судья без улыбки, усаживаясь в кресло перед камином. — И воды сегодня не будет, чтобы поливать его. Скаредный кусочек льда — вот и все, что следует класть в стаканчик виски.
Отхлебнув виски и поставив стакан на столик рядом с собой, судья Рэйни достал кочергу из-под очага и энергично помешал горящие уголья на решетке. Искры вихрем полетели в трубу, и пламя осветило их лица красным блеском.
Ночь была холодная, но не морозная, и от камина в библиотеке стало тепло и уютно. У судьи Рэйни было большое собрание законов, и почти все книги он держал у себя дома, чтобы они были у него под рукой по вечерам. Кроме того, его адвокатская контора на восточной стороне городской площади была настолько мала, что в ней едва хватало места для конторских книг и текущих дел.
Глядя на него в молчании, Дженни удивлялась, почему он сегодня такой серьезный и озабоченный. За все годы знакомства с ним она никогда не видела его настолько погруженным в мысли и так глубоко взволнованным. Он ни разу не улыбнулся за все время, что она с ним сидела.
— Дженни, — через некоторое время сказал он, не глядя на нее, — мне нужно поговорить с вами об очень важном деле. — Он раз за разом ударял по углям на решетке. Кружась роем, искры летели в трубу. — Вот почему я и попросил вас прийти сюда сегодня вечером — даже в такой поздний час. Будь это обычное дело, я бы сам пришел к вам, но тут я решил, что нам понадобится уединение для такого важного разговора.
Дженни наклонилась вперед.
— Что такое, Майло?
Судья Рэйни положил кочергу на место и откинулся на спинку глубокого кожаного кресла. Он долго раскуривал свежую сигару, словно обдумывая то, что собирался сказать, и решая, как лучше изложить это.
— О чем это, Майло?
Он выпустил дым к потолку.
— Дженни, как раз перед тем, как я собрался домой, до меня дошли очень тревожные слухи…
— Если это про Бетти Вудраф, так я уже все знаю, Майло. И к тому же из первых рук. Бетти недавно вернулась домой и рассказала мне все, что случилось нынче вечером в этом пансионате. Она была так расстроена, что мне пришлось уложить ее в постель и дать ей снотворное, чтобы нервы у нее пришли в порядок, и теперь, я думаю, она успокоится. Это вас она должна благодарить за то, что вы остановили Стэнли Причарда и шерифа Хафмена и не позволили им поступить с ней так, как они хотели, и я тоже благодарю вас. Грешно и стыдно было бы запереть такую девушку в нашу ужасную тюрьму. Знаю я эту тюрьму. Все то же, что было и двадцать лет назад, только еще хуже. Шерифы и тюремщики всю ночь ходили бы к ней в камеру и лезли бы к ней в постель, а бедной девушке так-таки не дали бы и слова сказать. Но вот чего я не могу переварить — как это у проповедника Клу хватило наглости поехать в пансионат и…
Судья Рэйни покачивал головой и делал рукой знаки, пытаясь остановить ее.
— Нет, Дженни, нет, — перебил он ее. — Послушайте меня. Не спешите с выводами. Совсем не то. Инцидент, о котором вы говорите, исчерпан, и с ним покончено. Он теперь в прошлом, и о нем можно позабыть. Такого рода вещи всегда возможны. Через некоторое время о них обычно забывают. Разумеется, есть разные степени публичного скандала, но обыкновенно такие пустячные эскапады скоропреходящи и не имеют последствий. Если бы каждого из жителей Сэллисоу призывали к ответу за любые провинности и нарушения закона и изгоняли бы за это из города, то в результате нельзя было бы найти трех человек, чтобы составить партию в покер. Вот что хорошо у нас в Сэллисоу: мы скоро прощаем и забываем всякие нарушения морали.
Он затянулся сигарой и выпустил кверху клуб дыма.
— Так вот, минуту назад вы упомянули проповедника Клу. Лучшего сборщика пожертвований в церкви Тяжкого Креста никогда еще не было, а эти люди вряд ли изменят отношение к нему из-за каких-то мелких человеческих слабостей. По крайней мере до тех пор, пока не выполнят свою грандиозную программу строительства, а там, может быть, они и сами попросят его выехать из города.
— Они не получат моего участка, пока не дадут мне мою цену, — решительно сказала Дженни. — А если будут приставать ко мне с этим, так я, может, еще передумаю и совсем не продам, ни за какую цену. Нынче утром я говорила Кларе Крокмор…
— Это можно обсудить в другое время и в другом месте, — прервал ее судья, нетерпеливо махнув рукой. — А теперь, Дженни, позвольте мне кончить свою речь. Вообще говоря, у людей в Сэллисоу имеется традиция терпимости и снисходительности по отношению к так называемой моральной неустойчивости. Вы прожили в Сэллисоу достаточно долго, чтобы знать, насколько это верно. И если вы вспомните собственную молодость, то поймете это скорее всякого другого. Не может быть и речи о том, что наши люди нетерпимы к человеческим слабостям, — и это потому, что у каждого из нас их очень много.
— Но, Майло, если вы говорите не о Бетти Вудраф и не о проповеднике Клу, то я никак не пойму…
Судья Рэйни раскуривал сигару так долго, что над его головой поднялось целое облако дыма.
— Дженни, я пытаюсь логически подойти к очень важному делу. Я хочу, чтобы вы были к этому вполне подготовлены.
— Да, Майло. — Она насторожилась. — Что это такое?
— Вот что. Сегодня вечером, как раз когда я собрался домой, мне позвонил Дэйд Уомек. Вы не хуже меня знаете, кто он такой. И оба мы знаем, что его надо принимать всерьез и, уж конечно, нельзя игнорировать. Благодаря знанию законов, соединенному с высокоразвитым приобретательским инстинктом, он сумел провести целый ряд удачных операций по закладу недвижимости — все это в строгом согласии с буквой закона — и разбогател. Теперь Дэйд Уомек очень богатый человек, быть может самый богатый в округе Индианола. Такого рода богатство дает власть.
Мало того, Дэйд тонкий юрист и ловкий политик: последние пятнадцать лет он единолично управлял нашим городом, управляет им и посейчас. Не забывайте этого. На каждых выборах это он проводит мэра и подбирает членов муниципалитета. Если Дэйду потребуется что-нибудь сделать, ему стоит только отдать приказ, и мэр с советниками бросаются опрометью, словно вспугнутые кролики с бобового поля. Если Дэйду нужно проложить новую улицу или закрыть проезд для успешного проведения какой-нибудь операции с недвижимостью, никто в Сэллисоу не окажется настолько безрассудным, чтобы противоречить ему. Находились в прошлом такие люди, которые пытались бороться с ним, но у них либо конфисковали все имущество, по суду или как-нибудь иначе, либо они сами выехали из округа Индианола, пока еще можно было выехать. Это одна сторона Дэйда Уомека. А другую сторону можно описать кратко. Он и сам вам скажет, что ненавидит негров, мулатов и все разновидности черной расы, как проповедники ненавидят грех.
— Что все это значит, Майло? — с недоумением спросила Дженни. — Я, конечно, знаю про Дэйда Уомека. Но мне непонятно, почему…
— Дженни, я объясню вам как можно проще, о чем я толкую. Дэйд сказал мне сегодня, что какая-то мулатка весь этот день пыталась выдать себя за белую и снять комнату по эту сторону Пичтри-стрит. Вы знаете, Дженни, что в Сэллисоу этого не допускает обычай. Во всяком случае, до самой последней минуты эту мулатку, по его словам, прогоняли отовсюду, куда бы она ни заходила. Дэйду сообщили, что какой-то шофер такси, очевидно пьяный или не сообразивший, в чем дело, привез ее к вашему дому, Дженни. И кстати сказать, этого шофера уже уволили с работы, и он уже выслан из города — за то, что посадил мулатку в такси, предназначенное только для белых. Вот как скоро это сделалось. Теперь вы поняли, Дженни, о чем я толкую?
Дженни сразу выпрямилась в своем кресле, и ее лицо вспыхнуло.
— Она имеет право быть тем, что она есть! — гневно сказала Дженни. — А Дэйд Уомек лжет! Она не негритянка, она индианка! Она сама мне сказала! А кроме того, мне все равно, кто она такая и что про нее говорят! Она достаточно хороша, чтобы жить в моем доме!
Судья Рэйни достал кочергу и поворошил уголья на решетке.
— Дженни… — начал он.
— Слушать такое меня просто бесит! — сказала она, вся покраснев и разволновавшись от гнева. — А теперь я уж так взбесилась, что и слов не нахожу!
— Дженни, — начал он опять спокойным тоном. — Дженни, не так важно, кем вы ее считаете или что она о себе говорит, дело в том, что, с точки зрения Дэйда Уомека, она мулатка, которая пытается выдать себя за белую, и только это одно имеет значение…
— А я знаю, кто из белых в Сэллисоу первым начнет бегать за ней, да и не только он один! — прервала его Дженни, повысив голос. — Я так разозлилась, просто лопнуть готова!
— Дженни, она, быть может, индианка или другой расы, но это дела не меняет, если кожа у нее не такая белая, как у Дэйда Уомека. Люди в Сэллисоу могут быть очень терпимыми в отношении политики, религии и морали, но они не проявят ни капли терпимости к негритянской расе до тех пор, пока существует на свете Дэйд Уомек для того, чтобы будоражить их ум и чувство. Еще не родился на свет человек, который был бы нетерпимее Дэйда Уомека. Так вот, Дженни, не забудьте того, что я вам сказал. Я знаю, о чем говорю. Положение очень опасное. Не пренебрегайте моими словами.
Глубоко вздохнув, Дженни откинулась на спинку кресла.
— Что он может сделать? — помолчав с минуту, спросила она.
— Он ни перед чем не остановится, Дженни.
— Но вы должны бы все-таки знать, Майло.
— Не знаю. Право, не знаю.
— Но ведь вы могли бы остановить его, Майло?
— Нет, Дженни, не мог бы.
— Но почему же?
Затянувшись сигарой несколько раз подряд, судья Рэйни мрачно покачал головой.
— Дженни, ни у кого в Сэллисоу или во всем округе Индианола, по правде говоря, нет столько воли или столько власти, чтобы остановить Дэйда Уомека в таком деле, и он это знает. Обычно я могу найти какой-то выход, чтобы решить дело, или примирить тяжущиеся стороны, или затянуть судопроизводство ad infinitum[7], но я беспомощен, как новорожденный младенец, когда речь идет о расовой проблеме в городе Дэйда Уомека. Я не могу позволить себе выступить в открытую против него, каковы бы ни были мои личные настроения. Меня бойкотировали бы всю жизнь, до конца моих дней. Здесь моя родина, здесь у меня есть адвокатская практика, и я должен здесь жить. По этой причине, что бы мы с вами о нем ни думали…
— Он сукин сын, вот кто он такой!
— Вы можете называть его сукиным сыном, ханжой, фанатиком, демагогом и как вам угодно, но факт остается фактом — он действительно умеет воздействовать на ум и чувства простых людей, а простых людей в округе Индианола в девять раз больше, чем всяких других. Я видел много раз в прошлом, как Дэйд проявлял свою власть над людьми — эта сила действует безотказно, как часовой механизм, и так же легко заводится.
Дрожащей рукой Дженни поднесла стакан к губам и одним глотком выпила остаток виски. Судья Рэйни налил еще виски в оба стакана.
— Не знаю, что мне и думать, — сказала Дженни, глядя на судью Рэйни и растерянно качая головой. — Знаю, что надо вас слушаться, потому что вы юрист, да и ко мне хорошо относитесь, но я просто не могу сделать гадость кому-нибудь, вроде Лоуэны, и выгнать ее из дому.
— Это ее имя? — спросил он.
Дженни улыбнулась.
— Лоуэна… Лоуэна Нели. Такое хорошенькое имя для девушки, правда, Майло?
Он сразу согласился:
— Звучит очень мило.
— Она и сама милая! И такая изящная, и голос у нее такой мягкий. Вы бы посмотрели, какие у нее прелестные черные волосы и как они блестят и искрятся на свету. Мои волосы по сравнению с ними просто ни на что не похожи.
— Ну, Дженни, не надо так себя принижать, — остановил ее судья Рэйни, нахмурившись. — А откуда эта девушка?
— Из Дженкинстауна, в округе Пальметто.
— Я помню те времена, когда в округе Пальметто было еще много индейцев. И здесь в округе Индианола тоже. Вот откуда пошло и название нашего округа. А Сэллисоу назвали сами индейцы, название осталось и после того, как появились белые поселенцы и заняли их землю.
— Лоуэна говорила, что ее дедушка был индеец.
— Что она делает в Сэллисоу?
— Она хочет найти конторскую работу. Говорит, что два года проучилась в коммерческом колледже и хорошо знает делопроизводство. Я ей говорила про газовую и электрическую компанию и про управление округа…
Судья Рэйни прервал ее, махнув рукой.
— Дженни, ей никогда не найти такой работы в Сэллисоу. Об этом не может быть и речи. Во всяком случае, после того шума, который поднял из-за нее Дэйд Уомек. Если она возьмется за домашнюю работу, вроде уборки и стряпни, и снимет комнату по другую сторону Пичтри-стрит — ну, что ж, тогда никаких осложнений не будет. Если б вы посоветовали ей что-нибудь по этой части, то это было бы лучше для нее.
Дженни долго сидела, уставившись на пылающие угли и озабоченно мигая.
— Иной раз мне бывает стыдно за свою расу, — немного спустя сказала она, стискивая руки на животе и приподнимая их кверху. — Это уж верней верного. Белые люди могут быть всех подлей.
— Ну, Дженни, — сказал судья, наклонившись к ней и похлопывая ее по руке, — не изводитесь так и не волнуйтесь из-за этого. Не в первый раз такое случилось в Сэллисоу, да и не в последний. Как бы сильно вас это ни волновало, существуют вещи, которые нельзя изменить по желанию. Не так легко искоренить предрассудки в умах таких людей, как Дэйд Уомек.
— Я имею такое же право думать и чувствовать по-своему, как и он.
— Вы можете иметь это право, Дженни, но у вас нет той власти претворить ваши мысли и чувства в жизнь, какая есть у него.
— Майло, не говорите так, как будто вы на его стороне.
— Нет, я не на его стороне. Я избираю тот путь, который мне продиктован разумом, и вам советую то же. Расовая терпимость, о которой вы говорите, должна прийти когда-нибудь, но завтра ее еще не будет. А тем временем…
— Немедленно, а не в какое-нибудь другое время — вот о чем я думаю, — решительным тоном заявила Дженни. — И вам меня не разубедить.
— Что вы этим хотите сказать, Дженни?
— Я твердо решила, что меня не заставят выгнать эту девушку на улицу только потому, что так велит Дэйд Уомек. И я думаю то, что говорю. Сперва они заставляли меня выгнать из дому Визи Гудвилли, потом Бетти Вудраф, а теперь Лоуэну Нели. Я буду стоять за ее права, так же как стояла за права Бетти и Визи. Лоуэна может уехать из моего дома, если хочет, но я ее выгонять не собираюсь.
— Послушайте меня, Дженни. Это совершенно другое дело и более серьезное, чем вы думаете. Оно не имеет никакого отношения к подлости. Наши люди научились быть терпимыми в некоторых отношениях, но…
— Это мой собственный дом, и я имею право…
Телефон на столе резко зазвонил. Судья Рэйни вздрогнул и выпрямился. Несколько времени он смотрел на телефон, не дотрагиваясь до трубки, и его подбородок дрожал от волнения. Телефон зазвонил во второй раз, как только судья коснулся трубки.
— Майло Рэйни у телефона.
— Здравствуйте, Майло! Это говорит Дэйд Уомек.
Судья Рэйни взглянул на Дженни, потом быстро отвел глаза в сторону.
— А, здравствуйте, Дэйд, — приветливо ответил он. — Рад вас слышать. Как вы поживаете? Все ваши семейные здоровы? Как поживает миссис Уомек?
— Отлично, отлично, Майло, благодарю вас. Лучше и быть не может. А вы?
— Живу пока что, Дэйд.
— Отлично, отлично, Майло. Кстати, вот почему я вам звоню: мне тут пришло в голову, не хотите ли вы поохотиться со мной на перепелок как-нибудь на той неделе? Говорят, сейчас в округе Пальметто можно очень хорошо поохотиться, а мне просто противно думать, что все эти жирные перепелки сидят там на своих жирных задах — я этого не могу так оставить. Мы возьмем с собой Берджа Коббера и Гарри Драммонда, чтобы не пустовала машина. А чтобы от них была хоть какая-нибудь польза, мы заставим их захватить для нас несколько бутылок виски. Как это вам нравится, Майло?
— Очень нравится, Дэйд. Замечательно! Мне давно хочется уехать подальше от конторы и подышать свежим деревенским воздухом. Дайте мне знать, в какой день вы собираетесь поехать. Я раздобуду патронов для своего дробовика.
— Отлично, отлично, Майло. Я позвоню вам в начале той недели и скажу, в какой день мы поедем.
— Буду ждать вашего звонка. Всего хорошего, Дэйд.
Улыбаясь, судья Рэйни наклонился к столу, чтобы положить трубку на место.
— Кстати, Майло, я хотел спросить вас еще кое о чем, прежде чем повешу трубку.
Судья Рэйни опустился в кресло, и улыбка бесследно исчезла с его лица.
— Что такое, Дэйд?
— Я интересуюсь, удалось ли вам поговорить с мисс Ройстер. Вы знаете — насчет этой негритянки, о которой я вам говорил. Пожалуй, сегодня уже слишком поздно выселить ее из дома Дженни Ройстер, сейчас уже около полуночи. Но завтра будет как раз вовремя — так, чтобы она выехала оттуда и поселилась по ту сторону Пичтри-стрит к заходу солнца. Хорошенько поговорите с Дженни Ройстер, Майло, внушите ей, какое это серьезное дело. Она достаточно долго прожила здесь и должна теперь знать, что думают и как поступают белые люди в Сэллисоу, когда происходит что-нибудь подобное. Я знаю, Дженни Ройстер ваша клиентка, и мне не хочется, чтобы вышли неприятности там, где это касается вас лично. Действуйте, как знаете, Майло, но только, чтобы Дженни Ройстер поняла, что никто из негров не может поселиться и жить где-либо на нашей стороне Пичтри-стрит. Согласны, Майло?
— Согласен, Дэйд.
— Отлично, отлично, Майло. Позвоните мне завтра, когда все будет улажено. Всего хорошего, Майло, всего хорошего!
— Всего хорошего, Дэйд.
— Что он сказал? — тревожно спросила Дженни, после того как он положил трубку на место.
Судья Рэйни наклонился вперед и поколотил кочергой уголья на решетке. Он казался усталым и постаревшим в свете пламени, падавшем на его изрезанное морщинами лицо.
— Майло, что он сказал? — настаивала Дженни.
— Дженни, — начал он медленно, — Дженни, я знаю, почему вы не хотите выгонять эту девушку из своего дома, и я восхищаюсь вашей стойкостью. Наша страна была бы лучше, если б в ней было больше таких людей, как вы. Но вот что я хочу сказать вам сейчас: я думаю, самое разумное было бы удалить ее из вашего дома завтра же — и задолго до захода солнца. В сущности я на этом настаиваю. Я уже прошел через все это и теперь, в моем возрасте, не намерен идти против течения.
Он повернулся и строго взглянул на нее.
— Дженни, отделайтесь от нее — удалите ее из своего дома завтра же, до захода солнца! Слышите, Дженни?
Она молчала. Ее губы были крепко сжаты.
— Дженни! Вы меня слышали?
— Да, я вас слышала.
— И что же, вы это сделаете?
— Нет.
Сэм Моксли вошел в библиотеку и смел с решетки золу. После этого, гремя совком и шаркая ногами, он подбросил угля в огонь. Выпрямившись и охая от усталости, он долго разглядывал часы на каминной доске, вертя головой и молча высчитывая, который час. Бормоча что-то неразборчивое, но про себя, а не вслух, он направился к дверям. Проходя мимо кресла Дженни, он повернул голову и посмотрел на нее, как на незнакомую, словно никогда прежде ее не видел.
10
Был уже первый час ночи, когда Дженни, выйдя из большого белого дома судьи Рэйни в начале Морнингсайд-стрит, медленно шла домой в тишине ночи. Сырая вечерняя мгла рассеялась, и теперь только клочья тумана бродили по лужайкам и мостовой.
Дженни жила всего в двух кварталах от дома судьи, и, когда он предложил проводить ее и убедиться, что она дошла до дому благополучно, она ему не позволила, сказав, что хочет идти одна. Он возражал, говоря, что ей не следует ходить одной по улице в такой поздний час, но Дженни настояла на своем, и он дошел с ней только до калитки.
Почти во всех домах по обеим сторонам Морнингсайд-стрит к этому времени погасли огни, но уличные фонари на углах горели ярко и Дженни нисколько не боялась идти по улице в такой поздний час. Кроме того, она все еще была так расстроена и встревожена угрозами Дэйда Уомека и наставлениями судьи как можно скорее удалить из дома Лоуэну Нели, что даже и не думала бояться.
Миновав мрачную церковь Тяжкого Креста, отчасти скрытую густой листвой черных дубов, Дженни дошла до своего дома и уже всходила на веранду. Но еще не дойдя до верхней ступеньки, она услышала быстрое шарканье ног по полу веранды и резкий скрип стула. Вздрогнув от этих звуков и испугавшись впервые после ухода из дома судьи, она остановилась на месте. Сердце у нее колотилось от волнения, пока она соображала, скоро ли прибегут соседи, если она позовет их на помощь.
Стоя на ступеньках веранды и раздумывая, что ей делать, Дженни заметила, что кто-то встал со стула и направляется к ней. Свет в прихожей и гостиной еще горел, но на веранду падал только слабый отблеск. Сначала она подумала, что это Шорти Гудвилли дожидается ее возвращения от судьи Рэйни, но, увидев высокую плотную фигуру мужчины и не узнавая его в темноте, она испугалась по-настоящему.
— Кто это? — вскрикнула она, торопясь вбежать на веранду, добраться до двери и благополучно попасть в дом. — Что вы здесь делаете?
После того, что произошло у судьи Рэйни, единственным человеком, который мог очутиться здесь в такое позднее время, был, как ей представлялось, Дэйд Уомек. Тут она пожалела, что не позволила судье проводить ее домой.
— Кто это? — окликнула она опять. Теперь Дженни уже добралась до дверей. — Вы Дэйд Уомек?
— Мисс Ройстер… это я… Монти Биско.
Когда она открыла дверь, яркий свет из прихожей упал прямо на Монти. Прошел почти год с тех пор, как Дженни видела его в последний раз, и она уже успела забыть, какой он большой, высокий и мускулистый. Она разглядела, что на правой щеке у него по-прежнему виден шрам, нанесенный башмаком какого-то футболиста, и что фигура у него все такая же плотная. Монти смотрел на нее с нерешительной улыбкой на широком лице.
— Я Монти Биско, мисс Ройстер, — сказал он, видя, что она не спускает с него глаз. — Ведь вы меня помните?
Открыв дверь пошире, она ступила на порог.
— Что вы здесь делаете в такой поздний час? — сердито спросила она. Узнав, кто он такой, она почувствовала себя легче, но все еще задыхалась от волнения. — Вы напугали меня чуть не до смерти, Монти Биско. Для чего вы выкидываете такие штуки? Что вам нужно?
— Мисс Ройстер, я не хотел вас пугать, — оправдывался он хриплым голосом. — Честное слово, не хотел. Извините меня. Но мне надо с вами поговорить, мисс Ройстер. Вот почему я дожидался, пока вы придете домой. Это очень важно.
— Неужели вы не могли дождаться приличного времени и прийти днем, Монти Биско, вместо того чтобы являться среди ночи и пугать меня до полусмерти?
— Я не мог ждать. Мне очень нужно было повидать вас нынче же ночью.
— Насчет чего?
— Это насчет Бетти… Бетти Вудраф.
— Так что же насчет Бетти?
— Ну, Бетти живет у вас в доме, вот почему я и думал…
Дженни распахнула дверь настежь. Наконец-то вздохнув свободно, она остановилась и сурово посмотрела на него при ярком свете. А он то засовывал руки глубоко в карманы, то снова их вытаскивал.
— У вас прямо-таки ослиное нахальство, Монти Биско. Заявиться сюда, после того как вы так бессовестно поступили с бедной девушкой год тому назад. Если уж ума не хватает, так вы бы хоть постыдились показываться в этом доме, после того как бросили Бетти и женились на той, другой учительнице. Уж по крайней мере хоть бы оставили Бетти в покое. О чем теперь разговаривать? От разговоров, во всяком случае, ничего не изменится. Для этого слишком поздно. Того, что вы сделали, уже не переделаешь.
— Мисс Ройстер, в прошлом году я попал в переплет, это верно. И ничего не мог поделать. Говорю по совести. Вы должны мне поверить, мисс Ройстер. Пришлось так сделать, чтобы не потерять работы тренера в школе. Если бы она им рассказала…
— Кто кому и что рассказал бы?
— Если бы Мэйрита сказала директору школы, что она от меня беременна. Это чистая правда, мисс Ройстер.
— Если хотите знать правду еще почище, Монти Биско, так я вам скажу. Одно вы все-таки могли бы сделать.
— Что же это такое, мисс Ройстер?
— Лучше бы вам было попасть в переделку с Бетти Вудраф, а не с той, другой учительницей — вот что.
— Мне бы очень хотелось, чтобы так оно и вышло, мисс Ройстер, — сказал он серьезно. Опустив глаза, он шаркал тяжелыми башмаками взад и вперед по полу веранды. — Я сколько раз пробовал поговорить с Бетти на этот счет, но она и слушать меня не хотела.
Дженни засмеялась.
— Поговорить об этом! Поговорить! Говорить, говорить, говорить! Вы что думаете, девушка состоит из одних ушей? Может, вы и замечательный инструктор по футболу, и мускулы у вас, как у годовалого бычка перед кормушкой, да зато в голове у вас мозгу не хватило, чтобы не только разговоры разговаривать. Как вы думаете, чего она ждала все время, пока вы разговаривали? Перемены погоды? Если б вы пошевелили мозгами и проявили хоть сколько-нибудь мужества, она бы пошла с вами, как всякая другая девушка. Поживете подольше, так, может, и узнаете, что если девушка идет с мужчиной, так она надеется не на одни разговоры. А иначе она сидела бы дома, завивала бы волосы или читала бы книжку. Бетти Вудраф встречалась со многими мужчинами, после того как этой осенью вернулась в Сэллисоу, и вовсе не для того, чтобы слушать их разговоры.
Беспокойно ежась, Монти засунул руки глубоко в карманы.
— Вот именно об этом я и хочу поговорить с вами, мисс Ройстер, — сказал он, переминаясь с ноги на ногу. — Именно об этом. Если вы впустите меня в дом только на одну…
Он сделал шаг к дверям.
— Не знаю уж, стоит ли пускать вас в дом, — с сомнением в голосе сказала Дженни, глядя на его беспокойные движения. — Я не уверена, что это будет разумно. А кроме того, от всех этих разговоров ровнехонько ничего не изменится.
— Но ведь мне надо поговорить с вами, мисс Ройстер, и не могу же я вот так держать вас, стоя, на веранде. Если бы мы могли присесть где-нибудь на минутку, чтобы я мог рассказать вам…
Она прервала его, махнув рукой.
— Не вижу никакой разницы, так или иначе — все равно, что бы вы ни сказали и где бы вы это ни сказали, — но если хотите, можете зайти в дом ненадолго. Я еще никому не отказывала в гостеприимстве и на этот раз не откажу. Но вам придется поскорее выложить, что там у вас на уме, потому что мне пора спать. Ну, входите, что ли.
Монти радостно устремился вслед за Дженни в прихожую, закрыв за собой дверь, и вместе с ней вошел в гостиную. В ярком свете комнаты он казался еще крупнее, чем всегда. Ростом он был выше шести футов, плотного сложения, с толстыми руками и ногами, и его короткие черные волосы торчали на голове, как щетина. На нем была серая кожаная куртка и измятые коричневые брюки. Воротник его красной рубашки был расстегнут.
— Садитесь, — бесцеремонно сказала ему Дженни, садясь сама на красный плюшевый диван. — На любой стул, какой вам нравится.
Слегка ухмыльнувшись, Монти сел на первый попавшийся стул. Ноги он засунул как можно дальше под стул.
Дженни сложила руки на животе, слегка передвинула их кверху и подозрительно взглянула на Монти.
— Я вас слушаю.
— Мисс Ройстер… — начал он.
Дженни тут же оборвала его:
— Но только если вы думаете, что еще раз сумеете провести меня или Бетти Вудраф, то вы нисколько не поумнели. Один раз вы обманули Бетти, но во второй раз вам это ни за что не удастся. Ну начинайте, а я послушаю, что вы хотите мне сказать.
Наклонившись вперед на стуле и ссутулив широкие плечи, Монти провел всей пятерней по черным щетинистым волосам и облизал языком сухие губы.
— Я хочу повидать Бетти, мисс Ройстер. — Он опять облизал губы. — За этим я и пришел.
Прежде чем ответить что-нибудь, Дженни долго смотрела на него. Она еще крепче сжала руки на животе и опять передвинула их кверху.
— Повидать? Для чего это?
— Мисс Ройстер, это вот для чего. Недавно я был в центре города и слышал много разговоров насчет того, что произошло сегодня вечером в одном пансионате. И все разговоры были про Бетти. Я и раньше слышал, что она часто встречается с мужчинами, после того как вернулась в Сэллисоу, но я думал, что это были самые обыкновенные свидания, вроде тех, что бывали у меня с ней. Но то, что я слышал в городе, совсем меняет дело. Говорят, что она каждый вечер ездила в какой-нибудь из пансионатов на шоссе и каждый раз встречалась с другим мужчиной. В городе как будто все об этом знают, но мне трудно поверить тому, что люди про нее говорят. Для меня это уж очень большая неожиданность. Она не была такая, когда я встречался с ней в прошлом году.
— Ну так что же?
— Так вот поэтому я и пришел повидаться с ней сегодня. Я подумал, может быть…
Дженни откинулась назад и засмеялась.
— Монти Биско, вы говорите, как семилетний мальчишка, который раздарил все свои конфеты, а потом хнычет и просит отдать их обратно. — Она опять засмеялась. — Теперь я знаю, зачем вы здесь. Вам хочется этих конфет, пока они еще не все съедены.
— Не совсем так, — сказал он, придвигаясь на край стула. — Я не то хотел сказать, мисс Ройстер. Я хочу сказать Бетти, что я решил бросить тренерскую работу в школе, как только у нас состоится последний футбольный матч в сезоне. Это будет всего через три недели. Вот что я задумал: уехать куда-нибудь далеко, вроде Теннесси или Арканзаса, или даже в Техас, и найти другую тренерскую работу. И я хочу взять с собой Бетти — и жениться на ней.
— Вы как будто совсем с ума сошли, Монти Биско. Ведь вы уже женаты на той, другой учительнице. Ни Бетти Вудраф, ни другая мало-мальски разумная девушка не убежит с женатым человеком.
— Но ведь я разведусь с Мэйритой. Я уже говорил об этом с адвокатом, и он сказал, что найдет сколько угодно оснований для развода. Он сказал, что за двести долларов может меня развести. А потом, как только я получу развод, мы с Бетти поженимся.
— Это вы так думаете. А теперь я вам скажу, что я думаю. Бетти Вудраф не пойдет за вас после того, как вы с ней так поступили. Столько-то рассудка у нее найдется, хоть гордости и совсем не оказалось.
— Я по ней с ума схожу, мисс Ройстер, — сказал Монти, беспокойно ерзая на стуле. Дженни молчала, наблюдая за ним. — Я все, что угодно сделаю, если она уедет со мной и выйдет за меня замуж.
— Я вам посоветую одно, что вы можете сделать, — сказала ему Дженни.
— Что же это, мисс Ройстер? — спросил он с надеждой.
— Встать и уйти домой. Мне давно пора ложиться, я устала и хочу спать. Даже если вы просидите тут всю ночь и отболтаете себе весь язык, я все-таки не посоветую Бетти уехать из города и сделать хотя бы один шаг куда бы то ни было с женатым человеком, который уже обманул ее один раз. — Дженни не спеша приподняла свое полное тело с дивана и встала на ноги. Повернувшись к Монти спиной, она пошла к двери. — А я ложусь спать. Спокойной ночи!
Засунув руки в карманы, Монти смотрел, как Дженни гасит свет в гостиной. Потом он поплелся за ней в прихожую.
— Мисс Ройстер, не моя вина, что я теперь женат, — говорил он в отчаянии. — Прежде всего, я не просил ее выходить за меня. Она пригрозила мне, что, если я на ней не женюсь, она скажет директору и школьному совету, что у нее будет ребенок и что я его отец. Они бы меня уволили. Вот почему мне и пришлось жениться.
— Ну и что же, родила она ребенка?
— Нет.
— И Бетти Вудраф тоже не собирается родить. Так что вам нисколько не поможет, если вы будете топтаться тут и твердить, что вы хотите на ней жениться не по той, так по другой причине. Ну, я уже вам сказала один раз и еще повторю. Спокойной ночи. Монти Биско!
Монти подошел к лестнице и остановился, глядя на площадку второго этажа. Дженни видела, как он поставил ногу на первую ступеньку.
— Не смейте этого делать, Монти Биско! — услышал он голос Дженни у себя за спиной. — Не смейте!
Он оглянулся на нее через плечо.
— Вы меня не остановите, мисс Ройстер. Во всяком случае, это не ваше дело.
Он успел подняться еще на одну ступеньку, когда Дженни забежала вперед и обеими руками схватила его за плечи. Монти легко освободился, шевельнув плечом.
— Я пришел повидаться с Бетти и повидаюсь.
И он двинулся вверх по лестнице.
— Визи! Визи! — крикнула Дженни во весь голос. — Иди скорей, Визи! Помоги мне остановить его! Монти Биско хочет вломиться к Бетти в комнату! Скорей, Визи!
— Незачем его звать, это не поможет, — сказал Монти, оборачиваясь и глядя на Дженни сверху вниз. — Он такой маленький, что и ведра с водой не донесет, а будет волочить его по полу.
Шорти Гудвилли выбежал на площадку лестницы, прежде чем Монти успел подняться на второй этаж. Он стоял на площадке в коротенькой ночной рубашке, моргая глазами от яркого света.
— В чем дело? — спросил Шорти.
— Не пускай его туда, Визи! — вопила Дженни и торопливо шагала вверх по лестнице, спеша изо всех сил. — Не пускай его ни на одну ступеньку дальше! Он хочет вломиться к Бетти в комнату!
Монти остановился посреди лестницы и взглянул на Шорти.
— Что вы тут делаете, Монти? — спросил его Шорти. — Что вам тут нужно?
— Прочь с дороги, пока я тебя не треснул, Шорти, — угрожающе сказал ему Монти. — Мне совсем не хочется обижать такого маленького, как ты. Ну, убирайся прочь с дороги, я же тебе сказал!
— Не слушай его, Визи! — кричала Дженни.
К этому времени она почти добралась до площадки, еще мгновение — и она бросилась вперед и обеими руками обхватила ноги Монти.
Монти не сумел высвободиться и, потеряв равновесие, упал и перелетел через Дженни. Она выпустила его ноги, и Монти покатился вниз по лестнице, молотя руками по воздуху и стукаясь головой о ступеньки. Он растянулся плашмя на полу прихожей и с минуту не мог прийти в себя.
Дженни и Шорти подбежали к нему прежде, чем он успел подняться на ноги. Ощупав голову и протерев глаза, Монти встал на колени, потом медленно поднялся на ноги. Увидев, что Шорти загородил от него лестницу, Монти взял его на руки и поставил посреди прихожей.
— Смотри, Шорти, если хочешь себе добра, стой там, где стоишь.
Обернувшись снова к лестнице, он увидел, что Дженни стоит на нижней ступеньке, преграждая ему дорогу. Вся красная и сердитая, она смотрела на него с вызовом.
— Убирайтесь вон из моего дома, Монти Биско! — крикнула она ему.
— Лучше вы убирайтесь с моей дороги! — ответил он.
— Мне наплевать, что вы такой крупный и что вы так крупно разговариваете, — решительно сказала Дженни. — Вы не пройдете наверх к Бетти. Я это твердо решила, Монти Биско. Я дала Бетти большую дозу снотворного, чтобы нервы у нее успокоились, и я никому не позволю залезть к ней в постель, когда она так беспомощна, что не сможет вас прогнать. Я, может, и не святая кое в чем, но вот этого я не потерплю. Вы не обращали на Бетти никакого внимания целый год, пока не услыхали про нее все эти сплетни, а тут вам приспичило, и вы явились сюда, чтобы залезть к ней в постель. Вот настоящая причина, почему вы нынче сюда явились, — а это все вранье насчет того, будто вы хотите развестись и жениться на ней. Я это по тому вижу, как вы себя ведете. Но ничего этого не будет!
Не говоря ни слова, Монти легко оттолкнул ее в сторону и уже снова поднимался по лестнице, настороженно оглядываясь, на случай если бы Дженни вздумала еще раз схватить его за ноги. Не успел он добраться до второго этажа, как Дженни подбежала к телефону. Спеша изо всех сил, она начала набирать номер.
— Что это вы делаете? — крикнул Монти сверху лестницы.
— Звоню в полицию, — спокойно ответила она. Потом обратилась к Шорти. — Визи, беги на улицу и как можно громче зови соседей на помощь, если он не даст мне позвонить.
Запахнув на себе поплотнее ночную рубашку, Шорти открыл парадную дверь и выбежал на улицу.
— Не надо, мисс Ройстер! — попросил Монти. Он с тоской взглянул на дверь Бетти в конце коридора, потом посмотрел вниз. — Пожалуйста, не надо, мисс Ройстер! Ведь я тогда сразу же потеряю работу в школе. Не зовите полицию!
Он бросился бежать вниз по лестнице.
— Монти Биско, если вы не уберетесь из моего дома к тому времени, как там подойдут к телефону, вас, конечно, выгонят с этой вашей тренерской работы, потому что я, честное слово, так прямо и скажу полиции, зачем вы полезли наверх, туда, где комната Бетти. Это вас проучит раз и навсегда.
— Хорошо, мисс Ройстер, я уйду, — сказал он хрипло. — Пожалуйста, не говорите ничего полиции.
Следя за Дженни, стоявшей у телефона, и больше не заговаривая с ней, Монти торопливо прошел через прихожую. Дойдя до двери, он пробежал через веранду и скатился с крыльца на улицу.
Дженни подождала, пока звук его шагов не замер вдали, потом положила трубку на место. Выйдя на веранду, она постояла там, пока Шорти не подошел к дому, запахивая на себе ночную рубашку. Накрепко заперев дверь и погасив свет в прихожей, Дженни и Шорти отправились наверх спать.
Дойдя до середины лестницы, Дженни вдруг остановилась и схватила Шорти за руку.
— Слушай-ка! — сказала она строго. — Я, кажется, велела тебе оставаться внизу в гостиной и дожидаться моего возвращения! Что ты делал наверху все это время? Почему ты меня ослушался, Визи Гудвилли?
— Дженни, я вам говорю истинную правду. Было так поздно, и я так озяб, что мне просто нужно было лечь в постель и забраться под одеяло, чтоб согреться. Это чистая правда, Дженни.
— Не знаю, верить тебе или нет, — с сомнением сказала Дженни. — Знаю я твои повадки, и надо мне было подумать да подумать, прежде чем уйти, а не оставлять тебя в доме вместе с новой жиличкой. — Она выпустила его руку и подтолкнула его по лестнице. — Ступай ложись спать. Я уж позабочусь, чтобы вперед этого не случилось.
11
В воздухе стало тепло не по сезону. Новая резкая перемена погоды была необычной для такого позднего времени: обыкновенно в октябре, после первых осенних заморозков, погода оставалась свежей и солнечной до начала зимних дождей в декабре. А теперь, во второй раз на этой неделе, температура перескочила от одной крайности к другой.
Темные грозовые тучи собрались в то утро на южном горизонте вскоре после рассвета и быстро пронеслись над низинами и пастбищами с пыльными вихрями и порывами ветра, точно такими же, как перед началом летней грозы. Однако дождь не пошел, и угроза ливня миновала позже утром. Вместо этого теплый влажный туман с Мексиканского залива навис над страной, как мокрое серое одеяло, не давая солнцу пробиться к земле. В полдень, когда легкий ветерок разнес по улицам почти летнее тепло, люди начали открывать двери и окна своих домов.
Многие из торговцев в Сэллисоу, у которых магазины готового платья выходили на центральную площадь, разгуливали взад и вперед по тротуару без пиджаков, жалуясь друг другу на неожиданное возвращение теплой погоды. Некоторые рассуждали о том, что климат вступает в новую фазу, другие поносили науку за то, что она изменила установленный веками круговорот природы. Останавливаясь время от времени и сокрушенно покачивая головой, лавочники с грустью смотрели на свои витрины, где красовалась теплая одежда, думая о том, что их лавки пустуют без покупателей, и гадая, сколько времени это продлится, пока погода не вернется к норме. Как им было хорошо известно по долголетнему опыту, сельские жители не поедут в город покупать зимнюю одежду, пока стоит теплая погода.
У городского пожарного депо, на южной стороне центральной площади, пожарный без пиджака сладко дремал на полуденном пригреве, прислонив стул к кирпичной стене.
Адвокат в одной из контор второго этажа на восточной стороне площади, дожидаясь возобновления судебного заседания после перерыва, оставался недвижим вот уже целые полчаса, упершись ногами в открытое окно.
Съев свой завтрак из бумажного мешка, водитель такси оставил машину у обочины тротуара и растянулся на лужайке перед зданием суда, прикрыв лицо газетой от голубей. Он спал уже довольно долго.
На западной стороне площади, в кафе «Джонни Реб», стены которого были декорированы федеральными и звездно-полосатыми флагами, выключили отопление и включили вентилятор, и все, завтракавшие за стойкой, заказали себе чай со льдом вместо горячего кофе.
Лоуэна Нели была в центре города с десяти часов утра, она ходила из одной конторы в другую в поисках работы и уже успела устать и пасть духом. Однако она решила не бросать поисков, пока ей не удастся найти работу.
Когда Лоуэна вошла в расположенную на северной стороне площади контору Клива Мэнграма по продаже и страхованию недвижимости, она еще надеялась найти такое место, какого ей хотелось, но Клив ей сказал, что у него в конторе уже есть секретарша и никого больше ему не требуется. Секретарша Клива как раз ушла завтракать, и в маленькой конторе в это время никого больше не было. Лоуэна уже повернулась к выходу, но тут Клив потянулся и схватил ее за руку.
— Погодите минутку, — сказал он, — мне нужно спросить вас кое о чем. Подите-ка сюда.
Крепко держа Лоуэну за руку, Клив тянул ее назад, пока они не очутились за перегородкой, откуда их не видно было прохожим с улицы.
— Что вы хотите у меня спросить? — сказала Лоуэна, силясь вырвать у него руку. — Если у вас нет для меня работы…
— Не волнуйтесь, — сказал Клив, таща ее все дальше за перегородку. — Вам не из-за чего беспокоиться.
Она все вырывалась, силясь освободиться от его хватки.
— Как вас зовут? — спросил он.
— Лоуэна Нели.
— Давно ли вы в Сэллисоу?
— Со вчерашнего дня.
— Откуда вы приехали?
— Из округа Пальметто.
— Вы не можете получить такую работу, какую вам хочется. Во всяком случае, не в этом городе. Вы только зря тратите время. Но я могу устроить для вас кое-что другое. И с удовольствием это сделаю. Ну как, вы согласны?
— О какой работе вы говорите?
— Моей жене нужна помощница по хозяйству. Вы получите хорошее жалованье, и комната для вас тоже найдется. Комната будет бесплатная, я ничего с вас не возьму. Все отлично уладится. Я уговорю жену нанять вас. Она сейчас приедет в центр искать человека на эту работу. Вам надо только согласиться, и тогда все отлично уладится. Ну как?
— Я не хочу быть прислугой. Я ищу конторскую работу.
Клив обнял ее и рывком притянул к себе. Лоуэна пыталась вырваться и выбежать на улицу, но он был гораздо сильнее. Она закрыла глаза, чувствуя его горячее дыхание на своем лице и шее.
— Пустите меня, — умоляла она, задыхаясь в его объятиях. — Пожалуйста, пустите.
— Напрасно вы так говорите, — сказал он. — Не беспокойтесь, все будет в порядке.
Она не заметила, как он расстегнул на ней платье, пока не почувствовала, что его руки бесстыдно скользят по ее нагому телу. Как только Лоуэна это почувствовала, она начала еще отчаяннее вырываться и отталкивать его. Он стиснул ее еще крепче, так что она не могла пошевельнуться.
— Я хочу вам кое-что сказать, — заговорил он, дыша ей в лицо. — Давно уж мне не приходилось видеть таких красоток. Я все поджидал, что подвернется кто-нибудь, вроде вас. Вы как раз мне подходите. И если вы будете со мной милы, я о вас позабочусь. У меня всегда была слабость к таким девушкам — цвет кожи у вас мне как раз по вкусу. Скажите только слово, и я тоже буду к вам ласков и позабочусь о вас. Ну как, согласны?
Лоуэна покачала головой, отказываясь отвечать.
— Не качайте головой, это вам не поможет, — сказал ей Клив. — Я не выпущу вас отсюда, пока вы не ответите, и ответ должен быть такой, какой полагается.
— Если вы меня не пустите, я закричу, — сказала Лоуэна.
— Что ж, кричи. Кричи, сколько влезет! Здесь тебя никто не услышит. Только если ты попробуешь, я сумею тебя унять.
Она чувствовала, что он возится с ее одеждой, но от слабости не могла пошевельнуться и даже не пыталась остановить его.
— Ты не пожалеешь, — слышала она. — Я все для тебя сделаю, что надо. Ты только будь со мной мила, и я о тебе позабочусь. Слышишь? Я тебе обещаю.
— Что вам от меня нужно? — наконец спросила она.
— А ты как думаешь, что мне нужно? То самое, что нужно всякому от такой красивой девушки. Не буду же я тебе растолковывать, сама знаешь, о чем я говорю. Сказал я тебе, что мне нравится твой цвет кожи, и с каждой минутой нравится все больше.
— Пожалуйста, пустите меня… не держите здесь, — умоляла она. — Я вовсе не такая.
— Для меня все такие, если они мне нравятся.
— Нет, не надо…
— В чем дело? Я для тебя недостаточно хорош?
— Не знаю… только, пожалуйста, пустите меня.
— Можешь твердить свое, сколько влезет, я все равно добьюсь своего.
Обняв ее одной рукой за талию, а другой подхватив под колени, Клив опустился с ней на пол. Когда он придвинулся вплотную, Лоуэна заплакала.
— Тебе не из-за чего плакать, — сказал он ей. — Будешь со мной по-хорошему, так не пожалеешь. Я тебе обещал и не обману.
Кто-то отворил дверь конторы и вошел в нее с улицы, и Клив быстро зажал девушке рот рукой, чтобы она не закричала. Перегородка была выше человеческого роста, и он не мог увидеть, кто вошел. Пока он ждал, в надежде, что вошедший в контору скоро уйдет, послышался стук каблуков по не застеленному ковром полу.
— Клив! Где ты, Клив?
Как только Клив услышал голос своей жены, он рывком поднял Лоуэну на ноги и подтолкнул ее к задней двери. Жена опять позвала его, когда он открыл дверь и выпихнул девушку в переулок. Обернувшись, он увидел на полу ее туфли и сумочку. Клив поднял их с пола и вышвырнул вслед за ней, потом захлопнул дверь, прежде чем жена успела заглянуть за перегородку.
Ошеломленная, вся дрожа, Лоуэна пробежала часть пути по переулку и только потом остановилась застегнуть платье и откинуть волосы со лба. В переулке никого не было, ее никто не видел, и она прислонилась к стене одного из строений и постояла, пока не собралась с силами и не почувствовала, что сможет дойти до конца переулка.
Хотя она все еще не нашла работы, но была слишком взволнована, чтобы искать дальше после того, что случилось в конторе Клива Мэнграма по продаже и страхованию недвижимости, — она понимала, что ей придется подождать до завтра и тогда начать поиски снова.
Лоуэна и сама не знала, до чего она ослабела и проголодалась, пока не вышла из переулка на другую сторону городской площади. Было уже около двух часов дня, а она еще ничего не ела после завтрака ранним утром. Всего за несколько домов отсюда был ресторан, и ей слышалась музыка пианолы-автомата, звучавшая приветливо и зазывающе.
Войдя в кафе «Джонни Реб», Лоуэна едва успела сделать несколько шагов от двери, как Бад Парди, владелец кафе, поспешил выйти из-за кассы и остановился перед ней. Ни слова не было сказано, и она, не понимая, что значит такое поведение, попыталась обойти его кругом и подойти к стойке.
Бад Парди опять встал перед ней и на этот раз поднял руку, не давая ей пройти. Громкая музыка играла по-прежнему, но смех и громкий говор посетителей, сидевших в кафе, постепенно затихли — все оборачивались и смотрели на нее.
Все так же не опуская руки, Бад придвинулся ближе. Лоуэне пришлось отступить.
— Ну? — сказал он грубо.
Удивленная его грубостью, она не нашлась, что ответить.
— Что вы тут делаете? — все так же грубо спросил Бад. — Что вам нужно?
— Я зашла съесть что-нибудь.
— Здесь вам есть нельзя.
— Почему же?
— А вы сами не понимаете?
Она покачала головой.
— Не знаю, что вы хотите сказать.
— Сейчас узнаете. Я имею право отказывать, кому мне вздумается, и вам тоже.
Он указал на большую картонную вывеску на стене позади кассы.
— Если вы не ослепли, так на этой вывеске все написано. Поглядите хорошенько, а потом убирайтесь отсюда.
— Не понимаю, — сказала она растерянно.
Громкая музыка вдруг умолкла, и Лоуэне стало слышно, как смеются посетители у стойки.
— Если вы и теперь не понимаете, в чем дело, — с коротким смешком сказал Бад, — так думайте поскорей. А по-моему, вы просто дурака валяете и стараетесь извернуться.
Опустив руку, Бад повернул голову и взглянул на посетителей за стойкой. Они следили за ним, дожидаясь, что будет дальше. Тогда он повысил голос так, чтобы всем было слышно, и опять взглянул на нее.
— Давно ли вы в городе?
— Со вчерашнего дня.
— Откуда вы приехали?
— Из округа Пальметто.
— Что-то непохоже. Вы ведете себя так, как будто приехали откуда-нибудь с севера. Как вас зовут?
— Лоуэна… Лоуэна Нели.
— Ну, я не знаю, как водится там, откуда вы в самом деле приехали, зато знаю, как водится у нас. Это город для белых. А теперь убирайтесь отсюда, вам же сказано.
Музыка вдруг оглушительно загремела снова. Посетители кафе все еще глядели на нее, но их смеха она уже не слышала. Их лица словно уплыли куда-то, пока не стали неразличимы.
Снова подняв руку, Бад Парди подтолкнул Лоуэну назад к дверям. Выйдя на улицу, он опустил руку и взглянул на Лоуэну оценивающим взглядом. И тут он в первый раз улыбнулся ей. Лоуэна отступила назад, он двинулся вперед.
— Погодите минутку, — сказал он, подмигивая ей. — Не уходите пока. Мне нужно вам сказать кое-что.
Лоуэна взглянула на него, не говоря ни слова.
— Здесь, на улице, я вас гораздо лучше разглядел, — сказал он, интимно понижая голос. — Вами, право, можно увлечься, Лоуэна. Давайте потолкуем немножко на этот счет. Что вы скажете?
Бад ждал ее ответа, но она промолчала.
— Позвольте мне вам сказать, Лоуэна. Я рад, что вы зашли сейчас в кафе. Право, рад. Потому что, если бы вы не зашли, я бы вас так и не узнал. Давайте встретимся нынче вечером, повеселимся вдвоем. Ну, так как же?
Лоуэна попятилась от него. Оглянувшись через плечо на посетителей кафе, следивших за ним из окна, Бад поравнялся с Лоуэной. Они уже миновали кафе «Джонни Реб» и шли мимо одной из лавок готового платья. Официантка и кое-кто из посетителей вышли из кафе и глядели им вслед.
— Что же вы молчите? — спросил Бад. — Перестаньте на меня сердиться. Вот увидимся вечером, я с вами помирюсь.
— Пожалуйста, оставьте меня в покое, — сказала она.
— Я вам кое-что хочу сказать. Прямо говорю, мне у вас нравится цвет кожи, и нравится все больше и больше. Я неравнодушен к девушкам с таким цветом кожи. Он мне как раз по вкусу.
Она шла дальше, словно не слыша ни единого слова.
— Набиваете себе цену, да? Ведете себя так, будто вы слишком хороши для меня, да? Но вам меня не провести. Сразу видно, что вы тоже не прочь повеселиться, как и всякая другая. Так как же насчет свидания? А? Придете, что ли? Мне, знаете ли, нравится ваш цвет кожи. Придете сюда вечером, часам к десяти? Это когда я закрываю кафе. Тогда все будет в порядке. Никого не останется, кроме меня. Подойдите к задней двери. Я вас буду ждать. Так не забудьте же — к десяти часам вечера.
Лоуэна, все так же не отвечая ему, прибавила шагу.
— Почему же вы не хотите со мной иметь дело? — уговаривал он ее. — Не пожалеете. Я всегда любил таких девушек. Ваш тип мне как раз подходит. Так вы вернетесь к десяти часам? Ведь придете? Ну, скажите, что придете.
К этому времени они дошли до перекрестка, и Лоуэна почти бежала, пытаясь отвязаться от него. Бад дошел за ней до края тротуара и здесь остановился.
— Послушайте! — громко окликнул он ее, когда она уже переходила улицу. — Вы, должно быть, та самая, о ком я слышал! То-то вы и нос дерете перед белыми! Не хотите, чтобы вас считали за мулатку! Ну, да ведь я вижу, с кем имею дело!
Лоуэна не оглянулась.
Перебежав через городскую площадь, она пошла по Морнингсайд-стрит к дому Дженни Ройстер, в четырех кварталах от площади. Слезы набегали ей на глаза, и она несколько раз останавливалась и вытирала их, чтобы лучше видеть, куда идет. Она старалась не думать о том, как Бад Парди обошелся с ней в кафе, и о том, как он разговаривал с ней на улице, однако знала, что никогда не сможет этого позабыть.
Медленно идя по улице и думая о том, что она так и не смогла найти работу, Лоуэна чувствовала себя такой несчастной и выбитой из колеи, что пожалела, зачем она приехала в Сэллисоу. Ни в одной конторе у нее не спросили даже, где она училась и что умеет делать, нигде ей даже не предложили оставить заявление. Каждый раз как она входила в контору, кто-нибудь вставал ей навстречу и говорил, что никаких вакансий у них нет. Даже в газовой и электрической компании, которой принадлежала самая большая контора в городе, ей сказали, что все заявления о найме на работу заполняются в главной конторе, а у них в отделении нет под рукой даже бланков для этого.
Свернув с городской площади, Лоуэна не встретила на улице ни души, пока не прошла полдороги к дому Дженни Ройстер. Она услышала чей-то веселый свист и, подняв глаза, увидела, что навстречу ей идет Шорти Гудвилли. Теперь было уже поздно переходить на другую сторону улицы, чтобы уклониться от разговора с ним.
Шорти направлялся в центр города, торопливо семеня короткими ножками и громко насвистывая. В это время дня он по привычке ходил в центр города играть на бильярде, стоя на скамье, с разрешения прочих игроков, и выпивать несколько бутылок пива в каком-нибудь баре. Потом обычно играли в покер в городском пожарном депо, после того как кончалось заседание в суде, и Шорти любил сыграть партию-другую, пока не наступало время возвращаться домой к ужину, который Дженни всегда оставляла ему по вечерам.
Лоуэна кивнула Шорти с беглой улыбкой и хотела пройти мимо, не останавливаясь. Однако он встал поперек тротуара, и ей пришлось остановиться.
— Здравствуйте, Лоуэна, — сказал он, глядя снизу вверх и дружелюбно ухмыляясь.
— Здравствуйте, — ответила она.
— Где вы были?
— В центре города.
— Что же вы так рано возвращаетесь? Разве не нашли работу?
Она покачала головой.
— Нет.
— Не нашли? — сочувственно сказал он своим тоненьким голоском. — Ну, это очень жалко, Лоуэна. Но ведь вы не надеялись, я думаю, найти работу так сразу. На это нужно время, а мне говорили, что чем лучше работа, тем трудней ее найти. Слыхали вы про такую теорию?
Она не хотела плакать, но ей все же пришлось утереть слезы, катившиеся по щекам.
— Вы из-за этого и плачете, что не удалось найти работу сразу?
Она взглянула на него и ничего не ответила.
— Не горюйте, Лоуэна, — сказал Шорти, дотягиваясь до ее руки, чтобы пожать ее в утешение. — Через несколько дней вы найдете работу, какую хотите. Говорят, всегда находишь работу, когда на это меньше всего надеешься. Слыхали вы про такую теорию?
Шорти ждал ответа, не выпуская ее руки, но когда она промолчала, он обнял ее и прижался к ней. Головой он уткнулся ей в живот.
— Я вам скажу, что я сделаю, — сказал он, поднимая голову и заглядывая ей в лицо. — Пойду сейчас в центр города и порасспрошу там кое-где насчет работы. Это самый лучший способ — зайти и поговорить. А если я нынче найду что-нибудь верное, я вам скажу, как только вернусь домой.
Лоуэна оттолкнула его.
— Нет, не надо, — отказалась она. — Пожалуйста, не делайте ничего этого!
— Почему же? — спросил Шорти. — Что тут такого? Ведь вам нужна работа? Почему же я не могу вам помочь? Вы же сами говорили Дженни вчера вечером. Я это слышал.
— Теперь я не уверена… Я сама не знаю, что мне делать, — сказала Лоуэна и пошла дальше. — Но только, пожалуйста, не надо ничего этого. Я не хочу!
И прежде чем он успел сказать ей еще хоть слово, она быстро ушла.
— Странная манера разговаривать, — громко сказал Шорти самому себе, потом повернулся и опять зашагал к центру города.
12
Подходя к дому Дженни Ройстер, Лоуэна подняла глаза и увидела, что Бетти Вудраф сходит с крыльца, неся чемодан в одной руке и охапку одежды в другой.
Вслед за Бетти, взволнованно говоря что-то и не умолкая ни на минуту, Дженни пересекла веранду, двигаясь настолько быстро, насколько ей позволяло ее полное тело, и сбежала с крыльца по ступенькам к синей с белым машине, стоявшей перед домом. Было жарко, парило, и Дженни, не привыкшая столько двигаться и волноваться, обеими руками смахивала пот, струившийся по ее щекам и шее.
Бетти поставила чемодан в машину и небрежно швырнула одежду на заднее сиденье. Она несла еще пару туфель и, когда одна туфля упала на тротуар, подняла ее и тоже бросила в машину.
Завидев подходящую к дому Лоуэну, Дженни отчаянно замахала ей обеими руками, чтобы она поторопилась.
— Идите скорей сюда, Лоуэна, помогите мне остановить ее! — возбужденно кричала Дженни. — Нам надо удержать Бетти, не дать ей уехать! Она сама не знает, что делает! Боюсь, что снотворное бросилось ей в голову! Она ничего слушать не хочет!
Когда Лоуэна поравнялась с Дженни, Бетти уже шла обратно к дому за остальными вещами.
— В чем дело? — спросила Лоуэна.
— Ох, это ужас, просто ужас! — воскликнула Дженни, вытирая потное лицо обеими руками. — Бетти хочет забрать все свои пожитки и уехать! Нам надо ее остановить! Надо что-то сделать! Нельзя дать ей уехать, ради ее же блага! Бедная девочка прямо-таки не в своем уме! Посмотрите только, что она делает!
— Почему она уезжает?
— Ах, я не знаю… она и сама не знает! Вот до чего она дошла! Нам надо что-то сделать, чтобы она пришла в себя!
Теперь Бетти уже успела войти в дом, а Дженни следом за ней добежала только до ступенек веранды. Она тяжело дышала, совсем запыхавшись от усиленного движения, и досадливо смахивала пот с лица обеими руками.
— Вы не сделаете такой глупости, Бетти Вудраф! — кричала она вслед Бетти в открытую дверь. — Я вас не пущу! Слышите? Вы останетесь у меня, здесь ваше место! Да вы слышите или нет?
Не успела она подняться на веранду, чтобы удержать Бетти, как та вышла из двери, неся еще один чемодан и тяжелое зимнее пальто. Дженни, упустив время схватить ее за руку, опять бросилась за ней к машине.
— Все равно, что бы вы ни говорили, Бетти Вудраф, — встревоженно закричала Дженни, увидев, как Бетти бросила на заднее сиденье свое зимнее пальто, — я не могу вас так отпустить, я всю жизнь себе не прощу, если сейчас не остановлю вас. Слышите?
— Я вам сказала, что у меня все решено, — спокойно ответила Бетти, поворачиваясь к ней лицом. — Что бы вы ни говорили, это теперь ничему не поможет и не заставит меня переменить решение. Времени у меня было достаточно, я все обдумала и знаю, что делаю. Я уезжаю, Дженни, вот и все, и говорить больше не о чем.
— Нет, вы не уедете!
— Нет, уеду!
— Даже если я против?
— Да.
— Деточка, послушайте вы меня, несчастную старуху, — умоляла она со слезами. — Пожалуйста, не срывайтесь так с места и не уезжайте. Если вы уедете, все у нас пойдет прахом. Я этого просто не вынесу. Скорей всего умру от сердечного припадка. Давайте вернемся в дом, сядем и потолкуем. Ведь вы, деточка, не откажете несчастной старухе?
— Я уже сказала вам, Дженни, что твердо решила уехать и уеду. И толковать нет никакого смысла. Я вела себя так глупо, что мне стыдно смотреть на себя в зеркало. Мне надо уехать куда-нибудь и постараться забыть все, что случилось. Я хочу уехать туда, где никто меня не знает и где никогда обо мне не слыхали, чтобы я смогла стать совсем другим человеком. Я ни одного дня не могу остаться сама с собой — такая, какой я была. Уехать — это единственное, что мне теперь осталось, Дженни. Вот почему я должна уехать.
— Деточка, да послушайте же вы меня, — уговаривала ее Дженни. — Вы это переживете. Я знаю, что вы чувствуете, но не вечно же так будет. И люди не станут о вас сплетничать столько, сколько вы думаете. Даю вам честное слово, что примусь за дело и положу конец всяким сплетням, если услышу хоть единое слово о том, что с вами было. А пройдет еще несколько дней, болтовня прекратится, и про вас совсем ничего не будут говорить. Поговорят и перестанут, а я прожила столько, что знаю, как прекращать такие разговоры и как начинать их. Вдобавок я возьму на себя вину за то, что довела вас до такой жизни.
— Ничем этим теперь уже не поможешь, — упрямо твердила Бетти. — Слишком поздно — ничего уже мне не поможет. Я поставила себя в глупое положение. Мне нужно уехать и стать совсем другим человеком.
— Послушайте меня, деточка. Вы не сделали ничего такого, чего не делали бы многие другие женщины. Что-нибудь в этом роде непременно бывает с каждой, рано или поздно. Спросите любую девушку, правда это или нет.
Дженни нагнулась к Лоуэне и, схватив ее за руку, притянула ближе к себе.
— Лоуэна, расскажите ей про себя, расскажите ей, что и вы могли бы потерять голову из-за мужчины, не теперь, так раньше. Вот Бетти и увидит, что я говорю правду. Подите и скажите ей.
— Но я, право, не знаю… не знаю, что сказать, — упиралась Лоуэна.
Недовольная и раздраженная, Дженни оттолкнула Лоуэну и повернулась к Бетти.
— Так поглядите же на меня, дорогая. Лучше примера не найдете. Может, сейчас вы этого и не подумаете, глядя на меня, но было время, и еще не так давно, когда люди говорили обо мне как нельзя хуже. А теперь сами видите, я почтенная женщина на покое.
— Мне все равно, что будут обо мне говорить в Сэллисоу после этого, — ответила ей Бетти, все так же упрямо и решительно. — Пускай говорят обо мне все, что им угодно. Какое мне до этого дело — плохо или хорошо, но они будут говорить о том, какой я была, а не о том, какой я стану. Кроме того, меня здесь уже не будет, и я ничего этого не услышу.
— Если вам все равно, что про вас скажут, так зачем же уезжать, деточка!
Бетти ей не ответила.
— Я знаю, в чем вся беда, — сказала Дженни, подумав с минуту. — Все другие разговоры ничего не значат. Как же я раньше этого не поняла! Это все тот футбольный тренер из школы — этот Монти Биско. Вот в чем беда. Вы так и не забыли того, что было год назад, и все еще страдаете из-за Монти. Это прямо-таки стыд и срам. Я бы ни на что не посмотрела и отхлестала бы по щекам эту двуличную учительницу за то, что она обманом женила его на себе. А еще того лучше, я бы прогнала ее пинками в зад и гнала бы отсюда до Саммер-Глэйда и обратно, а может, еще так и сделаю, дайте мне только разозлиться как следует. Я теперь верно знаю, что она вовсе не была беременна ни тогда, ни после. Мне рассказали всю правду вчера ночью.
— О чем это вы говорите? — с любопытством спросила Бетти.
Дженни вытерла пот с лица.
— Деточка, вы этого не знаете, потому что вы лежали как мертвая, а ведь Монти Биско приходил сюда вчера ночью и просил, чтобы я пустила его к вам в комнату. Я его не пустила, а он все-таки полез наверх, и пришлось мне грозить полицией, чтоб он унялся. Я сама вам закатила такую дозу снотворного, так не могла же я допустить, чтобы он полез к вам, когда вы лежали без сознания. Так вот, деточка, если вы вернетесь в дом, мы сядем и поговорим, и я вам даю честное слово…
— Я не хочу его больше видеть, не хочу больше слышать его имени, — с горечью сказала Бетти.
— Деточка, я понимаю, почему вы так говорите. Это все ваша гордость. У каждой женщины она есть и должна быть, но одной гордости мало, чтобы женщина была счастлива. Вы только погодите и подумайте минутку, до чего это верно. Так вот, я знаю, как надо за это дело взяться самым приличным образом, чтобы и гордость ваша осталась при вас и чтобы Монти вы не упустили. Вам только и надо, что меня слушать, у меня есть нюх на такие дела, я знаю, как они делаются. Я сама поговорю с Монти Биско, а после того как я с ним разделаюсь, сами увидите, он к вам на четвереньках приползет и будет просить, чтобы вы к нему вернулись. Вот как это просто. И не беспокойтесь насчет того, что он женат. Другие разводятся и не по такой важной причине, как Монти Биско, а я уж позабочусь, чтобы судья Рэйни его развел, даже если это будет последнее доброе дело в моей жизни. А потом вы и оглянуться не успеете, как выйдете за него замуж. В этом я вам даю мое честное слово. Ну, деточка, может, вы отнесете ваши вещи обратно в дом и останетесь?
— Я уже сказала вам, что с ним у меня все кончено, и это серьезно, — не сдаваясь, ответила Бетти. — Не стоит об этом говорить. Я больше ему не верю. Да и как верить? Все время, что я была с ним помолвлена, он тайком от меня ухаживал за Мэйритой Игер. А теперь я рада, что так случилось. Поделом ему. Надеюсь, он так и останется ее мужем и никогда не получит развода. Такие люди, как он, заслужили свое несчастье, и я надеюсь, что он будет страдать каждую минуту, сколько бы ни прожил после этого.
Дженни приподняла полу халата и вытерла потное лицо. Она и растерялась и устала после стольких стараний уговорить Бетти.
— Ну что ж, если вы и вправду так к нему относитесь, пожалуй, я тут ничем не смогу помочь, — сказала она с грустью. — Я старалась, но больше ничего такого не приходит в голову, чтобы вы его простили и остались тут.
Она обернулась и, продолжая говорить, задумчиво посмотрела на Лоуэну.
— Может, это хороший урок всем нам на пользу. Запомните его, Лоуэна, и не допускайте, чтобы с вами случилось то же. Вам не придется переживать ничего такого, если вы будете остерегаться. А когда вы добьетесь своего и выйдете за кого хотите, так смотрите, ухаживайте за ним сами, чтобы какая-нибудь другая женщина не сманила его за вашей спиной. Это одно-единственное, что я ненавижу в женщинах и не побоюсь сказать им в глаза, хоть я и сама женщина. Да ведь правда, на них никак нельзя положиться, чтобы они оставили чужого мужа в покое.
В первый раз слегка улыбнувшись, Дженни положила руку на плечо Бетти.
— Больше я не могу с вами спорить, деточка. Я вся вымоталась от этих разговоров. Мне жалко, что вы уезжаете, но в конце концов вы поступаете правильно. Если хотите знать чистую правду, я никогда не чувствовала особенного уважения к этим школьным тренерам — футбольным и всяким другим. Я знаю, о чем говорю, потому что в свое время мне приходилось с ними иметь дело. Мне всегда думалось, что для взрослого мужчины это пустяковая работа. Только и знают, что гонять мячик с мальчишками с утра до вечера, а как ночь придет, так бегают за бабами, словно собака за курами. Уж по мне лучше простой человек, такой, чтобы ночью лежал в кровати, и каждый раз, как повернешься, так знаешь, что он тут, рядом.
Бетти обвила руками толстую шею Дженни и нежно ее обняла.
— Мне очень не хочется уезжать от вас, Дженни, вы были так добры и ласковы ко мне. Но я больше не могу оставаться в Сэллисоу. Мне нужно уехать отсюда, уехать куда-нибудь в другое место, где меня никто не знает. Но я всегда останусь вам благодарна, Дженни, и никогда вас не забуду. И если у меня жизнь наладится, я дам вам знать. А если нет…
Дженни крепко обняла ее, словно стараясь отсрочить разлуку. Слезы выступили у нее на глазах.
— Не говорите этого, деточка. Такая девушка, как вы, всегда найдется и сумеет устроить свою жизнь.
Бетти пыталась высвободиться из ее объятий и подойти к своей машине, но руки Дженни крепко держали ее.
— Куда же вы поедете, деточка? — рыдала она, вздрагивая всем телом. — Как же я узнаю, где вы и что вы делаете? Как же мне вас разыскать?
— Я сяду в машину — и поеду все вперед и вперед. Не знаю еще куда. Сейчас мне это все равно. Может быть, поеду во Флориду, а может быть, в Калифорнию. Но со мной ничего не случится, Дженни. Не беспокойтесь обо мне. Ведь вы сумели о себе позаботиться, а если сумели вы, то сумею и я. Прощайте, Дженни.
Наконец ей удалось освободиться.
— Прощайте, деточка, — говорила Дженни, обливаясь слезами. — Не позволяйте больше никогда, чтобы какая-нибудь другая учительница отбила у вас мужчину. Для любой женщины это самый верный и быстрый способ потерять веру в себя.
Пожав руку Лоуэне и наскоро обняв ее, Бетти села в машину. Она уже завела мотор и только что собиралась тронуться с места, как вдруг Дженни бросилась вперед и подбежала к дверце машины.
— Деточка, обещайте мне! Если б вы передумали и захотели вернуться или мужчина вам попался такой, что не оправдал себя, приезжайте прямо к бедной старухе Дженни. Обещайте мне это, деточка!
— Я и этого не забуду, — сказала ей Бетти. — Буду помнить.
Дженни отчаянно припала к дверце.
— И еще одно, деточка. Я ведь очень сентиментальная, и если вы будете посылать мне открытки к рождеству, Четвертому июля[8] и ко всем другим праздникам, то я это сумею оценить. Вы ведь не забудете бедную старуху Дженни?
— Не забуду.
Автомобиль медленно двинулся вперед. Обливаясь слезами, Дженни цеплялась за дверцу машины, которая двигалась все быстрее и быстрее. Дженни чуть не бежала, но в конце концов она не смогла держаться вровень с машиной, и ее руки соскользнули с дверцы. И все-таки, провожая машину, она добежала до угла улицы.
После этого белый с синим автомобиль быстро помчался по Морнингсайд-стрит, направляясь к шоссе. В одиночестве стоя посреди улицы и тяжело дыша, Дженни удрученно глядела ему вслед, пока он не скрылся из виду.
Очень не скоро после того, как за поворотом исчезла машина Бетти, Дженни вернулась к дому, где ждала ее Лоуэна. Не стараясь больше удержать слезы, она кивнула Лоуэне и медленно поплелась к веранде. Ни слова не было сказано, пока они не вошли в дом и не затворились в гостиной.
— Покамест это самый печальный день в моей жизни, — воскликнула Дженни, падая на диван лицом вниз и молотя кулаками по красному плюшевому сиденью. — Я зерно знаю, что больше никогда не увижу Бетти Вудраф — не увижу до самой смерти, а она была мне как родная дочь. Сколько ни было у меня бед и несчастий, но хуже этого покамест не бывало.
Через некоторое время она поднялась, села на диван и обвела взглядом комнату, стол, картины на стене, словно стараясь припомнить, какого из ее сокровищ не хватает на привычном месте. В заключение она беспомощно взглянула на Лоуэну потускневшими от горя глазами.
— Лоуэна, деточка, вы не можете себе представить, до чего мне грустно было смотреть, как Бетти уезжает навсегда. Это все равно, что отдать кого-нибудь из близких гробовщику, чтобы он похоронил его на кладбище. Может быть, даже хуже, потому что она еще жива, а для меня она все равно что умерла.
Она сделала Лоуэне знак подойти ближе.
— Лоуэна, деточка, сядьте рядом со мной и возьмите меня за руку. В такое время я просто не в силах быть одна. Мне нужно чувствовать, что рядом со мной кто-то есть.
И как только Лоуэна подошла к дивану и села, Дженни обняла ее.
— Деточка, обещайте мне, что вы никогда не уедете и не бросите меня вот так, — упрашивала она, отчаянно цепляясь за Лоуэну. — Если хотите знать истинную правду, я такая мягкосердечная и чувствительная, что просто лягу и умру, если вы уедете, как уехала Бетти Вудраф, и оставите меня совсем одну. Только женщины, вроде меня, знают, каково это жить одной на свете.
Она вытерла слезы рукой.
— У меня остался еще Визи Гудвилли, это верно, но он со мной не все время, потому что восемь или девять месяцев в году он разъезжает с балаганом и всегда надо бояться, что он там свяжется с какой-нибудь лилипуткой и больше не вернется. И судья Рэйни тоже, боюсь, так и не соберется на мне жениться. Он не раз намекал на это прежде, а теперь время идет день за днем, а он все не говорит прямо, что женится. В моем возрасте я просто не могу жить одна круглый год. В мои лета даже почтенной женщине на покое, вроде меня, приходится жалеть, что сна не вышла замуж, пока еще наружность у нее была приличная. В таком возрасте выйдешь за кого угодно, даже если он лентяй и ничтожество и совсем никуда не годится. Но теперь, пожалуй, мне уж не на что надеяться, разве только случится что-нибудь из ряда вон, вот почему я и хочу, чтобы вы остались со мной для компании.
Телефон в прихожей резко зазвонил. Дженни не двинулась с места. Он прозвонил во второй раз, потом в третий, и только тогда она выпрямилась, досадливо нахмурясь. Она была уверена, что это звонят Бетти, и решила не отвечать на звонок.
Но телефон звонил раз за разом, все настойчивей и упорней.
— Я подойду вместо вас, — сказала Лоуэна, вставая.
Схватив Лоуэну за руку, Дженни толкнула ее назад, к дивану.
— Нет, — сказала Дженни, сурово взглянув на нее. — Не надо этого, деточка. Лучше мне самой подойти. Я знаю, что сказать, если это звонят Бетти Вудраф. Я не хочу, чтобы такие люди разговаривали с вами.
Телефон звонил все время, пока она шла через гостиную к телефону в прихожей. Дженни успела уже рассердиться, когда взяла трубку и села на стул рядом с телефоном.
— Я не знаю, кто вы такой, и мне это все равно, но ее здесь нет и не будет, и я не желаю, чтобы ей звонили по этому телефону! — Голос ее звучал резко и громко. — А теперь повесьте трубку и больше сюда не звоните!
На том конце провода некоторое время молчали.
— Кому это вы говорите, Дженни? — услышала она голос судьи Рэйни.
— Ах ты, боже мой! — воскликнула она. — Я не знала, что это вы, Майло. Вы же понимаете, я не стала бы так говорить с вами, если бы знала. Я думала, это кто-нибудь звонит Бетти Вудраф. — Она начала рассказывать ему про отъезд Бетти и про то, что та больше не вернется в Сэллисоу. — Бетти уложилась, села в машину и…
Судья Рэйни прервал ее:
— Дженни, где сейчас Лоуэна Нели?
— Лоуэна тут в доме, со мной, Майло. Она для меня большое утешение теперь, когда Бетти уехала и…
— Послушайте меня, Дженни, — отрывисто заговорил он. — У меня не хватит времени прийти сейчас к вам и переговорить об этом, потому что день быстро проходит, вторая половина уже идет к концу. Придется решать по телефону. Дело срочное, и я вас попрошу слушать внимательнее, Дженни. Препираться об этом тоже некогда — надо действовать, Дженни.
— Майло, я понимаю, о чем вы говорите, но я на это не согласна. Я вам сказала вчера ночью, что не собираюсь прогонять Лоуэну из своего дома, и не прогоню. Когда меня заставляли выгнать из дому Визи Гудвилли и Бетти Вудраф…
— Дженни, я уже говорил вам, что речь идет не о человеческой низости, и я прошу вас выкинуть это из головы. Некоторым людям у нас в городе свойственны расовые предрассудки, и пока что эти предрассудки ничем не искоренишь. Когда вы с этим сталкиваетесь, уступок ждать нечего. Вот с чем мы имеем дело, и вот почему этот вопрос важен. Как вам известно, некоторые люди в Сэллисоу…
— Мне все равно, что говорят и думают некоторые. Я так решила и от своего не отступлюсь. Я умею быть упрямой не хуже всякого другого.
— Дженни, пожалуйста, выслушайте меня, — уговаривал ее судья Рэйни. — После вчерашней ночи кое-что случилось. Появилась возможность уладить неприятности с этой девушкой — Лоуэной Нели — и, может быть, найти решение, приемлемое для всех заинтересованных. Это было бы лучшим выходом для всех. Я всегда старался добиться ясного решения в пользу моего клиента, но когда это невозможно, а в данном случае ситуация именно такова, полюбовное соглашение — самый разумный способ уладить дело. Я говорю с вами, как ваш поверенный, а также, как ваш старый друг, и мне хотелось бы, чтобы вы поступили так, как я советую.
— Не понимаю, о чем вы говорите, Майло, — растерянно ответила Дженни. — Я никогда ничего не понимала в законах и во всех этих юридических выражениях, обычно не понимаю даже, что говорят адвокаты. Для меня все они словно косноязычные.
— Если вы будете слушать меня внимательно, то я объясню вам все ясно и понятно, — терпеливо сказал судья. — Придется изложить дело в нескольких словах, потому что время не терпит и уходит с каждой минутой. Вы слушаете внимательно, Дженни?
— Да, конечно, — сказала она.
— Хорошо. Теперь не забудьте, что я прошу вас не отвергать моего совета. Я целый день провозился с этим делом и хочу довести его до успешного конца. Как вам известно, Дэйд Уомек сказал мне вчера ночью, чтобы эта девушка, Лоуэна, выехала из вашего дома сегодня к заходу солнца и подыскала себе квартиру на другом конце Пичтри-стрит, если хочет остаться в городе. Вы слушаете, Дженни?
— Я слышу.
— Так вот, она почти весь день пробыла в центре города, искала секретарскую работу не в одной, так в другой конторе. Дэйд пустил слух, что она мулатка, которая выдает себя за белую, и теперь никто в Сэллисоу не даст ей такой работы, какую она ищет. У меня только что был еще один разговор с Дэйдом, вот почему я и звоню вам сейчас. И скажу вам откровенно и прямо, Дженни. Дэйд еще не видел, но слышал о ней от тех, кто ее видел, и желает, чтобы она немедленно явилась к нему в контору. Он собирается поговорить с ней лично.
— Для чего это? — подозрительно спросила Дженни. — О чем поговорить?
— Это вам нетрудно догадаться, Дженни.
— Я никаких догадок не строю, я слушаю.
— Так вот, — сказал судья Рэйни, помолчав, — на основании того, что он слышал о Лоуэне, Дейд говорит, что мог бы и сам о ней позаботиться. У него много квартир и домов в негритянском квартале города и, если она ему понравится и пойдет ему навстречу, то он разрешит ей поселиться в одном из самых лучших домов. Так вот, самое существенное здесь то, что все ваши неприятности уладятся, если вы сейчас же пошлете ее в контору к Дэйду.
— Еще что? — холодно спросила Дженни.
— Дженни, я весь день вел переговоры с Дэйдом и могу вам сказать, что он по-прежнему тверд в своем решении, чтобы эта девушка оставила ваш дом и переселилась на другой конец города. Откровенно говоря, сам я в безвыходном положении. Вот почему я думаю, что такое решение вопроса будет лучше всего и для вас и для всех заинтересованных. Я готов его принять и настоятельно советую вам поступить так же. Ну, Дженни, пошлете вы Лоуэну в контору к Дэйду Уомеку, чтобы он поговорил с ней?
— Нет, не пошлю! — ответила она без колебаний. — Ни за что не пошлю! Если Лоуэна хочет поступить на содержание к Дэйду Уомеку или кому другому, это ее дело. Но не я помогу ей сделать первый шаг по этой дорожке. И можете передать Дэйду Уомеку, что я так и сказала. Повторите ему дважды, чтобы он расслышал как следует. Если она годится ему в содержанки, то годится и мне в жилицы. Скажите ему это, пока вы занимаетесь его делами. Пускай она будет мулатка, индианка или еще кто-нибудь, а для меня она просто Лоуэна Нели, и она может жить у меня в доме, сколько ей угодно.
— Дженни, я вас понимаю, но бывают времена, когда самое разумное — это идти на компромисс. И я убежден, что сейчас как раз такое время. А подобный компромисс…
— Я на это не согласна, Майло! А вы меня хорошо знаете! Я такая, какая есть, и ничем меня не переделаешь!
13
Был уже пятый час дня, когда Дэйд Уомек вышел из кабинета судьи по уголовным делам в кирпичном правительственном здании с колоннадой и пошел по дорожке, пересекающей лужайку по диагонали. Оттуда он не спеша свернул к бару Гарри на восточной стороне городской площади. Даже в это время дня было еще жарко и душно; набухшая влагой серая туча все так же висела над землей, и Дэйд, сняв пальто, перебросил его через руку. Прохожих на улице было довольно много, но Дэйд с головой ушел в свои мысли и ни разу не остановился, чтобы поговорить с кем-нибудь.
Всегда осторожный и осмотрительный в такого рода делах, Дэйд потратил довольно много времени на предварительный просмотр планов и документов на право владения домом, который он собирался приобрести.
В это утро он решил дать взаймы пять тысяч долларов под первую закладную на домовладение в негритянском квартале по ту сторону Пичтри-стрит и остался очень доволен видами на будущее. Владелец дома недавно потерпел убытки в делах и, поскольку банк торопил его с уплатой, уже приходил к Дэйду Уомеку занять денег на срочное погашение долга. Дом был двухэтажный, стоял он на бойком месте, и построили его всего пять лет назад. В верхнем этаже было шесть двухкомнатных квартир, и все они были заняты, а в нижнем помещались процветающий ресторан, бильярдная, парикмахерская и бакалейная торговля.
Года через два-три, когда Дэйд приобретет во владение этот доходный дом, — а он был уверен, что приобретет его по случаю неуплаты по закладной или иным путем, — ему будет принадлежать весь квартал. Дэйду уже принадлежала почти половина домов в негритянском районе Сэллисоу, что давало ему возможность получать около половины квартирной платы с двух тысяч негров, живших по ту сторону Пичтри-стрит. Он говорил, что цель всей его жизни состоит в том, чтобы все негры в Сэллисоу платили ему за квартиру, но до сих пор он только не дал ни одному негру поселиться в других кварталах города.
Кроме Гарри Хокси, владельца и бармена, в баре сидели и пили пиво еще несколько человек, когда вошел Дэйд и бросил свое пальто на стул.
— Хэлло, Гарри, — поздоровался Дэйд гулким басом. — Пошевеливайся, надо же нам принять срочные меры! — Он снял шляпу и отшвырнул ее в сторону. — Эй, Джордж, Билл, Джо, Фред! — Прищурив глаза, он взглянул на человека, сидевшего в дальнем углу бара. — Кто это там прячется? Кто-нибудь знакомый? Или какая-нибудь убогая деревенщина из Саммер-Глэйда или Пиви-Крик?
— Это я, Хаустон Брасли, — заговорил тот. — Как поживаете, Дэйд?
— Отлично, отлично, Хаустон, лучше некуда, — ответил Дэйд своим громким голосом. — Как здоровье миссис Брасли?
— Ничего себе, она здорова, Дэйд.
— Отлично, отлично, рад это слышать, Хаустон.
Облокотившись на стойку, он поманил к себе Гарри Хокси.
— Гарри, принесите бутылку моего виски из задней комнаты и угостите этих джентльменов настоящим мужским напитком. Как-то не хочется, чтобы такие замечательные люди обходились без выпивки. Совестно смотреть, как они сидят и лакают подкрашенную водицу из лимонадных бутылок — даже если они методисты и баптисты. Мне совесть не позволит выпить хоть глоток виски, когда у них нет ничего, кроме пива, чтобы прополоскать горло.
— Дэйд, на этот раз мне придется налить виски в пивные стаканы, — извиняющимся тоном сказал Гарри. — Надеюсь, что вы не обидитесь, мне и самому это неприятно. Говорят, по городу со вчерашнего дня рыщет правительственный агент, а я не могу рисковать потерей патента. Вы знаете, как быстро отбирают патент, если бар поймают на торговле чем-нибудь, кроме пива и виноградного вина распивочно.
— Черт возьми, Гарри! Наливать мое виски в пивные кружки! Да вы рехнулись, что ли!
— Я знаю, что виски ваше собственное, Дэйд, и, чтобы сделать вам одолжение, держу его здесь для вас, но не могу же я рисковать, имея дело с агентом. Если меня поймают со спиртным на стойке, мне могут и не вернуть патента. Надеюсь, что доживу до тех времен, когда здравомыслящие элементы населения проголосуют за то, чтобы снова была введена распивочная продажа виски, а эти правительственные лавки закрыты. Мне нынешние порядки не нравятся, так же как и всякому другому. А всё эти святоши — голосуют за сухой закон, а сами горькие пьяницы…
— Слышал я эту печальную историю и раньше, Гарри, а вы и посейчас разговариваете, как пресвитерианин, — сказал Дэйд, махнув рукой. — Если вы такой трус, так действуйте — наливайте виски в пивные кружки. Это лучше, чем держать спиртное в лимонадных бутылках, а потом сосать его, как младенец молоко.
Дэйд обернулся и подмигнул стоявшим рядом мужчинам.
— И бывают же такие разини, смотреть жалко. Если бы Гарри нашел хорошего адвоката, не пришлось бы ему беспокоиться из-за таких пустяков. С хорошим адвокатом и Гарри не сидел бы в тюрьме, и пивную бы не закрыли. Только, сдается мне, такие разини никогда ничему не научатся. Верно, Джо?
— А кто у Гарри адвокат? — спросил Джо, быстро наклоняя голову, потому что Гарри Хокси замахнулся на него салфеткой.
— Кто у Гарри адвокат? — во всеуслышание повторил Дэйд. — Я думал, это всем в городе известно. Судья Майло Рэйни, разумеется. — Он облокотился на стойку и с хитрым видом кивнул головой. — А знаете почему?
— Ну почему, Дэйд? — спросил кто-то.
— Может, не надо бы говорить. Как бы Гарри не сконфузился, при кем неловко…
— Валяй, Дэйд, — сказал Джо. — Мне это нипочем. Я был ночным сторожем в общежитии больничных сиделок.
— Ну, если, по-вашему, можно, так я расскажу. Потому что Гарри платит судье услугами одной из тех мулаток, которые у него содержатся в негритянском квартале. Гарри знает, что со мной ему этим не расплатиться, он знает, что я разборчив, не возьму то, что мне другие подсовывают.
Гарри пошел в заднюю комнату и достал бутылку виски из запаса Дэйда. Вернувшись, он налил виски в пивные стаканы и поставил их на стойку.
— Я слыхал, вы собираетесь завести себе новую девчонку, Дэйд, — сказал Гарри, усердно вытирая стойку. — Говорят, в город только что приехала настоящая красотка.
— Верно, да не совсем, Гарри, — сказал Дэйд. — Я еще не видал той, о которой вы говорите, но мне про нее рассказывали, и я уже начинаю волноваться. — Он взял со стойки стакан и отпил глоток виски. — Скоро узнаю про нее побольше. Я уже велел ей прийти ко мне в контору для личной беседы со мной. Я всегда рад познакомиться с новыми людьми в городе.
— Это я от всех слышу про Дэйда Уомека, — сказал кто-то. — Он настоящий друг.
— Я всем друг, пока меня не трогают, — это предостережение тем, кто сидит здесь в баре. И пусть к ней никто не пристает, я об этом и слышать не желаю, пока сам еще не решил, как с ней быть.
Дэйд переводил взгляд с одного на другого, но все молчали. Отхлебнув виски из стакана, он выпрямился и посмотрел на стенные часы.
— Разве может кто-нибудь сказать точно, когда сегодня сядет солнце — при такой облачной погоде, какая стоит сейчас? — спросил Дэйд, разглядывая циферблат. — Как раз когда мне нужно узнать такую простую вещь, солнца даже не видно.
— Дэйд, я могу сбегать домой и посмотреть, в какое время мои куры сядут на насест, — сказал один. — Точнее этого я вряд ли узнаю.
— У моей жены есть календарь, где указано точное время, — сказал другой. — Но если я сейчас пойду домой, она меня не выпустит до завтрашнего утра.
Дэйд обернулся и взглянул на Гарри Хокси.
— Вы-то уж должны бы знать такую простую вещь, Гарри.
— Должен бы, но не знаю. Хотя могу узнать. Это есть где-то здесь, в сегодняшней газете. Они каждый день печатают время восхода и захода. — Он листал газету, пока не нашел то, чего искал. — Вот оно: пять тридцать пять, — сказал он через минуту. — Это время у нас на носу, Дэйд. Ровно в пять часов тридцать пять минут сегодня.
— Отлично, отлично, Гарри, — ответил Дэйд. — Теперь поднесите всем еще моего виски — на этот раз двойную порцию. Налейте и себе тоже, но только вам придется пить из пивного стакана, как и нам всем.
Пока Гарри Хокси наливал виски, Дэйд наклонился к Джорджу Саутхарду, положив руку ему на плечо.
— Джордж, сейчас половина пятого, — сказал он шепотом. — Зайдите ко мне в контору через четверть часа. Ровно в четыре сорок пять. Не заходите с улицы через парадную дверь, пройдите по черной лестнице с переулка, чтобы никто вас не видел. И приходите с Хаустоном Брасли. Только вы да он, больше никого не надо. У меня будет к вам разговор. Очень важный. Да смотрите не опаздывайте. — Джордж кивнул. — И никому об этом не заикайтесь, кроме Хаустона. У меня есть на это причины. Понятно?
Джордж выразительно кивнул.
Допив остальное виски, Дэйд взял шляпу и пальто и вышел из бара, не сказав больше ни слова. Торопливо шагая, он подошел к двухэтажному дому рядом с баром, а там, перепрыгивая через две ступеньки зараз, поднялся в свою контору на втором этаже.
Говард Ньюхаузер, младший компаньон Дэйда, стоял у окна и смотрел на площадь перед домом, но, услышав, что Дэйд вошел в контору, сразу же повернулся к нему. Говард был серьезный молодой человек лет двадцати семи, сдавший государственные адвокатские экзамены в прошлом году после окончания юридической школы. Он был темноволосый, представительный, с приветливой улыбкой и располагающими манерами и до сих пор еще оставался холостым.
— Есть что-нибудь новое? — спросил Дэйд, пересекая комнату.
— Ничего, Дэйд, — сразу же откликнулся Говард.
— Заходил кто-нибудь без меня?
— Никого не было, Дэйд.
— А эта мулатка?
Говард покачал головой.
— По телефону звонили?
— Нет.
— Вы хотите сказать, что и Майло Рэйни не звонил?
— Нет, Дэйд.
— Ну тогда вопрос решен! Решен, черт возьми! Что он вообразил о себе, кто он такой? Времени у него было вполне достаточно!
Дэйд отшвырнул ногой корзинку для бумаг.
— Ему меня не провести, черт возьми!
Он сел и мельком взглянул на бумаги и документы, в беспорядке раскиданные по столу. Потом собрал их в стопку и отодвинул в сторону.
— Говард, через несколько минут ко мне должны прийти, — проговорил он, не поднимая глаз. — Я велел Джорджу Саутхарду и Хаустону Брасли прийти сюда в четыре сорок пять. И еще я узнал, когда сегодня заходит солнце.
Говард сел по другую сторону стола и начал вертеть в пальцах скрепки для бумаг, сгибая и перегибая их на разные лады.
— Что с вами такое? — недовольно спросил Дэйд, глядя на него через стол. — Чего ради вы тут расселись?
Рывком придвинув стул ближе, Говард наклонился над столом.
— Дэйд, не думаю, чтобы это была удачная мысль, — заговорил он медленно и решительно. В эту минуту он смотрел серьезно и взволнованно как никогда. — Это опасно, Дэйд. Я не шучу. Это дурно и несправедливо. Лучше бы вам этого не делать.
Схватив пачку документов, Дэйд хлопнул ими по столу. Потом откинулся на спинку стула и уперся ногами в выдвинутый ящик стола. Закинув руки за голову и глубоко вздохнув, он уставился на Говарда пронзительным взглядом. Его серо-голубые глаза смотрели жестко, не мигая.
— Какого дьявола! — сказал он хрипло. — Что за чушь вы плетете?
— Я говорю серьезно, Дэйд. — Говард держался твердо и независимо. — Это опасная затея. Существуют другие более разумные способы добиваться своего. Вам это известно. Если вы считаете нужным это сделать, найдите другой путь. То, о чем вы говорите, равносильно самоубийству. Вас это может погубить.
— Что это вы слюни распустили? — крикнул Дэйд, пинком ноги задвигая ящик и выпрямляясь на стуле. — Разве так вас нынче учат разговаривать в юридических школах?
— Может быть, это и слюняво, Дэйд, но, мне кажется, гораздо вернее, чем тот риск, на какой вы собираетесь идти. Мне самому неприятно так говорить с вами, ведь я только младший компаньон, у вас гораздо больше опыта, чем у меня, и все же я не могу молчать. Я собираюсь жить в Сэллисоу, обзавестись здесь в будущем адвокатской практикой, и это одна из причин, почему я против. Люди будут считать, что и я в этом участвовал, ведь всем известно, что мы с вами компаньоны. Я не желаю иметь никакого отношения к этому, и если б я мог, то пресек бы это. Рано или поздно кто-нибудь проговорится, и тогда всем станет известно, что за кулисами стояли вы. Всегда кто-нибудь разболтает. Вам это известно. Ничего в этом нет хорошего. Бросьте это дело, Дэйд, не доводите до конца. Есть же другие методы.
— Черт возьми, Говард Ньюхаузер, если вам не нравится то, что я делаю, так подавайте заявление и убирайтесь ко всем чертям из этой конторы!
— Я уйду, Дэйд, если вы не бросите этой вашей затеи, — сказал ему Говард. — Придется уйти, Дэйд.
Дэйд Уомек долго молчал, не сводя глаз с Говарда. Закурив сигарету, он швырнул спичку мимо пепельницы.
— Послушайте, сынок, — заговорил Дэйд с широкой улыбкой на красном лице. — Слушайте меня. Мы с вами не станем из-за этого ссориться. Мне отлично известно, как разговаривает молодежь, и меня нисколько не волнует то, что вы сказали. Вашему возрасту полагается иметь, как говорится, высокие идеалы, и вы думаете, что их надо подкреплять смелыми выходками и мальчишескими речами об уходе. Все это в порядке вещей, я понимаю. Со временем вы станете более рассудительны и благоразумны и постепенно научитесь ценить практическую сторону жизни, так же, как и все мы.
Дэйд наклонился вперед над столом.
— Так вот, вы сказали ваше слово, теперь моя очередь, и я скажу кое-что для вашей же пользы. Я живу в этом городе куда дольше вашего и за это время научился управлять им. Каждым городом кому-то приходится управлять, а этот город — мой, и я управляю им так, как мне угодно. Вот почему меня никто не запугает. Вот это самое я и говорю! Никто!
Говард бросил исковерканные скрепки в корзину для бумаг.
— Слышал, что я сказал, сынок?
— Я вас слышал.
— Ну и что же?
Говард молчал.
— Отлично, отлично, сынок, — улыбаясь, заговорил Дэйд. — Бросьте и думать насчет ухода. Пока вы меня держитесь, вам предстоит прекрасное будущее. В несколько лет я могу вас сделать богатым человеком. Могу даже твердо обещать, вам это. Вот до чего я в этом уверен. И я говорю не о крохоборстве, не о возне с пятидолларовыми клиентами в какой-нибудь адвокатской конторе. Это годится для неудачников. Я говорю о больших деньгах, о толстых пачках банковых билетов. Я разработал план эксплуатации домовладений по ту сторону Пичтри-стрит, и он уже начинает давать большие дивиденды. Я уже давно задумал сосредоточить негров в том районе и обвести их границей так, чтобы они шагу не могли сделать за эту черту, не положив денег в мой карман. Я скупил все домовладения вокруг негритянского квартала, пущенные в продажу за неуплату налогов и просрочку закладных, а теперь скупаю дома внутри квартала. Держа их в такой тесноте и нажимая то здесь, то там, я могу постепенно повышать квартирную плату. Скоро настанет время, когда каждый негр в негритянском квартале города будет платить мне за квартиру столько, сколько я захочу. Теперь вы понимаете, почему мне в помощники нужен способный молодой человек, именно такой, как вы.
Дэйд замолчал, но Говард ему не ответил.
— Теперь, сынок, вернемся к тому, с чего начали. Я не позволю какой-то приезжей мулатке выдавать себя за белую и снимать комнату по сю сторону Пичтри-стрит. Если хоть одной из них это удастся, то она создаст прецедент, тогда и другим мулаткам взбредет в голову проделать то же самое. Это никуда не годится. Это погубит план, над которым я работаю. Вот почему я не раз предупреждал всех, кого следует, чтобы эту мулатку выгнали из дома Дженни Ройстер еще сегодня, до захода солнца. Майло Рэйни об этом знает, и Дженни Ройстер тоже знает. Все, кому следует, получили предупреждение.
— Я не уверен, что вы правы и она действительно негритянка, — сказал ему Говард. — Я думаю, что она отчасти индианка. Сегодня я видел ее на улице.
— Какого черта! — начал Дэйд, повышая голос. — С моей точки зрения, она все-таки мулатка, которая выдает себя… Ведь она не чисто-белая? Нет? Отчасти африканская негритянка или отчасти американская индианка — это все равно. Какой смысл в таких увертках? Она цветная, как бы вы это ни называли.
— Дэйд, законодательством установлено…
— К черту, что бы там ни было установлено этими идиотами! — Дэйд, вскочив на ноги, оперся о стол. — Я сам устанавливаю законы в Сэллисоу и в округе Индианола! — Выпрямившись и посмеиваясь про себя, он указал пальцем на Говарда. — Законом установлено, что бить свою жену — уголовное преступление в одних штатах, наказуемый проступок — в других, а то и просто оскорбление действием. Вы думаете, законы — это такая святость, что никто их не нарушает? Где там! Скажите мне правду, сынок. Могли бы вы показать под присягой, что знаете такого человека, который никогда не бил свою жену в прошлом, не бьет ее в настоящем и не станет бить в будущем. Нет! А если бы и показали, то это было бы лжесвидетельство, сами знаете!
— Дэйд, я не могу с вами спорить на таких основаниях.
— Хорошо. Мы выяснили этот вопрос. О том, что я собираюсь делать, спорить не приходится.
— Но я все же не думаю…
Дэйд прошелся вдоль стола и повернул обратно.
— Послушайте, сынок. Скажите мне вот что. И помните, отвечать мне нужно правду. Откуда вам столько известно про эту мулатку и с чего это вы взялись ее защищать?
— Я ее видел один раз, — ответил Говард. — Я видел ее сегодня в полдень на улице.
— Вот оно что! Вы для себя ее приглядели, так, что ли? Когда вы несколько минут назад подняли из-за нее такой шум, я так и подумал. Вы побоялись, что я вышлю ее из города, верно? Хотите, чтоб она тут осталась, чтобы вам можно было за ней бегать?
Говард слегка улыбнулся.
— Ну, Дэйд, это уж из другой оперы.
— Не огорчайтесь, сынок, — сказал ему Дэйд и, обойдя вокруг стола, похлопал его по плечу. — Я думал, что моя заявка первая, а теперь вижу, что вы меня опередили. Во всяком случае, она просто переберется на другой конец города, по ту сторону Пичтри-стрит. Там вам будет гораздо удобнее гоняться за ней, чем в нашем районе, во всяком случае.
Послышался стук в дверь, и Джордж Саутхард и Хаустон Брасли вошли в контору. Но прежде чем кто-нибудь успел заговорить, зазвонил телефон.
Дэйд указал на дверь соседнего кабинета.
— Говард, проводите их туда, и пусть подождут, пока я кончу говорить по телефону. И дверь закройте.
Телефон звонил не умолкая, но Дэйд подождал, пока все трое вышли в соседнюю комнату и закрыли за собой дверь. Только после этого он сел за стол и взял телефонную трубку.
— У телефона Дэйд Уомек, — сказал он громким голосом.
— Здравствуйте, Дэйд. Это говорит Майло Рэйни. Как поживаете?
— Отлично, отлично, Майло. Лучше некуда. А вы?
— Так же, как всегда, Дэйд. Я звоню вам…
— И давно пора, — сухо заметил Дэйд. — Я целый день ждал вашего звонка. Думал, что вы позвоните гораздо раньше. А кроме того, эта мулатка так и не явилась ко мне в контору. Я ее ждал.
— Дэйд, сколько я ни старался, но так и не мог убелить Дженни Ройстер содействовать нам хоть чем-нибудь. Она ничего и слушать не хочет. Вчера ночью я пригласил ее к себе и говорил с ней два часа, а сегодня звонил ей по телефону. Я передал ей то, что вы говорили, но она все стоит на своем. И точно так же вышло, когда я передал ей, что вы велели прислать эту девушку к вам в контору.
— Майло, разве вы не имеете влияния на ваших клиентов?
— Я уговаривал ее, как только мог, но тут она упрямится, как норовистый мул. Знаете, какие бывают женщины? Если им это надо, они глухи как пень.
— Все это никуда не годится, Майло, — сказал Дэйд. — Очень жаль слышать.
— Дэйд, дайте мне еще несколько дней, — упрашивал судья Рэйни. — Я уверен, что уговорю ее прислушаться к голосу разума, если у меня будет время. Всего несколько дней…
— А знаете ли вы, Майло, в котором часу сегодня заходит солнце?
— Нет… не совсем точно.
— А я знаю. В пять тридцать пять. Это точно.
14
С мертвенно-бледным, почти серым лицом, встревоженный и осунувшийся, проповедник Клу оставил свою пыльную машину на стоянке возле церкви и, устало шаркая подошвами, направился к дому Дженни Ройстер рядом с церковью. Его темно-синий костюм, смятый и обвисший, был весь в пуху, нечесаные черные волосы космами падали на лоб. Вид у него был совершенно обескураженный и унылый.
Проповедник Клу уложил свой скудный гардероб и прочие пожитки в чемодан и картонки, потом в сундук и поставил на заднее сиденье машины. Библия с указателем и двадцать томов готовых проповедей, требников, свадебных и надгробных речей стояли на переднем сиденье в отдельной большой картонке.
Шестой час был в самом начале, и воздух впервые за этот день стал прохладным и освежающим. Некоторые из обывателей Морнингсайд-стрит расположились отдыхать на верандах, другие прохаживались во дворе, пользуясь хорошей погодой. Небо все еще хмурилось, солнце садилось за серые тучи, и потому сумерки наступали гораздо быстрее, чем обычно.
Проповедник Клу, дойдя до дома Дженни Ройстер, прошел на цыпочках через веранду и робко постучался в парадную дверь. Никто ему не ответил. Он приложил ухо к дверной щели, но ничего не расслышал. Встревожившись и почти теряя рассудок, он постучал еще раз, сильнее. Приняв решение ждать у двери, пока кто-нибудь не подойдет, он напряженно прислушивался к звукам шагов в прихожей.
Он все еще упорно стучался, когда Дженни вдруг открыла дверь. Второпях сбежав с лестницы посмотреть, кто это стучится, она вся раскраснелась и запыхалась.
Последние полчаса Дженни провела наверху, в комнате Лоуэны. Увидев, как Лоуэна устала и расстроена после целого дня беготни по городу, а главное — после безуспешных поисков работы, она уговорила девушку лечь в постель. Дженни приготовила для нее большую чашку куриного бульона, потом подала ей толстый ломоть ветчины с горячей подливкой. Лоуэна все ждала удобной минуты рассказать Дженни о том, что случилось в кафе «Джонни Реб», но как только она пообедала, Дженни заставила ее принять снотворное, и после этого девушка почувствовала такую усталость и сонливость, что уже не пыталась разговаривать.
Сначала, открыв дверь, Дженни была так удивлена приходом проповедника Клу, что остановилась как вкопанная, уставясь на него.
— Здравствуйте, мисс Ройстер, — сказал он, беспокойно моргая глазами. — Я не хотел вас тревожить, но, если вы ничего не имеете против, я бы попросил уделить мне несколько минут для разговора наедине.
— Здравствуйте, проповедник Клу, — рассеянно ответила она.
— Так могу я поговорить с вами? — настаивал он.
— О чем это? — начала Дженни, хмурясь. Я не ожидала увидеть вас в моем доме после того, что произошло.
Шаркнув подошвами по полу, он переступил с ноги на ногу.
— Мисс Ройстер, если вы позволите мне войти в дом…
— Хорошо, пусть обо мне не говорят, что я захлопываю дверь перед проповедником и не пускаю его в дом. Но если это насчет уступки вам моего дома, для того чтобы срыть его и построить на моем участке воскресную школу, то разговор будет ни к чему, все равно что на ветер. Напрасно только потратите время, да и меня еще больше обозлите. Я не собираюсь ходить вокруг да около, а если я что решила, то это уж твердо. Передумывать — это слабость, а я горжусь тем, что у меня ее нет.
— Нет, нет, мисс Ройстер, — поспешил он уверить ее. — Дело совсем не в том, я даже и поминать про то не стану.
— А я тоже не собираюсь сидеть здесь и слушать, как придираются к моим жильцам. Довольно я наслушалась болтовни и больше ни одного слова слышать не хочу. Дом мой собственный, и никто мне не может указывать, кому можно жить в нем, а кому — нельзя.
— Мисс Ройстер, это совершенно не то, — сказал он торжественным тоном, мрачно глядя на нее. — Клянусь богом, это чистая правда.
— Тогда добро пожаловать в дом, проповедник Клу, — сказала она, дружелюбно улыбаясь, и отступила в сторону, давая ему пройти. — Если уж не верить священнику, когда он клянется богом, то не знаю, кому еще можно верить на этом свете.
Ступая легкими шагами, Дженни повела проповедника в гостиную и включила свет. На улице все еще медлил серый день, но в доме начинало уже темнеть.
Не в пример прежним своим визитам, когда он оставался все время на ногах и только для молитвы опускался на колени, проповедник Клу с готовностью опустился в предложенное ему кресло. Сама хозяйка села на красный плюшевый диван и устроилась поудобнее, сложив руки на животе, а потом передвинув их повыше, чтобы чувствовать себя свободнее.
— Я сижу и дожидаюсь, чтобы вы помолились для начала, как всегда делали прежде, — сказала она после нескольких минут молчания. — Если хотите молиться, так молитесь, я ничего против не имею. Сколько я знаю священников, они всегда читают молитвы перед даровым обедом и молитвой же платят за все, что надеются получить даром. Это единственные люди, которые зарабатывают хорошие деньги, молясь о том, чтобы получить что-нибудь совсем даром. Может, вам это не известно, но всем нам приходится работать как каторжным и урезывать себя во всем, чтобы только-только прокормиться и не остаться без крова над головой.
— Я вовсе не собирался читать молитву, — ответил он удивленно. — Сейчас в этом нет никакой надобности.
— Тогда начинайте сразу и говорите прямо, о чем вы собирались со мной толковать. О чем вы говорить не будете, вы уже сказали.
Он передвинулся на самый краешек стула, крепко стиснув руки.
— Мисс Ройстер, я пропал, — взволнованно начал он и вытер рот и подбородок обратной стороной руки. — Я окончательно погиб. Хуже этого ничего не могло случиться с таким человеком, как я.
— После того, что случилось вчера ночью в пансионате, меня это не очень удивляет, — сурово ответила она.
Проповедник Клу глубоко вздохнул, словно собираясь с духом.
— Мне только что пришлось отказаться от места проповедника в церкви Тяжкого Креста. — Он опять вытер рукой губы и подбородок. — Сегодня на тайном заседании церковного совета постановили, что мне запрещается здесь проповедовать. Сказали, что после такого скандала мне вряд ли удастся себя обелить. А кроме того, велели мне выехать из города и больше никогда не возвращаться.
— Ну и дела! — воскликнула Дженни, широко раскрывая глаза. — Вот это ловко! Никак не думала, что они так скоры на руку!
— Для такого человека, как я, это просто ужасно, мисс Ройстер. Это вредит моей репутации.
Она неторопливо кивнула.
— Я рада это слышать из первых рук, разнообразия ради. Обыкновенно мне приходится дожидаться, пока сплетня не дойдет с одного конца города до другого.
Проповедник Клу откинулся назад, втиснувшись глубже в кресло.
— Не знаю, что со мной станет, мисс Ройстер. Не знаю, что мне делать. Не знаю, куда и податься. Совсем зашел в тупик. Мне еще некогда было помолиться, но боюсь, что и это теперь не поможет. Одно только приходит в голову — уехать куда-нибудь, где еще не знают об этом скандале, и собирать деньги на новую церковь. Если бы я был помоложе, я бы мог уехать куда-нибудь и заняться пропитания ради сельским хозяйством, пока шум не уляжется, но, пожалуй, здоровья у меня на это не хватит. Для такой работы я всегда был слишком слаб.
Дженни, покачивая головой, глядела на него с состраданием.
— Во всяком случае, я больше гожусь на то, чтобы собирать деньги на церковь, — продолжал он. — Это, кажется, единственное, что мне дается без труда. Думаю, что у меня от рождения есть к этому способность. Вот почему я и хочу, чтобы это стало делом всей моей жизни. Единственное затруднение в том, что теперь мне придется начинать с самого начала, опять собирать деньги и опять строить новую церковь кирпичик за кирпичиком, а я не знаю такого места, где бы люди хотели строить новую церковь. Похоже на то, что церквей в наше время уже настроили достаточно. Может быть, мне придется уехать куда-нибудь, снять курятник и разводить кур, пока я не смогу вернуться к делу всей своей жизни. Разводить кур, должно быть, не так уж трудно.
Дженни впервые в жизни пожалела его и теперь соображала, что она может сделать, чтобы помочь ему. У нее была одна свободная комната, где он мог бы жить даром, а один лишний едок за столом не так уж обременил бы ее.
— Просто стыд и срам! — сказала она сочувственно. — Вот уж никогда не думала, что у проповедников бывают в жизни такие же беды и несчастья, как и у нас, обыкновенных людей. Положим, церковный совет имеет такое же право нанимать и увольнять, как любой лавочник или еще кто-нибудь в этом роде, а все как-то кажется, что это не очень-то благочестиво, после того как вы столько трудились, чтобы собрать деньги и отстроить такую красивую церковь.
Дженни крепче поджала руки на животе.
— Проповедник Клу, откровенно говоря, мне прямо-таки жалко вас. Я всегда была добрая, и у меня это просто слабость — жалеть людей. Когда мне некого жалеть, у меня все внутри словно сохнет. Вот почему мне сейчас так вас жалко. Если хотите знать по правде, что я сейчас чувствую, так я вам скажу откровенно. Если б вы перешли на диван, сели рядом со мной и шепнули, чего вам больше всего хочется, я по своей доброте постаралась бы для вас, ни в чем не отказала бы.
Она глядела на него в ожидании ответа, и в комнате надолго воцарилось молчание. Он взглянул было на нее, но тут же опустил глаза, потом, вместо того чтобы ответить что-нибудь, еще глубже забился в кресло. Проходила минута за минутой, и Дженни начала беспокойно перебирать пальцами по красному плюшевому дивану. Лицо у нее вспыхнуло.
— Если вы не понимаете намека, — сказала она сурово, — так я могу вам сказать, что у меня на душе есть и еще кое-что. Вам бы следовало быть поосторожнее и вести себя осмотрительнее в том пансионате. Это было просто ужасно для Бетти Вудраф, а ведь во всем только вы один виноваты. Бедная девочка совсем расстроилась. Она вернулась из пансионата чуть ли не в истерике, после того как вы ее опозорили перед Клинтом Хафменом и Стэнли Причардом. Чтобы ее успокоить, пришлось мне вчера ночью дать ей снотворное, а то она уж начала говорить о самоубийстве. А хуже всего то, что теперь она уехала, совсем уехала, и это ваша вина.
— Для того я сюда и пришел, — сказал проповедник Клу, ерзая в кресле.
— Повидаться с Бетти?
Он кивнул.
— Я хотел извиниться перед мисс Вудраф в том, что вышел такой скандал, и сказать, как я об этом сожалею. Я думал, может, после того как я извинюсь, она согласится со мной уехать, поскольку мы оба замешаны в этом скандале. Если она со мной поедет, то и мне будет легче выехать из города. Во-первых, у нее машина лучше моей, свою я продам, а в ее хорошей мы уедем. Шины на моем автомобиле совсем износились, а у нее почти новые. Если она согласится, мы уедем куда-нибудь вместе и…
Пока он говорил, Дженни все время покачивала головой.
— Она уехала. Уже уехала.
— Что вы говорите, мисс Ройстер? — Он выпрямился в кресле. — Куда уехала? Разве мисс Вудраф переехала на другую квартиру?
— Теперь Бетти, должно быть, милях в ста от Сэллисоу и едет все дальше и дальше. Я отговаривала ее как только могла, но она уложила все свои вещи и уехала на своей машине еще днем. Она сказала, что больше не вернется в Сэллисоу, пока жива. Вот оттого я такая печальная и убитая — как подумаю, что никогда больше не увижу Бетти Вудраф. Она мне была прямо как родная дочь! Никогда не утешусь! А все вы виноваты! — Дженни утерла слезы на глазах.
— Куда она уехала? — спросил проповедник Клу, в отчаянии ломая руки. — Скажите мне, куда она уехала, и я ее разыщу. Сяду в свою машину и поеду ее догонять.
Дженни вся сотрясалась от рыданий.
— Оставьте ее в покое, проповедник Клу! Не смейте больше приставать к Бетти Вудраф. Я бы вам не сказала, куда она уехала, даже если бы была при последнем издыхании. Бросьте это, не старайтесь ее разыскать!
Обозленный и взволнованный, проповедник Клу сердито глядел на Дженни, словно она была виновата во всем, что произошло, и кровь впервые за все время прилила к его бледному лицу.
— Это просто непорядочно так говорить, кто бы ни говорил, — сказал он и поджал губы. — Это просто не по-дружески с вашей стороны так поступать.
— А я и не желаю дружить с тем, из-за кого Бетти Вудраф пришлось уехать. И пускай будет непорядочно, мне на это наплевать.
— Послушайте, мисс Ройстер! Я не для того пришел к вам в дом, чтобы вы со мной так разговаривали.
— А я и не приглашала вас к себе в дом! — сердито крикнула Дженни. — Можете встать и отправиться, куда вам угодно! Я не намерена терпеть ваши разговоры! Только что я была настроена по-хорошему, предлагала вам познакомиться со мной поближе, но вы не пожелали понять намека, а ведь это ни одна женщина не стерпит. А если б вы пожелали, я уж подумывала, не пустить ли вас бесплатно в свободную комнату. А теперь я рада, что вы про это не заикнулись.
— Вы мерзкая старуха! Вот вы кто, мисс Ройстер! Никакой доброты в вас нет!
— Я могу быть доброй ко всем на свете, а через минуту перемениться и стать злой, как ведьма! Сейчас я как раз такая! Злая, как ведьма!
Проповедник Клу вскочил с места и глядел на Дженни, беспокойно моргая глазами.
— Вы и есть такая! — крикнул он. — Злая, как ведьма!
— И если хотите знать правду, с каждой минутой я злюсь все больше. И начинаю думать, что вы такой же проповедник, как я, по правде сказать. А еще, скажу вам по правде, я начинаю думать, что такого мошенника, как вы, в нашем городе до сих пор не бывало. Я все удивлялась, почему вы не называете себя преподобным Клу, как другие священники. А вы всё проповедник Клу да проповедник Клу. И это очень подозрительно. Вся ваша забота лишь бы взвинтить людей, довести до того, чтоб они сами раскрыли перед вами кошельки, а вы бы туда запустили лапу и взяли, сколько вам требуется. Вы точь-в-точь бродячий лоточник, который открывает флакон с хорошими духами и дает понюхать, а потом подсовывает гнилые чулки — только их наденешь, и петля спущена. Знаю я вас! И хватит с меня! Убирайтесь вон из моего дома!
В гостиной запахло дымом. Как только Дженни почуяла этот запах, первой ее мыслью было, что Шорти Гудвилли уронил горящую сигарету на обивку мягкого кресла. Она перевернула все подушки, старательно осмотрела красный плюшевый диван и все-таки не нашла ничего такого, что горело бы. Проповедник Клу тоже почуял этот запах и начал принюхиваться, обводя взглядом гостиную. Запах дыма напоминал сначала запах тлеющих листьев, но через некоторое время стал похож на запах сосновых поленьев, горящих в камине.
— Если бы вы не были женщиной, я бы вас выругал, — сказал проповедник Клу, расхаживая взад и вперед по гостиной.
— Валяйте, ругайтесь, сколько влезет. Мне даже хочется, чтоб вы начали поскорей, а я тогда вас отругаю вдвое крепче и втрое скорей вашего. Услышите такую брань, какой в жизни не слыхивали и до самой смерти не позабудете. И не думайте, будто я не умею ругаться. Теперь я почтенная женщина на покое, но могу и забыться, если подвернется хороший предлог.
— Я всегда думал, что вы нечестивая грешница.
— А мне только и не хватало случая, чтоб это доказать!
Проповедник Клу все еще стоял посредине гостиной, как вдруг перед домом послышались взволнованные голоса. Минутой позже на улице кто-то громко закричал.
Дженни встала и подошла к окну посмотреть, из-за чего поднялся такой переполох. Но не успела она выглянуть в окно, как кто-то распахнул переднюю дверь и вбежал в прихожую.
— Дженни, Дженни! Где ты, Дженни?
Она сразу узнала голос Клары Крокмор.
— Дженни! Дженни! — опять позвала ее Клара взволнованным голосом.
— Что такое случилось, Клара? — спросила Дженни, направляясь в прихожую. — Что ты так волнуешься?
Они столкнулись на пороге гостиной.
— Пожар, Дженни! Пожар! Твой дом горит! Вся задняя стена в огне! Выходи скорей, Дженни!
— Так вот чем это пахнет, — сказала Дженни с каким-то тупым равнодушием. — То-то мне и показалось, что запах какой-то странный.
— Ведь это твой дом, Дженни! Он горит! Весь в огне! Выбирайся скорее!
Теперь дым уже валом валил в прихожую, и сквозь тонкие стены слышно было потрескивание пламени. Крики на улице стали громче, и в отдалении, на вышке пожарного депо, зазвонил колокол.
— Надо же мне спасти хоть мои любимые вещи! — крикнула Дженни, бросаясь обратно в гостиную. — В этой комнате все мои статуэтки и диванные подушки!
Клара Крокмор побежала за Дженни и силой вытащила ее назад в прихожую. Как раз в эту минуту в дом вбежали несколько человек.
Проповедник Клу опрометью промчался через прихожую и вмиг очутился в безопасности на улице.
— Уведите ее отсюда! — крикнул кто-то. Двое мужчин схватили Дженни и поволокли ее через прихожую на веранду. — Уходите все из этого дома! Сейчас крыша провалится!
Издали послышался рев сирен — пожарные машины мчались по Морнингсайд-стрит. Большая толпа уже собралась перед домом, а соседи поливали из садовых шлангов свои крыши и веранды, чтобы их дома не загорелись от летящих искр.
— Надо же мне хоть что-нибудь спасти! — протестовала Дженни, силясь высвободить руки. — Как это можно, чтобы у меня все сгорело!
И не успели мужчины ее остановить, как Дженни нагнулась и подобрала с пола два горшка с цветами. Прижав оба горшка к груди, она уже не противилась больше, когда ее выводили из прихожей на веранду. Как раз в ту минуту, когда они сходили с крыльца во двор, пламя стеной ворвалось из кухни в прихожую.
— Не знаю, удалось ли мне спасти мой любимый цветок, — рассеянно говорила Дженни, в то время как ее волокли со двора на улицу, подталкивая в спину. — Все случилось так быстро, что мне некогда было разбирать, который цветок мой любимый.
Пожарные начали поливать из шлангов соседние строения, чтобы пожар ограничился домом Дженни Ройстер. Беспрерывно обдавая потоками воды стены и крышу соседней церкви, пожарным удалось отстоять ее от огня. Дом Клары Крокмор был довольно далеко и потому вне опасности, но несколько черных дубов перед ним загорелось, и пожарным пришлось направить на них струю воды, чтобы сбить огонь.
Дженни стояла посреди улицы, крепко прижимая к себе оба горшка с цветами, когда крыша с оглушительным треском рухнула и провалилась в верхний этаж дома. Огромный столб черного дыма и крутящихся искр взвился над костром из пылающих сосновых бревен и потрескивающих кровельных дранок.
Вдруг Дженни пронзительно вскрикнула.
— Боже мой! — вопила она, бросаясь к дому. — Боже! Боже! Она там! Спит наверху! Спасите ее кто-нибудь!
Мужчины, стоявшие на улице, схватили Дженни и оттащили ее подальше от горящего дома.
— Кто у вас там? — спросил ее один из них. — О ком вы говорите?
— Лоуэна… Лоуэна Нели! Я дала ей большую дозу снотворного! Сама она не проснется, не сможет спастись! Что я наделала! Спасите ее! Ради бога, спасите!
— Мисс Ройстер, в этот дом уже никто не может войти, — сказал ей кто-то из мужчин. — Слишком поздно. Счастье еще, что вам удалось выбраться, прежде чем провалилась крыша.
— Но как же Лоуэна… она там… ведь снотворное…
Женщины увели Дженни на другую сторону улицы и усадили ее на обочину тротуара. Дженни заплакала навзрыд, не в силах сдержаться. Клара Крокмор села рядом с ней, стараясь ее утешить.
— Покуда я жива, не прощу себе, что я забыла про Лоуэну, — рыдала Дженни. — Пускай мой дом сгорел бы десять раз подряд, только бы спасти ее, вернуть к жизни! Лоуэна! Лоуэна! Нет мне прощения! Это все из-за меня! Я виновата!
— Ну, Дженни, успокойся же, — уговаривала ее Клара, — перестань, не надо так говорить.
Дженни закрыла лицо руками и некоторое время плакала неслышно, без рыданий.
— Это такой ужас, не знаю теперь, что и думать о себе. Я только что отчаянно поругалась с проповедником Клу, и все случилось так быстро, что я не успела ничего сообразить. Еще мне хотелось спасти мои любимые статуэтки и диванные подушки, только мне не дали вернуться в дом и взять их. А в смерти Лоуэны все-таки я виновата. Я ее уложила в кровать, потому что она так устала, так была расстроена. Она весь день ходила по городу не евши, и я думала, что поступаю правильно. Я ее покормила… потом дала ей снотворное! Это все из-за меня! Я виновата!
— Перестань, Дженни, — сказала Клара, похлопывая ее по руке. — Вовсе не ты виновата. Тут уж ничем нельзя было помочь. И нечего себя винить.
Клара взглянула на одного из мужчин, стоявших рядом.
— А мне кажется, что есть виноватый, — сказала она ему. — Не думаю, чтобы это был несчастный случай. От обыкновенного пожара дом не сгорел бы так скоро.
— Почему вы так думаете, миссис. Крокмор? — спросил тот, подходя ближе. — Эти старые деревянные дома горят, как бумага, только спичку поднеси. Если уж в таком доме начался пожар, его не потушить.
— Я знаю, почему мне так подумалось, — сказала ему Клара. — Я так разволновалась, что только сейчас про это вспомнила. Я видела, как двое мужчин побежали за угол дома мисс Ройстер, а вскоре после этого заметила, что горит кухня и черное крыльцо. Я уверена, что видела двоих. Я этого никогда в жизни не забуду.
— А вы знаете, кто они такие, миссис Крокмор… эти двое мужчин, о которых вы говорите?
— Нет. Было уже слишком темно, чтобы узнать их в лицо. Но я видела их. Вот в этом я уверена.
— Что ж, могло быть и так, — сказал тот и, повернувшись, стал смотреть на горящий дом. — Всего-то и нужно галлон-другой керосина, чтобы такой пожар разгорелся.
Потом он обернулся и взглянул на Клару и Дженни.
— Но кому понадобилось поджигать дом мисс Ройстер? — сказал он. — Кому и зачем это могло понадобиться?
15
Далеко не все в городе сбежались смотреть, как горит дом Дженни Ройстер, но казалось, что не меньше половины населения, и белых и негров, столпилось в одном квартале Морнингсайд-стрит по обе стороны от дома.
Пламя отражалось от облачного неба, бросая яркий красный отсвет на весь город, и люди на машинах и пешком торопились взглянуть на бушующий пожар. Дым клубился над головой и плыл по улицам к окружающим город полям и пастбищам.
Мужчины, привлеченные пожаром, забрались на крыши ближних домов, чтобы не упустить ничего; много женщин с детьми толпились на верандах и крылечках, возбужденно разговаривая о пожаре; молодые люди и мальчишки залезли на заборы, деревья и телефонные столбы, чтобы лучше видеть.
Потревоженные непривычным шумом и суматохой, не меньше чем самим пожаром, окрестные собаки лаяли и выли без умолку. Кто-то В соседнем доме забыл выключить радио, и хриплая музыка джаза гремела все громче и громче. Время от времени среди всего этого шума вскрикивал от испуга ребенок.
Все городские пожарные машины прибыли в полном составе, и пожарные работали, направляя потоки воды из шлангов прямо на огонь. Под напором воды яркое красно-желтое пламя сухих сосновых балок понемногу уступало место густым облакам черного дыма, смешанного с белым паром. Через некоторое время от дома остались только груды тлеющих углей в перепутанном ворохе кроватных пружин, расплавленного стекла и чугунных труб вместе с покоробленным холодильником и кухонной плитой. Над всем этим торчала высокая печная труба, словно наспех воздвигнутый надгробный памятник.
Без ослепительной яркости огня улица сразу стала темной и мрачной. Голоса звучали приглушенно, и собаки впервые за вечер перестали лаять. Кто-то вдруг выключил ревущее радио, и сразу после этого люди стали расходиться, пропадая во мраке. Пожарные заливали водой пепелище, готовясь искать обгорелые останки Лоуэны Нели.
Закутавшись в розовое одеяло, принесенное кем-то из соседнего дома, Дженни Ройстер все еще сидела на обочине тротуара, горько плача, когда из города прибежал Шорти. Она все еще была слишком оглушена и ошеломлена, чтобы узнать его в этом тусклом свете, и сочла его просто за мальчишку, которому захотелось пролезть поближе к машинам и пожарным.
Шорти задыхался и был не в силах выговорить ни слова, пробежав бегом всю дорогу от бильярдной в центре города; сначала он только стоял, беспомощно глядя на дымящиеся развалины дома.
— Что я сделала! Никогда себе не прощу! — стонала Дженни, заливаясь слезами. — Лоуэна погибла, ее не вернуть, и это я виновата! Я так старалась ей помочь! Дала ей такую дозу снотворного, что она спала как убитая и ничего не слышала! И я совсем позабыла про нее, когда начался пожар, спасала только собственную шкуру! Ничего плохого я не хотела и не думала! А теперь посмотрите, что случилось! Лоуэна погибла — да, погибла! И это я во всем виновата!
Клара Крокмор пыталась успокоить Дженни, но та, оттолкнув ее локтем, закричала:
— Я сама чувствую, когда сделала что-нибудь дурное, и никто не запретит мне себя винить! Я имею на это право! Никогда себе не прощу, до самой смерти!
— Но ведь не ты подожгла дом, Дженни, — внушала ей Клара. — Поджег кто-то другой. Ты тут ни при чем. И не должна себя винить.
— Может быть, я и не поджигала, но я не спасла Лоуэну. Сама выскочила, а она нет. И проснуться она не могла из-за этого снотворного. Вот в чем я виновата.
Дженни вдруг повернула голову и, узнав стоящего рядом с ней Шорти, потянулась к нему. Она обвила руками его щуплое тело, прижала к своей груди и отчаянно целовала его.
— Визи! Визи! Ты здесь, живой и здоровый! Одному только мне осталось радоваться, что ты ушел играть на бильярде и не сгорел заживо, как Лоуэна. Я бы покончила с собой, если б и ты тоже сгорел. Я бы не могла жить и дышать, если бы осталась совсем одна на свете.
Отстранив Шорти, она взглянула на него сквозь слезы.
— Бедный Визи Гудвилли! Бедный Визи Гудвилли! Некуда тебе деваться — нет у тебя больше дома, некому теперь о тебе позаботиться. Что с тобой будет до тех пор, пока не придет время уезжать с бродячим цирком? Никто на свете не сумеет о тебе позаботиться и приласкать тебя так, как я, а мне теперь негде тебя приютить. Это просто стыд и срам, что мой дом сгорел и ты остался без приюта на весь зимний сезон. Что же теперь с тобой будет, Визи?
Шорти отвернулся и рассеянно уставился на дым, поднимавшийся над пожарищем.
— Все мое платье сгорело, — сказал он убитым голосом. Его маленькое личико смотрело растерянно и безнадежно, на глазах блестели слезы. — Только то и осталось, что на мне надето. Придется завтра пойти в город и купить какой-нибудь костюм из тех, что продаются для мальчиков. Они на мне всегда плохо сидели. Бог знает, на кого я стану похож, пока не накоплю денег, чтобы сшить себе платье на заказ, как полагается.
Клара Крокмор, сидевшая на обочине тротуара рядом с Дженни, встала и подошла к Шорти.
— У меня в доме есть свободная комната, Визи, — сказала Клара, нагнувшись к нему и из осторожности понизив голос. — Вы можете хоть сегодня перейти ко мне и живите сколько хотите, а на счет платы не беспокойтесь. У меня есть и швейная машинка, я вам переделаю костюм и не возьму с вас ни одного пенни. Шить и перешивать я умею, могу этим похвастаться, и переделаю для вас детский костюмчик, как вы захотите. — Она улыбнулась Шорти и потрепала его по плечу. — Ну, как вам это нравится, Визи?
Дженни потянулась, ухватила Шорти за руку и оттащила его от Клары.
— Я тебя слышала, Клара Крокмор! — сердито крикнула она. — Слышала каждое твое подлое слово! Слышала, что ты отдашь ему комнату даром, если он у тебя поселится, а меня ведь ты не пригласила. Так вот, ты брось переманивать Визи к себе в дом. Я знаю, что у тебя на уме. Вижу, что ты задумала, по разговору и по всей твоей повадке вижу. Вся эта брехня насчет переделки платья ни на минуту меня не проведет. Хочешь меня обставить, потому что мой дом сгорел. Но я тебе только одно скажу. Никто не сумеет позаботиться о Визи так, как я о нем забочусь, и ты ему не угодишь своим виляньем. Он привык не к такому обращению, на какое ты способна.
— Имею я право выказывать дружбу и расположение, кому захочу?
— Так найди кого-нибудь другого, с кем дружить и кому выказывать расположение, а Визи оставь в покое. Я умею распознать, когда женщине вздумается сманить чужого мужчину, а по всей твоей повадке это ясно как божий день. Я тебе уж говорила один раз, что задушу тебя, если ты не оставишь Визи в покое, и задушу!
— Этого я не потерплю, Дженни Ройстер! Я тебе покажу, что я порядочная женщина!
— Нет, ты непорядочная!
— Нет, я порядочная!
— Ничего подобного!
— Нет, я порядочная!
Быстро шагая, из темноты появился Майло Рэйни и направился прямо к Дженни. Подойдя к обочине тротуара, где она сидела, он нагнулся и положил руку ей на плечо.
— Дженни, я услышал об этом ужасном событии всего несколько минут назад и сейчас же пошел сюда, — сказал он, печально кивнув головой. — Если б я знал, что это горит ваш дом, я бы раньше прибежал сюда. Мне сказали, что пожар в другой части города, и я остался в конторе. Я ждал вашего телефонного звонка. А потом вдруг слышу, что горит ваш дом и что пожар кончился так быстро, что Лоуэну не успели спасти. Ужасно, что так случилось, Дженни. Просто ужасно. Таких вещей вообще не должно быть. Но я хочу вам сказать, что старался по мере сил…
Судья Рэйни остановился посередине фразы и выпрямился во весь рост.
— Что вы хотите сказать, Майло? — спросила Дженни. — Старались что сделать?
— Не будем говорить об этом сейчас, Дженни, — сказал он, быстро качнув головой. — Мы поговорим об этом позже. Пришло время мне о вас позаботиться, вот что важно теперь, когда вы погорели и остались без крова. Я хочу вас избавить от всяких забот.
Она подняла на него глаза, и по ее лицу заструились слезы.
— Это вы серьезно, Майло? Вы и вправду будете обо мне заботиться?
— Да, Дженни, — сказал судья, беря ее за руку. — Заботиться во всех смыслах. Я уже достаточно долго ждал… в сущности слишком долго. Если б я собрался действовать раньше, не случилось бы этой беды. Во всяком случае, мы поговорим об этом потом. А теперь вставайте и идем ко мне. Сегодня вы переночуете в моем доме.
Она утерла слезы и улыбнулась.
— Приятнее этого мне ничего не приходилось слышать, Майло. Все эти годы я ждала и надеялась, что именно вы захотите обо мне заботиться и скажете это, вот оно теперь и случилось. От ваших слов все мое горе как рукой сняло. Всем моим бедам и несчастьям приходит конец.
Он помог Дженни подняться на ноги и заботливо укутал ее плечи розовым одеялом. Они пошли вверх по Морнингсайд-стрит к дому судьи.
— Погодите минутку, — сказала Дженни, останавливаясь и оглядываясь назад. — А как же быть с Визи?
— То есть как с ним быть?
— Нельзя ему пойти с нами?
— Разумеется, нельзя!
— Почему же?
— Дженни, — терпеливо объяснил судья Рэйни, — не в моем характере быть таким добрым и щедрым, как вы, в личных отношениях с людьми. Когда я говорил, что буду о вас заботиться, то это было в обычном человеческом смысле, в смысле союза, брака, а при этом исключаются третьи лица — такие незваные гости, как Шорти Гудвилли. Много есть и других домов, где Шорти примут с радостью. Кто-нибудь из соседей о нем позаботится.
— Но Визи нуждается в особом внимании…
— И я тоже, Дженни. Я слишком долго этого ждал и не намерен делиться с Шорти. Я на этом настаиваю. Если вы не хотите идти ко мне домой на таких условиях…
Дженни схватила его за руку.
— Не говорите этого, Майло! Если разобраться, мужчины смотрят на такие вещи совсем по-другому, чем женщины. Ну, если не желаете пускать Визи к себе в дом, хоть звали бы его по имени. А то уж очень некрасиво звать его так, как зовете вы и все прочие.
— Буду звать и этим прозвищем и разных других ему надаю, но вы должны понять раз навсегда, Дженни, что ему нет больше места в вашей жизни. Долго я собирался сказать вам это и никак не мог, а вот теперь — могу. — Глядя в упор на Шорти, судья повысил голос: — А если он не понимает, то могу сказать еще яснее — nunc pro tunc[9].
Подбежав к судье Рэйни, Шорти попытался лягнуть его и наподдать ему головой в живот, но судья легко отстранил его одной рукой.
— Да я бы и не стал жить в доме у человека, который всегда ругает меня на непонятном языке, — сердито огрызнулся Шорти. — Проваливайте ко всем чертям, чтоб и духу вашего не было, адвокатишка паршивый, шулер!
— Майло, что вы сказали Визи, отчего он так разозлился? — спросила Дженни.
Судья Рэйни оттолкнул Шорти в сторону.
— Я только сказал, что теперь делаю то, что должен был сделать раньше. Не знаю, как можно было бы выразиться яснее.
Клара Крокмор подобралась поближе к Шорти.
— Сейчас я отведу вас домой и приготовлю вам хороший завтрак, Визи, — сказала Клара, наклоняясь к нему. — Я знаю, вы, должно быть, умираете с голода и совсем вымотались от всех этих волнений. Идемте ко мне в дом, там вы мне расскажете, какие вы любите блюда, чтобы я вам их готовила так, как вам нравится. И не стесняйтесь говорить, чего вам хочется. Я, может быть, не бог знает какая стряпуха, но мужчине угодить сумею.
Взволнованно перебирая руками, Дженни плотнее запахнула одеяло на плечах.
— Только посмотрите на нее! — сказала она. — Так я и знала! Так я и знала, что это случится, не успею я повернуться к ней спиной, мне даже и глаз на затылке не понадобилось, чтобы это увидеть. Нет такой женщины на свете, которая не добилась бы от мужчины того, что ей надо, угождая его брюху и следя за его одеждой, а бесстыжая вдова, вроде Клары Крокмор, уж не потеряет времени даром ни на людях, ни наедине. Я знала, что она только и ждет такого случая. Я видела, как она поглядывает на Визи в окно, когда он проходит мимо ее дома. То самое, что я и всегда говорила. Ни единой женщине нельзя верить, если ее потянуло на мужчину — она его у тебя мигом отобьет, не успеет собака миску вылизать.
— Идемте, Дженни, — настаивал судья Рэйни, взяв ее за руку и стараясь сдвинуть с места. — Вы слишком долго пробыли на ночном холоде.
Дженни упиралась, пока Шорти и Клара не скрылись из виду. После этого она сделала несколько шагов по улице и опять остановилась.
— Погодите, Майло! Я кое-что забыла. Мои горшки с цветами! Это все, что я спасла от пожара!
Нагнувшись к обочине тротуара, она захватила оба горшка и, прижав их к себе, повернулась туда, где ждал ее судья Рэйни. И они пошли дальше, к дому судьи.
— Вы захватили свой любимый горшок с цветами? — спросил он.
— Не знаю. Некогда было разбираться. Сейчас темно и ничего не разглядишь, но я рада, что хоть что-нибудь спасла на память о своем доме. Если б не то, что случилось с Лоуэной…
Следующие два квартала они прошли темной улицей, не разговаривая. Мимо них мчались автомобили один за другим — люди спешили домой с пожара. Большинство тех, кто жил на Морнингсайд-стрит, уже вернулись домой, и свет ярко горел в столовых и кухнях.
Было почти семь часов, когда они дошли до дома судьи Рэйни, и Сэм Моксли в ослепительно белой куртке включил свет на веранде и ждал их, стоя в дверях.
— Очень жалко было слышать, мисс Дженни, что ваш дом занялся и сгорел дотла, — сказал Сэм, когда она поднялась по ступенькам на веранду. — Я знаю, как это тяжело — испытать такое несчастье. Теперь входите в дом и позвольте нам с мистером Майло о вас позаботиться. Я слыхал, что раз в жизни у каждого человека в доме бывает пожар, и я думаю, что это так же верно, как и все другое, что люди говорят. Но теперь с этим покончено раз навсегда, все уже позади, и в будущем с вами ничего такого уже не случится.
Они вошли в библиотеку. Сэм подложил угля в камин и выгреб золу.
Пока Дженни грелась перед камином, судья Рэйни налил виски ей и себе.
— Не думаю, чтобы вы стали строить новый дом вместо того старого, который сгорел, мисс Дженни, — сказал Сэм, медлительно развертывая и вновь складывая ее одеяло. — Какой смысл затевать все эти хлопоты и тратить деньги, если дом вам не понадобится на будущее? Раз дело обстоит так, мисс Дженни, то я нисколько не против, но только хочу предупредить вас об одном. За все эти годы, что я работал в доме у мистера Майло, мне никогда не приходилось выслушивать приказаний от женщины, а в моем возрасте переучиваться слишком поздно. Вот это и есть то самое, что я хотел вам сказать. Когда вам что-нибудь потребуется сделать, самое лучшее будет, если вы сначала скажете мистеру Майло, а там уж он передаст мне, чего вы хотите. В мои годы я не мог бы привыкнуть ни к каким новшествам, мисс Дженни.
— О чем это он, Майло? — спросила Дженни. — Почему он это говорит?
Судья Рэйни подождал, пока Сэм Моксли вышел из библиотеки, потом подал ей один из стаканов.
— Сначала выпейте добрый глоток вот этого виски, Дженни, — сказал он. — Оно будет вам полезно после всех волнений этой ночи.
Осушив свои стаканы, они уселись перед камином.
— Дженни, мне тоже нужно сказать вам кое-что важное, — начал он неторопливо и спокойно. — В сущности у меня два важных дела, но сначала я хочу поговорить о приятном. Я с давних пор собирался сказать о приятном деле, но прежде всегда находилась причина откладывать и оттягивать разговор. Как только я услышал, что ваш дом горит, то решил, что сейчас самое подходящее время сказать это вам.
— Что именно, Майло? — спросила она.
Судья Рэйни наклонился и, достав с очага кочергу, поворошил куски угля, горевшие на решетке.
— Только что я говорил вам — так сказать, предварительно — о том, что прошу вас перебраться ко мне в дом… и остаться у меня. Я уже сказал Сэму Моксли по телефону, что именно я имею в виду, вот почему он так и говорил. Но пусть вас не тревожат его слова. Быть может, не сразу, но Сэм привыкнет к женщине в доме.
Положив кочергу на место, судья Рэйни искоса взглянул на Дженни. Она сидела в кресле, мигая затуманившимися от слез глазами.
— Мне наскучило одиночество, Дженни, — продолжал он, отводя глаза. — Очень возможно, что и вам оно наскучило. Совершенно очевидно, что нам с вами надо искать какой-то выход. Я бы и раньше объяснился с вами, но не был уверен, что вы захотите расстаться со своими жильцами и нахлебниками. Теперь, когда у вас нет больше вашего дома, нет причин, почему бы вам не поселиться у меня.
— Не знаю, Майло, соглашаться ли мне, — ответила она после минутного раздумья. — Я горжусь тем, что я почтенная женщина на покое, но ведь я незамужняя, а вы знаете, как люди нынче сплетничают…
— Завтра утром мы первым долгом пресечем грозящие нам сплетни. Отправимся в здание суда и выполним формальности, которых требуют от нас закон и общество.
— Майло… вы хотите сказать… что мы в самом деле поженимся?
— Такова обычная процедура, Дженни.
Губы у нее задрожали. Казалось, она и сама не знает, плакать ей или смеяться от радости.
— Майло, за всю мою жизнь вы единственный мужчина, который серьезно сделал мне предложение, и теперь я так растерялась… не знаю даже, что и сказать. — На глазах у нее заблестели слезы, и в то же время лицо просияло улыбкой. — Майло, я так рада, что вы сделали мне предложение не на том иностранном языке, на котором иногда говорите. Кое-чему я за свою жизнь научилась, но только не этому языку.
Откинув голову на спинку кресла, словно ей сделалось дурно, Дженни закрыла глаза и глубоко вздохнула. Сложив руки на животе, она передвинула их повыше, чтобы чувствовать себя свободнее.
— Сколько раз я слышала, — заговорила она, не открывая глаз, — что в наше время пожилой женщине, вроде меня, так же невозможно выйти за стоящего человека, как мыши напиться молока из одного блюдечка с кошкой. А теперь я так разволновалась, что не знаю, с кем себя сравнить — с кошкой или с мышью.
Когда Дженни открыла глаза, рядом с креслом судьи стоял Сэм Моксли.
— Мистер Майло, там у парадной двери кто-то спрашивает мисс Дженни.
— Кто это?
— Сдается мне, что это проповедник Клу.
— Что ему нужно?
— Он мне не говорил, сказал только, что хочет видеть мисс Дженни.
— Скажите, что ему придется говорить со мной, — ответил судья. — С этих пор я занимаюсь ее делами.
Сэм вышел в прихожую и проводил в библиотеку проповедника Клу. Радостно улыбаясь и словно разом избавившись от всех своих забот и огорчений, проповедник Клу пожал руку сначала судье Рэйни, а потом Дженни.
— Вы мне говорили, что вам придется выехать из города, — заметила Дженни.
— С тех пор как я это сказал, многое изменилось, мисс Ройстер, — сказал он, широко улыбаясь.
— Что вам угодно? — сухо спросил судья Рэйни.
Проповедник Клу стоял между ними, в разговоре поворачивая голову то к одному, то к другому.
— Всего несколько минут назад я разговаривал кое с кем из влиятельных прихожан нашей церкви, и они сказали, что мне не придется слагать с себя обязанности проповедника и уезжать из города, если я уговорю мисс Ройстер дешево продать ее участок, где только что сгорел ее дом, а потом молниеносно проведу кампанию по сбору денег на оплату участка и на постройку воскресной школы. — Он говорил так возбужденно, что ему пришлось остановиться и перевести дыхание, и, прежде чем продолжать свою речь, он утер губы и подбородок тыльной стороной руки. — После того что произошло, я чувствую себя куда легче: теперь мне не придется бросать место проповедника и уезжать из города в конце концов. Похоже, что дом мисс Ройстер сгорел как будто по воле божьей именно в это время. Сколько же она собирается просить за участок? Надо бы подешевле, ведь участок сейчас в таком виде — весь засыпан золой, кирпичами и обломками труб.
— Если вы хотите говорить о деле, то зайдите ко мне в контору завтра или послезавтра, — сказал ему судья Рэйни. — Сейчас не время и не место об этом говорить.
Судья Рэйни взял проповедника за плечо и повел к дверям. Но еще не доходя до прихожей, проповедник Клу протянул ему свою шляпу.
— Это еще для чего? — спросил судья.
— Я уже начал собирать деньги в фонд постройки и подумал, что вы захотите что-нибудь пожертвовать. Любая сумма поможет — пятьдесят долларов, сто и выше.
— Сэм! — позвал судья Рэйни. — Покажите проповеднику дорогу к парадной двери! Он торопится!
Вернувшись в библиотеку, судья Рэйни уселся перед камином и начал мешать кочергой уголья на решетке.
— Майло, вы говорили, что хотите сказать мне две важные вещи. И сказали приятное. А теперь я хочу, чтобы вы сказали мне и другое.
— Об этом слишком неприятно говорить сейчас, Дженни. Я бы лучше подождал другого времени.
Не глядя на нее, судья продолжал мешать в камине.
— Если мы собираемся завтра пожениться, Майло, то я хочу знать все — и приятное, и неприятное. Сейчас как раз пора сказать это мне.
Он кивнул, но все еще не смотрел на нее.
— Я трус, Дженни. Я боялся выступить против Дэйда Уомека. Боялся, что он нанесет ущерб моей юридической практике, моему бумажнику, боялся даже за собственную жизнь. Я знал — что-то должно случиться сегодня после захода солнца. Я был настолько уверен в этом, что боялся строить догадки, что именно произойдет, — я знал, что слишком труслив, чтобы предупредить события.
— Напрасно вы вините во всем себя, Майло.
— Я не могу иначе, Дженни. Это единственная возможность сохранить хоть ту каплю уважения к себе, которая у меня осталась. И вот почему мне нужны вы, Дженни. Чтобы помочь мне в такое время. Вы сильны, а я слаб. Я понял это сегодня, когда вы не побоялись угроз Дэйда Уомека. Хоть это и стоило жизни бедной девушке, люди будут восхищаться вами всю вашу жизнь за то, что вы бросили вызов Дэйду и его расовым предрассудкам. Вы сделали то, чего не осмелился сделать никто другой в городе. Мне стыдно, что у меня нет вашей смелости.
Он долго молчал, прежде чем заговорить снова.
— В начале жизни, маленькими детьми, все мы боимся темноты и прячемся от страха под одеялом или за спиной наших родителей. Когда мы становимся старше, некоторые из нас начинают бояться самой жизни, и мы ищем других мест, чтобы спрятаться от нее. И, наконец, есть такие люди, как я. Когда больше уже негде спрятаться, мы ищем оправданий своему поведению, как это делал и я до сих пор. Из всех людей мы самые трусливые.
Он подошел ближе к Дженни и погладил ее по щеке.
— Дженни, — сказал он медленно и решительно, — если вы это можете, то могу и я. В жизни есть много вещей, которые гораздо хуже пожара в доме, и одна из них — это быть трусом. Вот что я узнал сегодня ночью. Мы с вами теперь соединимся, и мне нужна такая же смелость, какая есть у вас. И она у меня будет, попомните это. Первым долгом я обыщу весь город, я буду искать, пока не найду достаточно свидетелей, а потом докажу на суде, что тут есть виновные в убийстве.
Ближе к дому
1
Как очень часто говорили жители Пальмиры, одни — озабоченно и с недоумением, а другие — причем весьма многие — с завистью, Туземец Ханникат был, несомненно, самый счастливый человек во всем городе.
Сам же Туземец говорил, что этим счастьем природа вознаграждает его от щедрот земных за то, что он человек простой. Он говорил, что именно по этой причине намерен всегда оставаться таким, каков есть, и, кто бы его ни уговаривал переменить образ жизни, он никого слушать не станет. («И без того слишком много народу старается что-нибудь или кого-нибудь переделать. Хорошо еще, что есть такие люди, вроде меня, которые всем довольны, как оно есть, и хотят, чтобы солнце всходило и заходило, как ему полагается от природы, а не висело все время в небе на манер электрической лампочки, которую не выключишь. Вот почему и нет смысла отдавать весь мир в руки агитаторов и политиков. Если им позволить, они затеют склоку, начнут войну и не дадут покоя простым людям, вроде нас с вами, которые сами живут и другим жить не мешают».)
Счастье Ханниката, по-видимому, не избирало какого-нибудь определенного направления или курса, не блистало также в какой-либо излюбленной области: удача, казалось, искала его и следовала за ним по пятам, где бы он ни был и чем бы ни занимался. Необычно в его везении было одно: в то время как многие люди стремятся к счастью, вымаливают его, даже прибегают к колдовским амулетам и всяким тайным средствам, лишь бы его добиться, ему надо было только подождать, чтобы оно само к нему пришло.
Например, ничего необычного не было в том, что Ханникат останавливался на углу улицы поиграть с кем-нибудь в орлянку и, выиграв два или три раза, уходил с прибылью в кармане. Больше того, известно было много случаев, когда он выигрывал три раза подряд, не проиграв ни разу. Некоторые из проигравших всегда при этом говорили, что он мошенничает и крутит хвостом, и все-таки никто в Пальмире ни разу не поймал его с монетой о двух орлах или двух решках. Только для того, чтобы показать, что он играет честно, он перед началом игры всегда предлагал кому-нибудь поменяться монетами.
— Знаешь что? — говаривал Туземец, широко ухмыляясь после какого-нибудь особенно удачного поворота событий. — Если мое старое счастье будет все так же ходить за мной по пятам, как сейчас ходит, я еще, может, стану первым счастливчиком во всем округе. А знаешь еще что? Если мне все время будет везти, да так и дальше пойдет, я, пожалуй, буду самый везучий чертов сын во всем нашем штате, да еще и портрет мой во всех газетах напечатают. А ведь верно здорово получится, вот уж будет чем похвастаться.
Туземец гордился даже самой маленькой удачей и, бывало, подолгу рассказывал о ней всякому, у кого только была охота стоять и слушать.
Он любил хвастаться тем, как выиграл в лотерею двойной кладбищенский участок при церкви его преподобия Уокера («Я всегда был охотник поспать на широкой двуспальной кровати, чтобы можно было развалиться повольготнее, так плохо ли, что на кладбище меня дожидается двойной участок»); любил он и рассказывать, какую невиданную пропасть окуней наловил на Риди-Крик («Сказать вам по правде, так пришлось дать негритенку четверть доллара за то, что он помог мне протащить большую десятифутовую сеть выше по ручью — столько было в ней рыбы, что одному человеку не управиться»); и постоянно вспоминал, как ему однажды удалось получить пятьдесят долларов наличными за пятидолларовую ослицу с балаганщика, которому до зарезу требовался смирный осел — катать ребятишек по десять центов с носа («Что у балаганщика молнией убило осла, я тут, можно сказать, ни при чем, только я как раз попался навстречу, когда ему экстренно понадобилось как можно скорей купить другого осла, чтобы дело не остановилось на ходу»).
Кроме всего этого, каждый раз как Ханникат бывал в центре города, он обыкновенно выигрывал раз десять подряд на каком-нибудь из автоматов в пивной и увеселительном заведении Эда Говарда. Иногда он только и делал, что стоял и нажимал кнопку, и все выигрывал да выигрывал без единого промаха.
Больше всего он любил механическую игру, которая называлась «Девушки на пляже». Когда Туземец Ханникат набирал больше пятисот очков, по всему кругу загорались фигурки девушек в узеньких синих с красным купальниках, — и это давало ему право продолжать игру бесплатно. А когда очков набиралось еще больше, девушки начинали скакать, играя в чехарду. К этому времени вокруг автомата всегда собиралась куча народу, все смотрели, как Туземец работает ногами и всем телом, и старались понять, каким образом можно набрать столько очков. Однако никто не мог объяснить, как это у него получается, разве только тем, что ему просто везет.
Рано или поздно Туземец всегда доходил до миллиона очков. Тут ему выдавалась бесплатно бутылка пива, а девушки на пляже переставали играть в чехарду. А потом они вмиг сбрасывали костюмчики и застывали на месте, улыбаясь всем и каждому, а Туземец все нагонял очко за очком.
Эд Говард обычно говорил, что он терпит убытки всякий раз, как Туземец заходит к нему в пивную, но это говорилось просто в шутку. («Ему так везет, что когда-нибудь он меня окончательно разорит, прямо-таки доведет до ручки».) А говоря серьезно, Эд должен был сознаться, что про убытки нечего и толковать, когда народ, собравшись поглядеть, как Туземец будет играть в «Девушек на пляже» и наберет миллион очков, выпивает столько пива. Да еще, как всем было известно, Эд продавал десятки бутылок кока-кола школьникам, которым не разрешалось заходить в пивную, и они обыкновенно стояли на улице и заглядывали в окна, стараясь разглядеть сквозь стекло хоть что-нибудь.
— Как это так получается, Туземец, что тебе всегда везет? — спросил его кто-то однажды утром, после того как он выиграл почти целых два доллара, метко бросая пенни в щель на полу почтовой конторы. У него вошло в привычку заходить на почту несколько раз в неделю, хотя получать ему было нечего, кроме реклам нового средства от колик и лишаев, да и то изредка.
— Просто не могу себе представить. Только тебе и дела, что придешь сюда с горсточкой медяков, а уходишь всякий раз с одним или двумя долларами. Твое счастье бегает за тобой, как голодная собака за человеком, у которого из заднего кармана торчит свеженькая говяжья косточка. Как бы то ни было, оно должно бы называться «Счастье Ханниката», потому что ни у кого другого ничего похожего нет.
Туземец вынул из кармана каштан и большим и указательным пальцами потер его пятнистую коричневую скорлупу так, что она заблестела, словно чешуйка слюды на солнце. Его любимый конский каштан рос как раз за чертой города, и он ходил туда каждый год в октябре и выбирал самый лучший орех, какой только был на дереве. А старый каштан он всегда выбрасывал, из боязни как бы его счастье не изменило ему, если он станет носить два ореха в кармане.
— Что ж, я тебе скажу, в чем дело, — ответил он, перебрасывая каштан из одной руки в другую и снова полируя его. — Когда я был еще вот этаким пузырем, мой папа говаривал мне, что самое верное средство пробиться в жизни и найти для себя самый лучший заработок — это держаться хоть на шаг впереди всех прочих, не боясь того, что иной раз вляпаешься ногой в коровью лепешку. Мой папа говорил, что разве только самые последние люди лезут прятаться под навес от первой дождевой капли, да мечутся из стороны в сторону, лишь бы не попасть ногой в коровью лепешку и не запачкать башмаки.
Он спрятал орех в карман и запустил пальцы в жидкие песочного цвета волосы. Широкая ухмылка расплылась у него по всему лицу, как и всегда, когда ему доводилось рассказывать про своего папу.
— Я всегда помню, что говорил мой папа, и вот уж сорок с лишним лет поступаю так, как он меня учил. Иной раз и вляпаешься в коровью лепешку, поскольку их много на свете, но я на это не обращаю внимания. Я больше интересуюсь, как бы забежать вперед других, чтобы все счастье, какое попадается навстречу, досталось на мою долю. Вот почему я и держусь всегда на шаг впереди, смотрю, где урвать хоть крупицу счастья. Я всегда рассчитываю, что на мою долю сколько-нибудь достанется, если только бежать на шаг впереди всех прочих да глядеть в оба, где оно прячется от тех, которые топчутся позади, не соображая, куда им поставить ногу. Вот почему я всегда смело шагаю впереди других, смотрю в оба и не обращаю внимания на коровьи лепешки.
— А как же тот каштан, что ты всегда вытаскиваешь из кармана и трешь, словно это колдовской талисман? Надо думать, от него есть польза, а то не стал бы ты таскать его с собой да тереть все время. Он разве приносит счастье?
Туземец помотал головой, но широкая ухмылка все не сходила с его лица.
— Сказать по правде, так он ровно ничего не значит, — ответил он. — Ни черта не значит, если хотите знать мое мнение. Я просто ношу его с собой, потому что много нынче развелось таких людей, которые думают, будто обязательно нужно иметь какой-нибудь талисман, чтобы он приносил тебе счастье. Одни говорят, будто задняя лапка серого кролика приносит счастье и будто бы левая лапка лучше правой. А другие — будто лапка кролика-самца лучше действует, чем лапка крольчихи. Только все это чепуха. Пожалуй, носи в кармане хоть петушиный гребень или свиной пятачок. Ровно ничего не поможет, если тебе отроду не везет. Вот почему я и полагаюсь только на свое природное везение.
— Ну, если ты уж такой везучий, так чего же ты не сыграешь в покер или в кости да не выиграешь себе побольше крупных бумажек?
— Нет, сэр! Только не я! — торжественно произнес Туземец. Ухмылка исчезла с его лица, и он сурово нахмурился. — Мой папа рассказывал мне, сколько на свете жуликов и мошенников, которые играют в покер и в кости, обирая честных людей. И он был, конечно, прав, черт возьми. Видал я своими глазами и крапленые карты и налитые свинцом кости и знаю, что надо держаться от них подальше. Я всегда полагаюсь на свое везение, с меня этого за глаза довольно. Когда у тебя есть везение, то игра идет честно и ладно, без мошенничества, и нет никакого риска, что тебя надуют. Как мой папа мне наказывал, я довольствуюсь тем, что у меня есть, и той долей счастья, какая мне досталась.
— А все-таки будь у меня счастье Ханниката, я бы рискнул двумя-тремя долларами и сыграл бы в кости.
— Нет, сэр! Только не я! — повторил Туземец, мотая головой. — Я понимаю свою пользу и потому буду держаться так, как мне папа наказывал. Я не похож на тех, которые думают, что самое важное в жизни — это быть богатым и знатным. Такие люди все время убиваются о том, что они бедные и ничтожные, и упускают самое лучшее в жизни. Моя цель в жизни — оставаться таким, как я есть. До сих пор мне в этом везло, надеюсь, что и дальше будет везти.
После этого почти все жители Пальмиры стали считать, что все удачи и счастливые случаи в жизни Ханниката на роду ему написаны, неизбежны, привычны и вообще навсегда закреплены за ним. По этой причине очень немногие в городе удивились, когда он женился на Мэйбл Бауэрс спустя самое короткое время после того, как она овдовела, и получил за ней хороший кирпичный дом в два этажа на Черри-стрит и чуть ли не целую тысячу акров земли под пашней и лесом. Все знали, что Фрэнк Бауэрс, проживший в браке с Мэйбл лет тридцать, к концу жизни сделался одним из самых богатых людей в городе.
Когда всюду распространился слух о женитьбе Туземца, все сказали в один голос, что счастье Ханниката не только не изменило ему, но даже превзошло все ожидания. У Мэйбл не было ни детей, ни родных, кроме каких-то дальних родственников. А следовательно, можно было с уверенностью сказать, что Туземец, будучи лет на пятнадцать моложе Мэйбл, должен ее пережить и унаследовать все имущество после ее смерти. Слухи про «Счастье Ханниката» начали распространяться за пределами города и дошли до горных склонов в верхней части округа Сикамор.
2
Как только солнце село, Туземец забрал свой дробовик, удочки да узелок с бельем и направился к большому кирпичному дому Мэйбл на Черри-стрит.
Они поженились раньше, еще днем, и Туземец рассчитывал, что пойдет к ней домой, как только его преподобие Уокер завершит брачную церемонию в молитвенном зале при церкви. Однако Мэйбл велела ему идти к себе и ждать там до захода солнца, пока она не приготовит все как следует для свадебного ужина. Туземец еще утром проснулся голодный и потому спросил, нельзя ли ему сейчас хоть чего-нибудь перекусить, но она была очень взволнована и не слушала его. Он шел за ней по улице почти два квартала, втолковывая ей, какой он голодный, и прося ее смилостивиться, но она даже ни разу не оглянулась.
Как Мэйбл и обещала, ужин был уже готов, когда Туземец пришел. Она велела своей горничной и кухарке Джозине сварить целый окорок, большую кастрюлю горошка и испечь три-четыре сладких пирога с бататами специально для него. В этот вечер он сидел, навалившись на стол, и ел ветчину с горошком и пироги с бататами до тех пор, пока не мог проглотить больше ни куска.
После этого Туземец отодвинулся от стола, отпустил ремень на одну дырочку и сказал Мэйбл, что такого ужина он никогда в жизни не едал и что женитьба на ней была самая ловкая штука, какую ему только удалось проделать. Она вся сияла улыбками, слушая такие слова, и тут он сказал ей, что, пожалуй, самое разумное для него будет сейчас пройтись хорошенько куда-нибудь подальше, чтобы желудок как следует переварил всю эту вкусную еду. Мэйбл была так довольна, что он похвалил ужин, который она велела Джозине приготовить, и так волновалась, до сих пор не успокоившись после свадебной церемонии, что впоследствии только смутно могла припомнить, будто и в самом деле слышала что-то такое насчет охоты на опоссума, на которую он собирается в эту ночь.
Действительно, еще неделю назад Туземец обещал Элу Дидду и Джорджу Дауни, что в эту самую ночь пойдет с ними охотиться на опоссума. Он ушел часов в девять вечера и вернулся домой к Мэйбл только к завтраку на следующее утро.
Туземец устал, и глаза у него были сонные после целой ночи ходьбы по болотам и чащам на берегах Риди-Крик, зато перед самым рассветом собаки Джорджа Дауни загнали на деревья четырех опоссумов, и чувствовал он себя отлично, думая, какая это удача поймать за одну ночь столько опоссумов. Многие охотники в округе Сикамор были бы довольны и одним опоссумом, — пускай хоть один; ведь охотничий сезон только что начался.
Мэйбл, с розовой ленточкой вокруг головы и в новом халате, сидела за завтраком, когда Туземец вошел в комнату и плюхнулся на стул. Башмаки у него были все в грязи, репьи вцепились в его выгоревшие на солнце штаны и в синюю изодранную о шиповник куртку. Он обобрал репьи со своей серой кепки и повесил ее на спинку стула. Ни разу не взглянув на Мэйбл, он придвинул свой стул поближе к столу.
Мэйбл втянула в себя воздух и затаила дыхание с таким видом, словно собиралась не дышать как можно дольше. Лицо у нее покраснело, и губы были крепко сжаты.
— Мое почтение, — сказал он, улыбаясь во весь рот, так что стали видны золотые зубы в самой глубине рта, и только тут впервые посмотрел на нее прямо. — Здравствуйте, Мэйбл.
Открыв рот и вздохнув так глубоко, что задрожали плечи, Мэйбл крепко стиснула руки на коленях. Несколько минут она сидела молча, глядя, как он накладывает себе горячую кукурузную кашу и запеченные в тесте сосиски. Розовая ленточка на голове Мэйбл съехала в сторону, и прядь волос упала на лоб. Нервным движением руки она отбросила ее назад.
— Где же это ты пропадал всю ночь напролет? — спросила Мэйбл.
Ее круглое лицо было все еще красно от гнева, и дышала она учащенно, так что вздымалась грудь.
— Ну, ведь я же вам говорил вчера вечером, после того как съел самый лучший ужин в моей жизни, я пошел немножко пройтись, чтобы желудок все это лучше переварил…
— Почему же ты пропадал всю ночь? Отвечай мне! Что ты делал все это время? Куда ты ходил? С кем ты был?
Неловко ерзая на жестком сиденье стула, он, прежде чем ответить, обвел критическим взглядом всю комнату и красные розы на обоях. Наконец он остановился на одном букетике роз, неторопливо пересчитал их и только потом ответил.
— Ну, если сказать вам всю правду, — начал он, старательно избегая разъяренного взгляда Мэйбл, — так с неделю тому назад ко мне на улице подошли Эл Дидд и Джордж Дауни и пригласили меня поохотиться вместе с ними на опоссума. Я спросил, на какую ночь это придется, и оказалось, что оно как раз пришлось на вчерашнюю ночь. Даже чудно, как это иной раз получается. Во всяком случае, я им обещал, а никто не может сказать, что я не держу своего слова. Мое слово твердо, это все равно что золото. Разумеется, когда я им обещал, что пойду охотиться на опоссума, почем же я мог знать, что женюсь на вас, тогда мне это и в голову не приходило. Ну, а вообще вы и сами знаете, какую уйму времени отнимает охота на опоссума. Вечно на это уходит вся ночь целиком. Всякий порядочный охотник на опоссума вам это скажет. Они хитрые, опоссумы, и рано вечером никуда из норы не выходят. Дождутся полуночи, а от полуночи до рассвета по свежим следам собаки их причуивают и гонят. Мой папа рассказывал мне про опоссумов, когда я был еще вот этаким пузырем. Я всю жизнь понемножку охотился на опоссума и могу сказать, что все это чистая правда.
Мэйбл посмотрела на него, прищурясь.
— Это и все, что ты можешь мне сказать?
Туземец ухмыльнулся.
— Да, пожалуй, это почти все, что можно рассказать женщине про охоту на опоссума.
Мэйбл откинулась на спинку стула и, закрыв глаза, отдыхала несколько секунд.
— А вот если бы мужчина захотел поговорить со мной про охоту на опоссума… — начал Туземец.
— У меня найдется о чем с тобой поговорить, — прервала его Мэйбл, округлив глаза. — А ты сиди и слушай меня, Туземец Ханникат. — Медленно покачивая головой из стороны в сторону, она холодно смотрела на него. — Просто не знаю, с чего это мне взбрело в голову выходить за тебя замуж. Любая женщина со здравым смыслом поняла бы, что нельзя выходить за мужчину с таким диким именем. Да никто, кроме тебя, и не захотел бы носить такое имя. Вот в чем беда с тобой. Ты орудуешь этим своим чуднЫм именем, будто амулетом, лишь бы получить что-нибудь задаром. Но я тебе скажу только одно, и ты меня слушай и запомни на всю жизнь: этим своим диким именем ты от меня ничего не добьешься — ни вот столько! — какие бы предлоги ты ни придумывал, сколько бы ни хитрил и как бы ко мне ни подольщался. Было бы у меня хоть сколько-нибудь соображения, так бы ты и остался для меня посторонним.
Сгорбившись, опустив голову и положив левый локоть на стол, Туземец наклонился над тарелкой, уписывая кукурузную кашу, сосиски и горячие сухарики. Он вспоминал все те случаи в прошлом, когда заходил разговор об его необыкновенном имени. («Первый раз, как я услыхал это имя, так подумал, что это, верно, шутка, а то и прозвище или что-нибудь вроде. А как услышал его раза три-четыре, так оно стало мне казаться обыкновенным, все равно что назвать воскресенье воскресеньем или рождество рождеством. Надо только повторить про себя несколько раз это имя — и будет казаться, что оно старо, как эти горы. А когда привыкнешь к нему как следует, оно получится все равно что Джон Генри, или Р. Б., или Клод Ханникат. Так что теперь, ежели захочешь назвать Туземца как-нибудь по-другому, пожалуй, ничего не придумаешь подходящего».)
Он поднял глаза, желая посмотреть, что делает Мэйбл.
— А ты бы лучше сел как следует на этом стуле да подумал хорошенько, как никогда в жизни не думал, — злобно выпалила Мэйбл. — Не знаю, что сейчас у тебя на уме, может, и ничего нет, но только я тебя заставлю подумать. Если кто-нибудь может положить конец твоему хвастовству насчет этого самого счастья, так это именно я. И не воображай, что я отступлюсь. Не знаю, много ли ты думал выиграть тем, что на мне женился, но что бы это ни было — ты этого не получишь. Ты, может, думаешь, что если имя у тебя особенное и ты последний из Ханникатов, значит, больше ничего и не надо, чтобы все получать задаром, — так нет, уж лучше тебе начать жить сначала и выдумать какой-нибудь предлог получше.
Туземец наклонился еще дальше над столом, загребая кашу ложкой. («В округе Сикамор Ханникатов всегда было один-два и обчелся, а после того как умер Туземцев папа, остался только он один. Кроме того, Туземец мне говорил, что всю жизнь хотел, чтобы у него родился сын, чтобы он мог передать ему свое родовое имя. Так или иначе, но только из-за этого Туземец все не мог набраться смелости уехать в Джексонвилл или в Атланту и там подыскать себе хорошую работу. Он вроде как боялся уехать из дому, потому что понимал, что он последний из Ханникатов, и ему хотелось, чтобы это имя жило как можно дольше в Пальмире и округе Сикамор. Может, потому он и был рад всю жизнь оставаться поближе к дому и перебиваться с хлеба на воду, чиня радиоприемники и всякие такие штуки».) Туземец поднял глаза от тарелки и на короткий миг встретился взглядом с Мэйбл.
— Я хочу, чтобы вы одно запомнили как следует, — твердым голосом сказал он. — Я действительно горжусь своим именем. Это единственное, что у меня есть, а ни у кого другого нету. Мой папа дал его мне потому, что слишком много развелось на свете людей, которых зовут Джоном, Томом, Джо и другими заурядными именами. — Он еще раз взглянул на Мэйбл и лишь после этого откусил от сосиски. — И мой папа говорил мне, чтобы я всеми силами держался за то имя, которое он мне дал, и ни под каким видом не допускал бы, чтобы меня задразнили и уговорили переменить его на что-нибудь заурядное. Мой папа говорил, что миллиона он мне в наследство оставить не может, зато дал мне такое счастливое имя, какого ни у кого другого нет. А я верю в то, что мне мой папа говорил, и никто меня не заставит переменить это мнение.
Мэйбл напряженно улыбалась, наклонясь вперед над столом. Ее лицо все еще горело лихорадочным румянцем, но видно было, что она крепится, стараясь быть любезной и не раздражаться. Она положила руку ему на плечо и несколько раз нервно похлопала его.
— Я ведь переменила фамилию с миссис Бауэрс на миссис Ханникат вчера, когда вышла за тебя замуж, — сказала она, кротко улыбаясь, — и с твоей стороны тоже было бы очень мило, если бы ты согласился переменить твое странное имя на что-нибудь приличное. Это был бы самый лучший свадебный подарок для меня, и я бы тебе на всю жизнь осталась благодарна. Не желаю, чтобы люди звали меня «миссис Туземец Ханникат». Я этого не вынесу. Было бы прямо оскорбительно это терпеть. Мне будет стыдно идти по улице, если меня так назовут при всем народе. Даже самые близкие друзья, какие у меня есть в городе, станут хихикать каждый раз, как только услышат это имя. Ведь ты переменишь его ради меня?
Мэйбл опять улыбнулась ему, пожав его плечо дрожащими пальцами. Она терпеливо ждала, давая ему время собраться с ответом, но он сидел молча и неподвижно.
— Знаешь что? — сказала она с надеждой, придвигая поближе к нему соусник. — Я бы переменила твое имя на «Теодор» и звала бы тебя Тедди… для краткости. Гебе бы ведь это понравилось? А то еще я придумала красивое имя — Рэндольф. Подходящее имя для мужчины, как подумаешь. А я бы могла звать тебя Рэнди — для краткости. Ну, так как же, по-твоему? Или, если хочешь, я могу придумать еще много красивых имен.
Туземец потянулся и захватил целую горсть горячих сухариков.
— Нет, сэр! Только не я! — сказал он, решительно мотая головой. — Нет, сэр! Мой папа сказал мне, что из этого имени я больше выжму, чем другой человек с обыкновенным именем сумеет выжать за всю свою жизнь из банкового чека или из тысячи акров земли под пашней и лесом. Нет, сэр! Вы меня не заставите забыть то, что мой папа мне говорил!
Мэйбл, разочарованно вздохнув, откинулась на спинку стула.
— Раз навсегда, не можешь ли ты помолчать насчет твоего папы? Я уже досыта про него наслушалась!
Ничего не видя, она сидела и смотрела в окно на яркое утреннее солнце, и губы у нее дрожали, а на глазах выступили слезы.
3
— Только из-за этого ты на мне и женился — чтобы забрать в руки мою землю и лес, — сказала Мэйбл, начиная беспомощно всхлипывать, и слезливо замигала. — А я-то всей душой тебе поверила, думала, что у тебя на уме одно только самое возвышенное.
Она утерла слезы салфеткой, чтобы лучше его видеть.
— Если бы мой первый муж не умер да не завещал мне всю эту ценную землю и дом тоже, так ты бы на меня и не посмотрел. Вот какой ты хитрый негодяй, Туземец Ханникат! Как это у меня не хватило разума послушать самых близких друзей! Они мне так и говорили, что если я выйду за человека ниже своего положения, то потом еще не раз пожалею.
Слезы бежали у нее по щекам, но она была до того расстроена, что даже не пыталась утирать их.
— Должен же быть закон против таких мужчин, как ты, которые пользуются тем, что есть на свете беззащитные вдовы, вроде меня!
— Да нет же, Мэйбл, все это совсем не так, — сказал Туземец, глядя на нее и мотая головой. — Насчет этого я себя считаю таким же честным человеком, каким был бы на моем месте всякий другой в городе. В первый раз как я вас увидел после похорон, я только подумал про себя, вернее, где-то там во мне зашевелилось чувство, что это добрый знак и что скоро мне опять повезет. У меня столько раз уже бывало такое чувство, что я его сразу узнаю, так же как свое собственное имя, когда его слышу. Вот почему я и не стал долго ждать, а пришел прямо сюда, к вашему дому, посмотреть, нельзя ли с вами как следует потолковать и познакомиться. Я бы мог, конечно, подождать еще денька два-три, но только это не в моем характере, потому что я ведь помню, что мне мой папа говорил насчет того, чтобы держаться на один шажок и на один скачок впереди всякого другого и не обращать внимания на коровьи лепешки…
Бросив салфетку на стол, Мэйбл схватила ложку и с размаху швырнула ее через всю комнату. Ложка стукнулась об стену и громко задребезжала на полу.
— Если б этот твой папа был жив и где-нибудь тут поблизости, — крикнула она, повысив голос, — я бы ему свернула шею, как жирному куренку для воскресного обеда! Из-за него все мое несчастье, горе-горькое! Ох, уж этот мне твой папа! Лучше бы у тебя совсем его не было! Если б он тебя не учил, так ты бы ни за что не сумел меня уговорить, чтобы я вышла за тебя замуж!
— Да ну, Мэйбл, вы же отлично сами знаете, стоит вам только помолчать и подумать — ведь это же сущая правда, что сначала я только одно-единственное слово вам и сказал: «Здравствуйте». И я просто стоял перед крыльцом, думал о вас и любовался вашей красотой, когда вы мне про себя рассказывали. Это чистая правда. А еще тогда вы сказали, что вам прямо вот хоть тут же, не сходя с места, хочется выйти замуж, так хочется, как никакой другой женщине. Потом вы сказали, что очень беспокоитесь — пожалуй, соседи уже увидели, что я пришел сюда, стою у крыльца и разговариваю с вами и что вам хотелось бы поторопиться со свадьбой, пока еще по городу не пошли всякие сплетни.
Мэйбл утерла слезы сухо-насухо. («Есть же на свете такие люди, вроде него, и везде их сколько угодно. Все они негодяи и мошенники с широкой улыбкой на лице и без единого доллара в кармане. Они так себя ведут, как будто не могут отличить сегодняшний день от вчерашнего. Если б это были щенята, так вы их назвали бы последышами, потому что они до того жалкие, что щенки посильней топчут их и отталкивают, а когда эти заморыши доберутся до задних сосков, там уже ничего для них не осталось. Но человека ведь не утопишь, как щенка-заморыша, вот они и околачиваются возле дома в ожидании кормежки. Так оно и получается, что кто-нибудь непременно их пожалеет и даст им все самое лучшее».) Она тщательно сложила салфетку и улыбнулась уже без всяких следов гнева на мясистом лице.
— Я была ужасно одинока, — сказала она интимным тоном, наклоняясь поближе к Туземцу и накладывая ему побольше каши и сосисок. — Трудно даже объяснить мужчине, до чего может быть одинока женщина, потому что язык у нас не подходит для таких разговоров, но только это правда, что мне хотелось быть с тобой. В молодости, еще в девушках, у меня часто бывало такое приятное чувство, а теперь, в этом возрасте, оно очень редко на меня находит. Но это такое приятное чувство, когда оно находит на девушку, что с ним ничто на свете не может сравниться, и девушка готова наделать самых отчаянных глупостей, лишь бы оно не проходило. Мужчине это по-другому никак не объяснишь. И я не постесняюсь сказать, что я еще настолько-то молода и по себе знаю, как это приятно чувствовать в мои годы — вот это самое и нашло на меня, когда ты постучался в парадную дверь. Помню, мне до того хотелось побыть наедине с тобой, что я вся дрожала с головы до пяток. Теперь, когда мы поженились, я не стесняюсь поверять тебе такие интимности. Только поговоришь об этом — и прямо в жар бросит — вот и сейчас я так себя чувствую. Я очень рада, что женатым людям, вроде нас с тобой, можно об этом поговорить наедине, а не то чтобы набрать воды в рот и только волноваться. Туземец, а ты тоже так чувствуешь или нет?
Мэйбл столько наговорила, что ей пришлось замолчать и перевести дыхание. Во время паузы она наклонилась к нему и нежно погладила его по плечу.
— Мне кажется, я знаю, что вы подразумеваете под этим чувством, — сказал он, — и согласен с каждым вашим словом. Очень часто у мужчины бывает этакое чувство, и тогда он начинает поглядывать по сторонам, искать, нет ли чего подходящего.
— Так почему же ты пропадал всю ночь? — спросила она, взорвавшись. — Отвечай мне!
Прежде чем он успел хоть что-нибудь сказать, из кухни через раздвижную дверь вошла Джозина, и Мэйбл, поджав губы, откинулась на спинку стула. Джозина несла второй кофейник с горячим кофе и холодный бататовый пирог с решетчатой корочкой. Кофе она поставила на стол рядом с Мэйбл, а пирог — перед Туземцем. Когда она нагибалась к нему, он почувствовал, как она коснулась его плечом. Увидав пирог, он широко, во все лицо, улыбнулся, взглянул на Джозину и одобрительно кивнул несколько раз подряд. Она так и осталась стоять рядом с его стулом, с улыбкой глядя на него сверху вниз.
— Вот, конечно, самое замечательное блюдо, какое можно подать мужчине, — сказал он, еще раз поглядев на пирог, а потом поднял голову и кивнул Джозине. — Я всегда любил холодные пироги с бататами и к завтраку, и в другое время дня — кабы моя воля, я без них и за стол не садился бы. Если только я когда-нибудь разбогатею, а это никому не воспрещается, то построю себе большую-пребольшую пирожную фабрику и буду выпускать одни только добрые старые пироги с бататами. Мой папа говорил мне…
— Не желаю больше ни слова про него слышать! — крикнула Мэйбл, стукнув по столу ножом.
— Да ведь я только сказал, что мне нравятся… — заикнулся было Туземец.
— Джозина, ступай на кухню и займись своим делом! — резким тоном скомандовала Мэйбл, показывая рукой на дверь. — Нечего стоять разиня рот. Никто с тобой не разговаривает. Ну, Джозина, делай, что тебе говорят. Ты свое место знаешь. — Джозина медленно отошла от стола. — И не возвращайся сюда, пока я тебя не позову!
— Слушаю, миссис Бауэрс, — сказала Джозина, повертываясь к выходу.
— Джозина, перестань так меня называть! Слышишь? Я не потерплю такой наглости. Тебе отлично известно, что я уже со вчерашнего дня миссис Ханникат. Так что больше этого не повторяй!
Туземец посмотрел на Джозину и встретился с ней взглядом. Он отлично заметил, что она слегка улыбается.
— Простите, я про это забыла, — поспешила сказать Джозина, пятясь к кухонной двери. — Постараюсь в будущем никогда не забывать… миссис Ханникат.
После того как Джозина ушла из столовой на кухню, ровно ничего не было сказано до тех пор, пока Туземец не положил себе на тарелку четверть круглого пирога и не откусил первый кусок. Он откинулся на спинку стула и с восторженной улыбкой жевал пирог. Потом одобрительно закивал.
— Добрый старый пирог с бататами — самая лучшая еда для мужчины.
Мэйбл положила руку ему на плечо.
— Я вовсе не хотела, а получилось, что я на тебя фыркала, вот только что, — сказала она, ласково понижая голос. Она наклонилась поближе и улыбнулась. — Когда ты узнаешь меня получше, ты увидишь, что я вовсе не такая, чтобы фыркать, как другие женщины. Не знаю, какой это бес в меня вселился, что я так разговаривала. Должно быть, нервы уж очень разошлись. Я полночи места себе не находила — все надеялась, что ты вот-вот вернешься, — и совсем не выспалась. Только задремлешь — и вдруг сразу вздрогнешь, проснешься и начинаешь думать, который-то час и скоро ли ты вернешься. Так и прошла у меня вся ночь — самая долгая ночь в моей жизни. Вот уж не похоже было, что мы только вчера поженились — больше похоже было на дурной сон.
Мэйбл погладила его по плечу.
— Вот почему я и была сердитая, сама не своя, Туземец. Но вообще это не в моем характере. Когда ты узнаешь меня получше, сам увидишь, что я нормальная женщина и всегда ровная. Если бы я выспалась вчера ночью…
— Я бы и сам сейчас рад был соснуть немного, — сказал Туземец. Он положил в рот последний кусок пирога и теперь жевал его с довольной улыбкой. — Немножко соснуть было бы мне очень и очень полезно. Теперь уж я не могу обходиться без сна, как в молодые годы, когда рыскаешь, бывало, везде в любое время, и днем, и ночью. Помню, несколько лет тому назад я однажды…
Мэйбл, крепко вцепившись ему в плечо, оттолкнула свой стул и поднялась с места.
— Пойдем со мной, Туземец, — требовала она, таща его за собой. — У меня есть для тебя сюрприз. Я тебя отведу в спальню, уложу в постель, хорошенько укрою и спущу шторы, чтоб стало темно, как ночью. Только женщина знает, что нужно мужчине в такое время. Долгий спокойный сон будет нам обоим полезен после всех этих волнений.
Таща Туземца за собой и все не выпуская его плеча, она дошла уже до прихожей и направлялась в спальню.
— Про какие это волнения ты говоришь? — спросил Туземец, когда они пересекали прихожую. — Что-то я ничего такого особенного не припомню.
— Сам знаешь какие, — отвечала Мэйбл, слегка хихикая и подталкивая его к дверям спальни. — Кто же не волнуется в день свадьбы. Но только тебе нечего со мной стесняться на этот счет. Можешь просить у меня чего только тебе вздумается, я уж сумею тебе угодить.
— Право, не знаю, чего бы такого мне сейчас попросить, — сказал Туземец.
Как только они вошли в спальню, Мэйбл закрыла дверь и заперла ее на ключ.
— Отлично понимаю, что ты чувствуешь, — сказала она. — Вступить в брак — это для всякого большое нервное напряжение. Я тебе сделаю снисхождение, раз ты до сих пор всю жизнь прожил холостяком, — помогу тебе привыкнуть, так чтобы ты не почувствовал разницы.
Она повела его через всю комнату к изножью кровати.
— Ну, теперь начинай привыкать и можешь не стесняться, — сказала она. — Для начала это будет лучше всего.
Туземец сел на край кровати и снял грязные башмаки. Потом он начал обирать репьи со своих штанов и щелчком отбрасывать их на полосатые, желтые с белым, обои. Но как он ни старался, как тщательно не целился, они не держались на обоях, а все до одного падали на пол.
— Вчера ночью я просто вся истомилась в этой самой комнате: все ждала, что ты вернешься, — услышал он голос Мэйбл за своей спиной. — Мне так хотелось уединиться с тобой, а вместо того я чувствовала себя несчастной, как никогда в жизни. Когда ты сказал, что пойдешь немножко поохотиться на опоссума, я и внимания не обратила — думала, уж к полуночи-то ты наверное будешь дома. А потом вижу, время все идет да идет…
— Хорошая, стоящая охота на опоссума всегда отнимает целую ночь, — сказал он солидно. — И вот почему столько времени уходит, пока разойдешься как следует. Я вам так и рассказывал еще прошлый раз, когда вы про это спросили. Все опоссумы — хитрые твари. Если он не залезет на дерево, так сидит где-нибудь в дуплистой колоде или зароется в нору под сухим пнем и притаится там чуть не до самого рассвета. Всякий, кто знает повадки опоссума, вам то же самое расскажет. Они думают, что собаки к этому времени выдохнутся от бесполезной беготни по кругу и носы у них потеряют чутье и не будут так хорошо вынюхивать след. Вот какие ловкачи эти опоссумы, оттого столько нужно времени и терпенья, чтобы загнать их на дерево. Разумеется, такие вещи знает только настоящий охотник на опоссума.
После этого в спальне надолго воцарилось молчание, и наконец, любопытствуя знать, что происходит и что делает Мэйбл, Туземец обернулся. Она уже надела ночную рубашку и сидела на той стороне кровати, расчесывая волосы.
Вдруг что-то страшно грохнуло в задней половине дома. Похоже было, что Джозина швырнула сковородку через всю кухню или стукнула ею о плиту. Мэйбл обернулась и увидела, что Туземец смотрит на нее.
— Что ты на меня так смотришь, Туземец? — спросила она, как будто не слыша грохота на кухне. — Тебе вовсе нечего так стесняться. Я точно такая же, как все другие дамы на свете.
— Что это был за шум вот сейчас?
— Я ничего не слыхала. Тебе, должно быть, почудилось. А ты чего же не ложишься в постель? Нечего так сидеть. Пора уже баиньки.
— Я думал, — сказал он ей.
— О чем ты думал?
— О том, что мой папа мне говорил.
Мэйбл судорожно втянула в себя воздух, потом несколько секунд помолчала, нервно кусая губы.
— А что он говорил? — наконец спросила она с надеждой.
Туземец заколебался.
— Не знаю, право, можно ли вам это сказать…
Мэйбл хихикнула.
— Ну же, Туземец, скажи мне. Мы теперь женаты, и я хочу, чтобы ты со мной разговаривал так же свободно, как со всеми другими. А теперь самое время тебе приучаться. Ну начинай, рассказывай мне, что он говорил.
— Ну, если вы и вправду хотите знать, мой папа говорил, что есть только две основательные причины жениться на высокой и полной женщине: чтобы есть ее стряпню и чтобы греться об нее в холодные ночи. Есть вашу стряпню я могу каждый божий день, а вот по-настоящему холодные зимние ночи еще не начинались…
Рыдая, Мэйбл бросилась на кровать лицом вниз.
— Никогда больше не поминай этого твоего папу в моем доме!
4
Осенний день уже клонился к вечеру, когда Туземец открыл глаза после долгого благотворного сна. Он проснулся окончательно только после того, как зевнул несколько раз подряд и протер сонные глаза. Затем он оторвал голову от подушки и оглядел незнакомую комнату. Он постарался припомнить, сколько времени прошло с тех пор, как он спал не только у себя дома на кровати, но оказалось, что и припомнить трудно — столько лет он ночевал только дома. И он снова уронил голову на подушку.
Наконец он понял, где находится, узнав желтые с белым полосатые обои и увидев свою синюю куртку и старую серую кепку на спинке стула с поперечными перекладинками рядом с кроватью. Прислушиваясь к тяжелому дыханию Мэйбл, он лежал, почесываясь то в одном, то в другом месте и соображая, который теперь час. Шторы были спущены, и только узенький лучик света пробивался в одно из окон.
Спустя несколько времени, остерегаясь, как бы не потревожить Мэйбл, он потихоньку вылез из-под одеяла и наконец стал ногами на ковер. Первым делом он потянулся за своей кепкой, потом разыскал башмаки, все еще сырые и облепленные грязью, и надел синюю куртку — все это без единого звука. После этого, осторожно повернув ключ в замке, он вышел из затемненной комнаты и притворил дверь, не разбудив Мэйбл. Как можно тише он прошел на цыпочках через прихожую к заднему крыльцу.
Солнце все еще светило, но дни в это время года становились короче, и длинные черные тени протянулись по жесткой траве двора. Он много раз видел дом Мэйбл с фасада, но сегодня ему впервые пришлось побывать на задах этого двухэтажного кирпичного здания. Однако задний двор был здесь такой же, как и у всех других домов в этой части города, и Туземец нисколько не удивился, увидев, что двор выглядит именно так, как он и ожидал.
Кривое тунговое дерево с изуродованными ветром сучьями стояло на одном углу двора, а на другом росла плакучая ива. По обеим сторонам крыльца были цветочные клумбы, а под окнами — кусты роз и подсолнухи, но стебли и листья у них уже почернели, а сорная трава выросла по колено. Четыре или пять потемневших деревянных стульев со сломанными перекладинами стояли в беспорядке под провисшими лозами виноградной беседки, а прямо за лужайкой находился гараж, где Мэйбл держала под замком свою блистающую лаком машину. Рядом с гаражом был навес для грабель, мотыг и других садовых орудий. Позади веревки с бельем, у самой калитки, выходившей в переулок, он заметил мусорную кучу.
Все время, пока Туземец стоял на черном крыльце, привыкая к дневному свету, он напряженно прислушивался, соображая, где может быть Джозина. Из дома не доносилось ни звука, не слышно было даже стука тарелок и кастрюль на кухне, где Джозина обычно находилась в это время дня. Он подумал было, не вернуться ли в дом и не поискать ли ее в кухне, но побоялся, как бы не наткнуться на что-нибудь и не разбудить Мэйбл, наделав шума. Вместо этого он сошел с крыльца и прямо по траве зашагал к деревянной калитке, выходившей в переулок.
Дойдя до мусорной кучи, он полюбопытствовал, что именно в ней находится, и остановился поглядеть хорошенько. («Всю жизнь вижу, как Туземец Ханникат копается в мусорных кучах, и просто не знаю другого человека, который бы так интересовался всем, что люди выбрасывают. И в то же время я ни разу не видел, чтобы он взял что-нибудь из кучи и унес домой. Можно бы думать, что такой человек обязательно что-нибудь да найдет на продажу мусорщику или чтобы унести домой, но только не Туземец. По-моему, с него довольно и просто полюбопытствовать, что другие люди выбрасывают».)
Раздобыв палку и потыкав ею в мусорную кучу, он нашел одни только веточки ивы и тунгового дерева, много завядших одуванчиков и лебеды, десятки консервных банок и осколки тарелок и чашек. Подумав про себя, что мусор у Мэйбл самый никудышный, он отбросил палку и заторопился к калитке. Теперь ему уже хотелось поскорей скрыться из виду, прежде чем Мэйбл выйдет на крыльцо и заставит его вернуться в дом.
Чтобы дойти коротким путем от дома Мэйбл на Черри-стрит до его двухкомнатного домика-мастерской в глухом конце тупика за городским пожарным депо, требовалось всего несколько минут.
На углу узкого тупика не было столба с табличкой, и даже на городской карте не было его названия, но с незапамятных времен тупик назывался Большая Щель. («Вот где уж никогда не повесят таблички с названием. Спросите кого угодно в Пальмире, почему так вышло, и вам расскажут. Я как только подрос, так тут же узнал, почему этот тупик так называется. А если какое-нибудь место обходится сорок или пятьдесят лет без вывески, так значит, есть-таки за что его помнить. А начали так называть потому, что в тупике стояло с десяток или побольше хибарок и лачуг, которые жались одна к другой, словно корзины с маисом, и среди них были и такие домишки, где белые мужчины и подростки, уже начинавшие бриться, могли проводить время от заката до восхода с веселыми негритяночками. Все это миновало и давно в прошлом, один только и остался от тех времен домик, где живет Туземец Ханникат и чинит радиоприемники и всякие другие электроприборы. Мужчине нынче приходится устраиваться по-другому, если ему понадобится такого рода компания».)
Направляясь к Большой Щели, Туземец увидел Фатти Леттимора, Милларда Веста и других знакомых, но уткнул голову в воротник и прибавил шагу, не дав никому заговорить с собой и остановить на полдороге. Солнце уже садилось, а он хотел дойти поскорее до мастерской и закончить ремонт приемников, которые он обещал починить еще на той неделе.
Как только он завернул за угол пожарного депо и вошел в тупик, он сразу увидел, что у него на крылечке сидит Клайд Хефлин. Клайд был одно время профессиональным борцом и разъезжал по всему штату, выступая на ярмарках и в балаганах, но был пожизненно дисквалифицирован прокурором штата, после того как в бешенстве задушил другого борца на ярмарке. Он был два раза женат, но обе жены развелись с ним, вытерпев сколько могли побоев.
— Пора уже тебе, растяпа, показаться в здешних местах, — окликнул его Клайд громким басом. — Я битый час тебя дожидаюсь. Да кто ты такой, черт тебя возьми? Что ты о себе вообразил? Я не того сорта человек, чтобы сидеть тут и дожидаться всякого, вроде тебя.
Туземец подошел ближе, и Клайд, хмурясь, поднялся с места.
— Здравствуй, Клайд, — сказал Туземец, поднимая руку в знак приветствия. — Как поживаешь?
— Не твое дело. Если бы ты не пришел сейчас, я уж собирался пойти к этому большому кирпичному дому на Черри-стрит и вытащить тебя оттуда. Нечего было столько времени валандаться с бабой из-за того только, что ты на ней женился. Мне нужен мой приемник, черт побери. И нужен сию минуту. Ты с ним уже целую неделю дурака валяешь.
Клайд Хефлин был крупный дюжий мужчина, густо обросший темными волосами, и первый крикун во всем городе. Разговаривая с кем-нибудь, он любил орать так, чтобы его было слышно с одного конца городской площади до другого, и его ревущий бас был так же для всех привычен, как полуденный свисток на лесопильном заводе. Основная его должность была помощник шерифа, а кроме того, он служил в полиции сверх штата. Городская полиция нанимала его патрулировать улицы вечером и ночью по субботам, когда город бывал переполнен приезжими фермерами, и он всегда носил с собой наручники, дубинку и револьвер. Клайд любил похвастаться тем, что всегда найдет предлог сбить негра с ног кулаком, прежде чем надеть на него наручники и отвести в тюрьму. За последние десять лет он убил не одного негра, но всегда оправдывался тем, что выполнял только свой долг и защищал собственную жизнь, и его ни разу не судили за убийство. («Не спрашивайте меня, почему так, этого я не знаю, но Клайду Хефлину ненавистны негры больше, чем проповеднику ненавистен грех. Много я видел людей за свою жизнь, но ни разу не встретил такого мерзавца, как Клайд».)
— Зайди в дом, Клайд, — сказал Туземец, отпирая дверь. — Твое радио починить недолго. В один момент будет готово. Я знаю, в чем там дело.
Они вошли в дом, и Туземец включил свет. Маленькую мастерскую загромождали разобранные приемники всех цветов и размеров, мотки и обрывки проводов, пыльные остовы плиток, печей и настольных ламп валялись на полу. Яркие табель-календари прошлых годов и пестрые цветные фото из журналов висели по стенам. Широкий деревянный верстак занимал много места в тесной комнатке. Дверной проем без двери вел во вторую комнату, где стояла двуспальная кровать. Из прочей мебели во второй комнате был один только некрашеный деревянный шкафчик, прибитый гвоздями к стене.
Туземец снял кепку и куртку и, прежде чем подойти к верстаку, повесил их на гвоздь за дверью. Порывшись на верстаке и заодно приведя в порядок загромождавший его хлам, он в конце концов отыскал маленький красный приемник с фамилией Клайда на ярлыке.
— Это починить недолго, — сказал он Клайду, садясь на табурет и нагибаясь над верстаком. — Думается, я точно знаю, что тут неладно. Похоже, кое-где винтики и контакты ослабли. Я помню, что смотрел приемник на днях. Выпускают их нынче скоростным методом. Вот отчего они так часто и портятся. Контакт нарушится или винтик выпадет, а как починишь, то по большей части работает лучше нового. Я против того, чтобы брать с человека за новые лампочки, когда только и надо, что подвинтить кое-где.
— Так какого же черта ты сразу после осмотра не починил приемник?
— Должно быть, некогда было.
Клайд уселся в шаткое кресло с набивкой из хлопка, покрытое серым одеялом. Когда он откинулся на спинку, кресло заскрипело и покосилось на бок.
— Приходится тебе отдать справедливость в одном отношении, — помолчав, сказал Клайд и захохотал так, что кресло опять заскрипело и покосилось, — хотя ты всего-навсего радиотехник-самоучка.
— То есть как это? — спросил Туземец.
— Да, так что ты уж, конечно, переплюнул всех этих жуликов в нашем городе. Должно быть, виновато твое счастье, о котором мне все уши прожужжали. Держу пари, много этих жуликов увивалось бы за вдовой Фрэнка Бауэрса, чтобы прибрать к рукам ее денежки, кабы ты не прибежал на Черри-стрит первым да не всунул ногу в дверь. А все-таки жалко, что Фрэнк скоропостижно помер в такие годы и оставил все имущество вдове для какого-то лодыря, который из этих денег и десяти центов не заработал за всю свою жизнь. Мне наплевать, что именно ты со своим счастьем женился на ней — по-моему, все равно это срам один. Ну, да какого черта! Со всяким может случиться, кто помрет и оставит жене сколько-то долларов. Вот из-за этого одного я больше и не женюсь никогда. Не собираюсь оставлять после себя вдову для какого-то ублюдка, чтобы он потом пустил по ветру все мои трудовые денежки.
Клайд встал и подошел к верстаку. Он постоял, наблюдая, как Туземец подвинчивает что-то в приемнике.
— Скажи мне вот что, Туземец, — начал он, помолчав. — Между нами говоря, что ты собираешься делать со всей этой землей и лесом, из-за которых ты женился на вдове? Продашь или сам будешь обрабатывать?
Туземец быстро помотал головой.
— Я собираюсь заниматься своим делом, как всегда занимался, вот что. Никогда мне не нравилось быть фермером и жить в деревне. Там для меня не место. Я человек городской и слишком люблю городскую жизнь, чтобы менять свои привычки, переселяться туда и жить в грязи, как полагается фермеру.
— С такой уймой земли тебе это не понадобится. Ты только подумай, что можно сделать, не переселяясь за город. Ты можешь продать часть земли за большие деньги и расхаживать по городу руки в брюки до самой смерти — будешь просто богач не у дел. Тебе даже не надо будет считать сдачу, если что-нибудь купишь, — вот какой ты будешь богатый. На твоем месте я бы так и сделал. Черт тебя дери, ведь у тебя как раз такое счастье, какого у меня нет.
Туземец покачал головой.
— Это мне совершенно все равно. Я люблю возиться с электроприборами. Всегда любил, сколько себя помню, а если б пришлось бросить, я бы скулил, как пес, заблудившийся в чужом городе. Я бы не знал, что с собой делать от утра до вечера, если бы не возился у себя в мастерской с приемниками и всем прочим, как вожусь всю свою жизнь. Я бы не променял то, что у меня есть сейчас, даже на место в раю после смерти. Как бы ни было, мне больше нравится тут, чем на небесах. Вот почему я отсюда никуда не уйду, даже и на вершок с места не сдвинусь.
— А как же будет с медовым месяцем? Ведь придется же тебе куда-то поехать? Она станет платить по всем счетам, и тебе это ни цента не будет стоить.
— Нет, сэр! Только не я! — ответил Туземец, решительно мотнув головой. — Нет, сэр!
— Да почему же нет?
— Может ехать сама, если ей вздумается, а мне и так хорошо.
— Это что же значит, тебе так повезло, а ты не хочешь своим счастьем пользоваться?
— Я останусь тут в Пальмире, на своем месте. Я никогда и не собирался уезжать из дому туда, где меня никто не знает. Все мне там чужие. Я даже знать не буду, как кого зовут. Об этом я и подумать боюсь.
— А что она на этот счет говорила?
Туземец покачал головой.
— Ничего она не говорила.
— Ты хочешь сказать, она и не поминала еще про медовый месяц?
— Не слыхал.
— А что ты будешь делать, если она про это заговорит?
— Ничего.
Клайд отошел от верстака и остановился у противоположной стены. Он долго стоял, разглядывая затылок Туземца, прежде чем заговорить.
— О чем же вы с ней разговаривали со вчерашнего дня, после того как поженились? — любопытствуя, спросил он с того конца комнаты.
— Больше об охоте на опоссума.
Клайд захохотал.
— Если хочешь знать мое мнение, смешно этаким манером жениться на богатой вдове и тратить время на разговоры об охоте на опоссума! Знаешь, что я сделал бы на твоем месте?
— Что?
— Я бы ей велел взять побольше денег из банка, и мы уехали бы тратить их в большой отель в Атланте или Новом Орлеане, а то даже и на какой-нибудь этакий дорогой курорт во Флориде. Мне много приходится читать и слышать про Майами во Флориде, и вот туда-то я и мечтаю поехать — пожить среди богачей. Я бы им показал, как надо тратить денежки богатой вдовы. Я бы их просто сыпал горстями, как зерно в курятнике.
— Она может ехать во Флориду или куда ей вздумается, — сказал Туземец. — А я останусь тут, ближе к дому. Меня не заставишь уехать из Пальмиры куда-то в незнакомое место, где я никогда не бывал. Мой папа всю жизнь тут просидел и был доволен, ну и я тоже.
— Может, я и ошибся, — сказал Клайд. — Может, трудовые денежки старика Бауэрса и не вылетят в трубу, как я думал.
Увидев, что Туземец встал и отодвинул в сторону инструменты, Клайд опять подошел к верстаку.
— Ну, теперь все готово, — сказал Туземец, вручая приемник Клайду. — Долго будет работать, не хуже новенького с конвейера.
— Погоди минуту, — сказал Клайд. — Мне еще кое-что хотелось бы узнать, пока я не ушел. Зачем же ты женился на ней, если от этого в кармане у тебя не прибавится? Ты сказал, что не желаешь, чтобы она оплачивала медовый месяц, и землю продавать тоже не хочешь. Вот чего я никак не пойму. Для чего же ты тогда женился?
— Должно быть, я думал, что так надо для того, чтобы моя удача работала как следует, не заржавела и не остановилась на ходу. А получилось очень ловко: оказывается, стол она держит такой, что у всякого слюнки потекут. Кроме того, если люди меня просят оказать им любезность, я всегда готов помочь. Окажешь любезность, и самому приятно делается, тепло на душе.
— Ты что этим хочешь сказать? — спросил Клайд. — Она разве просила, чтобы ты на ней женился? Ты про эту любезность говоришь?
— Ну, можно сказать, что мы встретились на полдороге. Я пошел к ее дому, рассчитывая, что это принесет мне счастье. А уж когда я пришел, она сама все сказала.
— Так вот как оно вышло.
Туземец кивнул:
— В этом роде.
— Тут нужно было «Счастье Ханниката», — сказал Клайд. — Не могу себе представить другой причины, а иначе почему же так легко было нищему ублюдку из Большой Щели попасть на Черри-стрит и жениться на такой богатой вдове.
Клайд сунул приемник под мышку и направился к выходу.
— Сколько я тебе должен? — спросил он.
— Два доллара, — ответил Туземец.
— Я для тебя их наверняка раздобуду к завтрашнему вечеру. — Он открыл дверь и шагнул за порог. — Ты только напомни, чтобы я тебе заплатил.
— Погоди минутку, Клайд, — сказал Туземец, идя за ним к двери. — Ты мне еще не заплатил за прошлый раз, когда я чинил тебе приемник. Ты ведь помнишь? Это уж будут другие два доллара.
— Напомни мне и про них в следующий раз, когда будешь на этот счет со мной разговаривать.
5
После того как Клайд Хефлин вышел из Большой Щели и завернул за угол, Туземец закрыл дверь и включил электрическую печку. Стояла середина октября, и вечера становились все холоднее, как только кончался короткий день и садилось солнце. Недели через две-три с восходом солнца появится и иней на кровлях, и ледяная корочка на грязных лужах.
Придвинувшись почти вплотную к печке и грея руки и ноги, Туземец думал о Мэйбл и о том, что она могла сказать, когда, проснувшись, не нашла его рядом с собой. Она взволнуется и рассердится, в этом он был уверен и понимал, что всего умнее будет не возвращаться домой до утра. За завтрашний день он не тревожился, не тревожился и о том, что она ему скажет: он твердо решил встать утром пораньше и вернуться к ней в дом заблаговременно, еще до завтрака. А Мэйбл тем временем поостынет и так обрадуется его возвращению, что опять угостит его отличным завтраком.
Он основательно отогрелся и уже около часа сидел за верстаком, разбирая, а потом вновь собирая приемник, как вдруг услышал, что дверь за его спиной скрипнула. Стука в дверь не было, и ему вспомнилось, что он ее не запер.
Отпихнув ногой табурет и второпях опрокинув его, Туземец сразу вскочил на ноги. Единственной его мыслью было, что это Мэйбл пришла за ним в Большую Щель, чтобы вернуть его домой, и он так и ожидал, что увидит ее фигуру на пороге.
Джозина, держа в руках сверток в газетной бумаге, вошла в дом и быстро прикрыла за собой дверь. Она стояла, улыбаясь ему, и ждала, пока он с ней заговорит.
Руки у Туземца все еще дрожали, когда он нагнулся и поставил перевернутый табурет на место рядом с верстаком. Все еще вздрагивая, он прислонился к верстаку, чтобы унять дрожь.
— Я не знал, что это ты, Джозина, — сказал он, стараясь говорить спокойно. — Когда я услышал, что дверь отворяется, то подумал, что это, наверно…
Джозина улыбалась, как улыбалась всегда, входя в дом и затворяя за собой дверь. Это была девушка среднего роста, гибкая, светлая окторунка[10] лет двадцати пяти. Волосы у нее были прямые, они казались черными ночью, а на солнце отливали темным золотом. И глаза у нее были карие, а на щеках — несколько мелких веснушек. Улыбаясь, она по привычке слегка склоняла голову на бок и при этом ее ровные белые зубы ослепительно сверкали. («Ну, что можно возразить, если белый живет с негритянкой. Всем известно, что так повелось у нас с незапамятных времен, но, конечно, нынче на этот счет много разговаривать не приходится. Если подумаешь хорошенько, какие тому причины, то кажется, что для белого мужчины это вполне естественно. Так что трудно сказать, правильно это или неправильно, хорошо или плохо. Это такая вещь, которая просто существует — и все тут. Самое главное в этом то, что вы можете жить с такой девушкой сколько вам вздумается и не обязаны на ней жениться. А если свяжетесь с белой девушкой, она выдумает какой-нибудь предлог и заставит вас жениться на себе, а не то подаст в суд и заявит, что она от вас беременна и вытянет все ваши денежки до последнего».)
— Ты рад, что это я? — спросила Джозина.
Он с готовностью кивнул:
— Конечно, рад, Джозина.
Она подошла к верстаку и остановилась перед Туземцем. На ней было свежеотглаженное ситцевое платье светло-желтого оттенка, облегающее фигуру, и незастегнутый короткий черный свитер.
— Я принесла тебе поесть, — сказала она, протягивая ему сверток, — я знаю, что ты, должно быть, голодный. Доволен, что я еды принесла, да?
— Ну еще бы, Джозина, конечно, доволен. — Он посмотрел на сверток в ее руках. — У меня с самого утра во рту ни крошки не было.
— Только ей не говори, — живо сказала Джозина, встряхивая головой. — Ни слова не говори. Она еще ничего про это не знает. Я вынесла еду с черного хода, когда она отвернулась. Если пронюхает, не знаю уж, что она со мной сделает. Она всегда говорит, что отхлещет меня по щекам, если я унесу что-нибудь съестное.
— Ничего я ей не скажу, — быстро ответил Туземец. — Ты же знаешь, ни слова не скажу, Джозина. Тебе нечего бояться.
Джозина отошла от верстака и направилась во вторую комнатку. Когда Туземец перешагнул порог вслед за ней, она уже сидела на кровати и развертывала газету. Сначала она достала большую сковородку с несколькими кусками жареной курицы, а потом развернула холодный пирог с бататами. Разложив все это, она взглянула на Туземца.
— Я уж давно на нее работаю и знаю: когда она на меня злится за что-нибудь, то на все способна. В прошлую пятницу она взбеленилась ни с того ни с сего и принялась колотить меня щеткой. Пришлось выскочить на задний двор, спасаясь от нее, а она стоит на крыльце и орет на меня что есть мочи.
— Что ж, бывают такие женщины, ну и пускай их. А сейчас эта курица и этот пирог глядят на меня до того аппетитно, что не хочется беспокоиться из-за ее фокусов и капризов.
Он сел на кровать рядом с Джозиной и принялся за большой кусок курицы, который она ему подала. Они молчали, пока Туземец не управился с первым куском, и она подала ему второй.
— А что же она сказала, когда проснулась и начала меня искать? — спросил он, с жадностью обгладывая куриную ножку.
— Никогда не видела, чтоб она так бесилась. Хуже, чем в прошлую пятницу. Она прибежала на кухню и начала швырять кастрюльки на пол и пинать их ногами, потом изо всех сил трахнула сковородкой по плите, потом схватила кофейник и швырнула в меня. И все время она орала на меня и ругала меня за то, что ты сбежал. Она сказала, что я знаю, где ты прячешься. Я-то видела, как ты вышел из калитки в переулок, и знала, что ты пойдешь сюда, только ей я ни слова не сказала. И ничем бы она этого от меня не добилась.
Последние несколько лет Джозина с четырехлетней дочкой Эллен жила в одном из маленьких некрашеных домишек негритянского квартала вместе со своей вдовой прабабушкой. Мать Джозины с ее младшими братьями и сестрами жила в нижней части округа Сикамор на большой земледельческой ферме, где работал ее отчим за даровое жилье и жалованье. Джозина кончила негритянскую школу в Пальмире и после рождения дочери работала горничной в нескольких городских семьях. С прошлого года она служила горничной и кухаркой у Мэйбл Бауэрс. И все это время бабушка Мэддокс — прапрабабушка Эллен — ходила за девочкой, пока Джозина работала с раннего утра до позднего вечера.
Если не считать Эллен, которая выделялась среди других своей светлой кожей и золотистыми волосами, Джозина была светлее всех в семье, светлее даже братьев и сестер. Джозина несколько раз спрашивала у матери, кто ее отец, и в конце концов все-таки допыталась, как его зовут, однако мать не пожелала больше разговаривать о таком давнем событии. Зато бабушка Мэддокс говорила не стесняясь и рассказала Джозине все, что знала о нем. Это был Далтон Бэрроуз, адвокат и директор Первого национального банка в Пальмире, и к пятидесяти годам он уже восемь лет пробыл сенатором штата. Далтон, который взял жену из богатой семьи, должен был пройти в конгресс от демократической партии на ноябрьских выборах.
Джозина и Туземец увиделись впервые в этом году на углу возле городского пожарного депо как-то вечером, когда она возвращалась домой с работы, а он — из заведения Эда Говарда. После этого встречаться на том самом углу несколько раз в неделю вошло у них в привычку, а когда она поняла, как сильно его влечет к ней, она охотно согласилась пойти к нему домой. Она думала пробыть у него час или два в тот первый раз, но ушла только утром на рассвете. Так оно и продолжалось с тех пор.
В жаркие ночи долгого лета, когда они молча сидели на крылечке под звездами или, довольные, дремали в кровати, ее чувство к нему окрепло, стало более полным, и вскоре она поняла, что любит его.
Этим летом они часто говорили о совместной жизни, но оба они знали, что выхода для них нет и в Пальмире это невозможно. Джозина говорила, что готова поехать с ним куда угодно, в любое место на свете, где они могли бы жить как муж с женой, даже если им нельзя будет пожениться. Однако Туземец даже и разговаривать не хотел о том, чтобы уехать из Пальмиры в какой-то незнакомый город в другой части страны. Он говорил, что родился в Пальмире и прожил тут всю свою жизнь, так же как и его папа, и если он попробует жить где-нибудь еще, то ни одной минуты не будет счастлив.
Джозина была влюблена в него ничуть не меньше прежнего, но теперь, после того как он женился, она поняла, что ей самой придется позаботиться о своем будущем. Ей было уже около двадцати пяти лет, а она все еще оставалась незамужней, без семейного очага. Еще несколько лет — и ей будет тридцать, а там очень скоро и сорок.
Джозина подала ему последний кусок жареной курицы. Она замолчала с той самой минуты, как он начал есть, и до сих пор все еще обдумывала, как сказать ему, на что ей придется решиться для того, чтобы у них с Эллен был семейный очаг. Не один мужчина собирался на ней жениться, и как раз сейчас один из таких с надеждой ждал ее ответа. Звали его Харви Браун, ему было двадцать восемь лет, и он служил грузчиком на товарной станции — работа хорошая.
— А что еще Мэйбл про меня говорила? — спросил Туземец, дожевывая последний кусок курицы.
Джозина смущенно взглянула на него.
— Что ты сказал?
— Еще что она говорила?
— Ничего особенного. По-моему, она так волновалась и злилась, что ей было не до разговоров — разве вот только шипела на меня за все, что только ей в голову взбредет. Сама разбила тарелку, а отругала за это меня. Даже за то мне досталось, что она забыла, куда сунула свои очки. Сказала, что это я их спрятала. Ты уж поостерегись, когда вернешься туда. Она, может, начнет швыряться в тебя вещами, как только ты дверь откроешь.
— Мне, может, не придется на этот счет беспокоиться, — ответил Туземец, слегка посмеиваясь. — Только я сначала хорошенько подумаю. Ничего не будет удивительного, если я решу здесь остаться навсегда, а туда больше не вернусь. Если ты мне будешь приносить еду повкуснее, как нынче вечером, то мне и незачем туда возвращаться.
Джозина отвернулась, чтобы скрыть слезы, навернувшиеся на глаза.
— Ты на ней женат теперь, — сказала она взволнованно. — Это большая разница. Дальше так продолжаться не может.
— Что «продолжаться не может»?
Она закрыла лицо руками.
— О чем ты говоришь, Джозина?
Не отнимая рук от лица, она покачала головой.
— Я хочу знать, что значат твои слова, — сказал он. — Что «дальше продолжаться не может»?
Схватив Джозину за руку, он заставил ее открыть лицо, и увидел, что она плачет.
— Ну, хорошо. Я тебе скажу. Да и надо сказать теперь же. Это из-за того, что на ней тебе можно было жениться. А на мне — нельзя. Вот что! Я ее ненавижу! Ненавижу! Не смела бы она со мной так обращаться, если б я не была то, что я есть!
— Да ведь все останется по-старому, Джозина. Нам с тобой не все ли равно.
После этого Джозина уже не могла сдержаться и заплакала. Когда она опять закрыла лицо руками, щеки у нее были мокры от слез.
— Нет, не все равно. Ты не понимаешь. Больше так продолжаться не может. Никогда не будет по-старому. Я ничем не хуже ее — только что не родилась белой, как она. На ней ты мог жениться, а на мне не мог. Нам даже не дадут жить вместе — разве вот так, как сейчас, — а мне этого мало. Вот почему у нас никогда уже не будет по-прежнему.
Она положила голову ему на плечо, и он почувствовал, как крепко вцепились пальцы Джозины в его руку. Она зарыдала так, что все ее тело вздрагивало.
6
— Мне нужно сказать тебе что-то, — услышал он голос Джозины. Она больше не плакала, и ее голос звучал спокойно. — Что-то очень важное.
— О чем ты говоришь, Джозина? Что-нибудь про Мэйбл?
— Нет. Не про нее. Про нас с тобой.
— А что это такое?
Она крепко сжала его руку.
— Я больше сюда не приду. Сегодня последний раз. Больше я с тобой не увижусь. Никогда больше не увижусь — так, как сейчас.
Повернувшись к нему лицом, она обвила его шею руками и отчаянно прижалась к нему. По силе ее объятий он чувствовал, как напряглось все ее тело.
— Не говори так, Джозина, — умолял он. — Я не отпущу тебя. Не могу отпустить, после всего что было.
— Так надо.
— Почему?
Она не ответила.
— Потому что я женился на ней? Поэтому?
— Это одна причина… — Она замолчала, часто Дыша. — Да, это одна причина. Не могу я быть в этом доме каждый день с утра до вечера и видеть тебя с ней. Мне будет слишком больно.
— Ты можешь днем работать где-нибудь в другом месте.
— Нет. Это нисколько не поможет. Совсем не поможет. Ты все-таки останешься ее мужем. — Руки Джозины обвили его шею. — А кроме того, есть и еще причина.
— Какая же причина?
— Эта причина важней всего другого. Я выхожу замуж…
В комнате надолго воцарилось молчание. Слышался только отдаленный свисток товарного поезда, подходившего к Пальмире.
— За кого же ты выходишь?
— За человека из моего народа.
— Для чего тебе это понадобилось?
— Другого выхода нет. Ты сам знаешь, что это правда.
Он взглянул на принесенный ею пирог. Корочка на нем была решетчатая, подрумяненная сверху и с боков, но впервые в жизни у него совсем пропал аппетит.
— Почему же нет другого выхода, Джозина?
— Мне нужна семья для Эллен. Бабушка проживет недолго — она такая дряхлая и слабая, — и после нее некому будет заботиться о девочке, пока я работаю. А я не хочу, чтобы Эллен выросла без отца: каждой девочке и каждому мальчику нужен отец. И он должен принадлежать к моему народу. Только и есть один этот выход.
— Но не выходи замуж сейчас, Джозина, — просил он, крепче прижимая ее к себе. — Во всяком случае, погоди немного, хоть совсем немножко. Только, ради бога, не сейчас. Я не хочу, чтобы ты выходила замуж. После всего, что было, сейчас не время…
— Сейчас как раз пора. Я не могу дольше ждать.
— Я тебе не позволю! Слышишь?
Она покачала головой.
— Так надо. Сам знаешь, я тебя люблю, но я негритянка, а ты белый. Этого не переменишь — никогда. Нам не дадут жить вместе по-хорошему. Они не станут мешать нам, если я буду ходить сюда ночью, зато днем я не смогу здесь оставаться. Вот когда поднимется шум! Скажут, что я хочу жить, как белая женщина. А я должна оставаться тем, что я есть. Я не могу выдать себя за белую — по крайней мере здесь, в Пальмире.
Он сидел молча, соображая, как бы убедить ее, чтобы она передумала. («Я выполнял свой пастырский долг сколько мог, но в конце концов мне надоело, и я устал спорить с Ханникатом о том, что нельзя же впускать в свой дом негритянку и позволять ей проводить там несколько ночей в неделю. Я говорил ему, что это так же дурно, как бывало в старое время в Большой Щели, а он на это отвечал, что от своего папы он слышал, будто бы в то время держать любовницу-негритянку было все равно, что держать пару гончих псов для охоты на опоссума. Вот почему я и бросил его уговаривать. Это самый большой упрямец, с каким мне только приходилось спорить. Каждый раз, как я увещевал его, указывал на то, что он живет в грехе, и пытался добиться от него обещания, что он перестанет путаться с негритянками, он неизменно отвечал, что его папа рассказывал и то и другое насчет обычаев нашей страны и что он скорее готов верить слову своего папы, чем тому, что рассказывают про небеса и райское блаженство. Я говорил ему, что он, а до него его папа поддавались диавольскому искушению и оба кончат тем, что попадут в преисподнюю, но мои слова не оказали никакого влияния на такого упрямца, как Туземец Ханникат».)
— Я хочу жить с кем-нибудь все время, и днем и ночью, — услышал он голос Джозины. — Вот что я чувствую. А другого выхода нет. Неужели не понимаешь? Вот почему я и выхожу замуж — за человека из моего народа. Я знаю, что я цветная, и знаю, что мне надо делать.
— Но ведь на самом деле ты не такая, Джозина. Ты только отчасти негритянка и сама это знаешь.
— Я знаю, кто я такая.
— Ты бы могла сойти за белую. Я видывал белых людей, у которых кожа куда темнее твоей.
— Этого мало… то есть белые люди так думают, что мало. А я хочу быть сама собой. И я знаю, что это такое. Такие девушки, как я, недостаточно хороши для белых — хороши разве только ночью да для того, чтобы работать на них, — но для себя я всегда достаточно хороша. И с этих пор я буду только негритянкой, для этого я и родилась.
Он встал с кровати и прошелся по комнате взад и вперед.
— Джозина, не бросишь же ты ходить ко мне после всего, что было. Не надо меня бросать. Я без тебя жить не могу. Ты же знаешь, как я к тебе привык. Я бы не мог привыкнуть ни к какой другой. Это чистая правда, Джозина. Ведь ты мне веришь? Для меня ты лучше всех на свете. Никогда не было такой, как ты, и никогда не будет. Без тебя я просто сам не свой. Все тогда становится совсем другим.
Поднявшись с места, она подошла вплотную к нему и прижалась щекой к его щеке.
— И я то же к тебе чувствую, — говорила она. — И сейчас я здесь, с тобой, как и всегда была.
Он хотел было обнять ее, но она не далась, снимая с себя свитер и расстегивая желтое платье. Он сел на край постели.
Отложив платье в сторонку, она остановилась на минуту, прежде чем подойти к нему. Глядя на нее в такое время, он всегда думал, что фигура у нее как на картинках, какие посылают в Валентинов день.
— Поцелуй меня, — шепнула Джозина. — Поцелуй покрепче. Делай со мной, что хочешь.
Он обнял ее пышущее жаром тело и со всей силой привлек к себе.
— Ну, что же ты, милый, — услышал он ее шепот. — Целуй меня еще.
— Ты никогда не уйдешь от меня, Джозина, — сказал он. — Я не пущу тебя. Мне все равно, что бы ни случилось. Я не дам тебе уйти от меня.
Она закрыла ему рот своей рукой.
— Не говори сейчас ни о чем, милый. Я не хочу ничего слушать. Целуй меня, как ты умеешь.
С улицы кто-то громко постучался в дверь. Когда они услышали этот стук в первый раз, он показался им каким-то не настоящим, невозможным, но потом он сделался еще громче и настойчивее, и уже нельзя было не обратить на него внимания.
Он сел, спустив ноги с кровати.
— Я забыл запереть дверь. Кто угодно может войти сюда сейчас.
Джозина подталкивала его, торопя встать с постели.
— Не впускай никого! Скажи, чтобы уходили прочь!
Он выскочил из комнатки и бросился к входной двери. Но не успел он добежать и повернуть ключ в замке, как дверь отворилась и вошла Мэйбл. Он растерянно смотрел, как она закрывает за собой дверь.
— Я так и думала, что найду тебя здесь, в этой лачуге, — сказала она резким голосом и поджала губы. Волосы у нее падали на лоб, и она то и дело отбрасывала их взмахом руки. — Что ты тут делаешь? Отчего ты убежал?
Ответа Мэйбл не стала дожидаться.
— Скажи хоть что-нибудь, — сердито понукала она. — Что с тобой стряслось? Почему ты молчишь?
— Ну, я обещал кое-кому починить радио и хотел сдержать слово. Мое честное слово…
Мэйбл заглядывала за его спину в открытый дверной проем. Но едва она шагнула вперед, как он быстро загородил ей дорогу.
— Стой, Мэйбл! Не надо…
— Что там такое происходит? — спросила она.
Он хотел было задержать ее, но она одним движением руки легко оттолкнула его в сторону.
— Не входи туда, Мэйбл!
Она в это время была уже на пороге второй комнатки. Когда Туземец вошел за ней следом, она уже стояла в ногах кровати. Джозина забилась в угол комнаты, держа перед собой свое желтое платье. Бежать Джозине было некуда и спрятаться тоже некуда.
— Ах ты, бесстыжая! — завопила Мэйбл, хватая желтое платье и вырывая его у Джозины. — Ты же голая, как ощипанная курица!
Она с минуту разглядывала желтое платье, потом швырнула его на пол.
— Так я и знала, что у всех вас, бесстыжих девок, совести нет, но вот уж не думала, что увижу одну бесстыдницу совсем голую! Первый раз в жизни вижу такую гадость!
Джозина хотела было прикрыться подушкой, но Мэйбл вырвала у нее подушку и швырнула ее в угол через всю комнату.
— Я и подозревала что-нибудь в этом духе, когда вошла в кухню и хватилась целой жареной курицы и пирогов с бататами. Только посмотрите на нее! Ворует еду из моего дома! Прячется тут голая с белым мужчиной! Да еще с этим! — Она повернулась к Туземцу, сердито глядя на него. — Понимаю, что ты тут делаешь, Джозина Мэддокс. Ты точно такая же, как все остальные негритянки. Вечно стараешься соблазнить какого-нибудь белого мужчину.
Мэйбл пришлось замолчать, чтобы перевести дыхание. В эту минуту она еще раз взглянула на Туземца, сердито и с омерзением.
— Чтобы твоей ноги больше не было в моем доме! Слышишь, Джозина Мэддокс? Можешь проделывать всякие фокусы где-нибудь в другом месте! Надеюсь, что больше никогда в жизни тебя не увижу!
Обернувшись, Мэйбл посмотрела на Туземца и погрозила ему пальцем.
— А теперь, Туземец Ханникат, позвольте мне сказать вам кое-что. С утра я первым долгом пойду к своему адвокату и разведусь с вами — подлый вы человек, путаетесь с негритянками! Вы меня никогда не любили. Вы не пощадили моей гордости, моей любящей натуры. Вы даже не умеете обращаться с порядочной женщиной, вроде меня. Вам нужны были только мои деньги, чтобы содержать эту бесстыжую Джозину Мэддокс в вашей лачуге. Вот на что пошли бы мои денежки, если б я сама не заявилась сюда и не увидела это позорное зрелище своими глазами. Вот и содержите ее теперь сами — она вашего поля ягода. И не смейте возвращаться в мой дом за вашими отрепьями! Я их выброшу на улицу, там им самое подходящее место. Можете поискать на улице ваш дробовик и все остальное, если вам оно нужно. Мерзкий развратник! Видеть вас больше не хочу!
Прежде чем выйти из комнаты, она повернулась и плюнула в лицо Джозине.
— Вот что я думаю обо всех вас, бесстыжих девках. Вы только для того и живете на свете, чтобы соблазнять белых мужчин своим телом!
Дойдя до входной двери, Мэйбл опять остановилась и оглянулась на Туземца.
— Вас обоих надо преследовать по закону за смешение рас. Это позор для всех порядочных людей. Я тоже этого так не оставлю. Ну погодите вы оба с этой бесстыжей Джозиной Мэддокс, сами увидите, что не оставлю. Я с вами поквитаюсь! Еще пожалеете!
7
На следующее утро, к одиннадцати часам, распространяясь со всех сторон городской площади, как вспышка огня среди сухой осоки в октябре, слух насчет кратковременной семейной жизни Ханниката и Мэйбл Бауэрс и сплетня насчет того, как она застала с ним голую Джозину Мэддокс в Большой Щели, разошлись с уличных углов по конторам и лавкам во всем городе.
Слухи быстро передавались из уст в уста с большими преувеличениями и фантастическими прикрасами, как это и всегда бывало в Пальмире. Следовательно, подробный отчет о том, что случилось прошлой ночью, и в истинном и в искаженном виде, разошелся в более широком кругу и гораздо скорее, чем могла быть напечатана статейка для семейного чтения в «Вестнике округа Сикамор».
После этого весть о том, что Мэйбл побывала в Большой Щели и застала Туземца с Джозиной, передавалась из уст в уста и обсуждалась на заправочных станциях и в парикмахерских, переходя из дома в дом и из квартала в квартал.
Из замужних женщин мало кто удивился, услышав эту новость, потому что такие события в Пальмире случались довольно часто, однако это насторожило их и заставило более подозрительно относиться к собственным мужьям. Большинство мужчин, толковавших на этот счет, беспокоились скорее о своей личной свободе по вечерам, чем о чем-либо ином, даже когда они говорили, как им прискорбно слышать, что Туземца застали с голой негритянкой; они опасались, как бы им самим не попасться в таких же обстоятельствах.
В Пальмире было меньше трех тысяч жителей и население города делилось почти поровну на негров и белых, а потому было очень вероятно, что представители обеих рас, начиная от пятнадцати-шестнадцати лет и выше, к концу дня имели возможность узнать о том, что случилось на Черри-стрит и в Большой Щели за последние двадцать четыре часа.
— Мне, право, жаль слышать, что Туземец так попался, — сказал Эл Дидд, узнав эту новость, — но одно тут есть и хорошее. Это мне будет отличный урок, чтоб я его зарубил на носу и не забывал на будущее время. А кроме того, оно показывает, до чего мужчина может распуститься: и дверей не запрет, и предосторожностей никаких не примет. Я теперь буду очень ласков со своей старухой, ласков, как никогда раньше, и несколько вечеров посижу дома. Не желаю, чтоб она забрала себе в голову совать нос в мои дела и следить за мной, когда я выхожу пройтись после ужина. Это уж будет черт знает что, если мужчине нельзя даже выйти из дому и прогуляться вечерком, когда ему вздумается. Надеюсь, что никогда до этого не доживу. Оно было бы не лучше, чем сидеть за решеткой и под замком в нашей городской тюрьме.
Если возвратиться к началу утра, то окажется, что в ответе за все разговоры и сплетни, ходившие по городу, был Миллер Хайэт. Миллер совсем не умел держать язык за зубами, какое бы секретное ни было дело, и всегда выбалтывал все, что знал, первому встречному. Не теряя времени, он сообщил Элу Дидду, Джорджу Дауни и еще нескольким лицам, что сегодня утром в девятом часу к нему в контору на втором этаже банковского здания приходила Мэйбл и просила развести ее с Туземцем как можно скорее.
Миллер Хайэт, дородный мужчина среднего роста с седеющими волосами и круглым румяным лицом, последние двадцать лет состоял поверенным и адвокатом Фрэнка Бауэрса. Все эти годы он был знаком с Мэйбл, и ему хотелось побранить ее за то, что она неосмотрительно вступила в новый брак так скоро после болезни и неожиданной смерти Фрэнка. Однако он знал, что было бы неблагоразумно порицать ее в такое время, — он опасался, что всякое мало-мальски несочувственное слово, сказанное им в такую минуту, когда она раздражена и взволнована, заставит ее уйти из его конторы и обратиться к другому адвокату. Он уже предвкушал тот солидный гонорар, который надеялся получить от нее.
Миллер внимательно выслушал рассказ Мэйбл обо всем, что произошло после свадебной церемонии. Когда она замолчала, он расспросил ее подробно о том, что случилось за последние двадцать четыре часа. Подумав, Миллер посоветовал ей добиваться признания брака недействительным, что при существующих обстоятельствах будет предпочтительнее развода и достижимо быстрее и легче.
Мэйбл сидела перед ним, не говоря ни слова. Казалось, она в любой момент готова была встать и выйти из конторы. В Пальмире насчитывалось еще восемь или девять адвокатов, и она знала, что каждый из них будет рад иметь такую богатую клиентку.
— Большинство адвокатов, если только они не специалисты по бракоразводным делам, не любят браться за такие казусы, — сказал Миллер, хмуря брови, — но, к счастью, я не лишен возможности посоветовать вам, как взяться за это дело, и в качестве старого друга семьи буду только этому рад. Так вот, из заявления, которое вы мне сделали, я заключаю, что ваш брак не был фактически осуществлен, как это полагается по закону. При таких обстоятельствах и как это предусмотрено существующим положением, вы имеете право требовать, чтобы ваш брак был признан недействительным. Это значит, что вас не будут беспокоить и подвергать тем унижениям, которые обычно неизбежны в бракоразводном процессе. Как старый друг семьи и питая глубокое уважение к женщине, я стремлюсь оберечь ваше доброе имя и предотвратить всякие злостные и скандальные сплетни, которые неминуемо возникнут, если вы будете вынуждены повторить в открытом заседании суда все те заявления щекотливого личного характера, которые вы сделали мне несколько минут назад строго конфиденциально.
Миллер улыбнулся и замолчал, дожидаясь, что она кивнет в знак согласия или одобрит хоть словом предложенный им план, но Мэйбл все так же сидела на стуле, выпрямившись, не двигаясь и не говоря ни слова. Миллер нервно откашлялся.
— Я хочу сказать еще кое-что важное, Мэйбл, в связи с этим делом, — продолжал Миллер. — Я как раз в очень хороших отношениях с председателем суда. Вот что я сделаю: зайду туда и поговорю с ним неофициально и доверительно. Я объясню ему, что брак по прошествии всего этого времени не был завершен, как следует по закону — не по вашей вине, разумеется, — и я уверен, что смогу добиться расторжения брака, не привлекая вас к даче подробных показаний на суде. А иначе, как вы должны знать, вам придется давать показания интимного характера касательно брачных отношений или отсутствия таковых — в том случае, если вы будете просить развод, а Туземец Ханникат подаст встречный иск. Ну, я уверен, что вы послушаетесь моего совета в этом деле. Ведь вы, конечно, послушаетесь, Мэйбл?
Он остановился и подождал, не скажет ли что-нибудь Мэйбл, но она молчала, поджав губы.
— Ну, хорошо, Мэйбл, я объясню подробнее обычную процедуру бракоразводного процесса в спорных случаях, — торопливо продолжал он, бегло улыбнувшись. — Для того чтобы получить постановление о разводе и при данных обстоятельствах надеяться на успех, вас вызовут для дачи показаний о нежелании Туземца Ханниката или о его неспособности выполнять супружеские или брачные обязанности. Более того, суд вас попросит описать подробно, что именно вы увидели, застав вашего супруга в обществе Джозины Мэддокс, которая была раздета. И даже после того, как вы претерпите такое испытание, всегда есть риск, что суд вынесет решение в пользу ответчика. А если так случится, то в силу закона вы останетесь женой Туземца Ханниката до самой вашей смерти. Можете себе представить, как все это будет тягостно для женщины с вашей чувствительностью. А если вы последуете моему совету, то брак будет признан недействительным, мы пресечем в корне все скандальные слухи, чтобы они не стали достоянием гласности, и вы сможете сохранять это в тайне всю свою жизнь.
— Я сюда пришла, чтобы добиться развода, а не для чего-нибудь другого, что вы придумали, — сказала Мэйбл своим обычным резким тоном. — Я не понимаю, о чем вы говорите, и понимать не хочу. Я знаю, что мне нужно, и меньшим не удовольствуюсь. Много найдется и других адвокатов…
— Мэйбл, — прервал ее Миллер, приятно улыбаясь и наклоняясь вперед над столом, — Мэйбл, как старый друг семьи и ваш поверенный, я только стараюсь сохранить в тайне подробности этого несчастного дела для вашей же пользы. Вы знаете, как сплетни могут извратить и исказить правду, если дать им хоть малейшую зацепку. Люди больше всего любят слушать и повторять какую-нибудь клевету. Вы сами знаете, какого характера сплетни расходятся по всему городу из конца в конец, когда происходит что-нибудь в этом роде. Поверьте мне, Мэйбл, по городу будет ходить гораздо меньше сплетен, если…
— Я лучше вашего знаю, что, по-моему, нужно сделать, — сказала она. — И не желаю, чтобы вы толковали мне о чем-то совершенно другом. Я пришла сюда, уже приняв решение, все так и останется, как я решила.
— Вы имеете полное право думать по-своему, Мэйбл, но факт остается фактом: вы сами сказали, что между вами не было обычных супружеских отношений или физической близости. А по закону брак считается юридически завершенным только тогда…
— Я уже сказала вам, что мы с ним долго лежали в кровати, после того как он проохотился на опоссума всю ночь, и если это у вас не по закону, то не знаю уже, что законно. И, хоть это было днем, я спустила шторы, и в спальне стало темно, как ночью. И я заплатила за разрешение на брак из своих собственных денег и дала преподобному Уокеру десять долларов за свадебную церемонию. Кроме того, я позвонила самым близким друзьям по телефону и сказала, что выхожу замуж.
Миллер откинулся на спинку кресла и старательно потер обе щеки ладонями.
— Мэйбл, закон строг и точен в своем определении брачных отношений, и ни с какими вашими толкованиями этого закона суд считаться не будет, как бы недвусмысленны они ни были. Не буду приводить вам точную цитату, но могу вас уверить, что она относится к физической стороне дела. Так вот, если это дело будет слушаться в суде и Туземец Ханникат представит со своей стороны оправдания и скажет, что он не намерен с вами разводиться, то вам предложат известные вопросы, на которые вы обязаны будете отвечать под присягой. А если это случится, то для того, чтобы как можно лучше защищать ваши интересы, я должен знать наперед все факты, относящиеся к делу. И вы можете не упоминать про то, что заплатили за разрешение и дали десять долларов преподобному Уокеру. Это не имеет значения, несущественно и суда не касается. Так вот, я не могу предпринять нужных шагов в ваших интересах, пока вы не откроете мне — конфиденциально, разумеется, — некоторых, важных подробностей касательно ваших матримониальных или брачных отношений с Туземцем Ханникатом. Я уверен, что вы понимаете, насколько это необходимо.
Мэйбл недоверчиво посмотрела на него.
— Что вы хотите знать? — осторожно спросила она. — Но только вы поделикатней меня расспрашивайте, Миллер Хайэт. Есть такие вещи, которых я ни вам и никакому другому мужчине не скажу.
Миллер закрыл глаза на несколько секунд, обдумывая, как сформулировать вопрос, чтобы Мэйбл на него ответила. Глубоко задумавшись, он то и дело потирал свои румяные щеки. Когда он заговорил, его глаза были все еще закрыты.
— Мэйбл, покорялись ли вы — как жена — вашему мужу Туземцу Ханникату, в то время когда вы с ним вместе находились в спальне? Или в гостиной, или еще где-либо в доме? Иными словами, были ли вы одеты или раздеты таким образом, чтобы быть доступной его желаниям все это время или часть этого времени?
Мэйбл выпрямилась, сидя на краешке стула.
— Это не ваше дело, Миллер Хайэт! — сказала она, поджимая губы. — Но могу вам сообщить, что все это время на мне была надета ночная рубашка! А я никогда не показываюсь в таком виде в гостиной или еще где-нибудь в доме! Я всегда прилично одета, выходя из спальни! Я удивляюсь, как вам пришло в голову задать такой вопрос, Миллер Хайэт!
Миллер слегка улыбнулся.
— По крайней мере это лучше, чем сказать, что вы все время ходите в пижаме, Мэйбл.
— Я не такого сорта женщина, чтобы носить пижаму.
Миллер нахмурился, обдумывая, как задать следующий вопрос, который он считал необходимым. Даже после того, как он его задал, он не надеялся, что она ответит хотя бы «да» или «нет».
— Ну, Мэйбл, — начал он, — я хочу, чтобы вы считали меня не старым другом семьи и даже не мужчиной, а только адвокатом. Вопрос, который я хочу вам задать, не имеет личного характера. И смею вас уверить, что он необходим в этом исключительном деле. Ведь вы поможете мне, Мэйбл?
— А что это такое? — спросила она подозрительно.
Миллер нервно откашлялся.
— Скажите, он… Туземец Ханникат… снимал ли он брюки в вашем присутствии?
— Без грубостей! — резко оборвала она его. — Я не собираюсь сидеть тут и слушать такие разговоры.
— Нет, погодите минутку, Мэйбл, — быстро возразил Миллер, для успокоения поднимая кверху ладонь. — Не уходите, Мэйбл. Сидите, не вставайте. Вам не нужно отвечать на этот вопрос, если вы не желаете. Единственная причина, почему я задал этот вопрос, вот какая: мне кажется, лучше будет сообщить эти факты вашему адвокату по доверенности, чем быть вызванной в суд, где вас принудят разоблачить их перед всем городом. Но вы не беспокойтесь, Мэйбл. Мы найдем возможность довести это дело до конца, который удовлетворит вас во всех отношениях.
Мэйбл крепко стиснула руки на коленях и ничего не ответила.
8
Миллеру Хайэту не так-то легко было убедить Мэйбл в том, что ей следует добиваться признания брака недействительным, а не постановления о разводе. Она все твердила, что это оскорбляет ее гордость. Она внушила себе, что ее друзья сочтут ее потерпевшей стороной и будут больше ей сочувствовать, если она получит развод, а если брак будет признан недействительным, это может навести на мысль, что охота на опоссума показалась мужчине более привлекательной, чем женские достоинства Мэйбл.
Миллер не мог уговорить ее до тех пор, пока не доказал ей, что в Пальмире, да и во всем округе Сикамор найдутся десятки и десятки женщин, которые знают по личному опыту, что охотничья лихорадка, вдруг нападающая на мужчину ранней осенью, действует куда могущественнее в физическом и эмоциональном отношениях, нежели обычные человеческие страсти и желания.
— И не забывайте, Мэйбл, что первобытный охотничий инстинкт в нормальном мужчине пока еще сильнее законов о браке, созданных человеком.
— Не верю ни единому слову из всей этой болтовни, — сказала Мэйбл. — Я все-таки думаю, что настало время, когда все женщины должны собраться и запретить мужчинам уходить куда-то и шататься бог знает где целую ночь. Это просто предлог, который выдумали для себя мужчины, лишь бы выбраться из дому, как только стемнеет, и путаться с бесстыжими негритянками, вроде этой Джозины Мэддокс. Если никто другой не положит этому конец, то я выполню свой долг.
— Мэйбл, разве Фрэнк никогда не охотился на опоссума?
— Ну да, охотился иной раз. Но Фрэнк был не такой человек, чтобы якшаться с этими наглыми девчонками, у которых хватает бесстыдства снимать с себя платье и соблазнять белого мужчину своим телом.
Наконец, согласившись подать просьбу о признании брака недействительным, вместо того чтобы ходатайствовать о разводе, Мэйбл сказала Миллеру, что немедленно вслед за этим она намерена хлопотать, чтобы и Туземца и Джозину арестовали за смешение рас. («Мэйбл хорошая женщина. Намерения у нее самые лучшие. Беда в том, что если такая женщина овдовеет или разведется, потрясение может на время лишить ее душевного равновесия, и в силу этого она способна на крайности и безрассудства. Вот почему многие из таких женщин опять выходят замуж очертя голову, сами не понимая, что делают. У других выманивают деньги ловкие говоруны, а третьи затевают крестовые походы против чего-нибудь такого, к чему они прежде не проявляли ровно никакого интереса. Дайте только Мэйбл время опомниться, и она придет в себя и станет такая же, как прежде. По существу она хорошая женщина».)
Миллер подскочил на стуле, и его цветущее лицо выразило удивление. Ему пришлось откашляться, и только после этого он смог заговорить.
— Кажется, я вас плохо расслышал, Мэйбл. Что вы такое сказали?
— Я хочу, чтобы Туземца Ханниката и Джозину Мэддокс арестовали за смешение рас.
Он посмотрел на нее через стол, потирая лицо и сочувственно морщась. Рот у него был раскрыт, но заговорил он далеко не сразу.
— Послушайте меня, Мэйбл, — сказал он сдержанно. — Выкиньте это из головы. Я не желаю принимать участия в таком сумасбродном проекте. И пальцем ради него не шевельнул бы.
— Вам платят за то, что вы адвокат, и вы должны делать то, что я хочу. А я хочу, чтобы их арестовали.
— Но ведь этим делом должны ведать органы полицейского надзора, если они захотят, а я уверен, что они не захотят. Они бы, вероятно, приняли меры, если бы дело шло о негре и белой женщине, а не наоборот. Это просто не принято, и я не помню, чтобы они когда-нибудь вмешивались в личные права белого человека. Вмешиваться в это не их дело.
— Тогда это будет мое дело.
— Нет, Мэйбл, — увещевал ее Миллер. — Не говорите так. Послушайте меня как старого друга семьи. Частное лицо не имеет права вмешиваться в такие личные дела. Я готов советовать вам и руководить вами во всем, что касается судебных процедур и выступлений по поводу признания недействительным вашего несчастного брака с Ханникатом. И я буду по-прежнему управлять состоянием Фрэнка, до тех пор пока оно не будет закреплено за вами и переведено на ваше имя. Но я отнюдь не собираюсь вступать в спор с существующими в нашей стране обычаями. Решительно, это единственное, чего я не стану делать. Если б я принял участие в таком деле, все городские адвокаты подумали бы, что я рехнулся.
— Не для того я сюда пришла, Миллер Хайэт, чтобы слушать такие разговоры, — сказала Мэйбл, вся вспыхнув от гнева. — Вы мне не помешаете сделать то, что я считаю правильным.
— Помешать я вам, быть может, не смогу, но и участвовать в этом я не собираюсь. — Он взглянул на нее, решительно мотнув головой. — Я думаю то, что говорю, Мэйбл. Некоторые обычаи в этой части страны освящены историей и установились слишком давно для того, чтобы первый встречный мог их ломать в наше время. Всем известно, что смешение рас имеет место в течение круглого года, как только солнце зайдет. А то, что свыше ста лет было общепринятым обычаем в нашей части страны, ни вы, ни я, ни Джон Джонс не можем менять по нашей прихоти. Как бы то ни было, если бы прикосновенные к этому лица не пожелали, то ничего подобного не произошло бы. Теперь вы сами можете видеть, почему это является делом личного вкуса и свободного выбора.
— Не верю ни единому слову! Только белые подонки могут пасть так низко! Порядочные белые люди ничего подобного не сделают!
— Вероятно, можно установить какое-то различие между белыми подонками и порядочными белыми людьми, как вы их называете, но такое произвольное различие не оказывало никакого влияния на обычаи страны в прошлом и вряд ли окажет в настоящем. Для того чтобы убедиться в этом, вам стоит только оглянуться по сторонам и увидеть всех этих мулатов, квартеронов[11], желтых и коричневых и всех других цветов кожи и глаз у нас в стране. И глядя на них, вы нередко усмотрите большое фамильное сходство — и то, что вы назвали бы сходством в чертах лица и физических особенностях, — с лучшими белыми семействами. В округе Сикамор можно наблюдать фамильные черты мулатов Паттерсонов наряду с фамильными чертами белых Паттерсонов. И кто угодно может сказать то же самое о фамильных чертах Лонгстритов, Тилденов и многих других семейств. И такими они стали отнюдь не потому, что их нашли под капустой.
Миллер поднялся с кресла и встал, выпрямившись, за письменным столом. («Много приходится слышать о примеси белой крови у негров, но почти никогда не говорят о примеси негритянской крови у белых. Однако не думайте, что ее не существует. Быть может, в наше время это объясняется другими причинами, чем лет пятьдесят или сто назад. И причин в то время было довольно много и весьма основательных. Например, одна причина, о которой часто забывают, это обычаи и нравы на плантациях. Если плантатор имел от жены семерых или восьмерых детей, что в те времена было средней цифрой, а потом эта жена умирала от родов, то он поручал детей заботам негритянской нянюшки, а сам уезжал по своим делам. При таких обстоятельствах ничего необычного не было, если нянюшка незаметно подсовывала к остальным детям еще одного сына того же плантатора — светлокожего негритенка, мулата или квартерона — и воспитывала его вместе с белыми детьми. Негритенок вырастал и, надо полагать, носил ту же фамилию, что и белые дети, а потом женился, так же как и они. Многие из них подшучивают над этим и называют себя темнокожими Паттерсонами или темнокожими Тилденами».)
Наклонившись вперед над столом, Миллер решительно помотал головой.
— Во всяком случае, Мэйбл, я не собираюсь свалять дурака и подать полиции или шерифу жалобу, о которой вы тут толкуете. Даже если я доживу до ста лет, это никогда не забудется. Надо мной смеялся бы весь округ Сикамор.
Не успел он договорить, как Мэйбл уже поднялась на ноги и стала перед ним.
— Вы можете быть трусом, Миллер Хайэт, но я-то не трусиха, — сказала она и поджала губы. — Я вам покажу! Я сама пойду в полицию и велю арестовать их обоих. Есть границы терпению порядочных людей, вроде меня. Эта голая Джозина Мэддокс самое возмутительное, что я в своей жизни видела! Я не желаю жить в одном городе с людьми, которые такими делами занимаются!
Миллер не произнес ни слова, пока она не отошла от стола и не повернулась к двери. Он проводил ее через весь кабинет.
— Я только одно могу сказать вам, Мэйбл: лучше собирайтесь, укладывайтесь и переезжайте в другой город, если вам невмоготу, и будьте готовы к тому, что вам придется проехать не меньше тысячи миль, прежде чем вы найдете место, где поселиться. Не скажу, правы вы или неправы, но я знаю, что не в ваших силах положить конец тому, о чем вы толкуете, так же как я не в силах помешать тому, что солнце взойдет завтра утром из-за методистской церкви. Есть в жизни много такого, что от нас с вами не зависит. И одна из таких вещей — это привлекательность для белого мужчины красивой смуглой девушки с горячей кровью. И подчас кажется, что на свете гораздо больше такого, что от нас не зависит, чем наоборот. Внести какую-то перемену можно только уничтожив либо девушек-негритянок, либо белых мужчин, а пока мы с вами живы, я думаю, это вряд ли произойдет.
Мэйбл повернулась к нему спиной и вышла из кабинета, хлопнув дверью изо всех сил.
Как только затих стук каблуков Мэйбл по скрипучей деревянной лестнице, ведущей со второго этажа на улицу, Миллер с усталым вздохом опустился в кресло.
Он медленно и задумчиво потирал обе свои румяные щеки сначала одной, потом другой рукой. Любопытно, что сказал бы Фрэнк Бауэрс о крестовом походе Мэйбл против смешения рас, ежели бы он был сейчас жив. Миллер был уверен, что Фрэнк понял бы, почему она решила наказать Туземца, вместо того чтобы удовольствоваться разводом или признанием брака недействительным. Сам же Миллер подозревал, что Мэйбл, быть может не сознавая этого, чувствует себя оскорбленной и униженной и только гордость толкает ее на крайние меры, и сомневался, принесет ли ей удовлетворение даже этот крестовый поход. («Как всем известно, не часто приходится слышать о связи слуги-негра с белой женщиной, но уж если это случилось, так я не стал бы держать пари на собственные деньги, что первый ход сделала не белая женщина. И не думайте, будто ни одна из белых женщин и девушек на это не способна. Для начала тут нужен только известного рода взгляд, и каждый мужчина, заметив такой взгляд, понимает, что ему подали знак, так же как любая женщина умеет его подать. Ничто человеческое не чуждо человеку любого цвета кожи».)
Долгое время Миллер сидел, глядя в окно на грязный купол здания суда и погнутый ветром флагшток на его крыше. Он размышлял о том, сколько детей смешанной крови породил Фрэнк Бауэрс за всю свою жизнь и что скажет Мэйбл, если узнает, что хотя бы один ребенок Фрэнка рожден от матери-негритянки.
Но Фрэнка Бауэрса уже нет на свете, он умер, и Миллер вдруг поймал себя на мысли, а сколько же детей смешанной крови у него самого живет где-то тут, в Америке. Он знал, что один из его сыновей, рослый юноша, живет здесь в Пальмире, ему теперь около двадцати лет, и работает он на лесопильном заводе. Если не считать темного цвета кожи, то в других отношениях этот малый заметно похож на троих его сыновей, рожденных от законной жены, и все они теперь обзавелись семьями и ушли из дома. («Когда состаришься, то никак не можешь решить, радует тебя или печалит то, что случилось когда-то давным-давно. Думаю, что это какое-то среднее чувство между печальным и радостным. Вот почему время творит с нами что-то странное. Похоже на то, как еще подростком ты воровал яблоки и арбузы у какого-нибудь фермера. Это нечто такое, чего сейчас ты не сделал бы, но в том возрасте оно казалось нормальным и вполне естественным».)
Миллер всегда заговаривал с этим красивым смуглым юношей, встречая его на улице, но мальчик в присутствии белого держался застенчиво и молчаливо и только кивал и улыбался Миллеру. Повидавшись с мальчиком, он не мог отделаться от чувства грусти и угнетения, главным образом потому, что не знал даже, как зовут его сына. Миллер понимал, что ему в любое время легко было бы узнать, как зовут и мальчика, и его мать, но почему-то чувствовал, что для его душевного спокойствия лучше будет не спрашивать, какое имя дала ему негритянка-мать.
Миллер долго сидел за письменным столом, стараясь хорошенько обдумать, какие шаги следует предпринять в суде, для того чтобы брак Мэйбл был как можно скорее признан недействительным, но мысли его становились все более смутными и расплывчатыми, и он был не в силах сосредоточиться даже на таком шаблонном для юриста деле. В конце концов он поднялся с места, надел шляпу и вышел из конторы.
Вместо того чтобы пойти прямо в суд и поговорить там с председателем, как ожидала от него Мэйбл, он зашел в аптеку и купил сигару. После этого он медленно прошелся по тротуару по западной стороне городской площади. Теперь он знал, что, прежде чем что-нибудь предпринять, он должен повидаться с Ханникатом. Хотя Туземец и не был его клиентом, оба они жили в Пальмире и знали друг друга всю свою жизнь. Они всегда были в дружеских отношениях, иногда разговаривали, даже ходили вместе охотиться на опоссума, и Миллер чувствовал себя обязанным предупредить Туземца заранее насчет тех шагов, которые будут им предприняты в суде.
Несколько мужчин, один за другим, сказали ему, что видели, как Туземец и Эл Дидд шли по улице в заведение Эда Говарда на южной стороне площади. Был уже полдень, и многие из лавочников и деловых людей уже отправились по домам, чтобы пораньше пообедать вместе с женой, а потом часок вздремнуть. Неженатые продавцы и конторские девицы сидели за стойками в кафе, заказывая вегетарианский суп, шницели и чай со льдом или горячий кофе.
9
Когда Миллер Хайэт вошел в пивную Эда Говарда, Туземец держал в левой руке наполовину съеденный сэндвич со шницелем, а правой нажимал рычаг своего любимого автомата. Он уже выиграл бутылку пива и набрал столько очков, что ему полагалось два раза бесплатно сыграть в «Девушек на пляже». Кроме Эла Дидда, вокруг автомата толпилось еще несколько человек, наблюдая, как легко и ловко Туземец набирает очко за очком. Все любовались его свободной позой и сложной работой ног, когда он отводил рычаг назад и отпускал его.
Эл Дидд толкнул Миллера локтем.
— Миллер, — сказал Эл, — а ведь я думал, что вы, адвокаты, все время торчите в суде, разыскиваете, не хочет ли кто-нибудь судиться, или стараетесь засадить кого-нибудь в тюрьму. Лучше бы вы не ходили сюда да не затевали бы склоки. Тут все уже имели неприятности, сколько полагается по закону. Было бы по-дружески, если бы вы отсюда ушли и не приставали бы к людям, а то они только пугаются.
— Бросьте, Эл. Я адвокат по этическим вопросам. Мое дело защищать людей, а не преследовать их.
— Так почему бы вам не доказать, что вы истинный человеколюбец: перестали бы таскать людей в суд да взыскивать с них десять долларов за подержанную, никуда не годную стиральную машину?
— Приходите завтра ко мне в контору, Эл, и мы с вами уладим это дело окончательно. Я всегда готов примирить обе стороны и пойти на компромисс или устраивающее всех решение. Это одна из основ моей этической платформы. Мне известно, что стиральная машина, которую вы купили для жены, сломалась раньше, чем вы успели выплатить за нее все взносы. Послушайтесь моего совета и больше не покупайте в кредит подержанных вещей.
— Сколько же вы с меня возьмете за этот юридический совет?
— Ваша дружба оплатит мне его полностью.
Зная, что дожидаться приватного разговора с Туземцем придется долго, Миллер купил у стойки сэндвич с ветчиной и сыром и принялся за него. Держа в руке сэндвич, он подошел к свободному автомату, опустил в отверстие никель и отвел назад рычаг.
Прошло почти полчаса, прежде чем Туземец кончил играть в «Девушек на пляже» и уселся на табурет перед стойкой. Миллер поспешил занять место рядом с ним и заказал Эду Говарду две кружки пива. Он заплатил за них вперед.
Оба сидели молча, пока не отхлебнули по глотку пива из кружек.
— У меня только что было совещание с Мэйбл, — сказал после некоторого молчания Миллер, наклоняясь поближе к Туземцу и доверительно понижая голос. — Я сюда пришел, чтобы разыскать тебя и сообщить тебе об этом.
— Совещание насчет чего? — спросил Туземец.
— Она меня уполномочила добиваться расторжения вашего брака на самых законных основаниях.
— Это почему?
— Тебе лучше знать почему. Причина этому — ты.
— А что я сделал?
— Прежде всего брак остался незавершенным, а потом она тебя застала с этой негритянкой у тебя дома. Ни у одной женщины не было более веских оснований для развода или признания брака недействительным.
— Все это Мэйбл виновата. Она уж слишком на меня наседала. Много есть такого, к чему мужчина должен сначала привыкнуть, прежде чем почувствовать себя свободно, — вот и к чужой женщине тоже. Я бы справился с тем, о чем ты говоришь, если бы она меня не торопила. Я всегда не любил, чтобы меня подталкивали к чему-нибудь совсем непривычному, пока я сам еще не приготовился.
— Ну ладно, теперь уж поздно привыкать, — сказал Миллер. — Мэйбл уже уполномочила меня добиваться этого самого расторжения. Отсюда я прямо иду в суд хлопотать на этот счет.
Туземец отхлебнул большой глоток пива.
— Через несколько дней ты снова сможешь считать себя холостяком, — сказал Миллер. — Мне думается, во всяком случае, что ты не создан для семейной жизни. И, уж конечно, ты вел себя не как женатый человек.
— Ну что ж, это мне как раз подходит, — сказал Туземец, широко ухмыляясь и сдвигая кепку на затылок. — Если только оно не хуже развода. А на меньшем я не помирюсь.
— Как бы ты на это ни смотрел, Туземец, оно даже лучше развода. Мэйбл уплатит все судебные издержки, и гонорар адвокату тоже. Лучше и не придумаешь. Тебе это и десяти центов не будет стоить из твоих собственных денег.
Туземец подтолкнул Миллера локтем.
— Вот это мне нравится слышать. Значит, я еще, может, заполучу обратно мое старое счастье. Мне его недоставало последние два дня, и я уже начал было беспокоиться. Я выиграл всего четыре бесплатные партии вон на том автомате да одну жалкую бутылку пива. А когда мне везет, я могу наверняка рассчитывать, что выиграю вдвое больше. — Он сунул руку в карман и вытащил монетку. — Не сразиться ли нам в орлянку, Миллер? Мне хочется попытать свое счастье. Ставлю три против пяти. Что ты на это скажешь?
Миллер покачал головой.
— Нет. Я пришел к тебе сюда по серьезному делу.
Туземец сунул монету в карман и отхлебнул еще глоток пива.
— Скажи мне вот что, — начал Миллер, придвигаясь к нему ближе. — Все это между нами. Зачем ты все-таки на ней женился? Потому что она богатая вдова? По этой причине?
Туземец ухмыльнулся.
— Кабы ты прожил столько времени холостяком, сколько я, да ел бы холодные чилийские бобы и макароны из консервной банки вместо завтрака, обеда и ужина, ты бы тоже выкинул что-нибудь отчаянное. Я просто помирал без настоящей домашней еды. В тот день, когда я пошел к ней, у меня только и мыслей было, как бы напроситься на обед, усесться за стол и наесться до отвалу чего-нибудь, приготовленного по-домашнему. От Джозины я слыхал и про свежий окорок у Мэйбл, и про жареных цыплят, и про зеленый горошек, и про пирог с бататами, от этого и нос у меня почесывался и слюни текли, как у голодного пса перед накрытым столом. И чем больше мне про все это рассказывала Джозина, тем больше меня подводило с голоду. А потом, когда я заявился к Мэйбл на дом, я и сам не знаю, как у нас зашел разговор о женитьбе, потому что ни о чем таком у меня и мысли не было, я на это как-то не обратил внимания. Я только навострил уши и ждал, когда же она в конце концов пригласит меня к столу. Сказать по правде, похоже на то, что она сама меня заманила и заставила жениться на себе. Но все-таки два раза я отлично наелся досыта, не считая остатков жареной курицы и пирога с бататами, что Джозина принесла мне вчера вечером. Могу сказать только, что ради всего этого стоило похлопотать. Не могу припомнить, чтобы я когда-нибудь раньше так хорошо наедался за такое короткое время. — Лицо Туземца расплылось в широкую улыбку. — Знаешь что, Миллер? Держу пари, что на свете найдется немало людей, которые рады были бы поменяться со мной местами и занять мое положение. Одно только могу сказать: будь я проклят, ежели с кем-нибудь соглашусь меняться.
— И ты не собираешься предъявлять претензии на какую-то часть состояния Мэйбл?
Туземец только помотал головой.
— Если она оставит меня в покое, я ее тоже оставлю в покое. Я всегда верил, что надо жить самому и давать жить другим.
— Это очень разумная позиция, — согласился Миллер. — Если бы ты попытался на законных основаниях оттягать у нее часть имущества, так тебе пришлось бы нанять адвоката, чтобы он представлял твои интересы в суде и вел твое дело. Это стоило бы тебе уйму денег, а я уверен, что никакие судьи и присяжные не присудили бы тебе и десяти центов из ее денег, выслушав ее показания о том, как ты себя вел. Ты умно поступаешь, Туземец.
— Я сам знаю, что умно. Мне мой папа так советовал.
— Советовал? Что же именно он тебе говорил?
— Мой папа говорил, что с женщиной нельзя проделывать двух вещей. Первое — никогда не осуждай родственников бедной женщины, а второе — никогда не пробуй просить у богатой женщины хоть сколько-нибудь из ее денег. Мой папа говорил, что и того и другого сорта женщины обязательно взбеленятся и отравят тебе всю жизнь.
Миллер допил свою кружку пива и отодвинул ее в сторону.
— Ты не спрашивал у меня юридического совета, Туземец, а у меня нет такой привычки, чтобы давать советы бесплатно. Но все равно я хочу сказать тебе по-дружески кое-что такое, что тебе следует знать, и за все это не возьму с тебя и десяти центов. Я это тебе скажу просто по дружбе. Вот почему я и пришел сюда повидаться с тобой.
— Насчет чего это? — заинтересованно спросил Туземец.
— Насчет этой девушки — Джозины Мэддокс.
— А что такое?
Миллер придвинулся ближе.
— Я тебе советую хоть несколько дней держаться от нее подальше. Держаться подальше недельки две будет даже лучше. А целый месяц будет еще того лучше. Я бы не стал тебе и толковать, если б не знал, что говорю, и хочу, чтобы ты поверил мне на слово. Дело серьезное, Туземец. Вот почему я тебя и предупреждаю, чтобы ты держался от нее подальше.
— А почему? — спросил Туземец. — При чем тут это и какое оно имеет отношение ко всему остальному? Я ничего такого не сделал, и бояться мне нечего. Всю жизнь вел себя нормально, как и все прочие, Мужчина имеет право выбрать себе женщину и держать себя с ней нормально, когда ему захочется.
Миллер понизил голос для верности, чтобы никто в пивной не мог подслушать того, что он скажет.
— При том, что Мэйбл мне сказала, когда мы с ней совещались — я же тебе только что говорил. На этот счет я и хотел сейчас дать тебе совет.
— Что же Мэйбл сказала?
— Сказала, что собирается вас обоих арестовать — и тебя и эту девушку.
— За что арестовать?
— За смешение рас.
— А что это значит?
— То самое и значит.
— Ты хочешь сказать: из-за того, что она не совсем белая?
Миллер кивнул.
— Мой папа говорил мне…
— Мне все равно, что твой папа говорил. Ему не приходилось иметь дело с такой женщиной, как Мэйбл, когда она собирается в крестовый поход против чего-нибудь. Могу тебе сказать, она шутить не намерена. Просто рассвирепела.
Туземец хотел было что-то сказать, но промолчал и задумался. Все это время его кадык ходил вверх и вниз — он судорожно глотал воздух. Наконец он повернул голову и вопросительно взглянул на Миллера.
— Как же она это может? — запинаясь спросил он.
— Неважно, как и почему. Теперь уже поздно об этом думать. Она собирается обратиться в полицию. В сущности она уже на пути туда, хочет говорить с Люком Моссом. Я позвонил Люку и наскоро предупредил его, но не знаю, сумеет он увернуться от нее или нет.
— Зачем же Люку Моссу путаться в это дело? Он не так глуп, чтобы портить себе репутацию, становясь на ее сторону в таком деле.
— Я тоже не знаю, зачем ему путаться, разве только Мэйбл пригрозит ему и запугает до того, что он арестует и тебя, и эту девчонку. Но я хочу, чтобы ты понял одно, Туземец. Как я ни старался отговорить ее, но так и не мог сдвинуть с места. Она твердо решила устроить крестовый поход, и никто ее не отговорит, разве она сама бросит это дело. Уж такой у Мэйбл характер. Со временем она передумает, но только время это еще не пришло.
Надвинув серую кепку на лоб, Туземец положил обе руки на стойку и тяжело оперся на нее. На его лице не было и следа обычной улыбки. Он глядел через стойку на большую картину: женщина моется в очень маленьком тазу.
— Я, право, не знаю, что выйдет из угрозы Мэйбл, — говорил ему Миллер, — но будет умней, если ты послушаешься моего совета. Я думаю, самое лучшее для тебя — не пускать Джозину Мэддокс к себе в дом и не иметь с ней никаких отношений, пока все это не уляжется. И нигде в другом месте ты тоже с ней не встречайся. Даже в лесу за городской чертой, когда стемнеет. Если тебя опять с ней поймают, так не все ли равно где. Я знаю, ты с ней давно встречаешься, уже привык, а такую привычную связь порвать нелегко, однако умнее всего будет крепко взять себя в руки и держаться от нее подальше, пока Мэйбл не выкинет из головы этот свой поход против смешения рас. Даже если б ты мне заплатил сию минуту сто долларов наличными, Туземец, я бы тебе не мог дать лучшего совета.
Туземец положил несколько монет на стойку и заказал еще бутылку пива. Миллер Хайэт поднялся, собираясь уходить.
— Так или иначе, Джозина сказала, что собирается выйти замуж, — начал Туземец, глядя на Миллера потерянным взглядом. — Замуж за человека из ее народа. Я старался как мог отговорить ее, но так и не отговорил. Если Джозина выйдет замуж, то уж, во всяком случае, ко мне она больше ходить не будет. Похоже на то, что моему счастью пришел конец. И я, право, не знаю, чем тут можно помочь. Чувствую, что я никуда не годен, все равно как старая охотничья собака, да еще хромая на левую заднюю ногу, когда она старается обогнать двух резвых щенков в погоне за белохвостым кроликом.
10
Еще только перевалило за полдень и осенние тучи с Мексиканского залива тянулись на северо-восток, когда Мэйбл направилась по немощеной улице за железнодорожным депо к городской тюрьме, крытой железом. Погоду в эту пору нелегко предугадать: за пасмурным днем может наступить ясная звездная ночь, а солнечный день может кончиться бурным ветром и проливным дождем. Но все же это сезон ураганов, и всегда надо быть готовым к ветру и дождю с Мексиканского залива.
Кирпичный квадрат тюремного здания, который вот уже двадцать лет припекает солнце и поливает дождь, теперь со всех сторон окружен постоянно разрастающимся негритянским кварталом города. Ни мостовой, ни тротуаров на улицах здесь не полагается, а городские власти ровняют и осушают дорогу в этих местах очень редко, может быть не чаще одного раза в году.
Перейдя железнодорожное полотно, Мэйбл осторожно обошла кругом несколько грязных луж и поваленный ветром ствол жакаранды.
Помимо того, что Мэйбл раздражали грязные лужи и песчаные дорожки вместо тротуара, ей было неприятно и то, что пришлось идти в эту часть города к югу от железнодорожного полотна, где почти все жилища были деревянные и жестяные хибарки, явно нуждавшиеся в покраске и ремонте. Почти все эти полуразвалившиеся домишки принадлежали белым, которые сдавали их понедельно или помесячно негритянским семьям и очень редко производили там ремонт, разве только если какой-нибудь домишко пострадал от пожара или крыша на нем совсем провалилась. Мэйбл слышала от Фрэнка, что он сдавал внаем довольно много таких жилищ, но не имела понятия, какие именно это дома и сколько из них перейдет в ее владение, когда Миллер Хайэт оформит окончательно все дела с наследством.
Когда она подошла к кирпичному зданию тюрьмы, двери были открыты настежь, а тюремщик Билл Паркс сидел за столом в караульной и, включив радио, читал газету.
Позади стола, где сидел Билл, была решетка из ржавых железных прутьев, отделявшая караульную от арестантской, так что звук пилы или другие подозрительные звуки, производимые заключенными, были бы сразу услышаны. Под замком сидели несколько негров, но белых никого не было. Один из негров пел заунывную лагерную песню. («Я искал хорошее, а нашел плохое… Никогда мы, черные, не найдем другое…»)
Билл Паркс уронил газету на пол, выключил радио и вскочил на ноги, как только заметил, что Мэйбл стоит в дверях. Он снял шляпу и бросил ее на стол.
— Как поживаете, миссис Ханникат?
— Не смейте так называть меня. Я миссис Бауэрс.
— А ведь я думал…
— Какое мне дело, чтО вы думали!
Билл поклонился.
— Слушаю, миссис Бауэрс.
— Кто эти люди там? — спросила она, тревожно оглядываясь на тюремное помещение. — Это негры?
— Они самые и есть.
— За что их посадили?
— За самые обыкновенные дела, миссис Бауэрс. Не из-за чего вам беспокоиться. Просто-напросто кто задолжал в лавочку, кто слишком громко болтал на улице, а кто плевал на тротуар. Все в этом роде. Самые обыкновенные нарушители. Стрельбы и поножовщины последнее время не так уж много. А этих либо выпустят к концу недели, либо отправят в исправительный дом на полгодика.
Мэйбл сделала шаг вперед.
— Ну, во всяком случае, я хочу, чтобы вы прекратили это пение, — сказал она. — Мне неприятно его слушать. Уж очень оно заунывное. Велите им замолчать.
Билл схватил железный прут и несколько раз ударил по брусьям решетки. («Откройте мне двери, и я убегу… в тот край, где свободу найти я могу…») Раздался резкий металлический звон, и говор и пение разом прекратились.
— Тише вы там! — крикнул Билл сквозь решетку. — Чтобы я больше ни звука не слышал! А если не будете сидеть тихо, как я приказал, я сам туда приду и стукну кому следует по башке!
Никто из заключенных не ответил ни слова.
— Вы уверены, что они там заперты крепко, так что не выберутся? — спросила Мэйбл, опять боязливо оглядываясь на камеру. — Я не чувствую себя в безопасности под одной крышей с ними.
— Не беспокойтесь на этот счет, миссис Бауэрс, — ответил ей Билл. — Вам тут гораздо безопаснее, чем где бы то ни было в городе. Насчет этого я вам врать не стану. Когда мою жену одолевают страхи из-за того, что я работаю в полиции, я ей всегда говорю, что самое безопасное место в Пальмире — это здесь, в тюрьме.
— Мне не нравится, как тут пахнет, — сказала Мэйбл, критически нюхая воздух. — Ужасная вонь.
— Вы бы скоро привыкли к этому особенному запаху, миссис Бауэрс, — слегка улыбаясь, ответил Билл, — если бы пробыли здесь столько, сколько я. Бывает, что я в шутку говорю жене, что просидел в тюрьме дольше, чем кто бы то ни было в нашем городе, — это когда она мне говорит, что и от меня тоже так пахнет.
Мэйбл осторожно двинулась вперед и вышла на середину караульной. Билл пододвинул ей стул, но она пренебрегла этим и не пожелала сесть.
— Я пришла сюда поговорить с начальником полиции, — сказала она. — Мне нужно его видеть немедленно.
— Люка Мосса? — спросил Билл, разыгрывая удивление. Он заворочал головой сначала в одну сторону, потом в другую, как будто бы высматривая, нет ли Люка где-нибудь тут, в караульной. — Вы его имеете в виду, миссис Бауэрс?
Она кивнула, поджимая губы.
— Ну, Люк… Люка здесь нет сейчас.
— А где же он?
— Люк? Ну, Люк не так давно отсюда ушел. Похоже, что вы его чуть-чуть не застали. Думается, что он ушел всего полчаса назад, никак не больше.
— Куда же он ушел?
— Отправился поохотиться на птичек.
Мэйбл судорожно втянула в себя воздух и еще крепче поджала губы.
— Прямо-таки жалко, что вы его чуть-чуть не застали, миссис Бауэрс, — грустно заметил Билл, опуская отвисший подбородок. — Если бы вы зашли сюда хоть полчаса назад…
— Когда же он вернется?
— Люк Мосс? Гм… я точно не знаю, миссис Бауэрс. Люк говорил, что он и сам не уверен, когда вернется. Все зависит от того, насколько удачная будет охота на перепелок в низинах, в той части округа, куда он поехал. Но он велел сказать вам… то есть это он мне сказал, что, может, и несколько дней пройдет, прежде чем он вернется в город. Люк всегда с ума сходил из-за этой перепелиной охоты, он, может, и не захочет возвращаться, пока не набьет их сколько положено. Он говорил, что одному ему ехать не хочется и по дороге на охоту он захватит с собой лесника.
Мэйбл посмотрела на Билла уничтожающим взглядом.
— Как же можно начальнику полиции вот так уезжать? — резким тоном спросила она. — Мне удивительно это слышать. А вдруг как раз сейчас в Пальмире начнутся грабежи и убийства? Кто будет защищать городских жителей?
— На этот счет вам нечего беспокоиться, миссис Бауэрс. Мы с Брэдом Грейди примем меры, если что-нибудь случится. Брэд в ночной смене ездит с дежурной машиной, а в остальное время я тут сижу весь день. Ничего такого не будет, а если и будет, так мы с Брэдом вполне справимся. Кроме того, если понадобится, мы всегда можем попросить шерифа прислать нам одного, а то и двух из своих помощников.
— Так вот и сейчас есть кое-что такое, что вы можете сделать, не откладывая, — сказала ему Мэйбл. — Я хочу, чтобы вы арестовали…
— Нет, погодите минутку, миссис Бауэрс, — забеспокоился Билл, начиная переминаться с ноги на ногу. — Только погодите. Мне уже все известно, вам не нужно ничего рассказывать. Мы узнали об этом около часа назад… то есть Люк узнал. Кто-то позвонил ему по телефону и передал, что вы желаете, чтобы кое-кого арестовали, вот откуда мне все это известно. А последнее, что Люк сказал мне перед отъездом, — это чтобы я не предпринимал никаких шагов по этому поводу… то есть насчет того, что вы говорите. Люк Мосс — начальник полиции, и уж если он что сказал…
Лицо Мэйбл вспыхнуло от гнева.
— Какое мне дело до того, что Люк Мосс вам сказал! Не стану я дожидаться, пока он вернется откуда-то, где сейчас прячется! Я пойду прямо к шерифу округа! Он-то выполнит свой долг!
Мэйбл резко повернулась к нему спиной и вышла из караульной. Билл Паркс проводил ее до дверей тюрьмы.
— Это будет самое лучшее, миссис Бауэрс, — крикнул он ей вслед, радуясь, что она уходит. — Шериф для вас постарается все сделать, что возможно. А я передам Люку Моссу ваши пожелания на этот счет.
Мэйбл слышала его, но даже ни разу не оглянулась. Она шла очень быстро по немощеной улице, направляясь к конторе шерифа в здании суда. Билл стоял и смотрел, как она обходила кругом сначала одну лужу, потом другую, пока не скрылась из виду.
— Мистер Билл! — окликнул его один из негров, сидевших за решеткой.
Билл отошел от дверей и подошел к столу.
— Что тебе нужно?
— Мистер Билл, можно у вас спросить одну вещь?
— А что ты хочешь знать?
— Кто эта белая леди, что с вами сейчас разговаривала?
— Миссис Бауэрс. А что?
— Ох-ох-ох! — протянул негр скорбным голосом. — Прямо-таки тоска берет такое слышать. Уж по одному тому, как она с вами говорила, мне понятно стало, что она собирается наделать беды нам, неграм. Это всегда очень дурной знак, если такие вот белые, как она, не позволяют таким, как мы, даже песенку спеть.
— Тогда ты должен радоваться, что сидишь тут, в безопасном месте, — сказал ему Билл. — Она не может тебе ничего больше сделать, хватит с тебя и того, что уже есть.
— Я не только о самом себе думаю, мистер Билл. Я думаю обо всех других людях, таких же, как я. А нас ведь очень много.
Билл Паркс надел шляпу и снова уселся за стол, но в это время другой заключенный окликнул его из-за решетки.
— Мистер Билл, а теперь можно будет нам еще немножко попеть? Вы ведь ничего не имеете против?
— Валяйте пойте, — сказал Билл, берясь за телефонную трубку. — Это мне вроде развлечения.
Когда Мэйбл, пройдя по восточной стороне городской площади, подошла к зданию суда, Клайд Хефлин уже сидел на гранитной лестнице, дожидаясь ее. Клайд разговаривал с несколькими мужчинами, которые проводили время, околачиваясь возле здания суда, но разговор резко оборвался, как только перед ними появилась Мэйбл.
Клайд встал и дотронулся до шляпы.
— Как поживаете, миссис Бауэрс? — сказал он, встречая ее на площадке. — Ведь вы хотите видеть шерифа? Он мне велел подождать вас.
— А еще лучше, если он сам тут, — сказала Мэйбл, проходя мимо Клайда.
Уверив Мэйбл, что шериф ее дожидается, Клайд повел ее через зал в кабинет Гровера Гловера, находившийся в глубине здания.
Гровер стоял у окна, поджидая Мэйбл, с той самой минуты, как Билл Паркс сообщил ему по телефону, что она уже на пути к зданию суда. Он ожидал ее с самой приветливой улыбкой и пошел навстречу ей, протягивая руку для пожатия, как только она появилась в дверях его кабинета. Взяв Мэйбл под руку, он повел ее к столу и усадил в кресло. Клайд вышел в коридор и притворил за собой дверь.
Как только оба они уселись, Гровер опять улыбнулся Мэйбл своей добродушной улыбкой. Гровер Гловер, который служил шерифом округа Сикамор уже второе четырехлетие и выставлял свою кандидатуру на третий срок, был крупный добродушный мужчина в измятом широком костюме, с реденькими светлыми волосами на лысеющей голове. Из своих пятидесяти лет он чуть ли не половину занимался политикой, по назначению или по выборам, и начал с должности охранника при кандальной команде в исправительном доме округа Сикамор. («Политику не повредит, если он обещает избирателю все, что тому угодно, ведь потом всегда можно найти способ увернуться, а до того избиратель всегда будет к вам дружески расположен. До следующих выборов он успеет позабыть, о чем раньше просил, и будет просить чего-нибудь совсем другого, и тогда ты опять можешь ему все это обещать».) Прослужив столько времени в государственных учреждениях и приложив неимоверные усилия, Гровер стал звать по имени почти всех белых избирателей мужского пола. Что касается белых женщин избирательного возраста, он усвоил себе манеру звать их «душечками», если они были не замужем, а всех остальных — полностью по фамилии мужа.
Очень скоро выражение его лица изменилось. Добродушная улыбка постепенно исчезла, углы губ горестно опустились, маленькие серые глазки затуманились и заморгали.
— Миссис Фрэнк Бауэрс, я, разумеется, был как нельзя более огорчен, когда Фрэнк отошел от нас в мир иной. Я это говорю искренне, Фрэнк был один из самых лучших людей, каких только я знал. За мое время в нашем округе немного было таких образцовых граждан, как он. Сказать вам по чистой совести, пожалуй, и во всем мире немного наберется таких прекрасных людей, насколько мне известно. Я говорю это искренне. Всем нам, его друзьям, будет очень его недоставать. В одном можно было положиться на Фрэнка. Я всегда мог рассчитывать, что во время выборов он проголосует так, как надо, Вы знаете, о чем я думаю в последнее время? Хорошо, вам я скажу. Я думаю, что гражданам округа Сикамор не мешало бы собраться всем вместе, проявив дух общественности, собрать сколько нужно денег и воздвигнуть статую Фрэнка в натуральную величину, вон там, на лужайке перед зданием суда.
Мэйбл приложила к глазам платочек. Гровер с торжественным выражением и отвернувшись от нее в сторону наклонился над столом, с деловым видом просматривая какие-то письма и бумаги, чтобы дать ей время выплакаться.
Решив, что времени прошло уже довольно, Гровер откинулся на спинку кресла и, сияя улыбкой, снова взглянул на Мэйбл.
— Ну, миссис Фрэнк Бауэрс, так что же я могу сделать для вас сегодня?
Мэйбл спрятала платочек.
— Я хочу, чтобы вы арестовали Туземца Ханниката и Джозину Мэддокс за смешение рас. Обоих.
Выражение его лица стало серьезным и озабоченным. Он покачал головой.
— Миссис Фрэнк Бауэрс, шериф нашего округа не имеет таких прав и полномочий в пределах города Пальмиры, — заговорил он сразу, как будто тщательно прорепетировав наперед это заявление. Голос его звучал серьезно и авторитетно. — Я уполномочен производить аресты и проводить законы в жизнь только на территории округа, куда город Пальмира не входит. Единственное исключение может быть сделано во время гражданских бунтов и в случаях крайней необходимости по утверждению губернатора штата, и единственно с целью поддержания закона и порядка. Таков закон, миссис Фрэнк Бауэрс, и я присягал, что буду выполнять его. А если дело обстоит таким образом, то вам надо бы поговорить с начальником городской полиции. Люк Мосс…
— Да он прячется где-то, — с озлоблением сказала Мэйбл. — Кто-то ему сообщил, чего я добиваюсь, прежде чем я могла с ним увидеться. Но это меня не остановит, я все равно сделаю то, что считаю правильным. Вы можете арестовать нарушителей закона в любом другом месте, если вам угодно. А я пришла сюда именно для того, чтобы вы это сделали.
Прежде чем ответить, Гровер довольно долго смотрел в окно. Небо на юго-востоке омрачали тучи с Мексиканского залива, и похоже было, что еще до вечера начнется сильный дождь.
— Ну, так что же вы намерены делать? — нетерпеливо спросила Мэйбл.
— Миссис Бауэрс, я хочу говорить с вами прямо и откровенно. — Гровер наклонился вперед, стараясь улыбаться своей обычной добродушной улыбкой. — Горжусь тем, что я политический деятель именно такого рода, и постараюсь быть откровенным и честным с вами. До ноябрьских выборов осталось меньше месяца, и я не могу рисковать своей репутацией и ставить ее под удар тем, что возьму да и потревожу белого избирателя и посажу его под арест за то, что он якобы находится в самой обыкновенной связи с цветной девушкой. Другие белые будут возмущены, потому что это чуть ли не единственное, что белый мужчина может себе позволить, не опасаясь репрессий. А если я возьму и сделаю так, как вы говорите, то в ноябре не соберу даже столько голосов, чтобы пройти помощником дьякона в деревенской церкви. Я никогда не изучал законов насчет смешения рас, но достаточно смыслю в политике, чтобы не вмешиваться в местные обычаи как раз перед наступающими выборами. Вот если бы вы подали жалобу, что какой-нибудь негр лезет обедать в ресторан вместе с белыми или как-нибудь иначе нарушает закон о сегрегации, я бы его моментально посадил под арест.
Гровер помолчал, ожидая, что Мэйбл сердито его отчитает. Вместо этого она только крепче поджала губы.
— И есть еще кое-что важное, — сказал он тогда. — Я не думаю, что Фрэнк одобрил бы то, о чем вы говорите. Он бы не пожелал, чтобы и белого и негра обвинили в одном и том же преступлении. Он первый сказал бы, что этим как бы устанавливается равенство между ними, то есть нечто такое, чего мы с ним не хотели бы видеть, пока мы живы. Вот если бы Туземец Ханникат совершил убийство или крупную кражу, тогда я счел бы своим долгом, как представитель закона, арестовать его даже и в отсутствие начальника полиции. Но дело обстоит иначе, и я не могу…
— Ну так что ж, вы можете арестовать за что-нибудь Джозину Мэддокс, — прервала его Мэйбл. — Тут вам не надо искать предлога, чтобы отвертеться.
— Разумеется, миссис Фрэнк Бауэрс, это я могу сделать, — с облегчением согласился Гровер. Он опять улыбался своей добродушной улыбкой. — Буду рад это сделать для вас. Пошлю помощника в негритянский квартал и велю ему посадить эту девчонку под арест. Как, вы говорите, ее зовут?
— Джозина Мэддокс.
— Джозина Мэддокс, — повторил он, торопливо записывая имя на клочке бумаги. — Ну вот, все улажено, миссис Фрэнк Бауэрс, очень рад вам это сказать. Я велю своему помощнику арестовать ее и посадить в тюрьму по обвинению в проституции. Это муниципальное постановление номер триста пятнадцать. Я всегда могу сказать, что мне в виду нарушения закона пришлось принять срочные меры вместо начальника полиции, поскольку он был в отъезде. Такое обвинение, во всяком случае, равносильно тому, о чем вы говорили. Это быстрый и удобный способ разделаться с этими негритянками, поскольку им не по карману нанимать адвоката и хлопотать, чтобы дело прекратили и обвинение сняли, или же просить, чтобы дело назначили к слушанию, и в таком случае вносить залог. Кроме того, в Пальмире не так много адвокатов, которые захотели бы взяться за такое дело и прослыть защитниками негров. По их словам, это вредит их авторитету в глазах белых клиентов. Во всяком случае, негритянки, обвиняемые в проституции, получают шесть месяцев в окружном исправительном доме каждый раз, как их привлекают к суду, как бы они ни оправдывались. Ну что ж, миссис Фрэнк Бауэрс, это должно разрешить вопрос именно так, как вы хотели.
— Хорошо, — согласилась Мэйбл, поднимаясь с места. — Но я все-таки надеюсь, что вы сдержите слово и пошлете ее в исправительный дом на полгода. Тогда она уж, верно, перестанет безобразничать и показываться голой белым мужчинам.
11
Гонимый бушующими ветрами, ломавшими сучья и вырывавшими с корнем тунговые деревья и жакаранды, проливной осенний дождь начался в конце дня, когда ураган с Мексиканского залива пронесся дальше к северо-западу надо всем округом Сикамор. На лесопильном заводе и на окрестных фермах пришлось еще до конца этого дня бросить работу в лесу и в поле, и только редкие прохожие показывались на улицах Пальмиры во время урагана. Тротуары вокруг здания суда были затоплены, потому что стоки забило листьями и мусором. Кое-кому из лавочников пришлось заложить снизу двери мешковиной, чтобы вода не просочилась через порог и не попортила дорогой товар.
Когда ветер наконец улегся и дождь к наступлению ночи перестал, небо очистилось и звезды ярко засияли, но дорожки Большой Щели были все еще на несколько дюймов затоплены грязной водой.
Городской подрядчик уже много лет не выравнивал и не осушал короткий конец тупика, и после каждого сильного ливня Туземцу несколько дней приходилось надевать резиновые сапоги каждый раз, как он выходил из дому. Даже и через несколько дней после дождя в тупике круглый год оставались от одного дождя до другого ямы, полные грязи. Туземец давно бросил на это жаловаться: подрядчик обычно отвечал, что тупик не нанесен на утвержденную властями карту города и потому можно считать, что он вообще не существует, поскольку это его, подрядчика, касается. («Не стану я тратить время даром и ремонтировать улицу, где живет всего-навсего один избиратель. Пускай переезжает куда-нибудь в другое место, если ему там не нравится. У меня и без того полно хлопот с другими избирателями, поважнее, надо же, чтобы они были довольны и не жаловались».)
Ночь и темнота наступили после урагана по-осеннему быстро, и Туземец уже решил остаться дома и поработать — заняться приемниками, которые он обещал починить. Он знал, что ему придется сегодня посидеть гораздо дольше обычного, если он хочет закончить хотя бы малую долю той работы, какую он обещал сделать.
Туземец поел чилийских бобов с макаронами и выбросил пустые банки в окно, на мусорную кучу, потом уселся было за верстак, как вдруг кто-то громко постучал в дверь. Довольно долго он не обращал внимания на стук, надеясь, что посетитель, кто бы он ни был, уйдет и не надо будет отрываться от работы. Однако настойчивый стук продолжался, и Туземцу пришлось бросить свое дело. Идя к двери, он старался придумать приличный предлог, почему чей-нибудь приемник, настольная лампа или тостер еще не отремонтированы и не работают как следует.
Когда Туземец открыл дверь, на пороге, сердито хмурясь, стоял Эл Дидд. Башмаки и носки он держал в руке. Штаны он подвернул до колен, чтобы они не промокли, и между пальцев на ногах у него проступала бурая грязь Большой Щели.
— Погляди-ка на мои ноги, — сказал он, хмурясь еще сильнее. — Черт знает что, можно ли так перепачкаться взрослому мужчине. Как по-твоему, уж не вздумал ли я доказать, что мне десять лет от роду?
— Рад тебя видеть, Эл, — ответил Туземец. — Я боялся, что это кто-нибудь другой. Входи в дом.
Эл Дидд был старинный друг, и, как и Туземец, всю свою жизнь прожил в Пальмире. Эл был высокого роста, худой, с коротко остриженными черными волосами, и говорил глубоким басом. По профессии он был монтер и когда-то имел свое дело. Однако в мастерской не хватало работы, Эл не мог прокормить жену и пятерых детей, и последние несколько лет он работал линейным инспектором и получал от электрокомпании приличное жалованье. («Мне только и приходится делать, что ходить и глядеть на провода и вышки, не застрял ли там дохлый сарыч, да не устроили ли ребята короткого замыкания бумажным змеем, да не сгорел ли где трансформатор. Некоторые думают, что я загордился и слишком высоко задираю голову, а это у меня просто шея не гнется, оттого что я целый день гляжу на эти самые провода».)
Эл вошел в комнату, наследив грязью по всему полу.
— Почему ты не заставишь город взяться за дело и осушить эту лужу перед твоим домом? Если она там навсегда останется, тебе придется завести поросят, и пусть это будет для них вроде садка. Если ты это сделаешь, то можешь потом хвастаться, что лучше твоей свиной лужи во всем округе нет. А когда проголодаешься, стоит только выйти из дому, заколоть одного поросенка и потом объедаться ветчиной и грудинкой сколько душе угодно.
— Беда в том, что я мало плачу налогов, — сказал Туземец, закрывая дверь. — Я сколько раз поднимал из-за этого шум, но никто меня не слушает и не собирается осушать эту воду. Впрочем, через месяц будут выборы, и если придут и спросят, за кого я собираюсь голосовать, может, мне и удастся на этот раз променять свой голос на что-нибудь стоящее — может, и сделают что-нибудь. Так давно все это тянется — просто ума не приложу, как выйти из положения.
Туземец принес ведро воды и разыскал в куче хлама чистую тряпку. Эл смыл грязь со своих ног и вытер их насухо. Потом начал было надевать носки и башмаки.
— Что со мной творится? — сказал он, глядя на свои ноги и качая головой. — Не знаю, для чего это я надеваю башмаки. Все равно придется снимать их, когда я буду опять переходить эту лужу вброд.
— Не беспокойся насчет этого, Эл, — сказал ему Туземец. — У меня есть лишняя пара старых резиновых сапог. С виду они неказисты, зато ноги у тебя не промокнут, пока ты доберешься до угла, где начинается мощеная улица.
Эл отворил дверь и выплеснул из ведра грязную воду. Закрыв дверь, он уселся в большое расшатанное кресло и закурил сигарету. Туземец вернулся к верстаку и сел на табурет.
Вдруг Эл вскочил на ноги.
— Что со мной творится? — громко заговорил он. — Должно быть, я до того разозлился на это свиное болото перед твоим домом, что совсем забыл, зачем сюда пришел.
— Не помню, чтобы ты мне оставлял что-нибудь для починки. Это был приемник или еще что-нибудь?
— Я ничего не оставлял для починки.
— Так о чем же ты тогда говоришь?
— Дело неладно, — серьезно сказал Эл, подходя к верстаку. — Так неладно, что из рук вон.
Туземец положил инструменты и взглянул на Эла. Тот медленно качал головой.
— Вот почему я и пришел сюда повидаться с тобой, как только ливень кончился. А не то я сидел бы дома и ужинал со своей старухой, — теперь она будет ворчать на меня за то, что я вовремя не вернулся домой.
— А что такое неладно, Эл?
— Многое неладно. Я тебе расскажу точно так, как сам слышал. Это будет самое лучшее. Вот только что Клайд Хефлин разговаривал с кем-то на углу около почты. А я шел посмотреть, нет ли писем в моем почтовом ящике, но он говорил так громко, что я полюбопытствовал и остановился послушать. Клайд расхвастался, как сам сатана в субботнюю ночь, насчет того, что он нынче собирается делать. Он сказал, что все было бы уже сделано, если бы не начался ураган и не бушевал так долго. Ну, ты ведь знаешь, каков бывает Клайд, когда собирается задать неграм трепку. Он как будто в лихорадке: лицо все красное, подбородок заплеван. Вот такой он и был на углу около почты. А орет так, что за целый квартал слышно.
Туземец поднялся с табурета и стал, прислонившись к верстаку.
— В жизни не видел человека, который так ненавидел бы черных, как Клайд Хефлин, — продолжал Эл. — Иной раз мне кажется, что он только для этого одного и живет на свете, чтобы их ненавидеть. Как бы я ни взбесился, я бы ни с кем не мог так обращаться, как он обращается с неграми, — ждет только подходящего случая. Чтобы стать таким, как он, надо насквозь пропитаться какой-то особой подлостью. Не знаю, зачем им нужен помощник шерифа или полицейский, который ведет себя подлец подлецом. Разве только потому — другой причины не придумаешь, — что у него и в Пальмире, и по всей округе имеются десятки дядюшек и братцев избирателей, а для такого политика, как шериф Гловер, это-то и есть самое важное.
— Так что же Клайд собирался делать?
— Он сказал, что как только придет домой и поужинает, сейчас же отправится в негритянский квартал и арестует Джозину Мэддокс. Он сказал, что получил приказ от шерифа арестовать ее и нынче же вечером посадить в тюрьму.
— За что посадить?
— Он говорил, настоящая-то причина та, что она с тобой путается, но вслух этого никто говорить не должен. Гровер Гловер сказал ему, что не желает, чтобы о чем-нибудь в таком роде говорили перед самыми выборами, и поэтому ей предъявят обвинение в проституции — как обыкновенной шлюхе — ну, вроде как всегда по субботам арестуют двух-трех негритянских девчонок за это самое на общих основаниях. Он сказал, что Джозину отправят в исправительный дом на полгода. Клайд думает, что это отличный случай проучить как следует всех негров за то, что они совсем обнаглели и лезут якшаться с белыми, обедать в тех же самых ресторанах, учиться в тех же самых школах, всё в таком роде. Он сказал, что они слишком уж задрали нос и думают, что никакой сегрегации больше не должно быть. Ну, а так как я все-таки знал, что у тебя с Джозиной шуры-муры — ты же мне сам это говорил, — то и подумал, что надо тебе это сейчас же передать. А если б я не был тебе хорошим приятелем, зачем бы мне оставаться без ужина да искать броду через это самое болото. Смотри же не забудь в самом скором времени отплатить мне любезностью за любезность.
— Это все Мэйбл, — сказал Туземец. — Ставлю что угодно, это она заварила кашу. Она кричала тут, что нас обоих арестует. И она убежала отсюда вчера ночью до того злая, что способна даже и на это.
— Что же ты будешь делать, Туземец? — спросил его Эл. — Ты ведь не можешь помешать Клайду арестовать Джозину. Ничем ты его не остановишь.
— Остановлю, если смогу. Сам пойду в негритянский квартал, к дому Джозины и предупрежу ее, пока Хефлин туда не добрался. Знаю, что может случиться, если он посадит ее в окружную тюрьму. Это всем известно. Посадят ее в самую дальнюю комнату и будут всю ночь лазить к ней на койку. Я слыхал, как это бывает, когда они сажают туда негритянок по субботам. Гровер Гловер и сам туда ходит, когда ему вздумается.
— Ты бы как-нибудь держался поосторожнее, когда придешь к ней в дом, — предостерег его Эл. — Это опасно. Если Клайд застанет тебя с ней сейчас, после этих его разговоров, он может и тебя тоже арестовать, а то и похуже что-нибудь выкинет. Ты знаешь, каков он, когда при нем револьвер, наручники и эта самая дубинка.
— Тут уже я ничего не могу поделать, — сказал Туземец. — Я пойду туда и предупрежу ее раньше, чем Клайд доберется до ее дома. У меня будет скверно на душе, если я этого не сделаю.
— Что же ты ей посоветуешь?
— Еще не знаю. Но по дороге я это обдумаю. Что-нибудь да придет в голову. Не хочу видеть, как ее арестуют за то, о чем ты говорил. Это несправедливо. Мало ли у нас в округе шлюх, но только она не такая. Джозина — хорошая девушка. Нет, сэр! Это просто несправедливо!
— Может, и несправедливо, Туземец, да только ты ему не указ, а он тебе — указ.
Туземец встал из-за верстака и беспокойно зашагал взад и вперед по комнате.
— Ничего тут не могу поделать, Эл. У меня есть свой собственный образ мыслей. Одно справедливо, а другое несправедливо, и я уж сумею сам разобраться, что справедливо, а что нет.
— Ну, если уж ты принял решение на этот счет, — сказал Эл, — лучше мне пойти вместе с тобой. Опасно идти одному, когда Клайд Хефлин тоже туда отправляется.
— Нет, сэр! — отвечал Туземец, решительно мотая головой. — Я этого не желаю. Ты в это дело не мешайся. Ты человек семейный, а мне приходится думать только о себе самом. Тебя могут запутать в это дело, а рисковать тебе нет никакого смысла. Я и сам справлюсь. А ты, Эл, держись подальше.
Они надели резиновые сапоги, и Туземец потушил свет в доме.
— Хорошо, я не буду вмешиваться, если ты так хочешь, зато я тебя провожу туда, — сказал Эл, когда они очутились в темноте. — Ты знаешь, каким подлецом может быть Клайд Хефлин, если он ополчился за что-нибудь на негра. И он может поступить с девушкой-негритянкой так же подло, как и с мужчиной-негром, точно так же может избить ее до полусмерти. Он просто беснуется, если негр скажет ему хоть слово поперек. Вот почему он убил уже столько негров, и как убьет — с каждым разом кичится собой все больше. Самое главное для тебя — держаться от него подальше в те дни, когда на него находит такое неистовство.
12
Эл и Туземец вышли из дома и ступили в дождевую воду и бурую грязь Большой Щели. Где-то в темноте квакали лягушки, и какая-то ночная птица одиноко чирикала в листве дуба. После ливня стало прохладно, и звезды ярко мерцали в небе.
— Не забудь, что я тебе говорил, — сказал Эл. — Держись там поосторожней и не связывайся с Клайдом Хефлином. Помни это. Слышишь?
— Я не забуду, что ты сказал, — пообещал Туземец, шлепая по воде и грязи. — И я ценю то, что ты не пожалел труда прийти ко мне и рассказать все это. Я тебе очень благодарен, Эл. Если бы ты мне не рассказал, я бы сейчас и не знал ничего, а потом было бы слишком поздно.
— Буду ждать, чтобы ты отплатил мне любезностью за любезность.
Как только они дошли до угла за городским пожарным депо, Туземец свернул на улицу, ведущую к железнодорожному полотну и к негритянскому кварталу города.
Эл Дидд постоял и подождал, пока Туземец не скроется из виду, а потом пошел прямо домой — ужинать с женой и детишками.
Торопясь домой, Эл Дидд придумывал предлог получше, чтобы объяснить жене, почему он так опоздал, и колебался, стоит ли рассказывать хоть что-нибудь из того, что случилось нынче вечером. Жена его была от природы очень нервная, из-за всего волновалась, и он боялся, что она расстроится и не даст ему спать всю ночь бесконечными разговорами о смешении рас. Такие разговоры кончались всегда тем, что она обвиняла Эла в неверности и обмане. («Для белой женщины и без того неловко иметь прислугу-мулатку, которая похожа на кого-то из знакомых, а еще того хуже, если у цветной прислуги есть маленький ребенок, как две капли похожий на кого-то из твоих родных. А еще более неловко бывает, когда идешь в центр города, в аптеку или еще куда-нибудь и там видишь смуглого молодого человека, который как две капли воды похож на твоего дядю Джона. Они до того похожи, что один из них мог бы быть младшим братом другого. У них одинаковые нависшие брови, одинаковый цвет глаз, одинаковые ямочки на подбородке. У меня мороз по коже дерет, как подумаю, что кто-нибудь из этих темнокожих приходится мне родственником. Была бы моя воля, я бы переехала в большой город, где не пришлось бы чувствовать себя так неловко, когда ходишь по улицам. А будь у тебя больше честолюбия, Эл Дидд, ты бы постарался ради меня и нашел бы себе работу в Джексонвилле или в Атланте. И вот еще что! Где ты был так поздно, после того как стемнело? Что ты делал столько времени? Почему ты не вернулся прямо домой с работы? Если б я хоть на одну минуту подумала, что ты был с одной из этих девчонок… Поди сюда, я тебя понюхаю! Я всегда узнаю, если от тебя пахнет чужой женщиной…»)
Дойдя до того места, где кончалась мостовая, Туземец пересек железнодорожное полотно и заросшую сорной травой полосу отчуждения. Отсюда он пошел прямо по неосвещенной грязной улице к тому дому, где жила Джозина со своей четырехлетней дочкой и бабушкой Мэддокс.
Теперь было уже больше семи часов, и в освещенных домах по обеим сторонам улицы он видел в кухнях и столовых семьи, сидевшие за ужином. В слабом желтоватом отблеске, падавшем от фонарей на городской площади, дома негритянского квартала выглядели спокойно и мирно. Сейчас, когда с дневными трудами было уже покончено и почти все вернулись домой на ночь, по всей улице из конца в конец раздавался беззаботный смех. Из окон ближайшего домика доносились успокаивающие звуки музыки, передаваемой по радио. Он миновал группу крикливых детей, плескавшихся в луже дождевой воды, и двое мужчин, стоявших на углу, осторожно заговорили с ним, когда он проходил мимо.
Вспомнив, что говорил Эл Дидд. Туземец пересек пустырь и подошел к заднему двору, вместо того чтобы войти в дом Джозины с улицы. Отворив калитку, он поднялся на узенькое деревянное крылечко и тихонько постучался несколько раз в окно.
В окно ему виден был свет, горевший на кухне, потом дверь отворилась и Джозина вышла на крыльцо. Свет из кухни падал через порог, и она хорошо видела Туземца, стоящего перед крыльцом. Она поколебалась не больше секунды, потом сошла с крыльца во двор.
— Что ты здесь делаешь? — тревожно спросила она. — Тебе нельзя здесь быть. Ты же помнишь, что я тебе сказала. Я больше не могу с тобой видеться.
Его глаза успели уже привыкнуть к темноте, а от сияния звезд во дворе казалось светлее. На Джозине было светлое платье, темные волосы она гладко зачесала со лба назад, а на руке у нее блестел браслет, которого Туземец раньше никогда не видел. Джозина ничего не сказала, когда он положил руку ей на плечо и повел ее через усыпанный песком двор к забору.
— Джозина, я пришел сказать тебе… — начал он.
— Нет, я не могу, — быстро ответила она.
Он сжал ее плечо еще крепче.
— Да нет, я не о том, это совсем другое.
— Что же тогда?
— Сюда сейчас приедут арестовать тебя.
Он почувствовал, как вздрогнуло ее плечо.
— Ты слышала, что я тебе, сказал? — спросил он.
Джозина кивнула.
— Да, слышала.
Она сделала шаг назад и прислонилась к забору.
— Это все Мэйбл… она их заставила, — сказал Туземец. — Я только что узнал об этом — вот почему я и пришел сказать тебе.
Теперь она положила руку ему на плечо.
— Они и тебя тоже арестуют? — помолчав немного, спросила она.
Он только помотал головой.
— Тогда за что же они арестуют меня?
— Они сказали за… за то, что ты проститутка.
— Но я же вовсе не такая! — взволнованно крикнула Джозина. — Ты знаешь ведь, что это неправда? Никогда в жизни я такой не была!
— Я знаю, что неправда, Джозина. Но это у них только предлог для ареста.
— Что же мне теперь делать? — подойдя вплотную к нему, спросила она. Он чувствовал, что все ее тело дрожит от страха. — Не хочу, чтобы это со мной случилось. Не хочу, чтобы меня забрали. Мне надо заботиться о моей девочке… Эллен… я нужна ей.
— Не говори так громко, Джозина, — настойчиво убеждал ее Туземец. — Кто-нибудь может тебя услышать.
Музыка по радио смолкла, и в тишине он прислушался, не подъезжает ли автомобиль.
Джозина тихонько заплакала.
— Это ужасно… и я не знаю, что мне делать. Я не хочу, чтобы они забрали меня в тюрьму… не хочу оставлять Эллен и сидеть под замком.
Музыка зазвучала снова.
— Ты можешь пойти ко мне в дом и переночевать там, — сказал он. — Это будет самое лучшее. Туда они не пойдут искать тебя. Подумают, что ты где-нибудь здесь прячешься.
Она покачала головой.
— Я уже сказала, что больше не пойду к тебе. Я тебя не обманывала. Завтра моя свадьба.
— Твоя свадьба будет не так-то скоро, если тебя сегодня посадят в тюрьму, а потом пошлют в исправительный дом на полгода. А они говорили, что так и собираются сделать. Ты бы лучше послушалась меня, шла бы ко мне в дом.
— Для чего им это нужно? — зарыдала она. — Для чего им нужно арестовать меня за то, чего я не делала?
— Тут уж ничем не поможешь, Джозина, и если тебя найдут, так оно и случится. А в моем доме они тебя не найдут. Я запру дверь, и никто не сможет войти. А если они не найдут тебя сегодня, то к завтрашнему утру будут думать, что ты уехала из города. Это самое лучшее, что можно сделать, Джозина. Не хочу я, чтоб ты оставалась тут и чтоб тебя арестовал Клайд Хефлин. А он будет здесь с минуты на минуту. Мне это известно. Вот почему я и пришел сюда, чтобы предупредить тебя вовремя. Если тебя посадят в тюрьму сегодня, так уж, наверно, завтра утром отошлют в исправительный дом, и тебе придется просидеть там полгода. И за все это время тебе не удастся ни разу повидать твою дочку. А если ты сегодня переночуешь у меня, то завтра утром сможешь найти такого адвоката, который тебе поможет. Он что-нибудь придумает, чтобы тебя не отсылали в исправительный дом. Адвокаты уж знают, как такие вещи делаются.
Джозина перестала плакать, обернулась и посмотрела на свет в кухонном окне. И в то время, как она смотрела на дом, оба они услышали шум автомобиля, переезжавшего через железнодорожное полотно.
— Идем, Джозина, — уговаривал Туземец, подталкивая ее к калитке.
— Не могу я уйти, не простившись с Эллен, — протестовала она, вырываясь. — Пусти меня, пожалуйста.
— Не ходи, Джозина!
— Но мне же надо с ней проститься. Я как раз ее укладывала спать. Теперь она меня ждет и не будет знать, что со мной случилось.
— Это слишком опасно, Джозина. Не ходи в дом. Послушайся меня. Если Клайд Хефлин…
— Но ведь моя девочка…
— Кто с ней сейчас?
— Там бабушка. И Харви… Харви Браун.
— Что он тут делает?
— Я же тебе говорила, что выхожу замуж. Ты это знаешь. Мы с Харви хотим завтра пожениться. Вот почему я сегодня кормлю его ужином.
— А я тебе сказал, что не хочу, чтобы ты выходила замуж. Сейчас это ни к чему. Можешь подождать немножко.
— Я не хочу ждать. Я хочу выйти замуж и выйду. Мы с Харви…
Музыка по радио опять смолкла, и Туземец прислушался, не подъезжает ли машина. Он знал, что Клайд Хефлин постарается проехать по улице как можно тише. Зато после ареста, когда вез арестованного в тюрьму, он всегда включал сирену, чтобы шума было как можно больше.
Джозина силилась вырваться из его рук и побежать к дому. Туземец обхватил ее и держал крепко, не отпуская.
— Не ходи туда, Джозина, — уговаривал он, оттаскивая ее назад, к калитке. — Сегодня бабушка Мэддокс уложит твою дочку. Если тебя застанут здесь, то тебе не уйти от Клайда Хефлина. Я знаю, что говорю. Он ухом не поведет, сколько бы ты ни просила. Он тебя не послушает, а посмеется над тобой. Потом он отвезет тебя в тюрьму и всю ночь продержит в той дальней комнате, где всегда держит женщин, если сажает в тюрьму кого-нибудь, вроде тебя. Надо, чтобы ты ушла ко мне, пока он тебя не застал. А утром ты сможешь повидать адвоката. Я тебе помогу найти кого-нибудь. Это единственное спасение от исправительного дома. Ты ведь сделаешь, как я сказал, Джозина?
— Я не знаю такого адвоката, который захотел бы мне помочь, — сказала она, опять начиная плакать. — Я не знаю, к кому пойти. Я бы не знала даже, как за это взяться.
— Я тебе найду какого нужно адвоката. Это я тебе могу обещать.
— Сколько же это будет стоить?
— Не знаю. Но сколько бы ни стоило, лучше отдать деньги, лишь бы не попасть в тюрьму, а из тюрьмы в исправительный дом.
Она украдкой смахнула слезы.
— Я копила деньги, чтобы купить себе завтра утром нарядное свадебное платье. Накопила я не так много, но как раз хватило бы на то, что я собиралась купить.
Эллен, в ночной рубашке, показалась на пороге кухни и остановилась, вглядываясь в темноту. Но не успела Джозина заговорить с ней, как Эллен повернулась, словно испугавшись чего-то, и скрылась в доме.
— Не хочу я, чтобы меня отправляли в исправительный дом, я же не смогу тогда о ней заботиться, — рыдая, говорила Джозина. — Я ничего этого не делала, что они говорят. Никогда. Я не такая, как некоторые девушки. Я никогда ничего плохого не делала. Ты знаешь, что это правда. Только ты один и был мне нужен — ты да маленькая дочка, такая, как Эллен…
За один квартал от них автомобиль обогнул угол, и фары вдруг осветили улицу перед домом Джозины.
Туземец уже тащил Джозину к калитке.
Даже не притворив за собой калитки, они побежали при свете звезд по переулку к железнодорожному полотну на ту сторону города.
13
Оставив черно-белую машину с погашенными фарами и выключенным мотором перед домом Джозины, Клайд Хефлин поднялся на веранду маленького четырехкомнатного домика. На улице ему не повстречалось ни души, после того как он въехал в негритянский квартал; дети уже бросили играть и плескаться в дождевой воде — всем пора было ужинать.
После ливня было слишком холодно и сыро, и никому не хотелось сидеть на крылечке в такой вечер. Все жители по соседству либо сидели за ужином, либо, покончив с ужином, грелись перед огнем при закрытых дверях. Был тот час, когда обычно ходят в гости, а друзья и родственники, собравшись вместе, играют в карты или просто сидят перед очагом и разговаривают.
Над кучкой некрашеных деревянных домиков, пронизывая сырой ночной воздух, стоял едкий запах дыма от сосновых и еловых дров. Время от времени горящие красные искры стайкой вылетали из трубы, рассыпаясь по черному небу. В окнах домиков почти везде виден был свет, и тихая музыка радио все еще слышалась из какого-то домика дальше по улице. Наступил мирный вечер для всех тех, кто работал целый день.
Клайд постарался ступать без шума, поднимаясь по деревянным ступенькам, и, пройдя на цыпочках по веранде, остановился у самой двери, напряженно прислушиваясь к звукам внутри дома. Он услышал глухой голос мужчины, потом веселый лепет ребенка.
Он подождал у двери всего несколько секунд. Быстро повернув ручку, он пнул дверь с такой силой, что она распахнулась настежь, с треском ударившись о стену. Он выхватил револьвер из кобуры, висевшей у него на шее, и остановился на пороге, угрожающе наводя револьвер по очереди на всех, кто был в комнате.
Клайд ворвался в дом так неожиданно, что Харви Браун, сидевший за столом посреди комнаты, даже не успел вскочить на ноги. Только большая серая кошка, дремавшая на коврике перед камином, вдруг вскочила на стул, быстро выскользнула в дверь и скрылась в темноте. Харви хотел было встать.
— Ни с места! — громко приказал Клайд тем грубым тоном, каким обычно разговаривал с неграми. — Оставайтесь там, где сидите. Если двинетесь, всех в один миг перестреляю.
Харви сел, повинуясь приказу.
Маленькая Эллен, взвизгнув от страха, забралась на колени к пожилой негритянке.
В испуге она звала мать:
— Мама! Я хочу к маме!
Бабушка Мэддокс, прабабка Джозины, которой, по ее собственному счету, было уже девяносто девять лет, была седовласая негритянка из племени Гичи с черной, как сажа, морщинистой кожей и худым, сгорбленным от работы телом. Здоровье у нее стало плохое, и теперь она весила меньше девяноста фунтов. Видела она тоже плохо, и часто ей приходилось ощупью пробираться по дому. На бабушке Мэддокс было длинное ситцевое платье и рваная серая кофта в заплатах, которую много раз чинили и штопали за все эти годы. Ее родители были рабы из племени Гичи и жили вместе невенчанные, после того как в конце гражданской войны их освободили от рабства у плантатора полковника Клэваба Мэддокса. С тех пор все их потомки, и мужского и женского пола, семейные и одинокие, носили фамилию Мэддокс.
— Мама! Я хочу к маме! — со слезами вопила Эллен тонким детским голоском. Волосы у девочки были прямые, каштановые, а кожа еще светлей, чем у Джозины. — Мама! Мама! Возьми меня скорей! — кричала она. — Я боюсь! Возьми меня.
— Уйми ее, — сказал Клайд бабушке Мэддокс, наводя на нее револьвер. — Постарайся, чтобы она замолчала. Чтоб она перестала так вопить.
Перепуганная старуха нежно гладила девочку трясущимися руками и что-то шептала ей дрожащим голосом. Эллен спрятала лицо на груди у бабушки Мэддокс, но не могла удержаться от плача.
— Где Джозина Мэддокс? — спросил Клайд, оглядывая комнату.
Никто ему не ответил.
Клайд подошел к столу, стоявшему посреди комнаты, и сверху вниз поглядел на Харви. Потом сунул револьвер обратно в кобуру, чтобы он был под рукой, когда понадобится.
Харви Браун был статный молодой негр, мускулистый и сильный, светлый, как мулат, и с приятной улыбкой. Он был высокого роста и весил больше двухсот фунтов. Ему было лет двадцать восемь, и он работал грузчиком на товарной станции с тех самых пор, как перебрался в Пальмиру с фермы в гористой части округа Сикамор. Он жил и работал в городе уже несколько лет и был известен за человека тихого, уважающего законы, и ни шериф, ни городская полиция не придирались к нему и не арестовывали его. Даже в субботу вечером, когда бывает больше всего беспорядков и когда полиция ищет только предлога, чтобы посадить кого-нибудь в тюрьму, Харви всегда повиновался приказу «проходить и не задерживаться» и ничем не раздражал ни полицию, ни шерифа.
— Ты кто такой? — спросил его Клайд.
— Я Харви Браун, мистер Хефлин, — ответил он, медленно поднимаясь на ноги.
— Ты как будто кичишься своим именем?
Харви, отодвинув стул назад, стоял возле стола.
— Я ничего такого не хотел сказать, — начал он. — Но ведь вы же знаете, кто я такой, мистер Хефлин. Вы меня знаете.
— Нечего мне говорить, что я тебя знаю. Не люблю я таких разговоров. Если захочу тебя узнать, я и сам скажу.
— Да, сэр, мистер Хефлин. Я работаю на товарной станции. Вот уже два или три года вы меня видите на погрузке и разгрузке товара из вагонов. У меня хорошая работа на железной дороге, и я еще ни одного дня не пропустил. Вы меня много раз видели, мистер Хефлин. Я каждый раз здороваюсь с вами, когда вы приходите посмотреть, что у нас делается. А на прошлой неделе вы подошли и попросили у меня спичек, чтобы закурить сигарету. Ну как, теперь вы меня вспомнили, мистер Хефлин?
— Я тебе велел бросить этот разговор.
— Я сделаю точно так, как вы говорите, мистер Хефлин, если, по-вашему, так требуется.
— Молчать, черномазый! Довольно я слышал от тебя дерзостей!
Клайд оглядел комнату. Она была скудно обставлена: несколько стульев, посреди стол, маленькая кушетка. Темный коврик покрывал часть деревянного пола, и на обоих окнах висели белые занавески. Дощатые стены были оклеены газетами и цветными картинками из журналов и фирменных каталогов.
Клайд обернулся и снова взглянул на Харви.
— Где она? — строго спросил он. — Где Джозина Мэддокс?
Харви, оглянувшись на соседнюю комнату, показал туда рукой.
— Джозина вот только что ушла в кухню, мистер Хефлин, готовить ужин. Она все еще там.
— Ступай за ней, — приказал Клайд. — И я с тобой пойду. Не говори ей ничего. Держи язык за зубами.
Харви заколебался.
— Почему вы ее ищете, мистер Хефлин? — спросил он и медленно отошел от стола. — Зачем вам нужно видеть Джозину?
— Не твое дело. Ну, замолчи и ступай, куда я тебе велел.
Клайд вышел вслед за Харви из комнаты в кухню. Свет все еще горел там, и на плите тушилось мясо. Дверь на заднее крыльцо так и осталась распахнутой настежь. («Никогда не узнаешь всего, что нужно знать про белых, пока не поживешь с ними бок о бок или не поработаешь на них подольше. Одним из них приучаешься доверять и уже знаешь, что они тебя не станут бить или обсчитывать при каждом удобном случае, а есть и другого сорта белые, которые так обращаются с неграми, как будто мы грязь и мусор. Пускай я буду мусор, но мне другое не по душе. Я не хочу больше терпеть, не хочу быть битым и обманутым, если можно обойтись без этого».)
Клайд смотрел на Харви обвиняющим взглядом.
— Ее здесь нет, — сказал он. — Ты мне соврал, а я не терплю, когда негры мне врут.
— Простите, сэр, мистер Хефлин, я сказал вам правду. Я знаю, что она сюда пошла. Я ее видел.
— Если ты понимаешь свою пользу, так скажешь мне, где эта Джозина прячется, только смотри не опоздай.
— Да ведь я говорю вам всю правду, какая есть, мистер Хефлин, — запротестовал Харви. — Я не знаю, куда Джозина ушла… я даже и не знал, что она ушла куда-то. Только что она здесь была. Это я знаю, потому что слышал, как она расхаживает по кухне и напевает. Вот это и есть вся правда, мистер Хефлин. Вы мне должны поверить.
— Ты меня не учи, что я должен делать. Сам узнаю, стоит ли тебе верить, а пока что не верю.
— Что же еще я могу сказать, чтобы вы мне поверили, мистер Хефлин?
Клайд указал на выход во двор.
— Я дам тебе возможность доказать, что ты говоришь правду. Ступай туда и разыщи эту Джозину. Только не говори ей, кто ее ищет. Ничего про меня не говори. Просто позови ее и скажи, чтобы шла домой.
Он пошел за Харви на крыльцо, потом спустился с крыльца на усыпанный песком двор. Весь двор был смутно виден при свете звезд, но ни души там не было. Музыка по радио из соседнего дома слышалась громче в ночной тишине, и все же она звучала мягко и успокоительно. («Я никогда в жизни не делал вреда белому человеку намеренно. Всегда старался этого избегать. Но как бы я ни старался работать для них, сколько бы ни угождал им, как бы скромно ни держался, все равно всегда находится белый, который чем-нибудь да недоволен и начинает придираться к тебе. Не знаю, почему они придираются, разве только по злобе. Сдается мне, что на этом свете негров загнали в угол, как кролика в курятнике. Не знаю, что тут можно сделать, знаю только, что хочу вырваться на волю, как всякий кролик».)
— Для чего вам нужно видеть Джозину, мистер Хефлин? — тревожно спросил Харви. — Зачем вы ее ищете?
— Не твое дело.
— Нет, мистер Хефлин, извините, это вроде как и мое дело, потому что мы с Джозиной уговорились завтра пожениться. Вот почему это все-таки немножко и мое дело, правда? Я был бы очень вам благодарен, если б вы мне сказали, для чего она вам нужна. Мне бы хотелось, чтобы завтра у нас не было никакой задержки со свадьбой, чтобы нам ничего не помешало. Вы же не посадите ее за что-нибудь в тюрьму, ведь нет?
— Замолчи и ступай позови ее, как я тебе велел.
Харви медленно направился к забору.
— Джозина! — настойчиво позвал он. — Где ты, Джозина? Это Харви. Ты меня слышишь? Иди сюда сейчас же, Джозина!
Пока Харви ее звал, Клайд подошел к забору и посветил фонариком. Он посмотрел вправо и влево по переулку, потом направил луч света на пустырь и соседний двор. Не увидев там никого, он погасил фонарик и убрал его в карман. Харви все звал Джозину, но Клайд злился все больше и больше, и у него не хватало терпения ждать. Он отошел от забора и вернулся на середину двора.
14
— Ты мне опять соврал, как врут все негры, — сказал Клайд, подходя к Харви. Он остановился, сплюнул на землю и вытер рот тыльной стороной руки. — Ее здесь нигде нет — она прячется где-то в доме. Вот тут ты мне и соврал, потому что отлично знаешь, где она. Даю тебе еще один шанс, парень. Ступай обратно в дом, да смотри найди ее на этот раз. А пока будешь искать, не забудь, что я тебе скажу. Пожалеешь ты свою черную шкуру, если не найдешь Джозину.
— Да как же я найду ее в доме, когда ее там нет, мистер Хефлин?
— Это уж тебе надо беспокоиться, парень. Да когда будешь искать, старайся как следует. Может, это у тебя последний случай в жизни.
— Я и беспокоюсь. Вы должны мне поверить…
— Попробуй поучи меня еще раз, что я должен делать, и я вышибу все твои белые зубы и ни во что это считать не буду.
Харви попятился от Клайда.
— Для чего вам понадобилась Джозина, мистер Хефлин? — взмолился он. — Что она сделала, что вы приехали сюда и ищете ее столько времени? Она не такая, чтобы в чем-нибудь провиниться и попасть в беду.
— Парень, ты сам попадешь в беду, если не будешь делать, что я велю, да поскорее.
— Разве вы не скажете мне, что она сделала плохого, мистер Хефлин? Хотя бы только это одно? Ведь я прошу такой маленькой милости. Кажется, вы бы могли мне сказать хотя бы это. Мы с Джозиной…
— Я уже сказал тебе один раз, что это не твое дело, Ну, ступай обратно в дом и разыщи ее, как я тебе велел, пока я тебе не вбил твои поганые зубы обратно в глотку.
Стараясь держаться подальше от Клайда, Харви медленно двинулся к веранде.
— Мистер Хефлин, прошу вас, сэр, если вы только оставите ее в покое, я с радостью пойду в тюрьму вместо нее. Как, по-вашему, можно это? Я знаю, что бывает с цветными девушками, такими, как Джозина, когда их сажают в эту тюрьму. Я про это слыхал. И не хочу, чтобы с ней то же случилось.
Клайд ничего не ответил.
— Это все правда, что я сказал, мистер Хефлин. Мы с ней хотим завтра пожениться. Не позволите ли вы мне сесть в тюрьму вместо нее?
Клайд опять ему не ответил. Он прошел за Харви через кухню в спальню Джозины. («Я не скажу, что цветной парень не станет глядеть на белую девушку, потому что трудно не любоваться ею, но дальше этого он вряд ли пойдет. Он даже и глядеть-то на нее почти всегда боится, потому что знает: она может на него пожаловаться, просто ради хвастовства. Но если говорить о том, как белый мужчина ведет себя с цветной девушкой, то всё с самого начала предрешено в его пользу. И похоже, что ничего тут не поделаешь».)
Посветив ручным фонариком в спальне и заглянув в чулан, Клайд поднял край постели и перевернул ее. Потом, еще больше озлобившись и ожесточившись, он пинком опрокинул комод и расшвырял ящики по всей комнате, так что вещи Джозины рассыпались по полу.
— Ты, черт возьми, отлично знаешь, где она прячется, — угрожающе сказал он, выталкивая Харви из спальни в кухню. Отцепив от пояса тяжелые стальные наручники, он размахивал ими взад и вперед. — Попробуй только, соври мне еще хоть раз и, клянусь богом, я тебе вобью вот эти наручники в твой поганый рот и ни во что это считать не буду. Ну, говори, где она от меня прячется. Даю тебе еще один последний шанс — и это все.
Глядя на тяжелые наручники, Харви боязливо покачал головой и отступил назад, так чтобы Клайд не мог до него дотянуться.
— Мистер Хефлин, не бейте меня, пожалуйста, — умолял он. — Вы же знаете, я ничего вам не сделал и бить меня не за что. Это сущая правда, мистер Хефлин. Не хочу я тут стоять, чтобы вы меня били. И давать сдачи белому я тоже не хочу. Я не такой. Никогда в жизни я не дрался с белым человеком и сейчас не хочу драться. Один только раз у меня было что-то в этом роде, очень давно, когда какие-то белые мальчики захотели, чтобы я дрался и играл вместе с ними, и никому от этого худа не было. Вы только не бейте меня сейчас, мистер Хефлин. Больше я ни о чем не прошу.
— А ну-ка, валяй ударь меня хоть разок, парень. Хотел бы я посмотреть, как это у тебя выйдет. Попробуй ударь меня. Посмей только. Ну-ка, посмей. Говорить ты мастер, а как до дела дойдет — струсишь. А уж если ударишь, так это будет последний раз в жизни, что ты ударил белого. Как это получился из тебя такой поганый негр? Откуда ты взялся?
— Я из горной области за пятнадцать миль отсюда, мистер Хефлин, и я вам говорю чистую правду, как полагается деревенскому парню. Я не знаю, куда ушла Джозина. Поверьте мне, пожалуйста, мистер Хефлин. Не будьте ко мне так строги. Я даже не знал, что она вышла из кухни и куда-то убежала, когда вы мне велели идти ее искать. Я знаю только, она сказала, что пойдет приготовить что-нибудь к ужину, а потом уложит девочку спать. Она сказала, что, когда девочка заснет, у нас с ней будет вроде как бы свадебный ужин. Потом она ушла в кухню, и больше я ее не видел. Должны же вы мне верить, когда я говорю правду, мистер Хефлин.
— Ты меня опять учишь, что я должен делать, — злобно сказал Клайд, размахивая тяжелыми наручниками и делая шаг вперед. — И это последний раз ты меня учишь, больше тебе учить меня не придется, вонючий ты негр!
Вместо того чтобы попятиться от грозно качающихся перед ним наручников, Харви застыл на месте. Руки его были вытянуты по швам — он даже не стиснул их в кулаки.
— Посадите меня в тюрьму, если вам угодно, мистер Хефлин, только не называйте меня так, как вы сейчас назвали. Я никому — ни белому, ни черному — не позволю себя так называть. Мне обидно, когда меня так называют.
Клайд нагнулся и сплюнул на пол.
— Как мне вздумается, так к буду тебя называть. Что ты думаешь, кто ты такой, во всяком случае? Разговариваешь так, будто вообразил, что ты не хуже белого.
Не сводя глаз с наручников, Харви стиснул кулаки в первый раз.
— Можете ругать меня, мистер Хефлин, назовите лгуном, если хотите, ведь я не могу доказать вам, что говорил правду про Джозину и что я не знаю, где она. И я вовсе не собираюсь вам дерзить, я знаю свое место. Но только не называйте меня так. Я серьезно вам говорю. Я никому не позволю так себя называть. Я на это могу обидеться. Я — черный, так же, как вы — белый, и только так меня и надо называть. Что бы ни случилось, я бы не стал так говорить, если бы я этого не думал.
— А кто же ты такой, если не вонючий негр?
— Я самый обыкновенный человек, такой же, как все другие. Случилось так, что и родился черным, так же как вы родились белым. Вот и вся разница между нами, и от этого я не отступлюсь.
— Ты понимаешь, что говоришь?
— Конечно, понимаю.
— Похоже на то, что тебе не терпится нос задрать и хвалиться тем, что ты негр. Что ж, продолжай в том же духе, если тебе так хочется знать, до чего это тебя доведет.
— Мистер Хефлин, что же я могу поделать, если вам так кажется. Я лично только это и могу сказать.
— И буду звать тебя, как мне вздумается, черномазый ублюдок!
Бабушка Мэддокс, одной рукой крепко прижав к себе Эллен, ощупью пробиралась к кухонной двери. Ее незрячие глаза округлились от страха, сутулые худенькие плечи нервно дрожали, когда она поглаживала девочку, стараясь ее успокоить.
— Помолчи лучше, Харви Браун, — сказала она ему, и ее сморщенное лицо судорожно исказилось. — Ты говоришь так, как будто у тебя ни капли разума не осталось. Я слышала, что ты сказал. Не смей так разговаривать с белыми людьми Ты, должно быть, совсем рехнулся. Ты же сам отлично понимаешь. Если ты не замолчишь, так наделаешь такой беды всем нам, цветным, хуже которой быть не может. Белые не потерпят таких дерзостей от негра, и ты это знаешь. Так замолчи же, Харви Браун, тебе говорят, и держи язык за зубами. Не перечь ему больше, молчи.
— Я только стою за свои права, — ответил ей Харви Браун. — Никто мне этого запретить не может. Времена теперь не те, что прежде были.
— Это рехнуться надо, чтобы так разговаривать, Харви Браун. Никаких у тебя нет прав перед белыми людьми, когда ты им грубишь и выводишь их из себя. Я прожила долгую жизнь и знаю все горе, слезы и беду, сколько их есть на свете, и не хочу больше ничего этого видеть до конца моих дней. Вот почему я и знаю, о чем говорю. Ну, а ты замолчи, Харви Браун, и держи язык за зубами.
— Уходи из дома, бабушка, — сказал ей Харви. — И уведи Эллен куда-нибудь. Побудь у соседки. Ну, скорее, уходи отсюда, я же тебе сказал. Я знаю сам, что делаю, и нечего тебе меня учить.
— Ты лучше послушай меня, Харви Браун, — предостерегала его бабушка Мэддокс, пятясь от кухонной двери к выходу. — Я старых времен негритянка, и обычаи белых людей мне наизусть известны. Если ты не перестанешь грубить этому белому, так попадешь в такую беду, что не жить тебе больше на свете. Видывала я и раньше, как это бывало с неграми — грубиянами, вроде тебя, и знаю, что говорю, Ты бы лучше послушал меня, Харви Браун, пока не поздно.
Клайд потянулся к кухонной двери и захлопнул ее как раз в ту минуту, когда бабушка Мэддокс, испуганно охая и одной рукой прижимая к себе девочку, успела выбраться ощупью на веранду и сойти с крыльца.
— Ты уж больно много наболтал своим поганым языком, — сказал Клайд. Он остановился и сплюнул на пол. — Я тебе покажу сейчас, чертов ты негр, ублюдок вонючий!
Прикусив нижнюю губу и не говоря больше ни слова, он размахнулся и ударил тяжелыми стальными наручниками по голове Харви. Тот не успел отскочить в сторону и, оглушенный ударом, зашатался и осел на пол, спиной к стене. («Сдается мне, что для цветного должен быть какой-то способ не дать белому обидеть себя и не попасть из-за этого в беду, но только, если есть такой способ, мне он не известен. Плохо и то, что тебя надувают, но тут всегда надо смотреть в оба и не попадаться. А хуже всего — побои, от которых никуда не денешься. Придет время, когда этому положен будет конец и мы, цветные, не будем больше страдать. Мне хочется увидеть этот великий день, хочется, чтобы он настал поскорее. Разумеется, мне совсем не по душе то, что теперь творится. Не может оно быть правильно, с какой стороны на это ни смотреть. Вот только это одно я и говорил против белых. Я знаю, есть такие, которые не станут бить негров, но куда больше таких, которые бьют».)
Харви не мог защититься от второго удара, и Клайд ударил его наручниками по лицу. Кровь начала заливать ему глаза и щеки, и Харви беспомощно повалился на пол. Он лежал на полу, а Клайд раз за разом пинал ногой его голову. Тихая музыка, доносившаяся из соседнего дома, вдруг оборвалась — кто-то выключил радио.
— Больше ты уже не нагрубишь ни одному белому, черт бы подрал твою черную шкуру, — сказал Клайд, сплюнув и вытирая рот рукой. Кровь лилась с лица Харви и растекалась по полу. — Я тебя проучу, вонючий черный ублюдок. Больше не нагрубишь ни одному белому. Ты это проделал в последний раз.
Харви повернулся и хотел было подняться с пола, встав на четвереньки. Клайд смотрел на него с минуту, потом изо всех сил пнул его ногой. Харви опять повалился на пол.
— Что же ты не болтаешь ничего своим поганым языком? Чего же ты не учишь меня, как я должен себя вести? Понял, надо думать, что тебе ничего не поможет и что больше тебе не встать.
Сунув руку в карман, Клайд достал нож и, быстро орудуя наточенным лезвием, распорол на Харви рубашку и штаны. Он воткнул кончик лезвия в обнаженную грудь Харви, но тело только слегка свело судорогой. После этого, бешено кромсая ножом, Клайд отсек ему половые органы. Он вбил их глубоко в горло Харви, так что под каблуком хрустнуло.
15
Наутро, незадолго до восьми часов, когда уже открывались лавки и конторы, а дети шли в школу, до очень многих из белого населения Пальмиры начали доходить разные слухи о том, что произошло в негритянском квартале города этой ночью.
Вначале многие, особенно те, кто был введен в заблуждение слухами и знал, что случилось в действительности, думали, что какого-то опасного негра пришлось застрелить, когда он сопротивлялся аресту.
Убийство негра помощником шерифа или полицейским было самым обычным делом; в таких случаях объявляли, что убийство было необходимо для самозащиты или при сопротивлении аресту, а то и просто для поддержания закона и порядка. Больше того, ни в одном судебном отчете не значилось, чтобы в округе Сикамор когда-нибудь привлекали к суду белого за убийство негра. И все-таки много находилось белых граждан, которые сожалели о том, что в прошлые времена ни в чем не повинные негры погибали жертвами ненужной, неоправданной жестокости. («Каждый раз как я слышу, что негра избили цепью за то, что он под праздник рано ушел с работы, или застрелили за то, что он не отдал вовремя взятый взаймы доллар, мне становится стыдно, что я белый. Этому нет оправдания, это все равно, что до смерти забить дубиной собаку за то, что она громко лаяла ночью».)
В негритянском квартале, однако, тревожная весть о действительной причине смерти Харви Брауна быстро распространилась среди населения еще ночью. Как и следовало ожидать, многие семьи не ложились спать всю ночь и сидели в темноте, запершись на замок, из страха, что Клайд Хефлин вернется с другими помощниками шерифа и полицейскими и произведет повальный обыск, чтобы найти Джозину Мэддокс. Бабушка Мэддокс с внучкой провела ночь у соседей, и, когда наступил рассвет, она все еще боялась идти домой. После того как ей рассказали, что случилось с Харви и каким образом он умер, бабушка Мэддокс стала опасаться, как бы Клайд Хефлин не убил ее вместе с девочкой, если она вернется в дом и Клайд ее там застанет.
Бабушка Мэддокс охала, стонала и нуждалась в утешении, но никто в этой части города не знал, где Джозина и когда она вернется домой. Они могли сказать бабушке Мэддокс только то, что сама она вне опасности и ей лучше оставаться здесь, пока Джозина не придет за ней и за Эллен.
— Не вижу для Джозины никакого смысла торопиться сейчас домой, — сказал один из соседей. — Только попадет на похороны вместо собственной свадьбы. Но ты не беспокойся. Пускай ее подождет. Она успеет попасть на похороны и завтра или когда это еще будет. Джозина не даст нам похоронить Харви без нее, она придет сюда, чтобы горевать и плакать о нем. А нам придется известить его родню в горной области, чтобы они отправились в путь и прибыли на похороны заблаговременно. Его мать и отец непременно захотят быть на похоронах.
Бабушка Мэддокс охала и раскачивалась в качалке, закутав голову шалью. Шторы на окнах были спущены, и в доме было темно почти как ночью. Утешать ее пришло столько соседей, что стульев не хватило и многим пришлось сидеть на полу.
— Всем нам, цветным, будет лучше, когда мы умрем и нас зароют глубоко в землю, — говорила бабушка Мэддокс, причитая все громче и раскачиваясь все быстрей. — Никогда мы, негры, не знали другого покоя. Не спорьте со мной, я знаю, что говорю. Всегда какая-нибудь гроза собиралась над нами, неграми. Я это видела всю жизнь, и теперь стало не лучше, чем в тот день, когда я на свет родилась. Когда я умру и меня зароют в землю, то прошу, чтобы вы все веселились и плясали, потому что тогда все мои несчастья останутся наверху, на земле. И я хочу, чтобы меня похоронили вниз лицом, чтобы мне не глядеть сюда наверх и не видеть всего того горя, какое еще есть у всех и какому помочь невозможно. Не хлопочите насчет цветов и нарядного гроба — просто веселитесь и пляшите, поминая меня.
— Я буду плясать на твоих похоронах, бабушка, — сказала ей одна из соседок, — и буду плясать сколько сил хватит, только это случится не скоро. Ты такая крепкая, что доживешь до ста двадцати лет. Видела я и раньше крепких старушек, вроде тебя. Характер у них с годами делается упрямым, и они живут да живут, чтобы нас бранить, таких, которым всего пятьдесят или шестьдесят лет.
— Кабы я знала свой долг, так мне бы надо было больше бранить Харви, чтобы он помалкивал, а то у него самого разума не хватило, — сказала она. — Не был бы Харви Браун весь искромсан, как теперь, и не помер бы, если бы я пуще его бранила. Таких негров, как он, надо почаще бранить. Не хватает у них разума в пустой голове, не понимают, что белому всегда надо уступать дорогу.
— Может быть, и так, бабушка, но только времена теперь быстро меняются, и не всегда будет так, как было в прошлом. Ты только проживи подольше, и сама когда-нибудь увидишь, что все стало по-другому. Когда это случится, проснешься однажды утром, и куда только все твое горе денется, будешь глядеть во все глаза на новую жизнь. Большой перемены еще нет пока, но она не за горами, а тем временем все меняется понемножку.
— Уж лучше я буду лежать в своей могиле вниз лицом, чем оставаться здесь наверху и терпеть все несчастья, которые вы, хвастуны, на себя накликаете. Я старых времен негритянка, из племени Гичи, и всю свою жизнь видела, как на нас, негров, валится несчастье за несчастьем. А теперь помолчите-ка, покуда белые не услыхали, как вы болтаете. И без того у нас хватает горя.
По дороге на работу Эл Дидд остановился поговорить с Эдом. Говардом на городской площади. Эд подметал тротуар перед своей пивной и увеселительным заведением. Было еще раннее утро, еще не пробило восьми часов, и у Эла оставалось несколько свободных минут до начала работы на электростанции. Он подождал, пока Эд не сметет весь мусор в канаву.
— Видел ты сегодня Туземца? — спросил он.
— Нет, не видел, — отвечал Эд. — Да так рано я и не ждал его.
— Ну ладно, а ты слыхал, что случилось нынче ночью в негритянском квартале?
— Слыхал. И тем, что я слыхал, дело еще не кончится, — сказал Эд, стоя в дверях и поглядывая через улицу на серое каменное здание суда. — Даром это не пройдет, тут заварится такая каша. Вот подожди, увидишь. Кое у кого не хватает еще разума понять это, но времена переменились. Можно было проделывать такие штуки в старое время и ни во что это не считать, потому что вряд ли кто-нибудь стал поднимать из-за этого шум. Но не теперь. Кое-кто еще пожалеет, что изуродовал этого парня, — если можно жалеть после того, как ты помер.
— Ты не осуждай Туземца, — заговорил Эл. — Туземец здесь ни при чем. Он здесь так же ни при чем, как мы с тобой.
— Я Туземца Ханниката вовсе не осуждаю. Если он захотел жениться на белой женщине, а потом вдруг взял да и спутался с негритянкой, это его дело. Не он первый из белых мужчин путается с негритянками, не он и последний. И за мной это водилось, и за тобой тоже, да покажи ты мне такого, чтоб не путался, из тех, у кого усы растут. Может, и есть другой способ получить больше радости от женщины, только если есть, я его до сих пор не знаю. Я знаю одно, это то, что Мэйбл Бауэрс не имела никакого права затевать крестовый поход ради того, чтобы прекратить такое обыкновенное дело, да к тому же и кончилось оно не по-хорошему. Если она никак не может с этим примириться, так вон в том здании сидит судья для того, чтобы давать развод белым женщинам, которые не умеют угодить мужчине так, как цветная девушка. И еще одно. Гровер Гловер не должен был соваться не в свое дело из-за нескольких лишних голосов. В наше время никому нельзя изуродовать негра так, как изуродовали этого парня нынче ночью, и остаться безнаказанным. Я такие штуки считаю вредными. Застрели его, если надо, ну и хватит с тебя. Просто не считаю нужным уродовать человека, белый он или черный. Ну, я свое мнение высказал насчет этого грязного дела, с начала и до конца.
— Эд, как ты думаешь? Клайд Хефлин это самое потому сделал, что рассчитывал застать девчонку одну и побаловаться с ней, а потом взбесился и изуродовал Харви Брауна, чтобы и ему она не досталась?
Эд кивнул.
— Ну что ж, у нас с тобой имеются основания так думать.
— А как ты думаешь, что теперь будет с Клайдом Хефлином?
— Не могу тебе сказать, — ответил Эд. — С этой минуты я просто жду, не услышу ли, чем дело кончится. И думаю, что ждать придется недолго.
Выше по Оук-стрит, рядом с высоким зданием школы, миссис Пиплз, прежде чем приняться за утреннюю уборку, звонила по телефону своей невестке, миссис Бейфилд.
— Ты, конечно, слышала, что случилось нынче ночью на том конце города? — начала миссис Пиплз. — А если не слыхала, так ты чуть ли не единственная в Пальмире ничего не знаешь. Я просто должна была тебе позвонить, прежде чем браться за мытье посуды и уборку. Я знала, что ты захочешь поговорить со мной об этом.
— Знаю, о чем ты говоришь, — отвечала миссис Бейфилд. — Слышала, что помощник шерифа поехал туда по долгу службы и его чуть не убил один из этих опасных негров, который сопротивлялся аресту, и тогда пришлось его застрелить, потому что нам всем тоже угрожала опасность. Мы должны быть благодарны, что у нас есть такие храбрые мужчины, которые защищают нас, и пора уже что-то сделать, чтобы проучить как следует этих негров и поставить их на место. Последнее время всякий раз, когда я вижу этих людей, они ведут себя так, как будто они ничуть не хуже белых. Третьего дня я была в центре города, так один из них видит, что я иду навстречу, и даже не сошел с тротуара.
— Знаю, о чем ты говоришь, — откликнулась миссис Пиплз. — Но ведь все дело заварил вот этот, с таким странным именем… да ты знаешь… Туземец Ханникат. Говорят, он женился на миссис Бауэрс из-за денег, а потом привел к себе в дом ее прислугу — ты понимаешь зачем. Ну, а эта негритянка, которая выглядит почти как белая, собиралась выйти замуж за негра — за того самого, который был убит вчера ночью, потому что он сопротивлялся аресту и угрожал полицейскому. Все это становится ужасно сложно, однако, во всяком случае, этот самый негр хотел убить помощника шерифа, который поехал туда, чтобы арестовать за проституцию эту негритянку — прислугу миссис Бауэрс, — но ее там не оказалось. Она спряталась в Большой Щели с Ханникатом, совершенно голая, но никто об этом не знал до самого утра. Во всяком случае, может, хоть теперь негритянки в нашем городе бросят свои повадки, перестанут соблазнять белых мужчин…
— Я знаю, о чем ты говоришь, — прервала ее миссис Бейфилд. — Сегодня утром я сказала своему мужу, когда он уходил на работу, что если только он вздумает прятаться — и ты знаешь, что еще проделывать — с одной из этих негритянок, то пусть больше никогда не подходит ко мне. Он этого не понимает, но женщине стоит только понюхать, и она сразу узнает, был ли он с другой женщиной или нет. Ну он, конечно, обещал, как все мужчины обещают, но я еще не видела мужчины, которому можно было бы доверять, если он у тебя не на глазах. Он сказал…
Шериф Гровер Гловер никогда еще не являлся к себе в контору так рано утром. Он привык поздно вставать и обычно приходил в здание суда часам к десяти. В это утро ему пришлось встать и одеться с восходом солнца, после бессонной ночи. Не будя жену, он сам сварил себе кофе, потом позвонил Клайду Хефлину и другим помощникам. Он велел им всем явиться к нему в кабинет не позже восьми часов.
Гровер дожидался стоя, когда его помощники подойдут к зданию суда. Он не произнес ни слова, пока они входили и усаживались. Несколько минут он пристально смотрел на Клайда Хефлина, словно не зная, что сказать. Потом схватил пресс-папье в виде пары миниатюрных наручников, с громким лязгом швырнул их в корзину для бумаги и только после этого сел.
— Боже ты мой, Клайд, зачем ты только это проделал, — громко заговорил он. — Мне только и надо было, чтобы ты произвел арест, как полагается, и дело с концом. А то, что ты натворил, — это черт знает что такое… да еще перед самыми выборами.
Клайд беспокойно заворочался на стуле.
— Ты хватил через край, сынок. Боже правый, зачем ты это проделал? Когда слух об убийстве обойдет город и распространится по всей округе, людям рты никак не заткнешь. Хуже всего будоражат людей вот такие вещи. Проповедники во всеуслышание читают об этом проповеди, всякий сброд шепчется за твоей спиной — ах ты, черт! Все это заставляет людей переметнуться и голосовать за других, а это всегда во вред должностному лицу и на пользу политическому противнику. Времена переменились, сынок, а ты ведешь себя так, как будто не понимаешь разницы. Теперь все уже не то, что было лет десять-пятнадцать назад. Люди еще стоят кое в чем за старое, потому что обычай пока что имеет над ними власть, но только не за такую бойню, какую ты устроил. Никакими объяснениями тут не поможешь, сколько ни проводи кампаний начиная с этого дня и до самых выборов. Я всегда говорю своим помощникам, что они имеют право защищать свою жизнь и личность по служебной линии. Для того и даны тебе дубинка и револьвер. Ну, а все остальное, сынок…
— Шериф, вы мне приказали найти эту девчонку, арестовать ее и привести сюда, — сказал Клайд, ворочаясь на стуле. — Она где-то пряталась, а я только старался узнать, где она находится, чтобы забрать ее. Когда этот черномазый…
— Знаю, — сказал Гровер, потирая лицо обеими руками. — Знаю. Незачем мне это рассказывать. Я знаю, о чем ты толкуешь.
— У меня ничего худого и в мыслях не было, шериф, — настаивал Клайд. — Почем же я знал, что он от этого умрет. Он меня взбесил своей болтовней, надо же было проучить его, чтобы знал свое место. Не мог же я позволить черномазому…
— Все равно, сынок, от этого мне не легче, — сказал Гровер, сокрушенно покачивая головой. — Я боюсь политического взрыва перед самыми выборами. Я занимаюсь политикой, с тех пор как проголосовал в первый раз двадцати лет от роду, так что за это время можно было узнать, насколько опасны такие случаи накануне того дня, как избиратель пойдет к урнам. С таких пустяков может начаться что-нибудь очень серьезное, и тогда это труднее будет остановить, чем пожар среди сухой осоки в ветреный октябрьский день. В нашем округе немало таких избирателей, которые голосуют за демократов, и им как раз может взбрести в голову забаллотировать меня из-за этого. Только и нужно что-нибудь этакое, чтобы некоторые люди струсили и голосовали за республиканцев, а у нас их и так слишком много. Если так случится, для меня в мои годы это будет тяжкий удар. Придется переехать в деревню, на тот клочок горохового поля, который там у меня имеется, и попытаться так или иначе наскрести себе на жизнь с этой каменистой почвы. А богу известно, что я никогда не собирался стать работягой-фермером, пока можно было без этого обойтись. Вот почему я пошел голосовать и занялся политикой на целый год раньше, чем полагается.
Ничего больше не было сказано, пока Гровер не встал из-за своего стола.
— Так вот, я требую, чтобы эту девушку, Джозину Мэддокс, оставили в покое, — сказал он своим помощникам. — Я не желаю, чтобы ее трогали. И без этого у нас хватает неприятностей. Приказа об ее аресте нет и никогда не было. Я только хотел сделать любезность миссис Фрэнк Бауэрс, произведя небольшое расследование без всякого шума. Миссис Фрэнк Бауэрс решила во что бы то ни стало затеять какой-то там крестовый поход, и пришлось крепко подумать ради того, чтоб она осталась довольна. А теперь держитесь пока что подальше от негритянского квартала. Кому-то придется очень солоно, если вы не послушаетесь. Эти люди очень взбудоражены тем, что случилось, и небезопасно даже бегать за цветными девушками по железнодорожному полотну, какая бы ни была темная ночь. Обойдетесь и так это время.
В восемь тридцать утра коронер наскоро провел следствие по делу о смерти Харви Брауна, как полагается по закону. Из свидетелей присутствовал один Клайд Хефлин. Шериф Гловер и другие помощники тоже были там, но двери кабинета следователя были заперты, и никому больше не было разрешено присутствовать на следствии.
После нескольких шаблонных вопросов и ответов следователь быстро вынес решение, что смерть Харви Брауна, цветного, последовала вследствие удушения или удавления чем-то таким, что случайно попало ему в горло. После чего следователь, нервничая, записал свое решение в книгу протоколов и захлопнул ее.
Как только следствие было закончено, один из помощников шерифа вышел из здания суда, поговорил по душам с кем-то на улице, сообщив, какое постановление вынес следователь о причине смерти Харви Брауна. После этого новость быстро разошлась с городской площади по лавкам и конторам во всем городе.
— Не хотел бы я быть сейчас на месте Клайда Хефлина, — сказал кто-то из собеседников, собравшихся на почте. — Особенно после того как шериф и следователь вместе придумывали способ, как бы поскорей замять это дело. Даже моя старая черная корова и та не поверила бы такой нескладной выдумке. Меня нисколько не удивит, если Клайда найдут убитым на улице как-нибудь темным вечером. Я не говорю, кто это сделает, и не говорю, хорошо это или плохо, но никто мне не запретит думать про себя, что Клайд сам это заслужил, если на свете есть хоть какая-нибудь справедливость. Мне все равно, какого цвета человек. Я говорю только, что ни одного человека нельзя так уродовать, как изуродовали Харви Брауна. И кто-то должен за это ответить. Я не всегда стою за негров и не всегда против них, но на этот раз я нисколько не стану осуждать их, если что-нибудь случится с Клайдом Хефлином.
Еще несколько человек вошли в почтовое отделение, чтобы получить утреннюю почту, и все они остались послушать.
— Если некоторые люди родились черными, это не значит, что их только поэтому надо топтать ногами и давить, как муравьев. Нам в округе Сикамор не нужен такой помощник шерифа, как Клайд Хефлин, и Гровер Гловер лучше бы сделал, если бы понял это и поскорей отобрал у него значок. Выборы уже у нас на носу. Я всегда голосую за демократов, но на этот раз мог бы подать голос и за республиканцев, да еще и с радостью. Клайд Хефлин хватил через край, когда так изуродовал этого парня, и я ничего не имею против того, чтобы выступить открыто и сказать это во всеуслышание. Если кто-нибудь совершил преступление, черный он или белый, я говорю: посадите его в тюрьму. Если кто-нибудь совершил убийство, черный он или белый, посадите его немедля на электрический стул, И дело с концом. Но, насколько я слышал, этот молодой негр ровно ничего не сделал и не виноват ни в чем, разве только в том, что разговаривал много, а нынче и все много разговаривают, это уж само собой разумеется. Клайд выместил свою злобу на этом парне, когда поехал туда арестовать Джозину Мэддокс и не мог разыскать ее. Для человека, в котором столько злости, нет никакого оправдания. Позор, что это случилось в Пальмире, и я не постесняюсь открыто сказать это во всеуслышание. Что бы я ни говорил, я благонамеренный белый гражданин, но и мне ясно, что некоторые вещи слишком далеко заходят в этой стране.
— Если Клайд все еще собирается арестовать эту негритянку, за которой он гонялся вчера ночью, — сказал другой, — ему надо только подняться в контору Далтона Бэрроуза. Я видел, как она пробежала туда только что. Однако на улице она не показывалась. Она пробежала по переулку и вошла в контору с черного хода.
— Надо удивляться, если Клайд Хефлин покажется сегодня на улице. Если он понимает свою пользу, так он отправится пока что на рыбную ловлю. Кабы я попал в такой переплет, я бы схватил поскорей удочку, отправился бы во Флориду и просидел там с полгода. Отличный был бы способ продлить свою жизнь.
Большинство собеседников понимающе кивнули, выходя из почтового отделения.
Джозина вошла в контору Далтона Бэрроуза за несколько минут до девяти. Когда она ранним утром позвонила Далтону на дом, он сказал ей, что слишком занят, видеть ее не может и советует ей обратиться к другому адвокату. Но она не сдавалась, говоря, что Туземец Ханникат велел ей пойти к нему и ни к кому больше. Как только она назвала Туземца, Далтон сразу согласился принять ее, если она придет к нему в контору ровно в девять часов утра.
16
— Я говорил с шерифом Гловером по телефону, и он сообщил мне, что не собирается предъявлять тебе никаких обвинений, — сказал Далтон Джозине, снимая очки для чтения, и посмотрел на нее через стол, слегка приподняв густые темные брови. — Фактически никакого ордера на твой арест не существовало, как мне сказали. То, что произошло вчера ночью, было просто-напросто обычным расследованием по чьей-то жалобе. Больше тебя преследовать не будут, Джозина. С этим делом покончено. Ты теперь можешь пользоваться полной свободой передвижения.
Как и всегда, Далтон Бэрроуз носил дорогой темный костюм и яркий галстук бабочкой. Кроме того, что он был адвокатом, сенатором, директором банка и председателем ведущего городского клуба, ему принадлежала ценная недвижимость и в городе и в округе, и уже много лет он был известен как самый богатый и самый видный из граждан Пальмиры. («Не знаю, где окажется в конце концов Далтон — на самом верху или в самом низу политической навозной кучи, но он заработал себе в наших местах солидную репутацию первого специалиста по закладным операциям. Около года назад он оттягал у меня небольшую ферму из-за минутного опоздания после двенадцати часов ночи. Всякий другой подождал бы по крайней мере до утра и тогда уже отобрал бы твою собственность за неплатеж, дал бы тебе хоть выспаться ночью. А этот стоял перед моей дверью вместе с помощником шерифа, дожидаясь времени вручить повестку, и только отсчитывал секунды по своим часам. Но в одном отношении следует отдать справедливость Далтону. Он ходит в церковь так же часто, как проповедник, а молитвы читает куда громче. Учтите все это, вместе взятое, и вы поймете, почему Далтон Бэрроуз не может не быть видным гражданином».)
Далтон теперь впервые выставлял свою кандидатуру в конгресс на всеобщих ноябрьских выборах и прилагал все усилия, как политик и финансист, чтобы обеспечить себе пост в Вашингтоне. Черные волосы с проседью и высокая осанистая фигура придавали ему внушительность, к тому же он умел держаться солидно и достойно или по-родственному благосклонно, смотря по обстоятельствам. С годами он приобрел умение управлять своим голосом в публичных выступлениях и в частных разговорах, переходя от внушительного рева до интимно ласковых нот. Если б он не добился поста в Вашингтоне, что казалось маловероятным, то впервые за всю его политическую карьеру случилось бы, что он не прошел как кандидат от демократов на предвыборном собрании и не получил большинства голосов на всеобщих выборах.
— Могу сказать тебе по секрету вот что, Джозина, — говорил Далтон по привычке оживленно. — В действительности произошло то, что миссис Фрэнк Бауэрс по личным причинам настаивала на твоем аресте, а шериф пожелал исполнить эту ее просьбу, чтобы оказать ей любезность. В этом все дело. Он просто-напросто подошел к делу формально. Ты понимаешь, что я хочу сказать?
Он опять взглянул на Джозину, приподнимая брови, но не стал дожидаться ее ответа.
— Так вот, шериф Гловер собирается выставить свою кандидатуру на второй срок, а такие случаи бывают иногда перед выборами. Я в самом разгаре важнейшей для меня кампании и очень ценю готовность любого кандидата пойти навстречу избирателям и обеспечить себе их голоса. Все мы являемся слугами народа и по необходимости подчиняемся воле избирателей. Тебе это понятно. Во всяком случае, даже если бы тебя взяли под стражу, то через несколько дней шериф тебя преспокойно выпустил бы, тем бы дело и кончилось. Я рад, что для тебя все так хорошо обернулось, Джозина.
Кончив говорить, Далтон поднял глаза и указал ей на дверь движением руки.
— Можешь идти теперь, — сказал он кратко.
Джозина поднялась с кресла. Однако она остановилась тут же, вместо того чтобы уйти немедленно. Он опять указал ей на дверь.
— Это все. Я очень занят сегодня утром.
Он наклонился над столом, словно решившись не смотреть на нее больше.
— Сколько я должна вам, мистер Бэрроуз? — спросила она.
— Ничего. Ровно ничего. Мне очень приятно было сделать любезность мистеру Ханникату. Он всегда очень энергично помогал мне перед выборами.
Джозина собиралась было поблагодарить Далтона, как вдруг он поднял глаза и указал ей на кожаное кресло, в котором она только что сидела.
— Погоди минутку, — нервно сказал он. Выражение его лица уже изменилось. Он смотрел на нее пытливым взглядом. — Сядь, Джозина. Я хочу кое-что узнать на этот счет, прежде чем ты уйдешь.
Джозина снова села.
— Почему мистер Ханникат послал тебя за советом ко мне?
— Ну, мы с ним давно в дружеских отношениях, — подумав с минуту, ответила Джозина, — а сегодня утром он сказал мне…
Далтон прервал ее.
— Вот только что, когда ты вошла сюда, ты сказала мне, что собиралась замуж за этого негра, Харви Брауна, которого убили прошлой ночью. Туземец Ханникат — белый. А ведь ты…
— Мистер Бэрроуз, я тоже отчасти белая, — решительно заговорила она.
Далтон посмотрел на нее долгим испытующим взглядом. Прошло несколько времени, прежде чем он собрался заговорить снова.
— Я это очень хорошо вижу. — Его голос зазвучал громче и резче. — Это всякому видно. Но при чем это тут? У нас много мулаток и квартеронок. Страна кишит ими и всякими другими разновидностями тоже. Меня удивляет другое. Никогда в жизни мне не доводилось слышать, чтобы какая-нибудь негритянка хвасталась дружбой с белым. По крайней мере в этой части страны. Это очень необычно и беспокоит меня. Неужели ты не понимаешь? Неужели ты не знаешь, что это такая вещь, о которой тебе следует молчать?
Угрожающий голос Далтона становился все громче и сердитее. Он замолчал, глядя прямо ей в глаза, но Джозина ничего ему не ответила.
— Вот это и беда с вами, неграми, в которых есть хоть частица белой крови, — осуждающе сказал он. — Все вы начинаете много болтать и вести себя так, как будто вы ничем не хуже белых. Я прожил здесь всю свою жизнь и не помню, чтобы когда-нибудь было иначе. Почему вы, негры, не знаете своего места, где вам полагается быть, и не умеете держать язык за зубами?
Он встал из-за стола и большими шагами прошелся к окну. («Не замечаете ли вы, насколько негры в последнее время стали светлее? Из года в год эта перемена становится заметней. И чисто-черных негров старых времен вы тоже видите не много. Они быстро исчезают. Пятьдесят лет назад мулаты попадались часто, но квартероны и окторуны были такой же редкостью, как белый мул на коровьем пастбище. Но не в наше время. Прямо не знаешь, чего и ждать еще лет через пятьдесят».)
Повернув от окна назад, Далтон остановился перед Джозиной, сильно покраснев и посмотрев на нее так, словно это была упрямая и недружественная свидетельница на перекрестном допросе.
— Почему же ты молчишь? — спросил он громовым голосом. — Разве ты не слышала? Я задал тебе вопрос! Я задал тебе даже два вопроса!
Джозина на мгновение прикусила губу. Потом весь ее страх пропал, и она спокойно подняла глаза.
— Мистер Бэрроуз, вы, может быть, считаете, что я недостаточно хороша, чтобы разговаривать и вести себя, как белая, — сказала она неторопливо и спокойно, — но моя мать была достаточна хороша для белого.
Он воззрился на нее.
— Для какого белого?
— Для моего отца.
— Кто это тебе сказал?
— Моя мать.
Далтон засунул руки в карманы и, прежде чем заговорить с ней снова, несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. Как опытный адвокат, он отлично знал, что долгий допрос свидетеля, дружественного или недружественного, может только повредить его собственным интересам. Он всегда умел быстро обдумывать и решать вопросы на ходу и теперь соображал, насколько далеко можно завести этот допрос. Перестав мерить шагами комнату, он сразу изменил свою манеру разговаривать. Впервые за все это время он стал любезным и снисходительным.
— Скажи мне вот что, Джозина, — начал он, бегло улыбнувшись. — Для чего ты это сейчас говорила? Это очень любопытно. Откуда тебе столько известно о предполагаемых отношениях твоей матери с каким-то белым? Откуда ты узнала, что он твой отец?
— Так сказала мне моя мать. — Потом Джозина прибавила: — И бабушка Мэддокс тоже знает. Она даже больше говорила об этом, чем моя мать.
Далтон собирался было спросить ее, что же еще ей известно об ее отце, но вдруг передумал и отошел от Джозины. Он долго стоял у окна спиной к комнате, глядя на площадь перед зданием суда. Когда он заговорил снова, голос его звучал напряженно, но сам он казался спокойным и держался, по-видимому, дружелюбно и любезно.
— Сколько тебе лет, Джозина? — спросил он, не отходя от окна и повернув только голову, чтобы взглянуть на Джозину.
— Двадцать четыре года.
Он отошел от окна и медленно подошел к ней.
— Как зовут твою мать?
— Джозефина. Все зовут ее Джози.
— Сколько ей лет теперь?
— Ей около сорока.
— Кожа у нее такая же светлая, как у тебя?
— Не совсем. Она немножко темнее.
Его густые брови слегка приподнялись.
— Твоя мать была замужем, когда ты родилась?
Джозина отрицательно покачала головой.
— Почему ты носишь фамилию Мэддокс?
— Потому что это была фамилия моей матери, и моей бабушки, и прабабушки тоже.
— Твоя мать сейчас замужем, и у нее есть другие дети?
— Да, сэр.
— Где она живет?
— Она жила раньше в Пальмире, а теперь живет на ферме в деревне.
— Где ты родилась, Джозина?
— Здесь, в Пальмире.
— Ты живешь здесь всю жизнь.
— Да, сэр.
Далтон вернулся к своему столу и сел в зеленое кожаное кресло с высокой спинкой. Он хлопотливо передвинул бумаги и документы с одного края стола на другой, даже не глядя как следует, что он делает. («Когда вы становитесь взрослым и приобретаете некоторый жизненный опыт, вы нередко интересуетесь, поступили бы вы точно так же, как в прошлом, если бы пришлось начать жизнь сначала. Это трудно решить любому человеку, потому что плохое и хорошее и теперь смешивались бы так же, как это было тогда, и никто не знает, что в конце концов перевесит. В молодости я проделывал такие штуки, которых стыжусь теперь и в которых никому не признался бы, да мне и повредило бы, если б это обнаружилось, но в глубине души я счастлив, что пережил все это в юности».)
Немного погодя Далтон откинулся на спинку кресла и улыбнулся Джозине.
— Боюсь, я был сейчас не очень любезен, — сказал он извиняющимся тоном. Его глаза прищурились в улыбке. — Не знаю, что заставило меня выйти из себя и так разговаривать. Я сожалею об этом, Джозина. Я хочу тебе сказать, что, как только ты вошла сюда, я сразу увидел, что ты больше белая, чем негритянка, и мне бы надо было обращаться с тобой, как с белой. Я это ясно вижу по овалу твоего лица, по цвету волос, по форме бровей. Все это очень заметно… и к тому же очень привлекательно. Я бы сказал, что ты негритянка на одну восьмую — окторунка. И чем больше я на тебя смотрю, тем больше в этом убеждаюсь. Кроме того, Джозина, ты очень красивая девушка. Исключительно красивая. У тебя такого характера красота, что очень многие белые девушки отдали бы за нее все на свете. Тебе очень повезло, Джозина.
Далтон наклонился и нервным движением руки поправил бумаги на столе.
— Знаешь что, Джозина? — сказал он задушевно. — У меня две дочери. Одной восемнадцать лет, другой — двадцать, почти твой возраст. Я считаю их тоже очень красивыми и очень люблю обеих. Сейчас они уехали в колледж, их нет дома. Для них я все на свете сделал бы. Больше всего мне хочется, чтобы они выросли и были счастливы, — ну и, конечно, вышли бы удачно замуж. Этого каждый отец желает дочерям — счастья в жизни и удачного замужества. Но в этом я мало могу им помочь — я не могу купить им счастья. Я могу только советовать им, ободрять их и создавать для них возможности. — Он помолчал и провел рукой по лицу. — Но к чему я все это говорю? Ты сумеешь найти свое женское счастье. Все это к тебе не относится, не правда ли?
Он опять встал из-за стола, большими шагами подошел к окну и выглянул на площадь. По улицам шли фермеры, приехавшие в город купить продовольствие, а на каменном крыльце здания суда, как обычно, сидели все те же мужчины, которым нечего было делать. День был ясный, веселый и теплый на солнечном пригреве — такие дни нередко выпадают в это время года.
— Не знаю, почему я столько наговорил про своих дочерей, — сказал Далтон, не поворачивая головы. — Может быть, потому, что ты мне их напоминаешь. — Он вернулся к столу и остановился перед Джозиной. Он долго смотрел на нее пристальным взглядом, словно стараясь запомнить. — Сказать по правде, Джозина, так причина именно эта. И потому мне хочется дать тебе совет, — если ты его примешь, — так же, как я дал бы совет тем двум девушкам и подбодрил бы их. Я хочу, чтобы и ты была счастлива.
— Совет насчет чего, мистер Бэрроуз? — спросила она.
Далтон подтащил стул через всю комнату и сел рядом с Джозиной.
— Мы об этом еще не говорили, Джозина, но я про тебя знаю больше, чем ты думаешь. Все, что происходит в Пальмире, очень скоро становится известно всем. Этого и следует ожидать в таком маленьком городе. Всякий лезет в чужие дела. Кто-нибудь проболтается, а охотников слушать всегда много.
Так вот, я собираюсь быть честным и откровенным. Собираюсь говорить по существу. Мне известно, что ты жила, если можно так выразиться, с Туземцем Ханникатом у него в доме, а днем служила горничной у миссис Фрэнк Бауэрс на Черри-стрит. А после того как мистер Ханникат женился на миссис Бауэрс, ты опять, по привычке, явилась к нему в дом, и она застала тебя в его обществе — причем фартучка и наколки горничной на тебе не было.
Что ж, теперь всем в городе это известно. И это и послужило причиной всей беды. Нельзя осуждать миссис Бауэрс за то, что она рассердилась и взволновалась при таких обстоятельствах. Ее первым побуждением было отомстить, сделать так, чтобы тебя арестовали и ты понесла наказание. В результате погиб молодой негр… тот самый, за которого ты собиралась выйти замуж. Об этом следует сожалеть, это непростительно и не должно было случиться. Но все же случилось, и человека уже нельзя вернуть к жизни. Некоторым людям свойственна дикость и зверская жестокость. Быть может, она является врожденной, быть может, приобретенной, а быть может, представляет сочетание того и другого. Во всяком случае, если в человеке оно есть, так время от времени прорывается наружу, словно хроническая накожная сыпь. Вот и все. Мне искренне жаль Харви Брауна. Ты не могла бы найти себе мужа лучше него. Это был хороший, работящий человек, законопослушный гражданин.
Так вот тебе мой совет, Джозина. Уезжай отсюда, уезжай из города и не возвращайся. Тебе уже не найти работы у белых в Пальмире. Слишком много было разговоров и сплетен, а будет и еще больше. Забери с собой и дочку. Отошли бабушку в деревню, к твоей матери. А тебе я советую поехать в Джексонвилл, Атланту или Новый Орлеан. Только уезжай куда-нибудь, подыщи себе работу получше, заведи новую семью ради своей дочери и начни новую жизнь. Ты молода, у тебя привлекательная внешность, у тебя есть способности и умение работать. Ты не получишь рекомендации от миссис Бауэрс, но я тебе дам другую, очень хорошую.
Далтон тревожно следил за ней, поставив локти на колени и стискивая пальцы то одной, то другой руки. («Единственное, что может смутить политика в последнюю минуту перед выборами, это разговоры насчет скандала в его личной жизни. Ловкий политик постарается замять скандал любой ценой, а неловкий наверняка провалится в день выборов».)
Джозина молчала, усиленно обдумывая то, о чем он говорил.
— Я не только дам тебе хорошую рекомендацию, Джозина, я сделаю больше, — ободряюще сказал он. — Я хочу помочь тебе и дам тебе столько денег, что это снимет бремя забот с твоей души. Это будет подарок, а не долг, который нужно потом выплачивать. Понимаешь? И все это будет твое, если ты уедешь из города. Понимаешь, Джозина?
Не дожидаясь ее ответа, Далтон достал из кармана деньги, дважды пересчитал их, сложил пачку и сунул ей в руку. Джозина глядела на деньги, медленно покачивая головой.
— В чем дело, Джозина?
— Не знаю…
— Чего ты не знаешь?
— Я никогда раньше не уезжала так далеко из дома.
— Это не беда, Джозина.
— Но я всегда жила в Пальмире. В тех местах я никого не знаю. Я бы не знала, что мне там делать. Если бы кто-нибудь со мной поехал… С Эллен и со мной…
— Это не беда, Джозина, — настойчиво повторил он. — Поверь мне на слово. Ничего с тобой не случится. Джексонвилл и Атланта большие города, в том или в другом ты скоро обзаведешься знакомыми, и друзей у тебя будет больше, чем когда бы то ни было. Будешь ходить в гости и на танцы. Встретишь человека, за которого захочешь выйти замуж. Как только ты попадешь туда, сама будешь рада, что уехала. Это я могу тебе обещать. Ну, что ты теперь скажешь?
— А если я не найду работы…
— На этот счет не беспокойся. Напиши мне только, и я тебе пришлю еще денег. Но не возвращайся сюда. И я хочу, чтобы ты уехала немедленно, не откладывая этого. Ну, ступай домой, собери кое-что из вещей, чтобы захватить с собой, а потом садись в автобус. Только не задерживайся дольше, чем до завтрашнего утра.
— Мне все равно где ни жить, — сказала Джозина и заплакала. — Мне больше не из-за чего здесь оставаться. Харви больше нет — он умер. Мне все равно. Любое место годится для меня.
Далтону захотелось обнять ее и утешить, но вместо этого он только положил руку ей на плечо и крепко сжал его. Немного погодя она утерла слезы и встала. Идя к двери кабинета, она ни разу не оглянулась на Далтона, не сказала ему ни слова.
Она вышла из кабинета, и Далтон, проводив ее до вестибюля, стоял и смотрел, как она спускается по лестнице и выходит на улицу. Она так и не оглянулась ни разу.
— Прощай, Джозина, — дрогнувшим голосом сказал он ей вслед, когда она скрылась из виду. — Храни тебя бог, Джозина.
17
Уже протянулись длинные вечерние тени, и скоро должна была спуститься тьма, когда Туземец Ханникат, в серой кепке и синей куртке, вышел из Большой Щели и направился к центру города.
Уже чувствовалась осенняя прохлада, когда ветер с севера покачивал ветви дубов и сикомор и шуршал побуревшими листьями на тротуаре. Дым от вечерних очагов клубами поднимался из труб и, расходясь по улицам и переулкам, оставлял в воздухе едкий запах.
Деловой день подходил к концу, и в лавках и конторских зданиях деловой части города уже гасили свет. Некоторые секретари и конторские служащие возвращались домой пешком с городской площади, другие ехали в авто, скрежетавших на поворотах и яркими фарами освещавших дорогу к дому. Впервые в жизни почувствовав свое одиночество, Туземец Ханникат позавидовал людям, которых дома ждут жены.
Большинство фермеров, которые приезжали в город провести день и сделать закупки, давно уехали, чтобы пораньше добраться домой в деревню и успеть до темноты подоить коров и задать им корм. Каменная лестница перед зданием суда опустела: все мужчины, которые днем лодырничали и болтали, греясь на солнце, к ночи ушли домой. Пять-шесть школьников катили в сумерках на велосипедах за бутылкой молока или ковригой хлеба, пока лавки еще не закрылись.
Туземец с раннего утра сидел сгорбившись за верстаком, стараясь разделаться с починкой приемников, и он очень устал и сильно сутулился после целого дня работы. Он проголодался, и ему ужасно хотелось поесть чего-нибудь, но только не чилийских бобов с макаронами. Дома у него было много жестянок с бобами и макаронами, которые всегда были под рукой в дождливые вечера или в те дни, когда он не выходил из дому, но как ни был он голоден, ничего такого ему сейчас не хотелось.
Устало шагая по улице в густой тени дубов и сикомор, Туземец не мог не думать о Мэйбл Бауэрс и соображал, что у нее будет к ужину нынче вечером. Чем больше он думал о Мэйбл, живущей в большом кирпичном доме на Черри-стрит, тем голоднее он себя чувствовал. Он был уверен, что она готовит его любимые блюда, и начал думать о куриных котлетах с подливкой, о ветчине с горошком и печеном ямсе с колбасным салом, о маисовых лепешках и пирогах с бататами, но не знал, придется ли ему еще хоть раз попробовать всего этого.
Он еще не добрался до дверей пивной и увеселительного заведения Эда Говарда, как уже чувствовал себя непоправимо несчастным, тосковал и сокрушался о самом себе и своей горькой доле. Он не мог понять, куда девалось то счастье, которым он так хвастался в прошлом. («Кому охота тратить зря время и жалеть пожилого холостяка только потому, что он питается консервами? Пускай сам себя жалеет. Сам же и виноват. Много найдется женщин, которые были бы рады выйти замуж и стряпать для мужчины. Беда в том, что почти все холостяки становятся такими эгоистами и до такой степени укореняются в своих привычках, что даже сами с собой не могут ужиться».)
Когда он вошел в заведение Эда Говарда, ярко освещенная комната была полна шумного говора и громкого смеха. Не обращая внимания на яркий свет и резкие звонки автоматов, он прошел мимо них, словно не подозревая об их существовании. В пивной толпилось человек десять или двенадцать, и один из них, назвав его по имени, что-то сказал, но Туземец все же не оглянулся. Он подошел прямо к стойке и сел на табурет.
Эд Говард видел, что Туземец вошел в пивную, и поджидал его за стойкой.
— Как нынче дела, Туземец?
— Хуже некуда.
— Жалеешь, что на свет родился?
Туземец кивнул.
— Может, ты еще не знаешь, какие бывают плохие дела.
— Если я сейчас не знаю, то мне остается только немного подождать. Тогда и узнаю.
Эд пристально поглядел на него.
— Я понимаю, что у тебя на душе, Туземец, — сочувственно сказал ему Эд. — Со мной тоже иногда бывает в этом роде. Все не ладится и идет шиворот-навыворот. Моя жена просыпается утром и говорит, что ей не нравится, как я выгляжу. Я прихожу вечером домой, и она говорит, что ей не нравится, как я выгляжу. Если я с ней соглашаюсь, она выходит из себя и не желает разговаривать. Если я с ней не соглашаюсь, она выходит из себя и все-таки не желает разговаривать. Теперь ты знаешь, какие у меня неприятности. Но я пришел к заключению, что такое в нашей жизни со всяким может случиться — и со мной, и с тобой, и с большими шишками, и со всякой мелюзгой, с бедными и с богатыми одинаково. И нам надо привыкать обходиться как-нибудь без этого, все равно как свинье без ночного горшка.
Туземец кивнул в знак согласия. Он смотрел на большую картину в золоченой раме, висевшую на стене за стойкой.
— Ну, что будешь заказывать? — спросил Эд.
— Шницель побольше и бутылку пива.
— Может быть, у тебя все пошло шиворот-навыворот, — сказал Эд, доставая шницель и пиво, — но ты все-таки знаешь, куда надо идти за хорошей домашней едой, ведь верно?
— Если не здесь, так нигде больше ее не получишь, — сказал Туземец. — Это так же верно, как то, что мелкие орешки растут большими гроздьями.
— Спасибо, что ты так говоришь, Туземец. От таких твоих разговоров моему заведению больше пользы, чем от большого объявления в «Вестнике округа Сикамор», за которые надо отвалить кучу денег. Ты только говори это всему городу, и я тебе буду большой друг. Почем ты знаешь, может, я тебе когда-нибудь открою кредит на целый доллар.
Он поставил шницель и пиво перед Туземцем и облокотился на стойку.
— До сих пор все как-то не было случая сказать, но мне, право, очень жалко было слышать, что недолго ты пробыл женатым. Когда я в первый раз услышал, что ты женишься на Мэйбл Бауэрс, меня удивило, как это ты ухитрился переметнуться к белым женщинам, не дав себе никакой передышки. Потом мне пришло в голову, что для человека твоих лет неплохо иметь возможность обеспечить себя на всю жизнь: какую-то часть жениных денег положить в банк на свое собственное имя, выписывать чеки, не платить больше за квартиру да еще есть домашнюю стряпню сколько влезет.
Туземец посмотрел на него и ухмыльнулся.
— Я два раза сидел у нее за столом, все-таки хоть два раза поел хорошо. Да еще от третьего обеда мне кое-что досталось.
— Вот именно это я и слышал, — сказал Эд. — Если кому захочется расхвалить наш город, так хоть одно важное можно про него сказать. — Он отошел, чтобы обслужить потребителя. — В Пальмире сплетни расходятся быстро и из них всегда узнаешь самую суть дела.
В комнате становилось все более шумно от громкого говора, криков и неумолчного лязганья автоматов, но Туземец не обращал никакого внимания на то, что происходило за его спиной. Он сидел, уставившись на картину в золоченой раме — толстая женщина в натуральную величину мылась в маленьком тазике, — и думал о Мэйбл и всей той вкусной еде, которая у нее готовится.
Он съел уже половину шницеля, когда Фатти Леттимор подошел к нему сзади и сильно хлопнул его по спине.
— Что ты сидишь тут в одиночестве и скучаешь? — сказал Фатти, усевшись на табурет рядом с ним и заказав бутылку пива. — Ты что-то на себя не похож, Туземец. Видать, совсем выдохся.
Туземец посмотрел на него и ничего не ответил.
Фатти Леттимор был все в том же желтом комбинезоне, в котором он работал на заправочной станции, и его засаленная кепка была сдвинута на затылок. Из бокового кармана торчал свернутый в трубку номер журнала. Он всегда носил с собой журнал с рассказами о ковбоях или книжку в яркой обложке: он говорил, что любит читать про людей, которые откалывают такие потрясающие номера, на какие у него духу бы не хватило. По дороге с работы Фатти всегда заходил на часок-другой в заведение Эда Говарда. Было уже около того времени, когда жена Фатти звонила Эду Говарду по телефону и просила передать Фатти, что если он сию минуту не вернется домой, то она не станет ничего готовить ему к ужину и уйдет к своей матери на всю ночь. После этого Фатти никогда не задерживался и спешил вернуться домой.
— Ты, право, сам на себя не похож, Туземец, — говорил Фатти. — Я бы и не распознал, кто ты такой, если бы не помнил тебя в лицо. Гебе бы полагалось быть вон там, у «Девушек на пляже», набрать побольше очков да заставить их сбросить всё, до последней тряпочки. Если тебе это не удастся, так никому другому и подавно. Разве ты не понимаешь, что чуть не свел с ума Эда Говарда тем, что постоянно выигрываешь бутылки с пивом и за игру с тебя брать не приходится?
Туземец съел еще кусок шницеля и запил его большим глотком пива. Он слушал все, что говорил ему Фатти Леттимор, но пока что не сказал в ответ ни слова.
Фатти наклонил голову набок и придвинулся поближе к Туземцу.
— Послушай, — сказал он, понизив голос. — Скажи мне вот что, Туземец. Уж не изменило ли тебе твое счастье? Не оттого ли ты сидишь тут и скучаешь и вид у тебя такой, будто ты совсем выдохся?
Туземец с трудом глотнул.
— Может, у меня никогда не было такого счастья, как я раньше думал. — Выражение лица у него было мрачное и угрюмое. — Если и есть у меня сейчас какое-нибудь счастье, так все оно самого плохого сорта. Вот уж, можно сказать, нечем похвастаться.
— То есть как это? — засмеялся Фатти. — Всем известно, какой ты счастливец. Ты этим прославился.
Туземец проглотил еще кусок шницеля.
— Сколько я могу припомнить, мне почти всегда везло, так что жаловаться было не на что. Я гордился, когда слышал, как люди толкуют про «Счастье Ханниката». Но дня два тому назад все вдруг переменилось к худшему, и так оно с тех пор и пошло. Прямо не знаю, что с этим делать. Каждый раз как я за что-нибудь берусь теперь, дело кончается тем, что я поджимаю хвост и чувствую себя хуже, чем вороватая собака, когда ее поймают в курятнике.
— Не может быть, чтоб уж так было плохо, — сказал ему Фатти, посмеиваясь и хлопая его по спине. — Ты сам себя уговариваешь, что все плохо. Одно у тебя не удалось, что ты разошелся раньше времени с богатой женой и из ее денег к тебе ничего не прилипло. Но из-за этого не стоит огорчаться. Со многими случается что-нибудь в этом роде.
— Может быть, и так, но это еще не все, — сказал Туземец, качая головой. — Это еще только начало. Теперь я чувствую так, как будто мне никогда уже не быть прежним счастливчиком. Я до того упал духом, словно гончая, которой отрубили хвост. Если охотничья собака привыкла всю жизнь вертеть хвостом, так без хвоста ей совестно и она чувствует себя никому не нужной.
— А что еще стряслось? — спросил Фатти.
Туземец налил в стакан еще пива и уже собирался что-то сказать, как вдруг громкий говор в комнате смолк и звяканье автоматов постепенно прекратилось. Похоже было, что все посетители пивной решили уйти сразу.
И Фатти и Туземец обернулись посмотреть, отчего стало так необыкновенно тихо. В эту минуту все смотрели на Клайда Хефлина, который медленно шел от дверей к стойке. Выражение лица у Клайда было угрюмое и угол рта злобно кривился. На этот раз при нем не было ни кобуры с револьвером, ни наручников, висящих на поясе, и боковой карман не провисал под тяжестью дубинки. Он был без мундира, с непокрытой головой, и хвостик рубашки торчал из штанов.
Подойдя к стойке и не говоря ни слова, Клайд схватил Туземца за плечо и повернул на табурете с такой силой, что тот чуть не свалился. Но и после этого Туземец подумал только, что Клайд хочет в шутку затеять ссору, как он делывал и раньше. Туземец добродушно заулыбался.
— Душу бы надо из тебя вышибить, — неживым голосом сказал Клайд, опять рванув Туземца за плечо так сильно, что тому пришлось ухватиться за стойку, чтобы не слететь с табурета. — Вот сейчас возьму да и вышибу, — прибавил он все тем же неживым голосом.
Они смотрели друг на друга, и широкая улыбка Туземца расплылась во все лицо.
— За что, Клайд? — спросил он, высвобождая плечо. Он все еще думал, что Клайд грубо шутит по своей всегдашней привычке. — Что такое случилось?
Тот ничего не ответил. Только злобная складка в углу рта стала еще глубже.
— Ведь я починил тебе приемник и он работает? Я же тебе сказал, что с ним надо делать. Потряси его легонько так, чтобы он задребезжал, а потом выругай его. Ты уж, верно, сумеешь выругаться так, чтобы он начал работать. Больше, пожалуй, и ничего не нужно, чтобы иной упрямый приемник заработал лучше прежнего. Ступай домой, попробуй сделать, как я сказал, а потом расскажешь, что получится.
Клайд пихнул Туземца так, что тот ударился о стойку.
— К черту это. Я не про приемник говорю, на кой он мне дьявол.
Улыбка сходила с лица Туземца, оставаясь только в уголках губ.
— Что ж, Клайд, если он хорошо работает и ты доволен, так заплати сколько ты мне должен за починку. Это будет по-честному. Мы же с тобой договорились, ты помнишь. Ты сказал, что отдашь долг, когда я тебе напомню, вот я и напоминаю тебе. Если при тебе нет подходящей мелочи, так Эд Говард тебе разменяет. Мне сейчас как раз эти деньги пригодились бы. Я бы угостил тебя пивом.
— Я уже сказал тебе, что ни про какое чертово радио не было разговора. — Он вытер рот тыльной стороной руки. — Ты ведь меня слышал.
— Тогда о чем же ты говоришь?
— Говорю о тебе и о твоих подлых повадках! Будь ты проклят! Из-за тебя меня с работы прогнали! Вот что! Ты в этом виноват!
— Да что же я сделал, Клайд?
Клайд повернул голову и сплюнул на пол.
— Отлично знаешь, что сделал, черт тебя дери! И не ври, не отвертывайся, я все знаю. Ты вчера ночью ходил в негритянский квартал, увел куда-то эту желтокожую дылду и спрятал от меня так, что я и найти ее не мог. Вел себя, как будто она твоя собственность. Когда я туда за ней поехал, чтобы забрать ее в тюрьму, и не нашел ее, я подумал, что этот черномазый ее прячет и водит меня за нос. Он мне не захотел сказать, где она, оттого я и обозлился как черт. Вот за это я его и убил. Если бы ты не совал нос не в свое дело, да не спрятал бы ее где-то там, ничего этого не случилось бы. А теперь только из-за того, что еще одного негра убили, они подняли тарарам на весь город и всю вину на меня свалили. Гровер Гловер отнял у меня шерифский значок и выгнал меня. Теперь я остался без работы. Если бы ты туда не прокрался как вор да не увел ее и не спрятал где-то, так что я и найти ее не мог, я бы не потерял место. Будь ты проклят!
Как раз в то время, когда Клайд орал и бесновался, в заведение вошел Эл Дидд и услышал все, что тот говорил. Эл встревожился, как бы Клайд не натворил беды, и бросился к стойке. Но не успел он добежать, как Клайд размахнулся и ударил Туземца кулаком в лицо.
Удар был настолько силен, что Туземец свалился с табурета, растянулся плашмя на полу и лежал ошеломленный и беспомощный.
Клайд бросился было к нему, но Эл и Фатти оттолкнули его в сторону, прежде чем он успел ударить каблуком по лицу Туземца. Теперь и другие мужчины столпились вокруг Клайда, оттесняя его подальше.
Очутившись на середине комнаты, Клайд остановился, угрожая кулаками тем, кто был с ним рядом.
— Не подходите ко мне ни на шаг, — предостерег он стоящих ближе. Он вытер рот тыльной стороной руки, обводя комнату злобным взглядом. — Вы меня слышали? Не трогайте меня!
Он попятился к дверям, на ходу доставая нож из кармана.
— Кто ко мне полезет, всякому горло перережу, мне это ничего не стоит!
— Не валяй дурака, Клайд, — сказал ему кто-то. — Спрячь свой ножик и перестань орать. Ты и без того довольно натворил, хватит с тебя. Ступай куда-нибудь, остынь, пока еще можно.
Клайд раскрыл нож привычным движением руки, и лезвие ярко блеснуло при свете.
— Если кто-нибудь ко мне двинется, клянусь богом, кишки выпущу и растопчу их на полу. Я зол как черт, правду вам говорю!
— Ты лучше следи за собой, Клайд, — сказал ему один из присутствующих. — А не то как бы тебе не попасть в беду еще похуже: ведь орешь, хвастаешься, а ведешь себя подло. Перестань валять дурака и спрячь ножик. Да убирайся отсюда, остынь на свежем воздухе.
— Я уж сумею о себе позаботиться. Никого я не боюсь!
Эд Говард выхватил револьвер из ящика за стойкой и нацелился в Клайда.
— Убирайся отсюда, Клайд Хефлин, — сказал Эд. — У меня тут приличное заведение, и я мои порядки ломать не позволю. Если ты отсюда не уберешься, как я тебе велел, то я буду держать тебя под прицелом, пока за тобой не явится полиция. И буду стрелять, если понадобится. Ну, убирайся отсюда, пока можешь уйти на своих на двоих.
— Ты меня не запугаешь.
— Это мы еще посмотрим.
Угрожающе размахивая ножом, Клайд стал пятиться к выходу.
— Я еще доберусь до этого ублюдка, — сказал он, глядя на Туземца. — Он от меня больше не спрячет эту желтокожую дылду. Я с ним разделаюсь, острогаю его гладко, как ручку от мотыги. Я знаю, как с такими обращаться. Он мне устроил пакость да останется безнаказанным, как бы не так! Мне только бы еще разок повстречать где-нибудь этого ублюдка. Уж я до него доберусь!
После этого все ждали молча и напряженно. Больше ни слова не было сказано, пока Клайд не вышел, пятясь, на тротуар и не скрылся из виду.
Эд Говард снова убрал револьвер, захлопнув ящик с громким стуком.
— Как это может в одном человеке накопиться столько подлости и злобы? — спросил кто-то.
— Не знаю, что на это ответить, — сказал другой, — и есть еще одно, чего я не знаю. Я не хочу даже и знать, сколько можно человеку еще прожить с таким запасом подлости и злости. Не хочу даже и строить догадки на этот счет. Я могу свалять дурака и попасть пальцем в небо.
18
После всех этих волнений в пивной и увеселительном заведении Эда Говарда посетители притихли и задумались, не зная, что сказать. Без громкого говора и лязганья автоматов в пивной было тихо, как в воскресенье при закрытых дверях.
Большинство мужчин молча пили пиво у стойки, обдумывая то, что случилось. Жена Фатти Леттимора позвонила ему вскоре после ухода Клайда Хефлина и дала ему пятнадцать минут на дорогу домой, если он собирается ужинать и не желает сегодня ночевать в одиночестве, так что Фатти поторопился домой.
Еще несколько человек один за другим встали и ушли домой ужинать. («Мне не требуется никаких напоминаний, что пора идти домой ужинать. Разве только одно — когда в заведении Эда Говарда взглянешь разок на эту шикарную картину, где большая толстая женщина моется в крохотном тазике. Моя жена становится все больше похожа на эту картину, каждый раз как на нее посмотришь. Скоро я, должно быть, одну от другой не отличу».)
Наконец, приблизительно через час, кто-то попросил Эда Говарда разменять четверть доллара, и снова зазвякали автоматы.
Эд не отходил от телефона за стойкой. Он сказал, что если Клайд Хефлин вернется, то он вызовет полицию в ту же минуту, как только увидит в дверях лицо Клайда. Он опять достал револьвер из ящика и положил его под рукой на всякий случай.
Эл Дидд допил бутылку пива и бросил последний взгляд на картину в золоченой раме, висевшую на стене за стойкой.
— В самом деле поздно, я ухожу домой, — сказал он. — Моя жена все равно взбеленится, когда бы я ни пришел, так что уж лучше сразу пойти домой и отделаться поскорей. — Он поднялся с табурета и положил руку на плечо Туземца. — Я тебя подвезу до дома. Не надо тебе идти пешком в такую темную ночь. Это было бы глупо после того, что Клайд говорил. Идем, Туземец, пора отправляться.
Эд Говард одобрительно кивал.
— Это ловко получится, Туземец. Рисковать тебе незачем. Слишком опасно. Поезжай домой с Элом. Я не желаю терять такого хорошего клиента, как ты.
Они вышли из пивной и уселись в машину Эла. Теперь шел уже десятый час, а так как вечер был не субботний, то на улицах Пальмиры не встречалось прохожих. Почти все огни в витринах лавок были погашены, не светилась даже большая электрическая вывеска на здании банка. Городская площадь опустела. Уличные фонари стояли только по углам, далеко один от другого, и горели тускло. Брэд Грейди, ночной дежурный, обычно объезжал улицы в полицейской машине или пил кофе в ночном кафе, но и он в это время был в другой части города.
Эл запустил мотор, и, проехав через городскую площадь, они покатили по улице к Большой Щели. Почти во всех домах, мимо которых они проезжали, было темно, и только изредка где-нибудь мелькал свет.
— На твоем месте, Туземец, — сказал Эл, замедляя ход, — я бы засел дома на несколько вечеров и не выходил бы на улицу, после того как стемнеет. Это было бы самое лучшее. Пускай пройдет денька три, за это время Клайд Хефлин остынет немного, а может, у него хватит здравого смысла поехать ненадолго во Флориду ловить рыбу. Только никогда нельзя знать наверно, много или мало здравого смысла у человека, вроде него, а как раз сейчас он опасен. Он способен на все, что угодно, как он и угрожал. Я и раньше видывал его в таком состоянии, и самое разумное будет держаться от него подальше, все равно как от бешеной собаки, когда видишь, что она бежит по улице.
— Может, ты и прав, Эл, — сказал Туземец, подумав с минуту. — Но я еще никогда в жизни ни от кого не бегал. На меня не похоже из-за чего-нибудь трусить.
— Оно совсем не значит трусить. Поверь моему слову, Туземец. Оно значит соображать и не дать себя в обиду. Вот как надо на это смотреть. Когда на Клайда находит такая полоса, самое разумное держаться от него подальше до тех пор, пока он жаждет крови. Ты и сам это знаешь.
Туземец молчал, пока перед ними не появилось пожарное депо.
— Что ж, я, конечно, не желаю, чтоб он набросился на меня с ножом как-нибудь темной ночью и выпустил мне кишки. Не так уж я глуп. Я после этого даже столько не проживу, чтобы рассказать, что случилось.
— И вот что еще тебе нужно, — серьезно посоветовал Эл, — помалкивать и ничего не рассказывать полиции. Это очень важно. Если Клайд узнает, что ты сообщил про его угрозы полиции, он, уж конечно, найдет способ с тобой расквитаться. Он из таких. Любит иметь зуб против кого-нибудь. Черного или белого — это ему все равно. И чем дольше он злобствует, тем больше распаляется. Может, он не совсем плохой, и родная мать, должно быть, его любит, но если и есть в нем что хорошее, нелегко этому хорошему пробиться наружу. Иной раз я просто удивляюсь, откуда все еще берутся такие люди, потому что, сколько их ни убивают, всегда находится довольно таких, чтобы заварить склоку. Держу пари, что и сейчас у нас в Пальмире немало сыщется охотников отплатить Клайду по заслугам, только бы представился случай. Да, может, еще кто-нибудь и отплатит после того, что случилось в негритянском квартале вчера ночью.
Эл остановил машину под уличным фонарем на углу Большой Щели.
— И дверь тоже лучше бы запирать на ночь, — сказал он Туземцу, когда тот вылезал из машины. — И я бы не стал отпирать никому, не зная наверняка, кто это такой. Когда человек дошел до ручки, как Клайд Хефлин, он способен на все самое плохое. Ты и опомниться не успеешь, как он тебя обойдет, дай только зацепиться.
Туземец захлопнул дверцу машины и подошел к Элу с другой стороны.
— Одно я знаю наверняка, — сказал он, слегка ухмыляясь. — Если Клайд явится к моему дому и постучится в дверь, так, уж конечно, не для того, чтобы отдать мне долг за починку приемника. Сколько раз я чинил ему приемник, а он мне никогда паршивых десяти центов не заплатил. Я теперь решил, что больше ни за что не стану ремонтировать ему приемник.
— Может, придет время, когда его тут больше не будет, чтобы тебя обсчитывать. Тогда ты сможешь вычеркнуть этот долг.
— Почему ты это говоришь?
— Просто предполагаю.
Эл Дидд уехал домой, а Туземец пошел по узкому переулку к своему дому. Уличный фонарь на углу светил так тускло, что от него было мало толку, но Туземец знал наперечет все лужи и удачно обходил их в темноте, не запачкав и не промочив башмаков. Когда он прошел половину переулка, его глаза привыкли к темноте, и он уже различал очертания крыши своего двухкомнатного домика на фоне звездного неба.
Не доходя нескольких шагов до своей двери, Туземец разглядел, что кто-то сидит на крылечке в тени дома. Он застыл на месте.
Растерявшись и не зная, что делать, он стоял, не двигаясь, и его сердце билось тревожно и болезненно. Потом другая мучительная боль пронизала его мозг, и все тело вздрогнуло от страха. На ступеньках в тени никто не шевельнулся и не произнес ни звука. Он хорошо помнил слова Эла насчет того, что дверь надо держать на замке, а ведь он не мог даже войти в дом и запереть ее. Пересиливая мучительную боль в голове, он соображал, что делать, как вдруг увидел, что кто-то встает с крылечка.
— Это я, Джозина.
Ему стало легче, когда он услышал знакомый голос, но он все еще не мог заговорить с ней.
— Дверь была заперта, вот я и ждала здесь, пока ты вернешься домой, — сказала она. — Я рада, что ты не задержался дольше. Ночь сегодня холодная.
Она сошла с крыльца и подошла ближе. Боль в голове понемногу проходила, но он все еще чувствовал слабость и дрожь в ногах и руках.
— Что с тобой? — спросила она заботливо. — Ты все молчишь. Ничего не случилось?
Он ощутил холод собственной руки, дотронувшись до ее теплого плеча.
— Джозина… я не ждал, что ты сюда придешь.
Он раздумывал, стоит ли говорить ей, что его тревожат угрозы Клайда Хефлина. Потом решил, что будет лучше, если он ничего про это не скажет.
— Это, должно быть, от неожиданности, Джозина. Вот отчего это… я удивился, что тебя увидел. Я думал о чем-то другом. Я не знал…
— Ничего, что я сюда пришла? — спросила Джозина.
Он думал о том, что могло бы сейчас произойти, если бы Клайд был на месте Джозины.
— Ничего? — спросила она тревожно.
— Конечно, Джозина. Все в порядке. Можешь быть спокойна. Я рад, что ты пришла.
Он отпер дверь, и они вошли в темный дом. Туземец позаботился запереть дверь, прежде чем повернуть выключатель.
— Знаю, я сама сказала, что больше не приду сюда к тебе… но мне хотелось повидать тебя хоть еще раз, — заговорила Джозина, когда он повернулся и посмотрел на нее при свете.
Он заметил, что она плакала, и вспомнил, что именно сегодня она должна была выйти замуж за Харви Брауна. Он хотел сказать ей что-нибудь утешительное, но не мог придумать ничего подходящего для такого часа. Он помнил только, как она сказала ему, что никогда больше у него не останется.
В комнате было холодно, и Джозина набросила свой черный свитер на плечи, кутая шею. Спохватившись, что в комнате очень холодно, он включил электрическую печку.
— Я слышал, будто ты собираешься уехать из города, — сказал он после этого.
Она быстро перешла комнату и остановилась рядом с ним, греясь у печки.
— Откуда ты это узнал? — спросила она.
— Мне сказали.
— Это правда.
— Когда же?
— Завтра.
Он придвинул к печке два стула, и они уселись рядом, поближе к теплу.
— Похороны Харви будут завтра утром, — сказала она, помолчав. — Я увезу с собой Эллен на автобусе… сразу после этого… после похорон. — На ее глазах блеснули слезы. — Бабушка Мэддокс уедет в деревню и будет жить с моей матерью. Она не хочет больше оставаться в Пальмире. Боится жить здесь теперь — после того, что случилось вчера ночью.
Он долго не мог ничего ответить и сидел, мрачно глядя на горящую печку.
Во время паузы Джозина наклонилась и положила руку ему на плечо.
Резко повернув голову, он взглянул на Джозину.
— Куда же ты уедешь завтра на автобусе, Джозина?
— В Джексонвилл.
— Почему.
— Так надо.
— Ты уже решила это?
— Да.
— Но ведь место незнакомое.
— Я этого не боюсь.
Он опять уставился на печку.
— А когда ты вернешься, Джозина?
— Я не вернусь.
— Почему же не вернешься?
Она ответила не сразу.
— Джозина, почему не вернешься?
— Не для чего возвращаться.
Туземец долгое время молчал, обдумывая то, что она сказала. Словно не в силах глядеть друг на друга, оба они смотрели прямо перед собой, на раскаленную печку. Спустя некоторое время он нервно задвигался на стуле и положил ногу на ногу.
— Ты хочешь сказать, что никогда не вернешься? — спросил он.
— Да, так приходится. Больше мне ничего не остается.
— Но ты могла бы остаться, если бы хотела. Тебе вовсе не надо уезжать. — Он взглянул на нее с надеждой. — Вот этого я и хочу, Джозина. Если б ты осталась, у нас бы с тобой все пошло по-прежнему.
— Нет, — сразу ответила она, глядя прямо на него и качая головой. — По-старому больше не будет. И мы тоже ничем этому помочь не можем.
— Почему не можем?
Джозина опять отвернулась.
— Джозина, почему не можем?
— Потому что нам не дадут жить вместе. Ты это знаешь. А больше я никак не хочу жить. Даже если б мы попробовали встречаться только ночью, случилось бы что-нибудь страшное. Не знаю что, но было бы что-нибудь ужасное. Так уж все устроено. И переменить этого нельзя. Ты белый, а я недостаточно белая — я всегда останусь какой-то другой. Такой уж я родилась. Вот в чем причина. Вот почему они никогда не дадут нам жить вместе в Пальмире. Я женщина, и я не хочу жить иначе. С этих пор я не могу жить иначе… кроме как вместе. Вот так я чувствую.
Она снова заговорила, и он почувствовал ее прикосновение к своей руке.
— Но где-то еще есть такие места, где мы могли бы жить вместе — даже пожениться, и люди там считали бы меня достаточно белой.
— Нет, сэр! Только не я! — быстро ответил он. — Я не мог бы жить нигде на свете, кроме как вот здесь, где я живу со дня рождения. Я боюсь и думать об этом.
— Даже ради меня?
Он покачал головой.
— Только не в чужом месте, далеко отсюда, где я ни души не знаю.
— У меня хватит денег на то, чтобы нам обоим уехать куда угодно и жить там. Тебе не придется беспокоиться насчет денег. Я тебе их все отдам.
— Нет, сэр! Только не мне! На всем свете не хватит денег, чтобы оторвать меня отсюда и заставить жить в чужом месте, где я никого не знаю и меня никто не знает.
19
Туземец подошел к печке и стал лицом к Джозине, грея спину и ноги. Она подняла на него глаза, все еще с надеждой и мольбой.
— Если бы ты меня любил так же, как я тебя люблю…
— Я же тебе сказал, что не могу так уехать. Куда бы то ни было. Как раз этого я не могу сделать. Я бы чувствовал себя, как заблудившийся пес, который не умеет говорить и не может спросить, где дорога к дому.
— Ведь я тебе помогла бы. Ты знаешь, что помогла бы. Я бы все сделала, чтобы тебе было легче. И мы были бы все время вместе.
Словно боясь поддаться искушению уехать вместе с ней, он решительно покачал головой.
— Я всегда жил вот здесь, в Пальмире, и не смог бы жить где-то в дальнем городе, с чужими людьми. Мне было бы не по себе, оттого что я далеко от дома. Я бы очень боялся — как будто мне и домой больше не вернуться. Будто стоишь перед запертым домом, а ключа у тебя нет, чтобы войти в него. Мой папа был такой же. Он ни разу в жизни не уезжал из дома. Говорил, что боится, как бы не умереть в чужом месте и тогда его не похоронят вместе со всеми другими Ханникатами.
— Хоть раз позабудь ты про своего папу. Я сумела бы тебе помочь, чтоб ты не чувствовал этой боязни. Я знаю, что сумела бы, если б ты мне позволил…
— Не хочу больше про это разговаривать, — грубо сказал он, отходя от нее. — И не хочу слушать твоих разговоров.
Он подошел к верстаку на другой половине комнаты и остановился там, глядя на загроможденный хламом верстак и слово отгоняя мысль о том, чего хотела от него Джозина. Потом подобрал плоскогубцы и отвертки и небрежно швырнул их на мотки проводов и груду радиоламп.
Когда Туземец вернулся к печке, Джозина вытирала слезы, но он сделал вид, будто не понимает, что заставило ее плакать.
— Что сказал тебе Далтон Бэрроуз нынче утром, когда ты к нему ходила? — резко спросил он после долгого молчания. — Ты мне еще не говорила.
Джозина крепилась, стараясь сдержать слезы.
— Он сказал, что я должна уехать из города… и больше не возвращаться.
— Поэтому ты и уезжаешь? Потому что Далтон Бэрроуз тебе велел? — колко спросил он.
— Он адвокат. Ты сам меня послал к нему. И он так сказал.
— Но ты не обязана делать то, что он скажет. Могла бы остаться здесь, если хочешь.
— Я не хочу оставаться. Я хочу уехать.
Отвернувшись в сторону и избегая встретиться с ней взглядом, он уселся перед печкой.
— А что еще говорил Далтон Бэрроуз?
— Как раз то, чего я ждала.
— Что же это такое?
— Он подозревает, что он мой отец. Я уверена, что он так думает. Вот почему он дал мне денег, чтобы я уехала отсюда и не возвращалась — у меня никогда раньше столько денег не было и даже во сне не снилось. Денег хватит нам с Эллен очень надолго, даже если я не сразу найду работу. Хватит на всех нас, если бы ты тоже поехал. И, кажется, я знаю, почему он так сделал. Если я останусь здесь, он боится, как бы люди перед выборами не узнали, что у него… такая дочь. Думаю, он меня любит, но только боится…
— Ты ему говорила, что знаешь про то, что он твой отец? Это твоя мать тебе про него рассказала?
— Нет. Для чего бы это? Ничего хорошего из этого не выйдет. Я все-таки осталась бы тем, что я есть. Этого ничем не изменишь. И, по-моему, лучше уж пусть его выберут в конгресс. Он все же останется моим отцом. Этого тоже не изменишь. Теперь я буду им гордиться… и Эллен со временем будет тоже гордиться своим дедушкой. Мне всегда хотелось узнать своего отца… а теперь я его знаю.
Джозина закрыла лицо руками. Она рыдала, всхлипывая, как маленький ребенок. Немного спустя она пригладила свои и без того гладкие каштановые волосы и попыталась улыбнуться.
— Я не собиралась так расплакаться, — сказала она со слабой улыбкой, — но не могла удержаться. Должно быть, я заплакала от радости, что ты мне позволил поговорить с тобой и рассказать про отца. Мне надо было кому-нибудь рассказать про него — так лучше всего тебе. Я знала и раньше, кто мой отец, много раз видела его на улице, но никогда раньше он со мной не заговаривал… ни разу в жизни. А теперь заговорил. И назвал меня по имени. Я так обрадовалась, что едва не заплакала — только побоялась. Я всегда буду помнить все, что он говорил мне нынче утром, и как он улыбался глядя на меня. Мне всегда хотелось, чтобы мой отец был именно таким, когда он со мной увидится. Теперь я могу думать о нем и вспоминать его всю свою жизнь. Мне только хотелось бы с ним почаще видеться.
Джозина поднялась со стула.
— Теперь мне пора домой. Больше я не могу оставаться. Но теперь ты знаешь, зачем я тебя дожидалась. Мне нужно было хоть еще раз повидать тебя и рассказать тебе, как я рада, что ты послал меня к моему отцу. За это я всю жизнь буду тебе благодарна.
И, словно пряча от него свое лицо, Джозина повернулась и пошла к двери.
— Погоди минутку, Джозина, — сказал Туземец. — Я пойду провожу тебя. Нехорошо тебе одной быть на улице так поздно ночью.
Погасив свет, они вышли из дому и Туземец как следует запер дверь. Он не забыл про Клайда Хефлина, помнил и наказ Эла Дидда не выходить на улицу после того, как стемнеет, но он должен был знать наверное, что Джозина благополучно дошла до дому. И, побыв с ней еще хоть короткое время, он все же мог еще питать надежду, что она передумает и останется в городе.
Они дошли молча до конца переулка, миновали пожарное депо и пересекли железнодорожный путь с южной стороны города. В этот час на улицах никого не было видно, и ни в одном доме по дороге не горел свет. Вместо того чтобы подойти к дому Джозины с улицы, они вошли с переулка черным ходом.
Всю дорогу они шли молча, словно боясь говорить о том, что с ними происходит. («Ты любишь кого-нибудь всем сердцем и живешь с ним долгое время, неважно в браке или вне брака, а потом один из вас уезжает, и ты сознаешь, что вам уже никогда не быть вместе… да, тяжелее этого чувства ничего быть не может. Оно сводится к тому, что у тебя отбирают что-то принадлежавшее тебе, такое, что тебе нужно больше всего на свете, и сознаешь, что никогда больше оно к тебе не вернется. Ведь ты видел, как большой мальчишка отнимает у маленького конфеты и съедает их? И если это случалось с тобой в детстве, ты еще и сейчас помнишь, каково тебе было лишаться своей конфеты. Так вот, помножь это чувство на все годы, которые протекли с тех пор, и ты поймешь, как разрывается сердце от горя, если уходит тот, с кем больше всего не хотелось бы расставаться».) И все еще ничего не было сказано, когда Джозина обняла его и в отчаянии приникла к нему. Он чувствовал влагу слез на ее щеках и дрожь прильнувшего к нему тела.
— Мне так больно, что я уезжаю, — услышал он ее слова. — Я бы сделала все что угодно, лишь бы не уезжать, но другого выхода нет. Ты знаешь, почему я должна уехать — и навсегда. Тут ничем не поможешь. Так уж пришлось. Если бы я осталась, то после этого не нашла бы нигде работы… и они не дали бы нам жить вместе, И я хочу сделать так, как велит мне отец. Но я никогда не забуду… никогда. Я всегда буду помнить про нас, пока я жива — обещаю тебе.
Она медленно разомкнула объятия.
— А ты будешь помнить меня, правда? Всегда? Ну скажи, что будешь.
— Буду помнить, Джозина. Я не смог бы забыть. А если ты вернешься…
— Нет. Лучше не говори. Этого быть не может. Слишком больно думать, что я могла бы… Я никогда не вернусь. — Она опять подошла к нему. — Но если бы мы с тобой уехали куда-нибудь вдвоем… чтобы нам можно было вместе жить…
Она долго стояла перед ним, затаив дыхание, а потом вдруг, словно не в силах дольше терпеть эту муку, повернулась и отворила дверь. Больше не о чем было говорить.
После того как Джозина вошла в дом и затворила за собой дверь, Туземец побрел обратно по переулку, спотыкаясь в темноте о неровности почвы и думая, что ему больше не для чего жить. Почти целый год ночь за ночью Джозина была с ним и казалось, что этому не будет конца, а теперь он знал, что больше никогда ее не увидит. Он медленно брел домой в одиночестве ночи. («Она никогда не говорила мне, кто отец Эллен, а я всегда боялся спросить. Но постоянно об этом думаю… Как-то ночью я шел по железнодорожному полотну… кто-то стоял там… Было очень темно, не разглядеть, кто она такая, а она не хотела говорить, как ее зовут, зато сказала, что она меня дожидалась… А теперь, чем больше я про это думаю, и как про Эллен она со мной говорила, и как просила уехать отсюда вместе с ней и с девочкой…»)
Было около полуночи, когда Туземец вернулся в Большую Щель. Все уличные фонари горели как будто еще тусклее прежнего, и весь город казался опустевшим и безжизненным. Туземец чувствовал себя таким несчастным, Что даже ни разу не вспомнил про Клайда Хефлина, пока не прошел мимо пожарного депо и не свернул в переулок. Даже и тогда у него не было и мысли о страхе, до того он чувствовал себя несчастным.
Медленно шагая по переулку и еще довольно далеко от дома, он заметил, что кто-то сидит на крылечке. Он сразу остановился. У него вдруг задрожали руки от кисти до плеч, и дрожь быстро охватила все тело. В любую минуту он готов был повернуться и броситься бежать со всех ног.
— Это я… Эл Дидд.
Он был уверен, что узнал голос Эла, но все-таки держался настороже, подходя ближе к дому.
— Где же ты был, Туземец? Почему ты не сидел дома, как я тебе сказал?
— Захотелось немножко пройтись, Эл.
— Для чего это? Ты сказал, что будешь сидеть дома и запрешь дверь. Во всяком случае, теперь все в порядке. Пошли в дом, там теплее. Мне надо кое-что тебе сказать.
Туземец отпер дверь и зажег свет. Эл подошел к печке и стал греть руки. Он улыбался и был, видимо, доволен.
— Зачем ты опять пришел так поздно? — спросил его Туземец. — Теперь, должно быть, уже полночь.
Эл улыбнулся.
— Туземец, кто-то прикончил его час назад, — объявил он и улыбнулся, несомненно улыбнулся.
— Что?
— Это верно. Его прикончили.
— Кого прикончили?
— Клайда Хефлина. Это верно. Никакого сомнения нет. Брэд Грейди проезжал на полицейской машине по переулку за пивной Эда Говарда и нашел его на земле мертвым, как маисовая кочерыжка.
Туземец сел.
— Да верно ли это?
— Верно, как то, что воскресенье бывает раз в неделю. Ошибки быть не может. Так и есть. И поверь мне, тот, кто это сделал, действовал не наугад. Он, должно быть, захватил с собой два револьвера, на случай если одного будет мало. Брэд говорит, в Клайде пробито по крайней мере восемь дырок, от головы до пят. Простые дырки от пуль, больше ничего. Не какие-нибудь безобразные ножевые раны или лужи крови, ничего подобного. Чище проделать невозможно.
— Кто же это сделал, Эл?
Эл все еще слегка улыбался.
— Никто не знает, а может, и знать никогда не будет. Кроме того, кто это сделал, а он болтать не станет. Во всяком случае, оно и лучше, что так вышло. Мы все можем только догадываться, и для этого времени у нас хватит. Это мог быть негр из негритянского квартала, а мог быть и кто угодно из белых. Однако большого значения это не имеет, потому что Клайд Хефлин помер и дело с концом. Могу сказать только, что он сам на это напрашивался — видит бог, напрашивался.
Туземец смотрел на раскаленную печку. Эл уселся в большое кресло.
— Одно тебе следует знать, — сказал Эл. — Люк Мосс или кто-нибудь другой из полиции сочтут своим долгом рыскать тут и задавать всякие вопросы. Когда оказывается убитым белый, им приходится производить расследование. Может быть, они захотят узнать, где ты был последние два-три часа. Я помню, было начало десятого, когда мы с тобой расстались нынче на углу и я могу это показать под присягой. Но что произошло после этого? Можешь ты им сказать? Есть у тебя свидетель?
— Я был здесь почти все время, а потом пошел немножко прогуляться.
Эл наклонился вперед.
— Ведь ты не прогуливался по этому переулку позади пивной Эда Говарда?
— Нет, сэр! Только не я!
— Можешь ты доказать все, что тебе придется доказывать, если Люк Мосс будет задавать слишком много вопросов?
— Я бы мог доказать, но, может, и не захочу. Я бы лучше помолчал на этот счет, если для Люка Мосса это не так важно. У меня имеются свои причины не упоминать имен.
— Я, кажется, понимаю, что ты хочешь сказать, — Эл кивнул головой. — Каждый человек имеет право сохранять что-то в тайне, хотя бы то, что происходит с ним по ночам. Но все равно, если тебе понадобится свидетель, чтобы доказать…
Туземец встал и начал прохаживаться взад и вперед перед печкой.
— Ну так как же? — настаивал Эл.
— Я бы не хотел называть имена, что бы там ни случилось, потому что если я их назову, то ей, может быть, помешают завтра уехать из города, как она собиралась, и тогда ей придется здесь остаться и быть свидетельницей. Они посадили бы ее в тюрьму до тех пор, пока дело не начнется слушанием в суде. Это был бы хороший способ удержать ее здесь, но я не способен устроить такую штуку. Только не Джозине. Это было бы нехорошо. Не могу я с ней так поступить, после того как сам от нее слышал, до чего ей хочется уехать.
— Ну, если ты так чувствуешь…
— Сказать по правде, Эл, это только половина того, что я чувствую. А другая половина в том, что меня тянет уехать вместе с ней, но что-то и удерживает меня, и я просто не могу на это решиться. Каждый раз как мы об этом говорили, я пугался, что придется уехать из дому куда-то в незнакомое место — вот как некоторые пугаются, если залезут куда-нибудь высоко или если их запрут в темном чулане. Придется мне остаться здесь, положиться с этих пор на свое счастье и надеяться на лучшее. Похоже, что таким уж я родился.
— Думаю, мне понятно, почему тебе хочется оставаться ближе к дому. Я и сам такой же домосед. Чужой человек, может, этого и не поймет, но я доволен, что сижу вот тут, в Пальмире. Я так понимаю, что быть довольным — самое лучшее в жизни. Все люди, которые из жизни устраивают кавардак, это как раз те, которые никогда не бывают собой довольны.
20
Когда Туземец Ханникат отложил инструменты в сторону и поднялся из-за верстака, осенний пасмурный день только еще перевалил за половину. Работы оставалось еще много, и большую часть он обещал сделать еще на прошлой неделе, но сидеть дольше он был не в состоянии. Он гнулся над приемниками с самого утра, с тех пор как сел за работу, и ноги у него затекли, а спина болела. Он пнул ногой кучу хлама на полу и вышел в соседнюю комнату.
Отворив дверцу шкафчика, он бросил один-единственный взгляд на жестянки с бобами и макаронами, и этого было достаточно.
— Нет, сэр! Только не для меня! — сказал он вслух самому себе. — Будь я проклят, если стану есть из этих жестянок!
Туземец захлопнул шкафчик с такой силой, что жестянки на полке загремели. Одного вида этих ярких, желтых с красным банок было довольно, чтобы он утвердился в своем решении, и с этой минуты он знал, что ему делать. Он голодал все утро и обходился без еды, пока мог терпеть. Он подумал было о шницелях Эда Говарда, но сказал себе, что даже полная тарелка этих шницелей не утолит того голода, от которого мучительно сжимается его желудок.
Оставив шкафчик в покое, он подошел к умывальному тазу и плеснул водой себе на голову. Потом, глядя на себя в зеркало, висящее на стене, он старательно расчесал и разделил пробором жидкие, песочного цвета волосы и наконец остался доволен своей наружностью. Надев штаны и синюю куртку, затянув пояс еще на одну дырку, он был готов к выходу из дома. Уходя, он равнодушно посмотрел на верстак и подумал, что вряд ли ему захочется когда-нибудь докончить починку разобранных приемников, электрических тостеров и настольных ламп.
Выйдя из дому и повернув ключ в двери, Туземец пошел гораздо быстрее обычного к концу тупика, а потом побежал дальше по переулку позади Черри-стрит. («Вон опять идет Туземец Ханникат к дому Мэйбл Бауэрс. Всякому хочется угадать, чем на этот раз дело кончится. Верно только то, что на все, что бы ни случилось, можно смотреть с двух сторон. Одни одобряют Туземца и Мэйбл, потому что из-за них покончили с Клайдом Хефлином. И есть другие, которые осуждают их, потому что из-за них был убит Харви Браун, а Джозине Мэддокс пришлось уехать из города. А по-моему надо думать только так, что каждый раз, как случится что-нибудь хорошее, обязательно жди чего-нибудь дурного. Полагаю, остается только признать, что одно без другого не бывает, и надо всеми силами стараться, чтобы хорошее пересилило плохое».)
День был холодный под Серым мрачным небом, и похоже было, что еще до сумерек польет осенний дождь. В это время года так и следует ожидать холодных дождей, пронизывающих северных ветров и ночных заморозков. Словно готовясь к внезапному приходу зимних холодов, многие жители этой части города еще днем затопили печи и камины, и тонкое облачко синеватого дыма поднималось над домами и вершинами деревьев.
Всю дорогу по переулку Туземец чуть не бежал. Прежде чем отворить калитку во двор Мэйбл, он остановился отдохнуть и перевести дыхание. Над верхним краем забора он видел мирный султан дыма, выходящий из трубы кирпичного дома, и задний двор тоже выглядел безмятежно и уютно.
Чем дольше он стоял, глядя на такую приятную и уютную картину, тем больше надеялся, что Мэйбл не станет злиться и не погонит его со двора, прежде чем он сможет объяснить ей по всей правде, зачем пришел. («Вы заметите, что люди, которые кичатся тем, что они лучше и важнее Туземца Ханниката, или по крайней мере думают так про себя, больше других стараются скрывать свои недостатки. Вам следует восхищаться Туземцем, потому что он такой, какой есть, и ничем другим быть не претендует. А этого вы не можете сказать про двуличных политиков, которые бывают так благочестивы по воскресеньям, а в остальные дни недели закрепляют за собой голоса и затыкают рты взятками, лишь бы остаться на выборной должности. Эти люди еще в пятом классе школы не знали, как пишется «честность» и «прямота».)
Он отворил калитку, потом старательно прикрыл ее, чтобы ему не влетело за то, что она осталась открытой, и вошел во двор, теперь уже с таким чувством, словно просто возвращается домой, пробыв в центре города несколько часов по делу. Однако, прежде чем идти дальше, он остановился перед мусорной кучей и с любопытством потыкал в нее палкой. Как он и ожидал, ничего стоящего не выкинули сюда за то время, что он пробыл в отсутствии. Он опять подивился, как и в прошлый раз, почему у такой богатой женщины, как Мэйбл, такая неважная мусорная куча. У себя в переулке он видывал помойки куда лучше, включая и его собственную.
По дороге к заднему крыльцу он обвел взглядом весь двор, но не заметил в нем большой перемены. С искривленного тунгового дерева, быть может, сбило ветром еще несколько веток, ива, может быть, склонилась еще ниже к земле, но виноградная лоза провисала так же, как всегда, и почерневшие на дожде деревянные стулья оставались на старых местах. Даже и жесткая трава росла все так же пучками и клоками, и ее все так же не мешало бы скосить.
От земли до площадки крыльца было около десятка деревянных ступенек, и Туземец перепрыгивал их по две зараз.
Добравшись до двери и даже не колеблясь ни минуты, он громко и уверенно постучался несколько раз подряд. Гораздо раньше, чем он ожидал, где-то в глубине дома послышался шум и дверь немного приоткрылась.
Он видел, что Мэйбл смотрит на него в узкую щель растерянным взглядом, и ждал, что она распахнет дверь настежь. Однако щель не стала шире ни на дюйм. Он придвинулся ближе.
— Мое почтение, — сказал Туземец, широко ухмыляясь, и наклонил голову набок, готовясь выслушать ее ответ.
Последовало долгое молчание, как будто Мэйбл была слишком удивлена и растеряна, чтобы говорить. Она все еще казалось испуганной и взволнованной.
— Мое почтение, Мэйбл, — отважно повторил он, наклоняясь вперед, чтобы лучше разглядеть ее в узкую щель. — Это я — Туземец Ханникат. Вы ведь еще не успели забыть, кто я такой?
Радостная улыбка расплылась у него по всему лицу.
Опять наступило молчание. В это время она приоткрыла дверь еще на несколько дюймов, и он увидел, что она оглядывает его с головы до ног, словно не узнавая. Мэйбл придерживала у горла полинявший халат, и волосы падали космами ей на лицо. Вдруг, не говоря ему ни слова, она захлопнула дверь, и он ясно услышал, как ключ повернулся в замке. Он попробовал повернуть ручку и открыть дверь, но она была крепко заперта.
— Мэйбл! — позвал он громко, вовсю громыхая дверной ручкой. — Вы же знаете, кто я такой! Я Туземец Ханникат! Не могли же вы меня забыть!
Он перестал греметь ручкой и внимательно прислушался, но из дома не доносилось ни звука. После этого ему оставалось только беспомощно стоять перед дверью и придумывать какой-нибудь другой способ попасть в дом.
Шторы на окнах были спущены, и не представлялось никакой возможности заглянуть в комнаты. Он подумывал, уж не обойти ли кругом, к фасаду, выходящему на улицу, может быть Мэйбл отопрет парадную дверь, но тут же решил, что это только отнимет время. Он упрекал себя за то, что мало поговорил с ней, не сказал еще чего-нибудь, пока была возможность, пока она еще не захлопнула перед ним дверь и не заперла ее, но он понимал, что теперь слишком поздно придумывать такое, что хоть сколько-нибудь помогло бы делу. Кроме того, он пришел к Мэйбл совершенно уверенный в том, что она сама будет говорить все время, и приготовился выслушать всю брань и все наставления с ее стороны, лишь бы только войти в дом и съесть приготовленный ею обед.
На крыльце становилось все холоднее, и он дрожал, засовывая руки поглубже в карманы, чтобы согреться. Когда порывы ветра проносились над крышей, а потом по крыльцу, он чуял уютный запах дыма и по этому запаху понял, что в гостиной у Мэйбл жарко полыхает камин.
И тут он услышал, что в доме торопливо передвигают стулья и со стуком захлопывают ящики комода, и снова начал изо всех сил стучать в дверь. Скоро, заглушая этот шум, послышался громкий стук посуды, второпях составленной в кухонную мойку. К этому времени у него заболели костяшки пальцев на правой руке, и он начал стучать левой.
После всего этого прошло едва несколько минут, как Мэйбл отперла дверь и распахнула ее настежь. На сей раз она уже не выглядела встревоженной и растерянной, а, напротив, была спокойна и безмятежно улыбалась. Она сняла выцветший халат и надела одно из своих новых платьев с цветочками. Волосы были наскоро причесаны и подвязаны розовой ленточкой. На лице у нее оставались пятнышки пудры, которую она не успела стереть как следует.
— Мое почтение, Мэйбл, — сказал он живо. — Я уж боялся, что вы меня сперва не узнали. Думал, что вы поэтому заперли дверь и не хотели меня пускать.
Она смотрела на него, помаргивая глазами.
— Ну и ну, Туземец Ханникат, а знаешь ли ты, что мне следовало бы сделать?
— Что?
— Взяться хорошенько да и ругать тебя целый век на чем свет стоит за то, что ты приходишь вот так, стучишься ко мне в дверь и застаешь меня врасплох. Я была поражена, как никогда в жизни. Если тебе показалось, что вид у меня немножко удивленный, так именно поэтому.
Мэйбл говорила с ним, и в ее голосе не слышалось ни малейшего гнева. Глаза у нее все так же моргали, и она даже приятно улыбалась ему.
— Ничего не имею против, если побранят немножко, — сказал он. — Я вроде как бы ожидал…
— Я просто никому на свете не решилась бы показаться в этом старом, замурзанном халате. Я иной раз его надеваю на время уборки или пыль стереть, чтобы не пачкать хорошее платье. Ты, должно быть, подумал, что я выгляжу просто ужасно, когда я открыла тебе дверь в первый раз. Страх как обидно, что ты видел меня такой неряхой и растрепой. Мужчина должен отнестись снисходительно, если застанет иной раз женщину в неприбранном виде. Могу только надеяться, что ты не думаешь, будто я всегда такая хожу.
С широкой улыбкой, расплывшейся во все лицо, Туземец осторожно шагнул вперед.
— Ты, верно, хочешь узнать, где твой узел с платьем, что ты оставил, и то самое ружье и удочка? — спросила она, все еще держа дверь распахнутой настежь. — Я знала, что ты беспокоишься насчет этих вещей. Что ж, сказать тебе по правде, я их не выкинула на улицу, как обещала. Так я до них и не добралась, не знаю уж почему. Это на меня похоже. Во всяком случае, все твои вещи тут, в доме, лежат там же, где ты их оставил. Все в целости и сохранности.
Она вдруг остановилась, озабоченно хмурясь.
— Ну, в чем теперь дело? — встревоженно спросил он.
— Не знаю, что со мной такое. О чем я только думаю. Ты весь дрожишь от холода. Нельзя тебе стоять здесь в такую погоду — еще простудишься насмерть, схватишь воспаление легких. Сию минуту ступай в комнату и грейся у камина! Я только что подложила дров в огонь. Тебе теперь будет тепло и уютно. Входи в дом.
Он живо протиснулся бочком в прихожую.
— Ты, верно, подумал, что я уж совсем негостеприимная, — сказала она, закрывая дверь.
Туземец по пятам за ней проскользнул в гостиную и, очутившись там, подошел прямо к камину. Стоя на каменной плите перед очагом, он нагнулся и согревал руки жаром пылающих дубовых поленьев.
Мэйбл села и, очень довольная, молча ждала, пока он не повернется погреть спину.
— Прежде чем ты скажешь хоть слово, — заговорила она, когда он взглянул на нее, — я сама должна тебе сказать кое-что от чистого сердца. Да я и нисколько не стыжусь говорить при тебе правду. Это на меня похоже. Я никогда не умела скрывать свои чувства. Вот почему я хочу, чтобы ты знал, что я была ужасно одинока последние дни в этом большом доме. А чувство одиночества всегда заставляет меня думать много и по чистой совести.
Он радостно улыбнулся. Он был уверен, что она говорит не зря, а собирается приготовить отличный обед и пригласить его пообедать. В предвкушении он начал кивать головой, готовый согласиться со всем, что бы ни сказала Мэйбл.
— Не суди меня слишком строго за прошлое, — говорила она серьезно. — Как только я услышала, что Джозина Мэддокс уезжает из города и никогда больше не вернется, я решила, что мне надо делать. Это на меня похоже. Я сказала себе, что во всей этой беде прежде всего я виновата и что меня и надо осуждать за все случившееся. Когда ты меня узнаешь получше, ты увидишь, что это на меня похоже.
Туземец слушал, все так же кивая головой.
— А теперь я не хочу, чтобы ты изводился. Я не собираюсь бранить тебя за мои собственные ошибки и недостатки. Это было бы на меня не похоже. Ну что ж, за последние дни я много и по чистой совести думала и решила, что вся беда вышла из-за того, что я напрасно тебя осуждала за все происшедшее, ведь с твоей стороны было вполне естественно похвалить стряпню Джозины, как ты ее похвалил. Кому же не известно, что мужчины любят покушать. Ну, а дальше именно потому мне и стало ясно, что если бы я сама стряпала, то ты бы меня похвалил точно так же и остался бы тут, в моем доме, вместо того чтобы уйти и есть ее стряпню — жареную курицу и пирог с бататами, что она тебе отнесла. Одно только мне в этом не нравится, что на ней не было платья в то время, когда ты ужинал. Но всем известно, что это уж такая женская манера угождать мужчине. Нет, ты не думай, будто я не знаю, о чем говорю. Я вовсе не дура и в жизни много думала и уж настолько-то в мужчинах разбираюсь. Все мужчины как две капли воды похожи друг на друга. Все они хотят одного и того же, какие бы с виду они ни были разные. А как дело дойдет до стряпни, так мужчинам больше всего понравится та женщина, чья стряпня им больше придется по вкусу.
— Мой папа мне говаривал, что для мужчины лучше всего та женщина… — начал было Туземец, но Мэйбл остановила его прежде, чем он успел договорить.
— Не прерывай меня, когда я говорю, — сказала она, сурово хмурясь. — Что бы ты ни хотел сказать, все это может подождать своей очереди. А мне нужно тебе докончить про нынешнее утро. Так вот, продолжаю. Сидя тут в таком одиночестве, я обдумала все это по чистой совести и потому позвонила нынче утром Миллеру Хайэту, сейчас же, как только услыхала, что Джозина уезжает, и сказала ему, чтобы ты немедленно ко мне вернулся. Он пообещал, что повидается с тобой и даст тебе знать, как только освободится. Миллер Хайэт всегда был из тех несносных, нерешительных копуш-адвокатов, которые даже марки на письмо не наклеят, не подождав до завтрашнего утра, и я никак не ожидала, что он так быстро обернется и пришлет тебя так скоро. Вот почему я была еще не совсем одета и не приготовилась встретить тебя у дверей. Я думала, что ты придешь гораздо позже. Но все равно, я очень рада, что Миллер Хайэт поторопился сказать тебе.
Туземец только мотал головой.
— Не знаю, что вам и сказать. Понятия не имею, о чем вы говорите?
— Понятия не имеешь?
— Для меня это новость.
— Это странно.
— Мне тоже что-то странно.
— Но разве он тебе не сказал?
— Кто? Миллер Хайэт? Миллер Хайэт меня и в глаза не видел. Я сегодня с ним ни разу не встретился.
Мэйбл наклонилась вперед на своем стуле, нервно ломая пальцы.
— Так кто же тебе сказал, Туземец?
— Никто.
— Так как же ты узнал?
— Что узнал, Мэйбл? Я все еще ничего не знаю и ровно ничего не понимаю из того, что вы говорите. Я знаю только то, что вы мне сейчас сказали, и даже в этом никак не разберусь.
— Так почему же ты сюда пришел?
— Это нетрудно объяснить. Я вам как-то рассказывал насчет этого. Мой папа говорил, что если мужчина хочет вкусно есть и спать в тепле зимой, когда ночи холодные, то самое лучшее…
— Но как же ты узнал, что я хочу, чтобы ты вернулся?
— Я и не знал наверняка. Все только надеялся, да молился, да испытывал свое счастье. Я был такой голодный все утро, да и до сих пор, что пришлось рискнуть. Мне надоело и опротивело есть холодные чилийские бобы и макароны из консервных банок, да и шницели Эда тоже надоели, и я дал себе слово, что будь я бродячая рыжая собака с жестянкой на хвосте, если проглочу хоть один кусок такой еды. И тут я вас добром вспомнил и затосковал о всех тех вкусных обедах, которые вы готовите и которых мне не видать. И я просто-напросто решил попытать свое счастье, взял и постучался к вам с черного хода. Вот и вся разгадка. Я рассчитал, что счастье должно опять повернуть в мою сторону, после того как мне не везло последние дни, и что теперь как раз пора испытать его снова, чтобы оно начало действовать и принесло мне какую-нибудь пользу.
Мэйбл с глубоким вздохом опустилась в кресло. Ее глаза слезливо мигали.
— Никак не могу в себя прийти, — сказала она дрожащим голосом. — Ты вправду хочешь сказать, что вернулся потому, что сам захотел вернуться? А не потому, что я за тобой послала?
— Это правда, Мэйбл. Если я когда говорил правду во сне или наяву, так это правда.
Она склонила голову, закрыв руками лицо и вытирая слезы на глазах.
— Ты меня так растрогал, что я даю слово отныне и навсегда называться миссис Туземец Ханникат. Утром я одно время подумывала, не позволишь ли ты мне называть тебя Туз или Тузик, но это будет на тебя непохоже. Для тебя самое подходящее имя Туземец. Я никогда больше не буду браниться с тобой и надоедать тебе или приставать, чтобы ты переменил имя на какое-нибудь другое. Теперь я убеждена, что оно и в самом деле счастливое.
— В точности, как мой папа говорил, для меня это действительно счастливое имя, — объявил он, широко ухмыляясь. — Я бы с ним не расстался ни за что на свете. И вам оно тоже нисколько не повредит.
Мэйбл встала с кресла и подошла к Туземцу, стоявшему у камина. От голодных спазм в желудке он начал вертеться и переминаться с ноги на ногу.
— Мой папа говаривал мне, что самый верный способ узнать цену женщине — это попробовать ее стряпни. Так вот, если бы мне перекусить слегка…
— Я для тебя нынче приготовлю ужин, Туземец, — сказала она, стоя рядом с ним и глядя на него. — Я целый день придумывала, чем бы мне тебя угостить. Будет все, что ты любишь.
Мэйбл прижалась к нему и положила голову ему на плечо.
— Ты не знаешь, как приятно чувствовать, что ты здесь, со мной.
— Ну, а как же пироги с бататами? — озабоченно спросил он. — Я вроде как на них рассчитывал, а сейчас, пожалуй, вам уже некогда будет их испечь.
— Нынче утром я посадила в печь четыре пирога с бататами, сразу после того как позвонила Миллеру Хайэту и послала его за тобой. К ужину они как раз будут холодные, такие, как ты любишь.
Оставив Туземца одного, она отправилась в кухню. Но не дойдя до двери, остановилась и обернулась.
— Туземец Ханникат, я хочу узнать только одно, прежде чем выйду из этой комнаты и сделаю еще хоть один шаг к кухне.
— Что же это такое, Мэйбл?
— Если я оставлю тебя здесь, в доме, и буду стряпать для тебя все, что ты любишь, почем я могу знать, что ты не станешь бегать за этими… за такими девчонками, как Джозина? Я бы умерла от унижения, если б это опять случилось.
Туземец заложил руки за спину, грея их перед жарко пылающими дубовыми поленьями. Широкая улыбка расходилась от углов его рта по всему лицу.
— Нет, сэр! Только не я! Больше вы меня на этом не поймаете, Мэйбл. Я, черт возьми, сам об этом позабочусь.
ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ И ЕГО НОВЫЕ КНИГИ
Американского рассказчика и романиста Эрскина Колдуэлла советские читатели знают давно — без малого тридцать лет. С первых же книг Колдуэлла, изданных в Советском Союзе, нам полюбились его тонкая, чуть тронутая горечью усмешка, и его откровенно и метко разящий смех, и его любовь к людям из народа — смешливым и в то же время серьезным, потому что и смеются они чаще всего всерьез.
Колдуэлл-новеллист представлен у нас значительно полнее, чем романист. Из восемнадцати романов и повестей писателя на русском языке опубликованы только «Табачная дорога», «Случай в июле», «Мальчик из Джорджий» и «Дженни». Зато все лучшее из его обширной новеллистики издавна вошло в наш обиход и заметно приблизило к нам тех самых американцев, которыми густо населены его книги.
Эрскин Колдуэлл писал о разных американцах и о разных сторонах их жизни и их характеров. Писал о лесорубах и о литераторах, о мелких обывателях и крупных дельцах, о нищете и стяжательстве, о дружбе и трусости. Иногда художник поднимался до создания социально значительных полотен, хотя он — как ясно всякому, кто знаком с его манерой письма, — не склонен ни к большим обобщениям, ни к громким проповедям. Видимо, не имеет смысла и предъявлять к нему чрезмерные требования. Ведь и в наиболее сатирических портретах и даже в шаржах, которыми изобилуют его книги, есть своя особая мягкость, не снижающая, впрочем, остроты обличения. Обличая того или иного человека, он стремится не уничтожить его своим словом, а показать и осудить его пороки. Как знать, словно рассуждает он, может, сказанное попадет в цель и заставит одних людей одуматься, а сотни и тысячи других — поразмыслить над тем, что их окружает.
«Целью всех моих книг было создать зеркало, в которое люди могли бы взглянуть на себя. Пользу или вред могут принести мои книги — зависит от того, как человек воспримет образ, отраженный в зеркале», — писал Колдуэлл в 1956 году[12]. Разумеется, было бы неверно усматривать в этом выразительном сравнении писателя признание в безразличии к внутреннему миру человека. Только глухие к зову искусства, черствые души могли бы, ссылаясь на эти слова Колдуэлла, упрекать его в равнодушии или, больше того, в любовании насилием и злом. Среди литературных судей нынешней Америки находились и такие; они, несомненно, сыграли роль в том, что самые значительные произведения Колдуэлла замалчивались, а то и прямо преследовались на родине писателя.
Манере Колдуэлла чужды шумные декларации и протесты против социальных зол и людских бед. Чаще всего он негромко и внешне спокойно, обстоятельно рассказывает о событиях, леденящих душу, как о чем-то обыденном и заурядном. Да ведь в том-то и сила его слова, что все рассказываемое им и есть повседневное, прочно вошедшее в привычный для американцев уклад жизни, ставшее органической частью их существования. О том, насколько точно попадает в избранную мишень заложенный в лучших произведениях писателя заряд благородного и глубоко человечного негодования, лучше всего свидетельствуют многочисленные попытки тем или иным способом «обезвредить» его книги. Чаще всего их замалчивали. Когда же одного заговора молчания оказывалось недостаточно, из архивной пыли извлекались законы о нарушении пристойности — те самые законы, на которые официальные и неофициальные «эксперты» старательно закрывают глаза, когда дело идет о щедром финансировании полупорнографических, бульварных романчиков и изобилующих фривольностями бродвейских спектаклей и голливудских боевиков. А ведь именно под предлогом борьбы с непристойностью в свое время был наложен запрет на инсценировку «Табачной дороги» и возбуждалось судебное дело против романа «Акр господа бога». Между тем, как обстоятельно показывает в своей статье А. А. Елистратова, советский исследователь творчества Колдуэлла, в ряду книг, в которых писатель «отказывался от сентиментальных прикрас и лжеоптимистических уловок в изображении социальных «низов» Америки», в которых «тупой и жестокий «идиотизм деревенской жизни» представал во всей своей потрясающей уродливости», роман «Табачная дорога» занимает далеко не последнее место[13].
Эрскин Колдуэлл тем в первую очередь и близок русским читателям, что он является носителем той же реалистической традиции, которая органически присуща нашему искусству, нашей литературе. О своей верности реализму в литературе Колдуэлл неоднократно говорил и писал по разным поводам. Осенью 1959 года на встрече с сотрудниками журнала «Иностранная литература» в Москве он сказал: «Я всегда был и буду реалистом в своем творчестве, я писал о жизни, которую знал, потому что сам жил ею»[14]. Речь шла о его произведениях тридцатых годов.
Очень характерно и другое признание писателя, свидетельствующее не только о его верности реализму в искусстве, но и о внутренней связи художника с русской реалистической школой. В ряду многочисленных высказываний о А. П. Чехове, полученных редакцией журнала «Иностранная литература» в дни празднования столетия со дня рождения писателя, есть отклик и Эрскина Колдуэлла. При обычной для Колдуэлла сдержанности поражает то глубокое волнение, которым проникнуты его слова о Чехове. Особенно, пожалуй, значительны следующие строки:
«Гений Чехова известен во всем мире и на всех языках, и нигде влечение к нему читателей не ослабевает со временем. Причина этого проста. Чехов обладал глубоким знанием жизни, человеческих надежд, побед и поражений: он понимал всех людей и поэтому умел так рассказать об одном человеке, что рассказ этот приобретал всеобъемлющее значение»[15].
Хотя у нас нет ни малейшего намерения приклеить американскому писателю, как это любят делать иные критики, наименование «американский Чехов», мы в то же время не можем не отметить некоторое сходство в манере этих двух писателей: обоих глубоко занимает судьба данного отдельного человека, оба пристально всматриваются в него самого и в его жизнь, умело показывают увиденное читателю, предоставляя ему поразмыслить и сделать свои заключения и обобщения. Любопытно, что в самой американской литературе среди предшественников Колдуэлла значительно труднее найти близкого ему по духу писателя. Для своей страны художник очень самобытен. Нельзя припомнить также, чтобы он выражал свои личные симпатии к кому-нибудь из писателей США. Он склонен, скорее, бравировать тем, что почти никого из американцев не читает.
Уже говорилось, как разнообразны сюжеты и темы в творчестве Колдуэлла. В книге «Назовите это опытом» среди вопросов, задававшихся ему в разные годы его литературной деятельности, он приводит такой: «Вы слишком много пишете о бедняках. Почему вы не пишете о приятных сторонах жизни?» — и тут же свой ответ: «Людей, которым доступны приятные стороны жизни, меньше, чем людей, несущих на себе ее тяготы. Когда эти социальные явления перестанут существовать, я увижу, что нет больше смысла писать о воздействии нищеты на души людей».
Пожалуй, именно здесь, в этой книге, он впервые с такой предельной ясностью выражает свое отношение к писательскому долгу, к задачам литературы. Позднее он не раз возвращается к той же мысли. За месяц до выхода в свет «Дженни» Колдуэлл говорит в одном из газетных интервью:
«Я сделал в ней то, что делаю всегда начиная с появления «Табачной дороги»: раскрываю одну из социальных проблем. Для меня это единственная платформа для создания произведения, которое имело бы какую-то устойчивую ценность…»[16]
Вряд ли есть необходимость перечислять здесь проблемы, которые в разные годы занимали Эрскина Колдуэлла. Выбор их во многом определялся самой американской жизнью последних десятилетий, а она щедро поставляла внимательному наблюдателю все новые и новые объекты для размышлений. И все же одной из наиболее значительных социальных проблем, прочно занявшей свое место в творчестве Колдуэлла, несомненно, является проблема расового неравенства в Соединенных Штатах Америки. Было бы, однако, преувеличением утверждать, будто она проходит красной нитью через все его творчество. Оглядываясь назад, мы видим, что временами он надолго отходил от этой темы. Но, подобно тому, как Уильям Фолкнер еще в молодости, в 1926 году, написал роман «Солдатское возмездие», резко осуждавший империалистическую войну и ее пагубное воздействие на судьбы людей, а затем много лет спустя (в 1954 году) вернулся к той же теме в романе «Притча», так и Колдуэлл в своем творчестве неоднократно возвращается к проблеме угнетения и преследования негров.
Первой его книгой на эту тему был известный советским читателям роман «Случай в июле» (1940 г.)[17]. В 1949 году опубликована повесть «Местечко под названием Эстервилл», где та же тема находит дальнейшее развитие.
В уже упоминавшейся беседе в Москве осенью 1959 года Эрскин Колдуэлл на вопрос, почему расовая проблема, которая, несомненно, актуальна для Америки и наших дней, не занимает больше его воображения, ответил так: «Я написал два романа о неграх — «Случай в июле» и «Эстервилл»… Я считаю, что исчерпал эту тему, и больше писать об этом не могу»[18].
И вот в книге, которую наш читатель держит сейчас в руках, — два новых романа Эрскина Колдуэлла, где та же проблема по-прежнему стоит в центре его внимания. А ведь со времени только что приведенного заявления писателя до выхода первого из этих романов не прошло и двух лет: «Дженни» появилась в США в феврале 1961 года, а «Ближе к дому» — в середине 1962 года. Естественно, возникает вопрос, какие события или побуждения заставили писателя изменить свое решение, еще и еще раз поднять свой голос против вопиющей исторической несправедливости — угнетения и преследования двадцатимиллионного негритянского народа Америки.
Вот почему автор этих строк не удержался от соблазна узнать, что скажет по этому поводу сам Колдуэлл, и обратился с письмом к нему. И вот что содержалось в ответном послании из Калифорнии, датированном 14 марта 1963 года:
«Отвечу прежде всего на Ваши вопросы. Написав «Случай в июле» и «Эстервилл», я действительно испытывал в то время такое чувство, будто полностью выразил свое отношение к социальному неравенству негров в Америке. Это было до принятия нашим правительством законодательных мер, направленных к ликвидации расовой сегрегации на Юге. Эти меры оказались настолько неудовлетворительными для негров (да и поныне это так!), что я почувствовал необходимость вернуться в своем творчестве к проблеме несправедливости социального и политического положения негров на Юге, ибо она — эта несправедливость — по-прежнему существует и вынуждает негров жить на положении граждан второго сорта. Иными словами, законодательство не сумело вытравить укоренившиеся предрассудки по отношению к неграм. На крайнем Юге страны существуют обширные территории, где постоянно возникают антинегритянские настроения. Больше того, даже американцы младших поколений и студенчество заражаются ими в этой атмосфере. Вот почему от романистов Америки потребуется еще много серьезных усилий, чтобы покончить с несправедливостью этой антиобщественной системы. Если говорить о самом себе, то я пишу о том, что наблюдаю и чувствую. Я верю, что зрение мое остро, и знаю, что чувства мои человечны. А только так я и хочу писать…»
Этот ответ свидетельствует о многом. В нем как бы итог глубоких размышлений самого писателя. Письмо это подтверждает, что Колдуэлл на протяжении многих лет не перестает искать новые решения все той же темы, раздумывать над социальным явлением, которое тревожит его и которому он посвятил два своих последних произведения. Радует и та твердая вера в силу писательского слова, которая так четко выражена в его письме и которая присуща лишь очень немногим из писателей сегодняшней Америки.
Людям доброй воли во всем мире, с болью и негодованием наблюдающим на протяжении последних лет — и особенно последних месяцев — разбушевавшуюся стихию расистских бесчинств, захватившую не один штат южных и юго-западных районов Америки, совершенно ясно, что одних «усилий романистов», сколько бы серьезны они ни были, не хватило бы для искоренения «несправедливостей этой антиобщественной системы», если воспользоваться словами самого писателя. Но тот факт, что человек острого зрения и гуманных чувств, Эрскин Колдуэлл, глубоко встревоженный бессилием своих соотечественников перед черными силами расизма, решает писательским словом воздействовать на народ своей страны, побудить его к активному противодействию этим позорным пережиткам рабовладельчества, за отмену которого некогда пролилось много крови, — сам по себе этот факт вызывает чувство большого уважения к гражданской честности художника.
Отнюдь не случайно в своем ответе Колдуэлл так четко выделяет эту веху — принятие Верховным судом США закона о ликвидации расовой сегрегации в школах южных районов страны. Именно этот законодательный акт 1954 года, как ни парадоксально это звучит, до крайности обострил тот социальный конфликт, который вот уже столько лет составляет органическую часть американского образа жизни. Именно эта правительственная мера вызвала неистовое сопротивление в штатах, где расовая ненависть к неграм впитывалась с молоком матери не одним поколением белых американцев. Именно попытка посадить за одни школьные парты детей черной и белой кожи в штатах Юга привела к новой жестокой вспышке расистских зверств. Вместе с тем, по данным 1962 года, то есть более чем через семь лет после принятия этого закона, «всего лишь 7,3 % негритянских детей в 17 южных и пограничных с ними штатах обучается совместно с белыми. Из 2805 районов совместного обучения в южных и пограничных штатах 1894 еще не приступили к выполнению постановления Верховного суда…»[19]. Если принять во внимание, что эти данные заимствованы из журнала «Лук», из статьи Эрнеста Данбэра, старшего редактора этого далеко не прогрессивного еженедельника, вряд ли можно заподозрить автора в нарочитом сгущении красок. То, что автор статьи — негр, заставляет думать, что и редакция журнала не допустила бы малейшей передержки фактов.
Наши читатели с особым вниманием следили за делом негритянского студента Джеймса Мередита, мужественно отстаивавшего свое право обучаться в университете, — право, записанное в конституции США и с тех пор не раз подтвержденное законодательными органами страны. В деле Мередита, как в капле воды, видна вся несостоятельность буржуазно-демократических заверений о свободах, которыми якобы пользуются все без исключения граждане Соединенных Штатов Америки. Декларируя эти свободы, официальная Америка на каждом шагу демонстрирует свою полную неспособность обуздать оголтелых негроненавистников.
Горячая волна возмущения и протеста против грубого произвола расистских банд, захлестнувшая весной этого года несколько штатов на юго-западе Америки, мощно всколыхнула все честные сердца мира; вести из Алабамы принимаются радиоприемниками во всех уголках земли, как вести о бедах, постигших самых близких людей.
Ширится и растет движение самих негров против дискриминации своего народа, против бесчинств распоясавшихся неофашистов. В этом благородном движении участвует и наиболее передовая часть всего американского народа, в первую очередь — коммунисты. Гнев против расистов, уверенных в своей безнаказанности, чувство солидарности с негритянским движением борьбы за равноправие не на бумаге, а на деле, — борьбы против массовых убийств и преследований, которым подвергаются все поборники расового равенства, — эти чувства охватывают все более широкие слои американского народа. Множество газетных статей, немало страстных публицистических книг написано о положении негров в США.
Однако если проанализировать американскую художественную литературу хотя бы последнего десятилетия, то среди книг на тему о дискриминации и положении негров почти не сыщешь произведения, принадлежащего перу белого писателя. Эта тема по негласному уговору является как бы «монополией» самих негров. Негритянские писатели создали замечательные книги, в которых проблема сегрегации и всякого рода унижения, испытываемые неграми в Америке с первого и до последнего дня жизни, нашли яркое выражение. Русские читатели хорошо помнят такие талантливые произведения, как «Молодая кровь» Джона О. Килленса, «Железный город» Ллойда Брауна, повесть о милом балагуре Симпле выдающегося поэта Ленгстона Хьюза и другие. В романах многих видных представителей американской литературы, написанных белыми, появляются нередко даже привлекательные образы негров. Однако почти во всех этих книгах негры играют лишь эпизодическую роль преданного слуги или услужливой кухарки в доме, где происходит действие романа, или же мальчика, доставляющего богатым американцам покупки из магазина. Темнокожие персонажи чаще всего представляют лишь колоритный фон, позволяющий автору оттенить ту или иную черту в характере белого героя, судьба которого полностью занимает внимание писателя. Характер негров на страницах этих романов остается неизменным: молча прислуживают они хозяевам жизни — обеспеченным белым американцам.
Такими же — или почти такими же — представали перед читателем и «герои» (поскольку все действие романа строилось на их преследовании и линчевании) тех первых двух произведений Колдуэлла, посвященных теме расовой дискриминации, о которых шла речь раньше. Казалось, что герой романа «Случай в июле» — не кто иной, как Сонни Кларк. Однако перед читателем проходило немалое число персонажей, выписанных писателем с куда большим тщанием, а «герой», без которого не было бы и самого романа, появлялся как жалкое, трясущееся от страха безликое существо, совершенно не «просматриваемое» читателем и психологически почти не раскрытое. Все, что мы узнаем о нем, это то, что он — честный, неиспорченный и работящий парень, которого зло и подло оклеветали белые, что и служит причиной его мучительных преследований, а затем и гибели. Это вовсе не значит, что Колдуэлл не сумел справиться со своим замыслом, что в романе «Случай в июле» его постигла творческая неудача. Нет, именно в этом и состоял замысел писателя: огонь его собственных эмоций был направлен на преследователей и на тех представителей власти, которым доверено поддержание порядка и охрана личной безопасности американских граждан. Очень зло и правдиво показаны эти ничтожные, трусливые людишки — судьи, шерифы и тюремные надсмотрщики округа, все помыслы которых направлены исключительно на то, чтобы любыми средствами удержать за собой теплое местечко на очередных выборах. В этом — большая и серьезная заслуга честного художника, занимающего одно из достойных мест в современной литературе критического реализма в США. Ни в какой степени не подвергая сомнению и критике систему американского общественного строя, породившего все эти уродства жизни, художник вместе с тем талантливо обличает отдельные человеческие слабости и недостатки. Высмеивание представителей власти — вообще в традиции буржуазной американской литературы, как и самих американцев, которым нравится воображать себя хотя бы в своем доме людьми свободными и вольномыслящими. Правда, суровые годы маккартизма приучили многих американцев — в том числе и писателей — держать язык за зубами. Но ведь роман «Случай в июле» был создан Колдуэллом задолго до того, как эти мрачные страницы вписались в летопись американской истории.
Девятью годами позже, но все-таки еще до той поры, когда пресловутая Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности активизировала свои бесславные действия, им была написана вторая из названных книг на тему о расовом неравенстве, повесть «Местечко под названием Эстервилл». В отличие от Сонни Кларка герой этого произведения — Ганус Бейзмор — почти не исчезает со страниц книги. Он, казалось бы, все время находится в центре внимания, но стоит закрыть книгу, как читателю ясно, что, кроме животного страха перед белыми хозяевами и кроме единственной мысли «как бы не попасть в беду», безраздельно владеющей этим бедным юношей, автор не раскрыл в нем ничего человеческого. Весь характер героя как бы соткан из этих одноцветных нитей. И в этом тоже есть, вероятно, немало жизненной правды, С самого раннего детства под влиянием услышанного от старших и увиденного собственными глазами негритянский ребенок в условиях плантаторского Юга носит в себе огромный заряд недоверия к белым; как затравленный зверек, следит он за каждым их шагом, везде ему чудится недоброе, видится угроза «попасть в беду».
Из приведенного выше высказывания Колдуэлла, относящегося к 1959 году (то есть спустя десять лет после выхода в свет «Эстервилла»), естественно напрашивается вывод, что и сам писатель, выросший и проживший большую часть своей жизни в штатах американского Юга, не вглядывался в глубь того — якобы мирного — сосуществования белых и черных американцев, в котором таится (вырываясь подчас наружу) та зоологическая ненависть к неграм, что время от времени приводит к неизбежным «разрядкам». Толпа линчевателей всегда вызывала у Колдуэлла отвращение. Он откровенно осуждал преследователей. Однако при этом преобладала некая абстрактная (и совершенно асоциальная) жалость к жертве. Ничто не свидетельствовало о том, что писатель воспринимает происходящее как общественное зло, как нечто коренящееся в истории его народа, имеющее глубокие экономические и социальные корни. И уж во всяком случае ясно чувствовалось, как писатель «не пускает себя» в глубь серьезных социальных проблем, сознательно остается на поверхности событий, упрощая их, используя их прежде всего как канву для создания занимательной и рассчитанной на всеобщий успех книги. Под внешним обликом трясущегося от животного страха за свою жизнь существа, каким представал на страницах этих двух книг американский негр, его человеческая личность и характер почти не угадывались. Недаром эти произведения Колдуэлла не заняли сколько-нибудь заметного места в той литературе, которая могла быть и была использована в разные годы организаторами борьбы за равноправие негритянского народа в США.
И вот через двенадцать лет после «Местечка под названием Эстервилл», на протяжении которых Колдуэлл выпускает около десятка самых разных, очень неровных по своей значимости и по своим литературным достоинствам романов и сборников новелл, в лучшей своей части знакомых советским читателям, несколько неожиданно выходит в свет его роман «Дженни», опубликованный в прошлом году в журнале «Иностранная литература».
Наши читатели с большим интересом встретили это новое произведение Эрскина Колдуэлла. Глубокий драматизм событий, положенных в основу романа, совсем не похож на ту напряженность описания «охоты за негром» и расправы над ним, которая была характерна для прежних книг писателя о расовой дискриминации в Америке. Совсем иные меры глубины, иные критерии драматизма свойственны художнику, создавшему «Дженни», а вслед за этой книгой и роман «Ближе к дому». Внешний драматизм здесь как бы уступает место глубинному раскрытию сил, заложенных внутри американского общества, тех еще далеко не для всех заметных ростков протеста, гнева, готовности к сопротивлению, которые очень постепенно, очень медленно возникают в сознании людей сегодняшней Америки — как среди негров, так и среди белых. То обстоятельство, что из-под пера художника, стоящего, казалось бы, вдалеке от общественных движений современности, вышло произведение, подобное «Дженни», само по себе чрезвычайно знаменательно. Оно свидетельствует не только об остроте зрения художника, о котором говорит в приведенном выше письме и сам Колдуэлл; но и о том, как меняется со временем сознание мыслящих американцев, как все очевиднее становятся для них социально-экономические корни расизма и как все чаще они задумываются над необходимостью преодолеть те преграды косности и страха перед сильными мира сего (даже если это всего лишь заправила маленького захолустного городка Дэйд Уомек), которые мешают им решительно сказать свое «нет!» фашиствующим расистам.
Можно было бы, конечно, выразить сожаление по поводу того, что Эрскин Колдуэлл и в своих новых романах не берется за изображение активно действующих народных сил, самоотверженно преграждающих путь расистам. Мужественная борьба передовых людей Америки за равноправие всех ее граждан независимо от их убеждений и цвета кожи, их смелые выступления, за которыми с восхищением следит весь мир, ждут своих художников, своих певцов. Колдуэлл далек от создания таких образов, таких полотен. Было бы неправомерно и предъявлять к нему такие требования. Думается, он честно вносит свой вклад в нелегкую борьбу передовых сил американского общества против расового неравенства — этого позорного пятна на совести человечества.
В романах «Дженни» и «Ближе к дому» в отличие от многих других его произведений, где перед глазами читателя проходило много похожих персонажей, где встречались и похожие ситуации, есть по меньшей мере две принципиально новые, качественно отличные черты.
Прежде всего, образы гонимых, преследуемых жертв утратили здесь свою однозначность, приобрели все элементы полнокровного человеческого характера. И это — отнюдь не просто удача художника, а принципиально новое отношение писателя к негру — человеку, поставленному в положение жертвы. Если раньше Колдуэллу было совершенно безразлично, что за человек Сонни Кларк или Ганус Бейзмор — ему важна была только их невиновность в приписываемом им преступлении, — то уже Лоуэна Нели в «Дженни» и в еще большей мере Джозина Мэддокс и Харви Браун в «Ближе к дому» носят в себе черты сильных, честных и мужественных людей. Больше того, они в человеческом плане значительно превосходят тех белых, которые поднимают на них свою руку, и даже тех, кто, казалось бы, и против их преследований, тех, кому вроде бы и жаль именно этих негров; превосходят, к тому же не будучи превращены художником в ходячие манекены человеческих добродетелей. Эти образы выписаны рукой мастера, видящего их глазами настоящего человека. В этом одно из существенных отличий тех книг, которые сейчас стали достоянием и русских читателей.
Вторая принципиально новая черта, свойственная — не убоимся этого громкого слова — качественно новому этапу в творчестве Колдуэлла: социальная заостренность конфликта, попытка разглядеть за тщательно оберегаемыми традициями расового неравенства экономическую заинтересованность правящих классов в сохранении этих традиций, их панический страх перед потерей тех колоссальных доходов, которые обеспечивает им существование негритянских гетто в городах и городках Америки, а вовсе не только дешевая рабочая сила на плантациях Юга, откуда, кстати сказать, в последние годы идет мощный приток негритянского населения в крупные промышленные центры страны.
Фигура Дэйда Уомека, разбогатевшего на эксплуатации жилищ в негритянском гетто городка Сэллисоу в штате Джорджия, где происходит действие романа «Дженни», и занявшего благодаря концентрации в его руках больших капиталов ключевые позиции в городе, ставшего его незримым, но безраздельным владыкой, — большая удача Колдуэлла.
О незаурядной меткости взгляда художника говорит и образ судьи Рэйни. Он по-своему человечен, честен и в общем довольно симпатичен. Но в нем настолько прочно укоренилась уверенность в незыблемости издавна привычных устоев жизни, неспособность противодействовать забравшим власть Уомекам и безоговорочно преданным им шерифам и их подручным, что самая мысль о неподчинении кого-то из простых горожан распоряжениям властей пугает его, кажется ему чем-то ужасным. Без нажима, несколькими скупыми штрихами Колдуэлл показывает зарождение в душе судьи Рэйни доброй зависти, с которой он наблюдает решимость жалостливой и бесхитростной Дженни во что бы то ни стало отстоять свое человеческое право жить так, как велит ей собственная совесть, не отказывать в приюте честной и способной девушке Лоуэне, приехавшей в Сэллисоу в поисках работы: ведь Лоуэна не может устроиться в городке по одной-единственной причине, что в ее роду — люди то ли индейской, то ли негритянской крови. По этой причине перед ней оказываются закрытыми двери всех контор, а домовладельцы не могут — по исконным неписаным законам — сдать ей комнаты нигде, кроме как в негритянском квартале городских трущоб, с эксплуатации которых стрижет купоны Уомек. Когда же Дженни принимает непреклонное решение пренебречь угрозами агентов Уомека и приютить у себя девушку, грязные руки подручных Уомека безжалостно поджигают дом Дженни, где в пламени пожара гибнет уснувшая после бесплодных поисков работы Лоуэна.
Так, после многих лет молчания о преследованиях, которым подвергаются в «демократической» Америке не только негры, но и их защитники, Эрскин Колдуэлл по-новому подходит к теме расового неравенства. Хотя случаи открытой расправы оголтелых линчевателей с запуганной жертвой преследований и не отошли еще в область предания, они стали ныне более редкими, нежели два-три десятка лет назад, когда писался рассказ Колдуэлла «В субботу днем» и роман «Случай в июле». Однако негры и люди смешанной крови и по сегодня живут в США как граждане последнего сорта, то и дело испытывая на себе проявления расизма. Белые же американцы, даже те из них, кого не коснулись бактерии расистской чумы, чаще всего безучастно смотрят на происходящее вокруг, оставаясь сторонними наблюдателями даже тогда, когда им стыдно за своих злобствующих соотечественников.
Новые романы Э. Колдуэлла, думается, прямо адресованы этим честным, но равнодушным свидетелям несправедливостей и бесчинств, которым ежедневно подвергаются «равные перед лицом закона» темнокожие граждане «свободной» Америки. Создавая характеры, подобные образу судьи Рэйни в «Дженни» или простака Туземца Ханниката, героя романа «Ближе к дому», и адвоката Миллера Хайэта из той же книги, Колдуэлл, по его словам, преподносит своим читателям то самое зеркало, поглядевшись в которое кое-кто из американцев должен призадуматься над собственной жизнью и своей ролью в обществе, где до сих пор творятся неслыханные по жестокости и несправедливости акты расовой дискриминации. В этом и заключается основной социальный смысл этих двух последних произведений Колдуэлла.
Очевидный и бесспорный гуманизм романа «Ближе к дому» состоит не только в том, как единодушны в осуждении жестокого убийства молодого, трудолюбивого негра Харви Брауна жители Пальмиры и какой справедливой карой являются выстрелы, отомстившие садисту-убийце. Гуманизм этой талантливой книги и в том, какими художественными средствами написана милая, человечная и одновременно несгибаемая в своей решимости жить «как подобает человеку» молодая негритянка Джозина Мэддокс. Ее прочная привязанность к Туземцу Ханникату, которому она с подкупающей прямотой предлагает уехать куда-нибудь, где они могли бы жить вместе открыто и счастливо, и решимость ее, после категорического отказа Туземца, избрать честный путь в жизни и для блага ребенка выйти замуж за равного ей по крови Харви Брауна, — все это достоверно и уважительно описано Колдуэллом. Он как бы пытается помочь тысячам и тысячам белых американцев, в доме которых кухаркой, шофером, горничной трудятся негры, увидеть в ней или в нем Человека, с его человеческим достоинством и человеческой судьбой. То, что для всех советских людей является бесспорным, само собой разумеющимся, для многих и многих американцев еще чуждо и порой недоступно пониманию. Они с детства привыкли видеть в обслуживающих их неграх только усердных или ленивых слуг, ни разу за всю жизнь не взглянув им в глаза.
Человек, проведший, подобно Колдуэллу, большую часть жизни в штатах, где до сих пор предельно остро стоит расовая проблема, досыта нагляделся не только на преследования ни в чем не повинных негров и зверские расправы над ними, но и на это невыносимое для честного и думающего человека бездушие, безразличие к судьбам людей темной кожи, и раз и навсегда твердо понял одно: сколько бы формальных решений ни вынес Верховный суд США или иные федеральные и местные власти под воздействием общественного мнения или организованной борьбы против расовой дискриминации, эти решения не осуществятся до тех пор, пока в недрах самого американского общества не созреет понимание того, что так больше продолжаться не может, что с этим позором надо кончать раз и навсегда. Помочь своим соотечественникам поверить в возможность и настоятельную необходимость положить конец расизму — в этом видит честный художник современной Америки Эрскин Колдуэлл свою первейшую задачу, свой святой общественный долг.
Романы Эрскина Колдуэлла «Дженни» и «Ближе к дому» дороги советским читателям потому, что талантливое и чуткое перо издавна полюбившегося им американского писателя вносит свой вклад в благородное движение человечества за права, за честь, за счастливое завтра негритянского народа Америки.
Правда, художник пока и сам еще не знает, каковы истинные пути к искоренению расизма в его стране. В этом — его слабость, в этом — ограниченность его буржуазного реализма в изображении сил, порождающих расизм, и тем более сил, готовых к организованному и действенному сопротивлению расизму. Активное участие в этой борьбе молодежи — в том числе и представителей молодой литературы США — внушает надежды на то, что в ближайшие годы мы сможем прочитать и произведения людей, прямо причастных к этой борьбе.
Однако уже одно то, что Колдуэлл почуял ветер перемен двадцатого столетия — перемен, все ближе и ближе подступающих к порогам американских домов в южных штатах США и уже ощущаемых их гражданами, — и не только почуял, но и передал эту предгрозовую атмосферу в романе под символическим названием «Ближе к дому», — фактор значительный как для творчества самого Колдуэлла, так и для всего литературно-общественного климата сегодняшней Америки.
Е. Романова
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Право первой ночи (лат.).
(обратно)2
Коротышка (англ.).
(обратно)3
(Таится) змея в траве (лат.). Из «Третьей эклоги» Вергилия.
(обратно)4
По подозрению в сумасшествии (лат.).
(обратно)5
Английское слово «jenny» означает принадлежность к женскому полу. — Прим. ред.
(обратно)6
Non compos mentis (лат.) — не в своем уме.
(обратно)7
До бесконечности (лат.).
(обратно)8
День провозглашения независимости, национальный праздник США. — Прим. ред.
(обратно)9
Отныне и вовеки (лат.).
(обратно)10
Окторуны — потомки от смешанного брака белых и мулатов; предполагается наличие у них восьмой части негритянской крови. — Прим. ред.
(обратно)11
Потомки от смешанного брака белых с мулатами, в составе крови которых четвертая часть негритянской. — Прим. ред.
(обратно)12
См. книгу «Call It Experience» («Назовите это опытом»).
(обратно)13
«Иностранная литература», 1962, № 12 стр. 198.
(обратно)14
«Иностранная литература», 1960, № 2, стр. 227.
(обратно)15
«Иностранная литература», 1960, № 1, стр. 188.
(обратно)16
«Нью-Йорк геральд трибюн», 19 января 1961 г.
(обратно)17
Э. Колдуэлл, Повести и рассказы, Издательство иностранной литературы, 1956.
(обратно)18
«Иностранная литература», 1960, № 2, стр. 227.
(обратно)19
Цит. по журналу «За рубежом», 26 мая 1962 г.
(обратно)
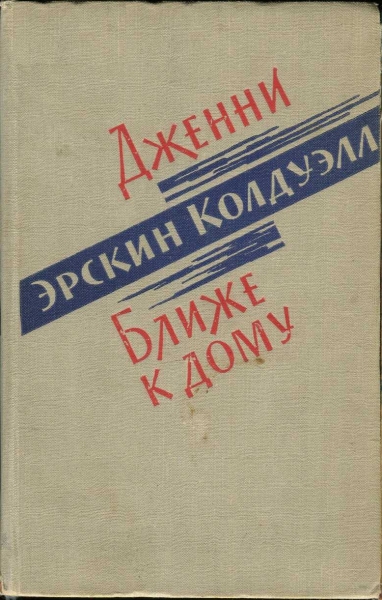




Комментарии к книге «Дженни. Ближе к дому», Эрскин Колдуэлл
Всего 0 комментариев