— Можно? — спросил я, приоткрыв дверь класса.
— Можно, — сказал учитель.
Класс был узкий и длинный, с низкими потолками, с коричневыми щербатыми стенами, с большим портретом Ворошилова над доской. В этой банной, сыроватой полутьме все лица были мне незнакомы, все, кроме него, но и он смотрел на меня со спокойной суровостью, точно спрашивая ответа за опоздание.
— Ты тот самый мальчик, о котором говорил мне директор? Эвакуированный?
— Да, мы приезжие, — сказал я.
Мне не нравилось это слово — «эвакуированный».
— Вы эвакуировались из Ленинграда? — сказал учитель.
— Мы приехали из Москвы, — ответил я.
Он взял замерзшими, негнущимися руками журнал и спросил:
— Фамилия?
— Островский.
— Видишь, какая у тебя фамилия! Ты должен быть достоин ее.
— Почему же? — сказал я. — Просто это очень частая фамилия. Островских много, и все они не могут быть достойными...
— Островский, хватит рассуждать! Садись на место и не срывай мне урок.
— А куда мне садиться?
Я чувствовал, что злю его. Может быть, этого не стоило делать. Он был старый и, по-моему, не очень умный. Впрочем, если бы он был умнее и моложе, его бы взяли на фронт. А такой он не нужен фронту. Нет, я не собирался его злить. Но так уж сложилось. И потом он сам начал про фамилию, и сейчас тоже — он сажал меня на место, а места не было. Все места были заняты, все до одного. Сидели ученики 8-го класса и смотрели на меня. Сидели белые, и черные, и рыжие, сидели жирные, те, кого называют «жиртрестами», и тоненькие, по прозвищу «спичконожки», сидели двоечники и отличники; сидели тремя ровными колонками; «Камчатка» ныряла под парты и строила рожи, передние тихо таращили на меня глаза, кто-то спокойно храпел, кто-то играл в морской бой, но все сидели, все были здесь старожилами, а я был новичком. И я стоял, ждал.
— Я же просил директора новых эвакуированных посылать в 8-й «Г». А он их шлет ко мне.
Учитель был расстроен. И я быстро пошел к двери. Как-нибудь я существовал без них всю свою жизнь, и сейчас я тоже проживу без них.
Строгий портрет смотрел на меня; не знаю, что было в его глазах — презрение или сочувствие, они были прищурены.

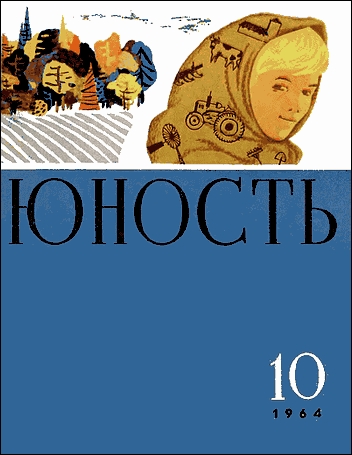



Комментарии к книге «Тучи над городом встали», Владимир Ильич Амлинский
Всего 0 комментариев