Адам Ведеманн Где собака зарыта
Случаи из жизни случайной субъективности
В наше время стало трудно рассказать историю с начала до конца, потому что мы толком не знаем, где начало, а где конец. У рассказчика Адама Ведеманна в этом отношении есть очень хороший прием. Начинает в каком-нибудь поезде или автобусе, иногда на велосипеде, а заканчивает после того, как приедет куда-нибудь, причем не обязательно, что на том же самом транспорте, на котором начал путь.
Впрочем, и в так называемой середине мы сталкиваемся со многими неудобствами. Нас волнует, как говорит Ведеманн в «пяти коротких вещицах» сборника «Где собака зарыта» (Сэнк Пес Брэв. Варшава, 1998)[1], огромная потребность «рассказать наконец все себе самому по порядку». Каждое слово здесь на своем месте: «наконец», «все», «себе», «по порядку». И оказывается, что эта простая задача невыполнима. О себе самой могу сказать, что, когда я собираюсь внутри себя выстроить некое повествование, наверняка быстро засну, измотанная постоянными уходами в какие-то боковые ответвления и невозможностью удержаться «в главном русле». Я вынуждена также признать, что много раз мне случалось читать разнообразные не удовлетворяющие меня пересказы «Контракта художника» Питера Гринуэя и также многократно обращаться к моей — известной знанием тысячи и одной фабулы — приятельнице, пани профессор Марии Жмигродской, с просьбой рассказать мне, о чем этот фильм, но все как-то не получалось. Мне тогда казалось, что помехой были некие внешние причины: то вдруг звонил телефон, или кто-то стучал в дверь, или надо было прервать рассказ ради чего-то срочного. После чтения Ведеманна я вижу, что дело тут более глубокое, внутреннее, ибо, когда мы пытаемся пересказать собственную или чужую жизнь, «события начинают коварно выказывать какие-то фальшивые личины или прятаться по незадействованным частям мозга, и разве что гипнозом каким можно их оттуда выманить». Далее автор строит невыполнимые планы привлечения гипнотизеров для добычи событий из этих закрытых шахт.
У Ведеманна появляется не только «потрясающее богатство абсолютно самых важных вещей», но и «бардак», «помойка» и тому подобное. Предотвратить окружающий хаос должно соединение событий в цепочки, принудительное сцепление, комбинирование смыслов последующих событий, хотя, как пишет автор, «порой даже невооруженным глазом видно, что какие-то звенья, насильно притянутые друг к другу и связанные проволокой или просто ниткой, неизбежно разорвутся при очередном рывке нашего поглупевшего существования». Гомбрович подошел к аналогичной дилемме в «Космосе» очень драматично: «Не получится у меня рассказать это… эту историю… потому что я рассказываю ex post. […] А как рассказывать не ex post! Что же, значит, ничто никогда нельзя адекватно выразить, передать в его анонимном становлении, никто никогда не сумеет передать клокотание рождающегося момента, как оно есть на самом деле, и мы, рожденные из хаоса, никогда не сможем с ним соприкоснуться, только взглянем, как уж под взглядом рождается порядок… и форма». В «Космосе» из этой навязчивой идеи возникает «усиленное ощущение знаковости мира, видение во всем преднамеренного двуличия людей и вещей» (З. Лапиньский).
Иначе справляется с этой задачей Ведеманн. Если у него не получается — по выявленным выше причинам — рассказать какую-либо историю, ведь «всегда к ней что-нибудь нового да и припомнится, так, как будто ее вообще пока не рассказывали», тогда из нее надо сделать «некую Очень Важную Историю», и тогда она внутри рассказчика скукожится, захиреет и испустит дух. С помощью придания смысла достигается лишение значения: назойливые «высшие смыслы» перестанут приставать.
Возвращение приватности, достигаемое с помощью раскрытия субъективного генезиса событий, происходящих только в поле опыта повествующего «я», имеет свою цену. Ею является сопряжение со случайностью. Программная «случайность» Рорти подразумевает необходимость смириться с фактом собственной конечности. Нет никакого «постижения мира» в платоновском смысле (постижения вне времени, в рамках некоей постоянной неизменности Идеи). Для Делёза ницшеанские сумерки богов — это осознание того, что не существует ни оригинала, ни копии, ни привилегированной точки зрения, придающей Смысл, нет возможной иерархии. Остается беспрестанно обновляемое описание действительности собственными, исключительно собственными словами. Ни одно из описаний не может претендовать на абсолютную истинность, отсюда скрытая в нем внутренняя ирония. В тексте «Сэнк Пес Брэв — автореферат» («Ех Libris», специальное издание от декабря 1999) Ведеманн подчеркивает, что у него все время речь идет о непонимании, которое является «неизбежным следствием всех попыток общения».
Сам Гомбрович хотел назвать «Космос» «романом о становлении действительности». В «Дневнике» он написал в связи с этим: «Какие же [бывают] приключения, авантюры с действительностью, когда она пробивается из тумана». Он называл «интеллектуальными обочинами» проступающие в это время «аналогии, противопоставления, симметрии». Его больше тянуло к другому: «Возникновение боковых ответвлений… темных ям… заторов… преграды… омуты… повороты». В первом варианте начала «Космоса», появившегося на страницах парижской «Культуры» в 1962 году, Гомбрович писал: «за первой волной шли другие, бесконечность вещей и фактов, обступающих со всех сторон и отвлекающих, с которыми я не мог справиться». Несколько раз он возвращался к знаменательному определению: «жужжащий рой явлений», «своеобразное созвучие, жужжание роя». Может быть, догадывается Гомбрович, «в праначале времени было двукратное восприятие. Оно определяло направление в хаосе и являлось началом гармонии». Двукратное восприятие, поскольку происходило возвращение к некоему замеченному явлению, которое благодаря этому начинает выделяться и становится навязчивой идеей. Может быть, сама действительность «по сути своей навязчива, маниакальна»? В лоне хаоса события каким-то образом разрастаются, впадают в резонанс друг с другом и вступают в связь. «Жужжание роя» является здесь удобной метафорой. Бялошевский заботился о том, чтобы переписать «с фактичности на выразительность».
В книге «Где собака зарыта» Ведеманн отмечает несколько странных закономерностей в стремлении неуклюже упорядочивать события. Например, упорное внушение себе предчувствия, что сейчас должен кто-то встретиться, и действительно, этот некто встречается, впрочем… «может, это предчувствие и существует, но как-то трудно было бы его отделить от обычных мыслей». Или молитвы, так называемые моления о ниспослании, исполняются как собственная противоположность, но этого не замечают, коль скоро ум «имеет тенденцию выискивать как можно большее количество исполнений». И так далее и тому подобное. В помещенном в книге Ведеманна «Вездесущность порядка» (Краков, 1997) рассказе под названием «Святой Витольд, молись за нас» герой из чистой злости (потому что перед этим он был захвачен абсолютом музыки Лютославского) говорит о творчестве своего идола следующее: «В результате мы окажемся подвешенными в этой всеобщей красоте как в безвоздушном пространстве». Мариан Сталя удачно подметил здесь отступление от способа мышления, «явно апеллирующего к классической метафизике платоновского типа», или, может быть, бегство «от устойчивых форм, от самой идеи устойчивости и неизменности» (Неустойчивые формы существования // Тыгодник повшехны. 1998. № 12).
Истинной темой прозы Ведеманна являются случаи из жизни случайной субъективности. Они часто происходят в пространстве, особым образом выстроенном с помощью литературных «кубиков», которые Ведеманн использует в собственных целях.
С первого же рассказа в книге в глаза бросается «мистический опыт». Героиня «Элиады, бергмановского рассказа» (что это, ассоциация уменьшительного имени героини — Эля — с Элиаде и «Илиадой»?), «сокрытая и недосягаемая в кабинке» туалета в кафе, переживает кризис ценностей, за которым следует мистический опыт. «Созерцательное вглядывание» в тусклый свет, отражающийся в металлической ручке уборной, приводит к радостному растворению в вечности. Здесь-то, чем-то напоминая античных богов, пани Эльжбете является Господь Бог собственной персоной — «она видела Его насквозь, во всей Его голой, с позволения сказать, божественности». Вот оно что: это Бог оголен, а не мистик. Мистический опыт сопряжен также и со сном, описанным в «традиционном рассказе», названном «Резкое ухудшение слуха». Рассказчик, хоть он все время находится на борту попавшего в шторм корвета, одновременно своим взором поднимается все выше и все большее водное пространство охватывает своим взглядом сверху. Он находится на «жуткой границе» между пребыванием на борту парусника и рассматриванием его с большой высоты. Это все опыт чуждости/отчуждения, окрашенный, разумеется, соответствующей иронией, которая часто прибегает к внедренным в нашу литературу Бялошевским средствам столкновения высокого с обыденным. Особенно это заметно в многочисленных описаниях прослушивания музыки, пересыпанных юмористическими эпизодами, представляющими, например, стук не со стороны соседки слева, «ведущей с нами беспрестанные музыкальные войны», а со стороны двери, за которой на самом деле стоит «Ярекова баба — Малгоська. Ну я начал вроде как оправдываться, что, дескать, кто-то раньше гвоздь забивал и поэтому я не был до конца уверен».
Однако значительно сильней воздействуют переживания страха и отчуждения, являющиеся продолжением линии прозы Гомбровича. Это отнюдь не фрейдовская Unheimlichkeit, как того хочет Марек Залеский в рецензии на «Вездесущность порядка» (Res Publica Nowa. 1998. Июль — август), а скорее дурнота, охватившая Рокантэна Сартра при виде каштанового дерева. Юзя в «Фердыдурке» во время бегства из города переживает страшное отчуждение в отношении природы: «Налетел ветер, закачались деревья, зашелестели листья, и один из них, на самой верхушке, беспощадно выставленный в пространство, привел меня в ужас». «Наше положение в космосе», как говорил Гомбрович, просто ужасно.
В «Польских воспоминаниях» Гомбрович описывает странный случай с собакой, которая гуляла где-то ночью, а потом забралась к нему на постель и улеглась в ногах. Собака была прекрасно известной ему «благородной дворнягой», но Гомбрович наделил ее «дьявольской сутью» из старинных романов о явлении дьявольского духа под видом собаки. Правда, рассказчик «Капитана» довольно быстро, после приступа страха из-за того, что «дверь сама открывается и кто-то (невидимый) сквозь нее проходит», узнает старого спаниеля Фитцджеральда. Однако происходит нечто ужасное: «Фитцджеральд принялся издавать звуки, подходившие никак не собаке, а скорее ребенку, который только учится говорить». Ситуация не позавидуешь: «Я тут спать хочу, а это грязное животное сидит возле постели моей и лопочет, видать, все одно и то же». Может, то, что в «интертекстуальном» «Пуделе», возникшем, как утверждает автор, из «духа дадаистской игры», из абсурдистской игры словами? Что ни говори, а пудель, как известно из «Фауста», существо демоническое.
В финале «Резкого ослабления слуха» мы узнаем, что мы скованы одной цепью, вынужденно солидарны с рассказчиком, напуганным сном? реальной опасностью? опасностью, увиденной во сне? «Сюда я привел вас, здесь вас и оставляю. Дальше хода нет. У вас нет другого выбора — вы должны остаться со мной, здесь. Или как-то мне поможете или же готовьтесь к тому, что грядет и что рождается там, в той тишине, к ужасному, таинственному. Будем переживать это вместе». Самое страшное приключение рассказчика — это когда он думал, что в душевой кабинке находятся два человека, но был один, который вышел, а кабинка оказалась пустой. Самое главное переживание Бааты-Беаты — это то, что мать ночью засунула ей палец в рот. Страхи Гомбровича и Бялошевского оказываются страхами Ведеманна.
Наверное, самый главный рассказ в сборнике — «Капитан» — повествует об удачной-неудачной встрече. Сначала письма после каникул, «никогда не попадающие в десятку, но так замечательно все пускающие побоку». При условии откровенности снимающие проблемы — «болезненные или даже просто беспокоящие, смущающие и воняющие». Пускание всего побоку становится также результатом реальной встречи реальных людей. После совместного исчерпывающего вызывания духов, в том числе и духов живых знакомых, происходит вялое прощание:
«Мы вышли на какую-то маленькую площадь, поросшую травой, с парой скамеек по периметру […]
— Здесь я прогуливала уроки, — неожиданно сказала Баата. […]
— И чем ты занималась, когда прогуливала уроки?
— Просто сидела здесь.
И это было все, что мы сказали друг другу. Час худо-бедно пролетел».
М. Янион
ЭЛИАДА бергмановский рассказ
Волей-неволей пришлось открыть глаз, а открыв, взглянуть вверх. И была там ночь. В таком случае, подумалось Ему, день должен находиться где-то внизу. Ибо был Он Господом Богом, что в который уж раз с трудом осознавал. Из двух зол все-таки лучше день, снова подумал Он. Люди тогда на меня молятся, приятно посидеть утречком в каком-нибудь костеле. Или хотя бы в часовне. Места все такие славные, такие приятные. И чистые. «И как это Тебе не наскучит», — подал голос Сатана. Господь Бог давно уже научился не обращать внимания на Сатану, но на этот раз Он подумал: если и дальше так пойдет, то я перестану отличать голос Сатаны от своих собственных мыслей, — и быстро направил взор вниз.
День выдался ненастный, к тому же праздничный. Каждый раз пани Эльжбета отмечала, что не любит, ну просто не любит — и в этом нет никакой ложной аксиологии — чувствует какую-то врожденную антипатию к таким дням, когда автобусы отстаиваются в парке, магазины не работают, а Господь Бог отдыхает. Ничего себе отдыхает, вздохнул всуе мысленно упомянутый Господь Бог, ибо в этот самый момент заметил, что на улицах становится все больше людей с маленькими (какое счастье, вздохнул Господь Бог) корзиночками в руках, и каждая корзиночка покрыта белой кружевной салфеткой. Белизна салфеток постепенно темнела под каплями дождя. «Вот взять бы да объявить, что в дожде меня столько же, сколько и в святой воде, — размечтался Господь Бог. — Да послать бы Матерь Божью к каким-нибудь детишкам, чтобы она открыла им эту истину. Она ведь так любит детей». «И опять станет уговаривать: почему бы нам еще детишек не завести?» — встрял Сатана, чем сильно смутил Господа Бога. «Что ж, дети они и есть дети, — подумал Господь Бог, — думают, что мир можно изменить. Что его можно разобрать на части, а потом обратно сложить и что станет лучше. А в результате — ненужные разочарования. И прекрасные ненужные книги. Слишком много слов в этих книгах, — подумал Господь Бог, — всего слишком много». — И тут же принялся обдумывать очередную книгу, в которой Он наказал бы все свои ранее написанные книги сжечь. Но тут же этой мысли испугался.
Тем временем пани Эльжбета, от которой Господь Бог на секунду отвлекся, поддалась искушению и подошла к случайно попавшемуся на пути телефону-автомату. У нее как раз оказалась не использованная до конца карта. «Что мне делать одной в чужом городе, причем в праздник», — подумал за нее Сатана, и она принялась бойко набирать семизначный номер пани Дарьи. «Тебе повезло, — сказала пани Дарья, когда подруги поздоровались, — если бы ты позвонила двумя минутами позже, то не застала бы меня». — «И что бы мне позвонить двумя минутами позже», — с сожалением подумала пани Эльжбета. Договорились встретиться в привокзальном кафе, чтобы пани Эльжбете было недалеко. «У тебя что, пересадка?» — спросила пани Дарья перед тем, как повесить трубку, и пани Эльжбета ясно поняла, что не стоило звонить. Но не выставлять же себя дурочкой. «Договорились, значит, пойду», — подумала она, а Господь Бог пришел к болезненному выводу, что в данной ситуации Он бессилен. Вспомнил об ожидающей Его вечером трехчасовой литургии Страстной Субботы и сразу почувствовал усталость. «Опять будут петь о погребенных под водой египтянах, — подумал Он. — Какое им до этого дело, ведь столько веков минуло». — «Как тебе не стыдно», — захихикал Сатана. «Ничего, я всемогущий, а значит — могу позволить себе и устыдиться, — отрезал Господь Бог. — Не в пример тебе». — «Какой там всемогущий (в голосе Сатаны послышалась издевка), небось уж и дождь не сумеешь как следует остановить». На что Господь Бог, не говоря ни слова, остановил дождь.
Впрочем, это последнее мало чем помогло пани Эльжбете, только что вошедшей в кафе и смотревшейся в зеркало, что висело между гардеробом и туалетом. «Выгляжу как мокрая курица», — подумала пани Эльжбета и, очень этим обстоятельством расстроенная, села за первый попавшийся столик у окна. Официантка, казалось, не замечала ее появления, что даже было бы пани Эльжбете на руку, если бы не три вазочки с недоеденным мороженым, наличие которых на столике слегка раздражало ее. Наконец, преодолев себя, она с вежливой робостью обратилась к вертящейся как юла особе в черном:
— Вас можно просить?
— Вы хотели что-то заказать? — любезно осведомилась официантка.
— Пока нет, спасибо, я жду подругу, — вежливо ответила пани Эльжбета.
— Просто так сидеть в кафе и ничего не заказывать нельзя, вы должны что-нибудь заказать, — заявила официантка, — а плащ, пожалуйста, сдайте в гардероб, в пальто не обслуживаем.
— Но когда я вошла, там в гардеробе никого не было, — пыталась оправдаться пани Эльжбета. Она оделась легко, и ей казалось, что без плаща будет холодно.
— Как это — никого? Одежда не висела? Гардеробщица, видимо, отлучилась в туалет, — затараторила официантка, расплываясь во все более доброжелательной улыбке, а тем временем, не замеченная пани Эльжбетой, появилась пани Дарья, чтобы захватить подругу врасплох нежным поцелуем в щечку.
— Привет, Эля, — сказала пани Дарья, — что сидишь в мокром плаще? Давай, помогу снять его (и вот снятый пани Дарьей с пани Эльжбеты плащ висит, переброшенный через спинку третьего стула из стоявших у их столика).
— Понимаешь, я только что пришла, — снова стала оправдываться пани Эльжбета и сразу же обозлилась на себя за то, что оправдывается. Пани Дарья выглядела потрясающе. На голове свеженький перманент, на самой — весенний, прямо с иголочки костюм. Как же так получается, подумала пани Эльжбета, что люди всегда знают, что надеть и что с собой захватить. Как у нее так получилось, что совсем не промокла?
— Слава богу, дождь перестал, а то я напрочь забыла о зонтике, — сказала пани Дарья, когда обе уже сделали заказы. — Ты, я смотрю, тоже (она бросила небрежный взгляд на плащ пани Эльжбеты).
— Стоит мне взять зонт, дождь ни за что не пойдет, — грустно улыбаясь, сказала пани Эльжбета.
— Значит, ты должна постоянно иметь его при себе, — сказала пани Дарья, улыбнувшись своим словам будто чему-то забавному.
Пани Эльжбета не послала ей ответной улыбки. Ах, если б только зонт, подумала она. Вот надеваю я солнечные очки, и день сразу же становится пасмурным, а у меня, как назло, нет кармана, чтобы спрятать их. Или, например, случится вынуть из сумки чтиво, так потом в автобусе все читают какую-нибудь макулатуру, а я вынуждена им завидовать. Не говоря уже о том, во что выливается мой поход на почту. И так каждый раз. Всегда чего-нибудь да не хватает.
— Что новенького? — удивила пани Эльжбету своим вопросом пани Дарья. — Так влетаешь сюда и вылетаешь, что просто улет. — Пани Дарья непроизвольно улыбнулась спонтанно родившемуся каламбуру.
— Так ты говоришь, дождь перестал? — спросила пани Эльжбета с какой-то игривой усмешкой.
Мгновение пани Дарья сохраняла на лице растерянную улыбку, чтобы сменившая ее печаль показалась еще горше.
— Нет, Эля, теперь я говорю серьезно. Не могла бы ты как-нибудь приехать сюда на несколько дней? Что тебя так держит в этой твоей дыре?
— Что держит? Скорее я держусь за нее. Меня притягивает ее дырявость, — ответила пани Эльжбета (не сумев на этот раз сдержать легкой иронической улыбки). А если не приезжаю, значит, не могу. Не следует подозревать людей в наличии злого умысла.
— Тогда зачем ты вообще звонишь мне, договариваешься? (в глазах пани Дарьи появилось какое-то отчаяние).
— Может быть, хочу встретиться с тобой, — заметила пани Эльжбета, уже не веря в свои слова.
— И что дает нам такая встреча?
— А что она должна дать?
— Что мы вообще в состоянии рассказать друг другу за эти двадцать минут?
— Наверняка больше, чем кто другой за двадцать часов.
— Мы — не кто другой.
— Вот именно.
Пани Эльжбета уже давно успела жутко устать от разговора. К тому же неприятно застывшего в мертвой точке. Пани Дарья закурила. Пани Эльжбета не стала ни о чем спрашивать пани Дарью, опасаясь нарваться на новые расспросы. Ей очень хотелось взглянуть на часы, но она боялась обидеть пани Дарью. В результате в голову ей пришло нечто нейтральное.
— Вот смотрю я в окно, — сказала она, — а там все время идут какие-то люди с узелками, святить… И все взрослые. Никогда бы не подумала, что в таком большом городе… Помню, маленькой еще была, так должна была ходить с таким узелком к магазину… у нас это устраивали перед магазином… ксендз приезжал на черной «Волге»… иногда приходилось ждать его часа два… а то и дольше… потому что он обслуживал сразу несколько деревень… а я должна была надевать темно-синее платье и белые рейтузы… до сих пор ненавижу эти цвета… дети показывал и друг другу, что у кого в узелках… у всех были колбасы, яйца… зельц… даже бульон в баночке… что выглядело точь-в-точь как… ну, знаешь… (пани Эльжбета улыбнулась в свою чашку кофе) а у меня… кусочек ветчины… барашек, но не из масла, а из сахара… и расписное яйцо, пустое внутри… никому не хотела показывать… стыдно было… до сих пор… как-то не по себе. А ты носишь святить? Одна ведь живешь… — Пани Эльжбета подняла взгляд на пани Дарью. Пани Дарья явно не услышала ни одного из ее вопросов. Казалось, она целиком погружена в созерцание того, что происходит за окном (и чего пани Эльжбета не могла видеть, потому что была слишком хорошо воспитана, чтобы озираться по сторонам).
— Прости, Эля, — сказала пани Дарья каким-то изменившимся голосом, — мне надо выйти. Подождешь? Очень тебя прошу, подожди.
— Конечно, подожду, — ответила пани Эльжбета, потому что все поведение пани Дарьи показалось ей в высшей степени подозрительным (пани Дарья сорвалась с места и выбежала из кафе, оставив на столике сигареты). «А может, и не подожду», — подумала она и взглянула на часы. До поезда оставалось полчаса. К счастью, билет уже был.
Моментальное облегчение, последовавшее за уходом пани Дарьи, быстро уступило место чувству отчуждения. Пани Эльжбета успела допить кофе, даже выкурила одну сигарету из пачки пани Дарьи. Курение длилось двенадцать минут. Время шло медленно, но при всем при том слишком быстро. «Еще немного, и мне пора уходить», — подумала пани Эльжбета. У нее возникло предположение, что неожиданный уход пани Дарьи был на самом деле коварной попыткой задержать ее еще на несколько часов, а потому в глубине души она радовалась, что на этот раз не сдержит слова. К тому же ей вдруг вспомнилось, что денег у нее осталось в обрез, только на автобус. Ни грошем больше. Да и в поезде всякое может случиться. А тут, видишь ли, за два кофе надо платить. Душу пани Эльжбеты охватили страх и ярость. Ее внезапно прошил озноб. Посмотрела на плащ. «Я просто вне себя от бешенства», — вдруг подумала она и подозвала проходившую мимо официантку.
— Счет? — обрадовалась официантка.
— Нет, нет, я хотела бы еще один кофе заказать.
— Только я очень попрошу плащик в гардероб занести, — старалась быть любезной официантка.
— Да, конечно, совершенно о нем забыла, уже несу, — сказала пани Эльжбета с удвоенной любезностью и, перекинув плащ через руку, пошла в указанном официанткой направлении. Но, оказавшись напротив гардероба, лишь прибавила шагу, поскольку всего пара метров отделяла ее от выхода, метра два, как вдруг…
— Вы хотели сдать пальто? — послышался за ее спиной чей-то заспанный голос.
— Я… я… в туалет, — пробормотала пани Эльжбета и спустя несколько секунд уже сидела, недосягаемая, запершись в кабинке, а маленький никелированный замочек защищал ее от остального мира, которому лучше всего было бы сгинуть в эту самую секунду во вспышке какого-нибудь космического катаклизма.
«О боже, какой стыд, — сказала себе пани Эльжбета; одновременно до нее доходило осознание кошмарной несовместимости этих слов с размерами самоунижения, в которое она скатилась. — Как я могла совершить нечто столь низкое», — задумалась она и постепенно пришла к выводу, что вовсе не погода была тому виной и не усталость от долгой дороги, не общая раздраженность и даже не пани Дарья, а что причины этого поступка следует искать среди ее собственных, долго и тщательно шлифовавшихся принципов общения с людьми, которые на поверку оказались несовершенными, т. е. негодными; мысли проносились в ее голове, точно тяжелые артснаряды, и вскоре мировоззрение пани Эльжбеты зияло тысячью дыр, как старое проржавевшее решето, выброшенное из дома на свалку. «Человеку кажется, — думала она, — что у жизни есть некая цель, что некая нереальная, но все-таки дающая свет лампа одни дороги человеку освещает, другие прячет в тень, что все обстоит именно так, как и должно быть, и что потом наступает момент, когда человек приходит туда, куда ему и предстояло дойти, и тогда он собственными глазами видит ту самую цель, и…» (пани Эльжбета непроизвольно начала разглядывать нутро кабинки. Кабинка была чистая, блестящая, розово-серебристая, а журчанье воды в бачке лишь подчеркивало царившую в ней мертвую тишину. Лихорадочные мысли пани Эльжбеты рассеялись, и вскоре до нее дошло, что взор ее — созерцателен. Ею овладело неведомое доселе спокойствие, и она радостно растворилась в нем, познав, что такое вечность, во всяком случае — что никакая другая вечность ей больше не нужна и что весь мир, в сущности, исчез, вернее так: сосредоточился в скупом отблеске холодного света на металлической ручке).
Господь Бог чуток помялся перед входом в дамский туалет, ведь все-таки кто-то оттуда взывал к Нему, причем голосом, полным отчаяния. «А может, мне войти туда», — предложил Сатана, после чего Господь Бог смерил его строгим взглядом и вошел Сам. Вид пани Эльжбеты, чудесным образом свободный от суеты мира сего, вид просто счастливой женщины, привел Его в восхищение. Давно уже не было у Господа Бога случая видеть такой одухотворенной особы. Сейчас или никогда, подумал Он и решил предстать лично.
Мгновение спустя очам пани Эльжбеты явился мужчина средних лет, интересный, однако напрочь лишенный сексуальной привлекательности.
— Эльжбета, через тебя я хочу сделать заявление, — сказал Он торжественно и замолк. Внезапно Он почувствовал на себе ясный, внимательный и абсолютно трезвый взгляд пани Эльжбеты. Не помогли ни очки, ни старательно подстриженные усики, ни прекрасно скроенный костюм, все зря. Пани Эльжбета видела Его насквозь, во всей Его голой, с позволения сказать, божественности, она смотрела на Него без тени страха, скорее с неким благожелательным интересом.
— Вы хотели сделать какое-то заявление, — деловито напомнила она.
— Собственно, не столько заявление, сколько спросить, — сказал Господь Бог. — Как же так получается, что люди предпочитают в наше время слушать Святую мессу, совсем не заходя в костел? Костел почти пустой, а они толпятся снаружи, на улице, целыми семьями и вместо того, чтобы стоять на коленях, либо сидят на корточках, либо отвешивают поклоны. Я было испугался, что они таким образом хотят выказать пренебрежение, но, заглянув в их сердца, ничего подобного там не нашел.
— Думаю, — сказала пани Эльжбета, — что эта проблема не подвластна простой категоризации. Порой, быть может, на самом деле имеет место пренебрежение, но я бы назвала это своеобразной демонстрацией непричастности ко всему тому, что происходит там внутри. И это при принципиально положительном отношении к богослужению как культурному явлению. Люди идут на богослужение из соображений приличия, часто также из уважения к идеям Господа, но сам обряд, контакт со сверхъестественным миром, мне представляется чем-то непристойным. В костеле им не по себе, у них нет потребности совершенствоваться, стать другими, преодолеть границы того времени и того пространства, в которых они помещают свои устремления и воспитывают детей. Поэтому они участвуют в богослужении, но пассивно, оправдываясь, что, мол, предпочитают пение птиц воплям органиста или что должны время от времени посматривать, не угнали ли их машину, и это — их персональный вспомогательный ритуал, сделавший их участие в мессе скорее символическим, чем реальным, освободивший их от обязанности чувствовать себя ответственными за Бога, за ксендза, за все метафизические конфигурации мира. Это позволяет им сохранить уверенность в себе. Сюда еще добавляется опасение оказаться в смешном положении, если случайно окажется, что Бога нет…
— Но ведь Я есмь, — робко заметил Господь Бог.
— А где гарантия, — пошутила пани Эльжбета, — что и через двадцать минут Вы все еще будете существовать? Таков уж этот наш образ жизни, что относительно Вас можно иметь лишь философскую уверенность, что, впрочем, не исключает факта Вашей абсолютной непредсказуемости на практике.
— Действительно, — улыбнулся Господь Бог, — я и забыл, что ты у нас интеллектуалка.
— И притом индивидуалистка, — улыбнулась пани Эльжбета.
— Только никогда больше не пытайся стать интриганкой, — сурово сказал Господь Бог и исчез.
Пани Эльжбета почувствовала себя обманутой. От разговора с Господом Богом она ожидала гораздо большего. В сущности, происшедшее вообще трудно назвать разговором, максимум — увертюрой к настоящему обмену мнений, подумала она, потому что ее переполнял оптимизм и уверенность в свои силы, и сейчас она весьма охотно провела бы вечер в дискуссиях с Господом Богом по всем проблемам современного мира. Ну что ж (вспомнила она о своем достойном сочувствия положении), прежде всего надо освободить кабинку, а то придет сейчас кто-нибудь и начнет ломиться.
Официантка стояла у входа в зал и разговаривала с гардеробщицей. Заметив выходившую из туалета пани Эльжбету, женщины прервали разговор и принялись бесстыдно ее разглядывать. Пани Эльжбета подошла к ним. — Прошу прощения, — сказала она, — я плохо себя почувствовала, сколько я должна за туалет? — И, не дожидаясь ответа гардеробщицы, обратилась к официантке: — Давайте я и вам сразу заплачу, сколько причитается за все кофе?
— Вы ничего не должны, за все уже заплачено, — ответила официантка, — пожалуйте к столику, кофе ждет.
Пораженная и озадаченная, пани Эльжбета вошла в зал. Внезапно сообразив, что держит плащ на руке, она хотела было вернуться и сдать его в гардероб, как вдруг увидела, что за ее столиком сидит пани Дарья и, не обращая внимания на то, что все на нее смотрят, плачет, размазывая по лицу грязь черных слез.
31 июля 1994 (в поезде)
3 августа 1994 (на диване)
РЕЗКОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ СЛУХА традиционный рассказ
1. Как раз читая Вирпшу (а значит, не случайно, поскольку держал в руках Ars peccandi), я вспомнил сон, о котором рассказал Монике Шевц, когда та пришла ко мне, а я спал после электрокоагуляции. То есть все-таки внутренняя работа над этой историей продолжается, изводит меня, а что поделаешь, думаю, в конце концов расскажу ее и вам, рассказал же я ее уже Франтишке (в письме), Рафалу рассказал и Радеку, а все что-нибудь новое да и припомнится, как будто ее вообще пока не рассказывал, а посему, рассказывая ее теперь для всех для вас, я не упущу ничего и сотворю из нее некую Очень Важную Историю, и тогда, может быть, она от этого во мне съежится, захиреет и испустит дух, что было бы лучшим исходом.
2. Что ж, начнем с этого самого сна. Мне снилось, что плыву я на корабле по океану и налетает буря, страшный ветер, волны. На борту суматоха, ужас. Постепенно я начинаю понимать, что нам грозит крушение, и тогда меня охватывает абсолютно реальное чувство близкой смерти; страх, что не успею внутренне подготовиться к ней. Тем временем морские волны громоздятся, становясь явно выше нашего корвета, швыряют его как щепку, что я могу самолично засвидетельствовать, ибо видел все это как бы с высоты, хотя, конечно, постоянно находился на палубе, причем все более и более парализуемый пониманием (уж слишком натурально вздымались волны), что кораблекрушение означает для меня гибель. В то же время точка, с которой я все это видел, поднималась все выше и выше и мой взор охватывал все большее и большее водное пространство, пока наконец ему не открылись берега, но отнюдь не суша, а как бы края большого аквариума, отчего страх мой сделался еще больше, потому что в аквариуме плавал самый настоящий большой парусник со мною на борту. Я находился на захватывающей дух тонкой линии, становившейся все тоньше и тоньше, но пока державшейся; водные валы нарастали, судно все так же противостояло их напору, и тут до меня дошло, что я могу не беспокоиться за это равновесие, что это в принципе мое видение бури, что я смотрю на нее как на свое собственное творение, и хотя мой страх стал ничуть не меньше, мне уже было все равно, угомонится ли стихия. И так бы все это длилось и длилось, до тошноты, если бы стук Моники Шевц не вытолкнул меня из сна; но теперь половина из вас скажет, что и у вас тоже был такой же сон, или похожий, с чем могу согласиться, но ручаюсь, что никто, кроме меня, не пережил той истории, которая один к одному отразилась в этом сне, впрочем, как и многие другие истории, которые с нами либо уже приключились, либо еще приключатся.
3. На слишком много (сна) в эту ночь я не рассчитывал, что вполне объяснялось предстоявшей мне утром электрокоагуляцией, но никогда бы не подумал, что будет аж так плохо. Я как раз получил на кассете запись диска Сюзи «Ноктюрн», само название которого предполагает прослушивание в кромешной темноте, ради чего я подождал, пока Ярек Клейнберг наверняка заснет, и тогда я выключил мою лампу и запустил центр. В принципе не было смысла тешить себя надеждами на быстрое засыпание, а потому я сразу настроился на 75 минут ярких художественных впечатлений (тем более что Роберт, когда мы возвращались из Парижа, говорил, что это высшее достижение артистки) и лег на кровать, естественно, в позе покойника, чтобы звук мог беспрепятственно доходить до обеих ушных раковин. К сожалению, я обманулся, пусть не слишком позорно (хотя в ночи все вырастает до гигантских размеров), зато сразу, во вступлении, как только раздались звуки Восславления избранницы из Весны, что на диске какой-нибудь другой исполнительницы, рангом пониже, может быть меня и завело, но не в случае с Сюзи, которая и сама в состоянии создавать вещи прекрасные, в своем роде, конечно (но в том-то все и дело, чтобы каждый — в своем). Кроме того, диск представлял концертную версию, а значит, песни по большей части уже знакомые, разве что исполнены крикливей плюс к тому глупости с наводками и завязками, очень даже забавные, впрочем, всколыхнувшие давнишние воспоминания, связанные с проигрыванием других наводок и завязок, казалось бы, совсем забытых, а тут — на тебе, очень даже убедительных, готовых растечься в абсолютно неожиданных направлениях, так что в конце концов я, можно сказать, начал засыпать, когда до меня донесся какой-то подозрительный шорох. Я приоткрыл глаза, и передо мною возникло видение голого Ярека, пытающегося дотянуться до музыкального центра, чтобы убавить звук. Виду я не подал, но меня этот инцидент бесповоротно вывел из сладкой полудремы (много ли нужно ночью, чтобы человека охватило бешенство), в результате чего я с обостренно-озлобленным вниманием дослушал до конца первую сторону, а потом — сам парень виноват — перевернул на вторую, само собой немного прибавив звука. Постепенно мною завладевала все большая злость на Ярека, потому что сон — столь желанный в это время — отлетел от меня напрочь, а в голову полезли воспоминания о разных неудобствах и страданиях, вызванных последней электрокоагуляцией, проецируясь на следующий день и наполняя его тревогой и отвращением. Впрочем, и они меня в конце концов усыпили бы, если бы вдруг не завыли какие-то ужасные вонючие негры, предательски пущенные Яреком, которому этого, видимо, показалось мало и он зажег еще и свет, заварил себе чаю, оделся и, достав какую-то книгу, уселся за стол. Что мне оставалось делать; я тоже взял книгу и начал читать. Странно, конечно, не заговорить друг с другом в такой ситуации, ведь все могло кончиться плохо. Зато как только негры исчерпали свой репертуар, я орлом налетел на аппарат и тут же поставил Эрика Сати, результат не замедлил сказаться: я не дождался даже второй Гнозьены.
4. Жажда истины задает вопросы истине. Истина задает вопросы действительности. Действительность не отвечает истине. Жажда истины впадает в ярость. Истина ничего не может изменить.
5. Электрокоагуляционную процедуру я вспоминаю как сквозь туман, да и ехал я на нее через стелющийся туман, под колесами велосипеда шелестели листья, а на плейере «Французские сюиты» для клавесина Баха. Все в неясной разреженной атмосфере семи часов утра. В дороге я думал о неком загадочном сходстве, которое роднит все мелодии, сочиненные одним человеком (если он действительно великий композитор), что можно заметить как у Баха, так и у Йоко, не говоря уже о беспрестанном моцартовском пиликанье по одному и тому же месту при видимости богатства. Будто сочинительство сводится к воспроизведению (с большими или меньшими отклонениями) той единственной темы, которую каждый берет в свое собственное пользование и носит в себе, а какой-то внутренний императив не позволяет признать собственной ни одну из мелодий, так или иначе не соответствующую этому образцу. Когда я ждал в очереди на процедуру, в коридор вошла женщина в белом халате и из всего сидящего там угрюмого народа выбрала именно меня, чтобы я помог ей открыть огромную бутыль с мутной жидкостью, что у меня в общем-то получилось, но что-то я при этом сделал себе с рукой, и это было худшее из происшедшего со мной в то утро, потому что до самого вечера я ощущал неприятные последствия. Зато электрокоагуляция на этот раз прошла практически безболезненно, правда, когда я вошел в кабинет, я перепутал санитарку с докторшей, после чего ожидал адской мести со стороны последней, она же подошла к этому случаю с величайшей деликатностью, так что даже раствор у меня не растекся; дальше я должен был не задерживаясь идти на английский, но решил хоть на этот раз остаться верным ранее принятому решению, короче: спать мне хотелось просто по-черному, вот почему дома меня смог разбудить только стук Моники Шевц.
6. Даже если бы Бытие было действительно Бытием и, оснащенное всеми атрибутами Бытия, существовало только как единственное и неопровержимое Бытие, да если бы еще удалось установить, что так есть на самом деле и иначе быть не может, то тогда сразу же надо было бы принять во внимание, учесть нечто такое, что этим Бытием не является, нечто не обязательно важное, но в то же время и не такое, на чем могли бы поломаться идеально подогнанные друг к другу шестеренки Бытия, ну и как же возможно представить Бытие без чего-то такого — сбоку, сзади (может, даже внутри) —?
7. Впрочем, Моника пришла главным образом к Яреку, с чем я, человек добродушный и по природе ко всем доброжелательный, конечно, сразу согласился. А так как Ярека не было (хотя, когда я вернулся с процедуры, он еще спал), и так как приближалось время обеда, и так как у него был выкуплен талон, и так как он не дурак пожрать, то не подлежало сомнению, что он вот-вот явится; мгновенно провернув всю эту мысленную операцию, я предложил Монике посидеть, пока я оденусь, организую чай и т. д. и т. д.; я вылез из постели, Моника удивилась, почему у меня на одной ноге носок, пришлось рассказать ей об электрокоагуляции, а потом (сокращаю, сокращаю) в общем скажем, что уже пришел Ярек, смерил ситуацию мрачным взглядом, пропущенным через очки, а я к нему сразу с такими вот словами: Видишь ли, Ярек, у Моники к тебе какое дело, думаю, что ты должен согласиться. И к Монике: Моника, скажи Яреку, с чем пожаловала. Тогда Моника начала тоном, исключающим какие бы то ни было сомнения, излагать свое в принципе довольно неясное дело: ей бы хотелось утром быть ближе к поезду, и поэтому она предпочла бы эту ночь провести в Жачке, что, в свою очередь, зависит от того, поедет ли Ярек в эту свою Новую Дембу и освободит кровать или нет. А Ярек, может, и поехал бы, ему даже лучше сейчас автостопом, чем утром на поезде, потому как и денег в обрез, да вот только темно уже делается и неизвестно, как лучше будет — вдоль Вислы ехать или через Тарнув. Оно конечно, вдоль Вислы, кажется, ближе, но там вроде машин меньше проезжает. Ярек посмотрел на нас, как будто мы были в состоянии подтвердить или опровергнуть его догадки, а потом впал в глубокую задумчивость, и стало совсем непонятно, о трассе ли вдоль Вислы продолжает он думать или уже о чем-то совершенно другом, как это с ним, Яреком, бывает, когда от него ждут конкретных решений. В итоге Моника, уже собравшаяся уходить, заявила, что в любом случае она придет сегодня вечером посмотреть, как решится вопрос. Тогда Ярек вдруг выдал, что если ей это так важно, то он может пойти спать к брату; Монике эта идея очень понравилась.
8. Как происходит исполнение наших молитв, так называемых молений о ниспослании ч.-л. В принципе они суть констатация такого положения дел, какое мы по тем или иным причинам не в состоянии себе представить, т. е. возникновение такой ситуации без сверхъестественного вмешательства представляется нам невозможным. Но вот когда наши молитвы вдруг исполняются, всегда случается нечто такое, чего мы не предвидели и что не позволяет нам воспользоваться новой ситуацией, т. е. радоваться исполнению желаний. Может, так проявляется неприязненное отношение Божества к приумножению чего-либо, даже если оно возникает только в голове и только как констатация невозможности. При всей так называемой доброй воле, т. е. воле обратить внимание на эти наши желания. Хотя возможно, что это всего лишь свойство ума выискивать как можно большее количество выполненных желаний и видеть их даже там, где они являются своей собственной противоположностью — если вместо радости они несут только грусть и замешательство.
9. Ярек спросил, отобедаю ли с ним, я, естественно, да; спустились в столовую, был выбор — клецки или макароны с капустой, я скоренько сообразил, что берем макароны; Ярек согласился, но вроде как с сожалением, хотя на самом деле не знаю, чего тут жалеть: девушку на раздаче удалось уговорить, и она отработанным энергичным движением подбросила нам еще немного на тарелки, а потом, уже за столом, Ярек заявил: «Достала меня вчера эта твоя Сюзи».
После обеда я взял велосипед и поехал покупать IX Симфонию Брукнера в исполнении ЧСО и Шолти, о которой думал вот уже два дня практически беспрерывно, поначалу я даже намеревался отложить вожделенную покупку до очередной зарплаты, но, видать, немилы мне удовольствия, купленные ценой самоистязаний, а кроме того, это был единственный повод, ради которого я был готов выйти из дома на воздух. Вот так, уже через пару минут я возвращался с моей любимой в сумке, хотя радость все время омрачалась мыслью о том, что вместо вожделенного спокойствия я заполучу себе на голову Шевц и Клейнберга одновременно, причем до самого завтрашнего утра. Однако, придя на наш этаж, я поразился какой-то неестественной тишине в коридоре. Открываю дверь, а на столе шоколадная обертка, на которой такой текст: «Поехал домой. Вернусь в понедельник. До свидания! Желаю веселого трупа». Я обалдел (и думаю, что каждый, кто хоть немного знает Ярека, тоже обалдел бы) (впрочем, я тоже знаю его лишь чуть-чуть, и, быть может, все от этого), я начал бестолково оглядывать комнату и соображать, как это Ярек мог так быстро собраться уехать, но так и не смог представить этого. Однако, придя в себя, я поскорее вставил Брукнера в играющую машину и принялся переживать этот отчаянный, жуткий, неземной вопль, растворяясь в нем без остатка, отдаваясь ему на съедение и на погибель. Увы, и этого мне не было дано: примерно где-то на середине Адажио соседка слева, ведущая с нами бесконечные музыкальные войны, ни с того ни с сего начала вбивать гвоздь, вбивает и вбивает, а как справедливо где-то сказал профессор, кажись, Шеффер, брукнеровские аккорды плохо звучат на фоне отзвуков мира; я уже был порядком взвинчен, когда сообразил, что стук идет, похоже, со стороны двери, пришлось встать и выглянуть, а там Ярекова баба — Малгоська. Ну я начал вроде как оправдываться, что, дескать, кто-то раньше гвоздь забивал и поэтому я не был до конца уверен. А она, что это, мол, ничего, да что за прекрасная музыка, наверняка какая-то современная. Во всяком случае, говорю, только что приобретенная, — а она еще больше восхищается, что у нас есть прекрасная музыка, Ярек тоже ее ставил, она на этого Ярека как на икону (а он, гад, ее ни чуточки не любит), пирожное ему принесла. Только вот, объясняю, нет Ярека, домой поехал. Так, может, она только зайдет и сигарету выкурит. Я сделал потише рев этот возвышенный, прямо-таки нечеловеческий, чтобы дать гостье выговориться; не буду из-за отсутствия места распространяться, но ни о ком еще мне не случалось узнать так много за такое короткое время. В итоге девушка ушла, оставив мне пирожнице, я же подумал, сохранить его, что ли, до прихода Шевц, но сначала развернул, чтобы посмотреть, каково оно, ну а поскольку оказалось с кокосом, я его тут же и съел.
10. Тут я немного прерву ход повествования, дабы вплести в него другое повествование, оставаясь (в какой-то мере) в согласии с хронологией, ибо поводом, из-за которого Ярек поехал домой, был Праздник Всех Святых, день, в который я из года в год хожу с цветочками на Раковецкое, где лежит (как когда-то отметила Виолетка) тема моей магистерской работы и притом — один из тех немногих духов мертвых, с которыми все еще можно осмысленно поговорить (хотя с моей стороны это явно узурпация), а именно — Кароль Ижиковский. На этот раз посещение Кароля совпало у меня с переживанием чуть, можно сказать, мистическим, исключительно созвучным всему тому, о чем тут шел разговор. Так вот, желая непосредственно перед самым посещением немного интеллектуально пообщаться с Каролем, я взял его «Дневник», открыл наугад и наткнулся на фрагмент, который я до сих пор не знал (о горе мне, исследователю!) или же основательно подзабыл, что, однако, представляется мало вероятным, ибо содержание просто потрясает. Короче, оказавшись на отдыхе в Жегестове, Кароль занимается ловлей доносящихся отовсюду «шумов», скрупулезно их подсчитывает, и все они (может, кроме лая собаки, который воистину относится к самым отвратительным звукам) просто смешны: кто-то кашлянул, кто-то ложку выронил, корова с мерзким колокольчиком. А читатель ждет какого-то коренного перелома, но пока все никак. К столу Кароля, кажется за завтраком, подсаживается женщина (впрочем, сразу описанная автором подозрительно подробно) и как бы невзначай говорит о наполняющих пансионат шумах. Тогда в Кароля (который до той поры строил из себя угрюмого молчуна лишь ради того, чтобы к нему не приставали) как будто бес вселяется; он сразу предлагает ей сотрудничество: она будет ночью отслеживать тех, кто шумит, а он, утром, получив от нее список фамилий, всех их «пропесочит». Дама, почувствовав себя (впрочем, совершенно непонятно, с чего бы вдруг) задетой этим предложением, ответила, что если бы не его седины (а ему как раз тогда стукнуло шестьдесят), то немедля бы «дала ему в пятак». Словом, катастрофа. У Кароля язык отнялся (что в его случае было особенно легко — заикался всю жизнь). Завтрак испорчен, отпуск испорчен. К обеду попросил накрыть себе отдельный столик, что, впрочем, не вызвало среди отдыхающих того замешательства, на которое он рассчитывал, и много еще приправленных горечью вечеров провел любимый мой поэт и романист в тиши уединенья (ибо шумы перестали волновать его или превратились в «досадно смущающее обстоятельство») своей комнатушки в обдумывании адекватной мести. И придумал-таки! (Заинтересовавшихся отсылаю к соответствующему фрагменту «Дневника».) Зато на этот раз меня, стоявшего над его могилой и курившего сигарету, обуревали чувства, которые можно назвать по крайней мере смешанными.
11. (партия пениса) Шевц так долго не приходила, что я в конце концов начал готовить ужин, и как раз тогда она явилась. В качестве музыкального фона мы пустили «Шута» (семерых шутов перешутившего), в перерывах между нарезанием, намазыванием, опять нарезанием, накладыванием я пытался донести до Моники событийную канву балета, при этом обнаружилось, что сам помню оттуда с пятого на десятое, в итоге мы решили заглянуть в «сопровождавшую серебряный диск книжечку», где все было точно изложено, так что мы чуть ли не подавились, читая ее и смеясь во время еды (особенно понравилась нам сцена с козой); чтение дало начало разговору о семантичности музыки или, вернее, о ее отсутствии (и как тогда писать кандидатскую на предмет, которого не существует), потом пришла очередь десерта (Моника принесла), а вместе с ним — новый диск Уэйтса, когда же и он кончился, я не утерпел и похвалился новым приобретением. Тогда мы решили устроить торжественное прослушивание, откуда-то услужливо вынырнула свеча и, поставленная на сквозняке, стала отбрасывать на стены беспокойные тени, в то время как душераздирающий, ни с чем не сравнимый рев ринулся в комнату и всецело завладел ею. Итак, на этот раз уже с силой катаклизма (по крайней мере, так мне это виделось) снова раздался какой-то стук. В дверь. С превеликой неохотой пошел я открывать дверь. Паренек. Спрашивает, соображаю ли я, что сейчас ночь. А поскольку ничего такого я сейчас не соображаю, смотрю на часы: действительно, скоро 12, тоже мне ночь, подумал я. А паренька я спросил скучающим тоном: «А ты что, живешь здесь или как?» А он: «Заткни, мужик, свое радио, иначе поговорим по-другому». Выходит, прислала его соседка, двух мнений быть не может, потому что со всех сторон у нас — соседки. Для спокойствия я согласился немного убавить звук, на тахту я больше не садился, сел к столу, а чтобы скрыть раздражение, начал играть кусочками воска, оплывшего со свечи. К счастью, внезапно прогремело Скерцо точно сто слоновьих хоботов, а может, и сто ангельских труб, душу мою унося в пределы, недоступные нервам. А когда наконец Адажио, эта святейшая музыка, начинающаяся воистину небесным пением (и которая ужасным, паскудным, невыносимым воем должна закончиться), так вот, когда первые такты, точно повествования сразу обо Всем или же рассмотрение таких проблем, которые уводят далеко за границы любой нашей проблематики, только-только начали разворачиваться, просветляться, снова стук, снова паренек; ну не лежит у меня душа проблемой его заниматься, несмотря на то, что на этот раз он жаловался, что, дескать, спать не может (причем стоит совершенно одетый, что в данном контексте лишало его правдоподобия), я попытался объяснить ему, что уже и так тихо сделали и что тише не получится, потому что тогда мы сами ничего не услышим, но уже не было никаких сил с ним договариваться (разве что по-другому, чего я предпочел избежать, несмотря на росшее во мне остервенение), разговор надо было немедленно прекратить, тем более что там Брукнер звучит, впустую, но я не умею обрывать разговоры, а он сюда пришел, видать, по жизненной необходимости, так и стояли мы в дверях, пререкались, пока вдруг паренька не прорвало:
— Молодой еще со мной спорить.
— Да ну, — вырвалось у меня (глупо), но тут же я сообразил, что в качестве «оскорбленного» (в том прекрасном школьном смысле) я теперь имею право закрыть дверь у него перед носом и перестать им интересоваться; когда я вернулся на тахту, Моника сказала мне: «Сопляк ты», чем неожиданно охватила множество семантических полей.
Никогда еще я не слушал это Адажио так страстно, с таким пристальным вниманием, наслаждаясь аж до самых глубин естества каждым артистическим выпердом (как сказал бы Павлик). А когда воцарилась тишина, мы с Моникой решили, что ее ничем не следует нарушать, равно как и темноты, оставленной свечкой, и так, блуждая ровно адские мары, мы стали готовиться ко сну. Яркина постель, ясно дело, все еще была не прибрана. Моника, привычная спать где попало, готова была согласиться и с таким положением дел, и тогда меня что-то как будто дернуло рассказать ей об одеколоне «Фиорд», которым Ярек каждый вечер, после того как выключит свет, мазал свои красные прыщи, не давая мне заснуть.
— Может, он не хотел, чтобы ты знал, как надо мазать, — сказала Моника, а секунду спустя принялась рассуждать, не обидится ли Ярек, если застелить ему постель. На что я с полной уверенностью ответил, что совсем напротив, что будет только рад, что вот уже неделю как сам собирается сделать это да все никак собраться не может. Когда я закончил чистить зубы, кровать Ярека уже была идеально застелена, Моника в пижамке (ей надо было выйти в туалет, и мы опасались, не караулит ли за дверью паренек с ножом, но, видать, терпенья у него не хватило), так что мы вскоре уже могли отходить ко сну, что Монике, кажется, удалось, я же в какой-то момент услышал, как что-то долбануло в стену с моей стороны, т. е. из комнаты упертой соседки. Снова долбануло. И снова. Совсем сдурела, подумал я; тем временем к грохоту добавились воздыхания обоего пола, что вполне удовлетворительно объяснило особую неприязнь парнишки к музыке Брукнера.
12. Если бы Бог был таким, каким мы хотим, Он должен был бы уметь одновременно сохранять все то, что происходит, и устранять то, что на самом деле не имеет основания для бытия (← отпущение грехов). Правда, может показаться, что регистрация абсолютно всего сама по себе является тотальным аннулированием, но это только в соответствии с нашим навыком мыслить статистически. Однако перед лицом всеохватной природы Бога тотальная отмена чего-либо представляется невозможной, кроме того, она приводила бы к непреодолимым (с нашей точки зрения) трудностям в Общении Святых на Страшном Суде. Разве что возможна Абсолютная Позитивность и Бог когда-нибудь сведет этот мир к ней. Вот только в состоянии ли мы сказать о каком-нибудь мгновении нашей жизни, что оно было абсолютно позитивным? А может быть, все-таки мы, по кончики волос погрязшие в этих наших прекрасных негативностях, может быть, мы ни о чем не догадываемся, а тем временем какой-нибудь там миг, значащий на первый взгляд немного, приносит нам несметные богатства и оправдание на всю загробную жизнь.
13. (что-то всегда для чего-то). Когда я проснулся, Моники уже не было, оставила для Ярека записку про постель. Пару часов спустя, когда я выходил в город, то заметил еще один листок, крепко прилаженный к двери и такого вот содержания: «Предупреждаю вас в последний раз. Еще один такой финт, как прошлой ночью, и вы заставите меня обратиться с жалобой в администрацию. Соседка». Мне сразу захотелось написать ей, чтобы и она включала какую-нибудь музыку, по крайней мере во время своих соитий, но у меня не было на чем, за клочком бумаги пришлось бы специально возвращаться в комнату, а я и так уже опаздывал, лишь зазря разволновался с самого утра, потом об этом вроде даже забыл, и только днем, шастая по городу и делая покупки, я сообразил, что с какого-то времени у меня в глубине души слагаются все более и более хамские варианты письма к соседке, на чем я и был сосредоточен, пока вдруг не услышал, как кто-то окликает меня по имени, этим кем-то оказался Рафал. Он только что заметил меня, и вот мы, изумленные точностью шагов Провидения, принялись с сугубой скрупулезностью устанавливать, сколько же разных причин должно было совпасть, чтобы свести нас в такой неожиданной встрече: я должен был забыть купить марки на почте, у Рафала должны были кончиться сигареты, а что до этого? Стоя в очереди на обед, мы все еще продолжали свои вычисления, пока наконец Рафал не вспомнил, что утром у него промелькнула мысль обо мне, так что же это, если не предчувствие? В подтверждение своей догадки он рассказал об аналогичном совпадении, имевшем место несколько дней назад с Доросей. Как бы там ни было, Дорося не часто приходит на ум и не слишком часто с ней можно встретиться, особенно в Гуте. Однако для меня это было не слишком убедительно: именно в тот день я совершенно ничуть не думал о Рафале, предавшись целиком мыслям о соседке, которую тем не менее я так и не повстречал. Подвожу итог: возможно, такие предчувствия и существуют, но как-то трудно отделить их от обычных мыслей, а потому польза от них, самое большее, в их эстетической ценности. Разговаривая так, мы успели перейти ко второму блюду, когда в высшей степени неожиданно возник Мариуш, а вместе с ним — опасность перевода разговора на значительно более высокий уровень, что во время обеда мне не очень-то было кстати, однако по счастливой случайности Мариуш галантно заговорил со мной об одиноко проведенном в опустевшем Жачке Празднике Всех Святых. Эта тема упала на меня буквально как снег на голову, поэтому я ответил (предательски тайно рассчитывая на помощь Рафала), как мне прошлым вечером в туалете показалось, что вернулось Чудовище и поджидает меня за дверью. Рафал не подвел и тут же начал рассказывать о своих собственных встречах с Чудовищем, внушая мне при этом, что я тоже должен был слышать Чудовище, как оно скулило, что, естественно, неправда, ну и начали мы препираться, а потом уточнять события той ночи, когда мы хотели захватить врасплох запертое в уборной Чудовище, а оно, видимо услышав наши шаги, затаилось, не издав ни единого звука. Потом пришла очередь моего самого страшного приключения (сейчас оно уже сильно поблекло в связи с тем, что изложено в параграфе 15): случилось мне пойти в душ, соседняя кабинка была занята, и сквозь шум льющейся воды до меня из нее долетал разговор двух людей. Спустя какое-то время все стихло, показался паренек в халате, выходивший из душевой (при этом все время, пока шел, он оглядывался и как будто кому-то махал рукой). Внешне все нормализовалось, вот только мое любопытство дошло до апогея, а вопрос, один я в этой душевой или нет, не давал возможности спокойно мылиться. В конце концов я не выдержал и заглянул в ту кабинку — она была пуста.
Так обед подошел к концу. Мариуш не хотел идти с нами наверх: присутствие Рафала (которому я в лифте вкратце поведал о переживаниях прошедшей ночи) изменило мою точку зрения на проблему соседки и письма к ней: темное в своей основе и мстительное предприятие трансформировалось в задачу скорее шутейную, чисто литературного свойства, ибо виртуальным читателем того, что я натюкал на машинке сразу, как только вошел в комнату, была не соседка, а Рафал. «Дорогая (хоть и несносная) Соседка! — писал я. — Не лишай меня единственной радости моей сумрачной жизни! Поскольку я не вставлял тебе палки в колеса, когда ты последней ночью ерзала, биясь чем-то (может, головой?) о стену, то и ты могла бы наконец прекратить устраивать мне эти свои бессмысленные скандалы. С христианским приветом — Сосед». Далее следовала подпись. Прочитав это, Рафал заявил, что, по сути, в споре с соседками я абсолютно не прав, но письмо, по причине его художественных достоинств, должно быть повешено. Что и было сделано. После чего, однако, закуривая сигарету, я заметил, что у меня дрожат руки, и разволновался еще больше. Будучи в депрессивном состоянии, я задумался, какая такая внутренняя необходимость заставляет меня пускаться в пошлые разборки с соседками вместо того, чтобы договориться с ними или даже подружиться.
— Теперь надо ждать, что ты накликаешь на себя гнев того ее паренька, — сказал Рафал. — Может, будет лучше, если он сразу придет, пока я здесь.
— Думаю, что он спокойно справится с нами обоими, ты только зазря получил бы по морде.
— А может, как увидит, что нас двое, то не посмеет.
Вот такой мы вели самонакручивающийся разговор. В связи с ожидавшимся появлением Сколяса на Брацкой Рафал все-таки вынужден был выйти, я тоже долго не смог дома и, только сидя в теплом и безопасном зале кинотеатра «Ванда», представил, что произойдет: возвращаюсь я домой, у дверей ждет паренек со сжатыми кулаками, мне, конечно, от него достается так, что после того, как я очнусь, я уже слышать не хочу ни о какой музыке, музыка начинает мне казаться чем-то отвратительным, я начинаю интересоваться политической жизнью страны, вступаю в какую-нибудь политическую партию и постепенно, употребив в дело весь свой интеллект, становлюсь ее видным деятелем, в конце меня назначают заместителем министра, и только одна во всем этом закавыка: надо будет как-то сбыть эту играющую машину и компакты, а особенно кассеты (кто у меня купит столько кассет???).
14. Эта история произошла со мной, и я вовсе не собираюсь приуменьшать в ней своего участия. Участие остальных лиц, а также мира с его пространственно-временными подробностями — чисто случайно; до того, что со мною происходит, довожу я сам, но мотивы, которые мною руководят, я понимаю слабо, причины поведения других людей я не понимаю вовсе. Впрочем, что бы оно мне дало, такое знание, да и нет никаких гарантий, что я вел бы себя по отношению к ним лучше, невозможно о каждом думать в соответствии с его собственными категориями; если бы так на самом деле начать систематически перепроверять, передумывать, подстраиваться, то человек в итоге от этого одурел бы; о других мы знаем столько, сколько на данный момент нам нужно, а делаем то, что в данный момент, в данной ситуации нам (более или менее) подходит. Потом приходят Добро и Зло, подсаживаются к нам всегда в самый неподходящий момент и молчат. Но это уже другая тема.
15. Следующий день прошел на удивление спокойно, Ярек, который тем временем вернулся из Новой Дембы, без удержу гонял свой панк-рок и больше ничего. Только когда вечером я выходил в туалет, со мной произошел такой неприятный инцидент: отсидев положенное, выхожу, а тут, почти что под дверью, женщина какая-то, жуткая страшила, да еще смотрит на меня злым взглядом. Мне это показалось довольно странным, но ничего, иду дальше и вдруг слышу:
— Ты мог бы перестать свистеть. Там двое маленьких детей спят. — И только в этот момент я сообразил, что на самом деле что-то насвистываю.
— Раз спят, значит, им свист мой не мешает, — ответил я, потому что меня слегка взбесила ее манера ставить вопрос.
— Но мне не нравится, что ты свистишь в такое время.
— А если ты мне вообще не нравишься, то какой из этого вывод? — ответил я и вернулся в комнату весь разбитый. А потом мы легли спать, относительно рано, сразу после 12, а чтобы легче засыпалось, я тихонько пустил «20 взглядов на лик Иисуса-Младенца», ночь шла своим чередом, пока вдруг кто-то не включил свет. Я перевернулся на другой бок и попытался спать дальше, думая, что у Ярека появились очередные литературные задумки, но услышал что-то вроде разговора. Открываю глаза и вижу: над Яреком стоят два громадных бугая, в каждом трех таких, как мы, можно поместить. Ярек, как это обычно бывает, просыпается с огромным трудом, а тем все по барабану, знай только сыплют своими зловещими вопросами:
— Агату знаешь?
— …
— А ее парня?
— Какую Агату?
— Не пизди, пацан, его-то ты должен знать, тебя чего, к начальству никогда не вызывали?
— А как фамилия?
— Кончай пиздеж, Агату он не знает!
В конце они бросают его, все еще не соображающего, что происходит, и начинают шнырять по комнате, осматривать, постоянно что-нибудь берут, вертят в руках, разглядывают, все с места на место перекладывают, как будто новый порядок вводят. Демонстрация силы, думаю я, террор. Один даже мою карликовую тыкву взял, лежавшую для украшения интерьера на столе, и жрать ее принялся. В конце я пересиливаю себя и спрашиваю, чего они, собственно, хотят, а они как будто только сейчас заметили мое существование, тот, что покрупнее и поагрессивнее, подошел ко мне:
— А ты че, пацан, чего-то ко мне имеешь?
— Вы, видимо, пришли сюда по какому-то делу…
— Тебе что-то не нравится? Может, ты хочешь нас отсюда выставить? Ты Агату знаешь? И т. д.
Ярек тем временем уже встал и ведет какие-то переговоры с тем вторым. И он отзывает того, что у моей постели, неожиданно удается их довести чуть ли не к самой двери, а там новый прикол: они, дескать, наши гости, а мы их выпроводить хотим, мы вообще соображаем, что так себя не ведут?
— Очень вас прошу выйти, — подал голос Ярек. Такие необычные в его устах, ставшие результатом некоторой внутренней борьбы, эти слова прозвучали громом средь ясного неба; гости еще что-то там бубнили, но уже через две секунды были за дверью, вот только Ярек в этот момент не выдержал, видно, напряжение с него спало, и он на прощание сказал, скорее даже, прошептал, причем не столько им, сколько самому себе:
— Отваливайте.
Гости сразу же пошли на попятную, а здесь уже Ярек дверь держит, только велит мне найти ключ, а ключ, как назло, не хочет находиться, лихорадочно ищу, наконец нахожу, а с другой стороны двери все сильней напирают, но общими усилиями нам удается как-то дожать ее и повернуть ключ в замке. В коридоре крик:
— Если вы мне сию секунду не откроете, то я вам эту дверь разнесу. Считаю до десяти! — и на самом деле считает.
— Может, открыть ему? И тогда он успокоится, — говорит Ярек.
— Да ты что, — мне было жаль упускать успех. Я залез обратно в постель, закурил (одну из пяти сигарет, оставленных Рафалом), и мне сделалось все равно.
— Надо ботинки надеть, — говорит Ярек и вправду надевает, хоть из остальной одежды на нем лишь синие трусы и мятая майка. Самым приспособленным для борьбы предметом в нашей комнате оказывается камень в форме сердца, подаренный мне Пашчаком в героический период нашей дружбы. С камнем в руке Ярек стоит у двери, готовый в любую минуту врезать тому по башке (если сам не получит по башке дверью); все это вместе делается невыразимо возвышенным, т. е. до такой степени гротескным, что становится просто возвышенным. Тот другой разбегается и бросается на дверь всей тушей, продолжается все это, тянется невыносимо долго, сигарета выкурена, следующую жаль начинать, вокруг ручки появились трещины, неожиданно Ярек в мгновение ока принимает решение, открывает дверь, выходит. Тишина. Я не знаю, что делать, да и надо ли вообще что-либо делать (видимо, в моих генах не была предусмотрена реакция на такие ситуации), не ставить же Марылю Родович (а меня как раз обуяло бессмысленное желание послушать ее), по правде говоря, это самый глупый момент моей жизни, какая-то отвратительная униженность висит на волоске, уже сама моя бездеятельность в такой момент есть нечто унизительное. За дверью все еще тихо, как будто абсолютный штиль, даже трудно представить.
16. Сюда я привел вас, здесь вас и оставляю. Дальше хода нет, у вас нет другого выбора — вы должны остаться со мной, здесь. Или как-то мне поможете или же готовьтесь к тому, что грядет и что рождается там в той тишине, к ужасному, таинственному. Будем переживать это вместе.
Краков, ноябрь 1992
ПУДЕЛЬ интертекстуальный рассказ
Я засветился с долгами на служебной ликвидации. Непомраченное сознание постоянно догоняло пуделя; затуманенный в своей растопленности день распластался между партером и колосниками сцены. В них-то и заблудился самонадеянный чудак-журналист. Он мучился и бестолково рыскал, но даже наиподлейшим вывертом сапога он не сумел приструнить собаку.
Из окна артистического ресторана спускался к нему по одной из найденных наволочек (которые просто сбрасывали в стирку) профессор, в несколько раз меньший, чем журналист. Он чудил (теперь можно мерзавцу!) с размахом. Растревоженный выпадами лупоглазого, он старался хапнуть своими щупальцами один из выдающихся очерков журналиста, легкомысленно крутя все новые и новые узлы черри и пива, заливавшие лапшу, полную человеческих пороков.
Вряд ли существует противоборство злодеев, более опоенных вседозволенностью, чем эти два отщепенца под кайфом у шлюза, перед которым безостановочно чеканили шаг артисты, выходившие с ужина. И все-таки профессор уязвил наконец заусенцы подлеца так мастерски, что тот даже самым громким словом не сумел бы их выгородить. Он принялся молотить по гриве профессора вавилонским остраконом, который не уничтожили катаклизмы столетий.
Профессор целенаправленно рвался за предел золотой клетки метафизики зла, как будто хотел обораться до хрипоты, пока оппонент околевает от самокритики. Периодически он перебирал свой походный маузер, втирая в патроны злость и трусость.
Залезал я на этот злополучный пьедестал в желанной ликвидации звена поначалу безвольно, однако позже катастрофическая пауза в движениях профессора подхлестнула мой задор: какую радость в этом состязании трех исполинов мне предстоит ощутить! Ведь это ж мое злословие столкнуло нас (то есть журналиста, профессора и меня) в пересадочном узле со своим загадочным расписанием.
Окончательная разборка винтиков в пуделе безусловно должна продемонстрировать сознательность, влияние и заинтересованность каждого из претендентов. А поскольку я постоянно за профессором цитировал Честерфилда и с усердием подпитывал его заинтересованность, то можно понять, что в передвижениях вурдалаков я ставил скорее на мудрого тактика, а не на остервенелого хлюпика журналиста. Зато мой плановый уход в зону пока не получалось поддержать, а тем более однозначно устранить. Ведь с полковника начинались две системы проверки.
Я мог оказаться умным, но бедным оператором норы. Мог не вникать в ее перетасовки, которые широко практиковались отставниками во время гонки за бабками. Правда, чувствовал я себя непозволительно сердобольным по отношению к журналисту, который впал в транс, ведь мог же я заплатить артистам на 100 марок больше, или наоборот — той же самой монетой, но подгрести к другой сцене. И тогда воронье и так разлетелось бы без меня.
Инстинкты, воскрешенные водкой и пивом, активно советовали, как, выражая комплименты, на самом деле сунуться с претензиями к каждому, кто вырвался в загранку, растоптав отроческую непосредственность, но с десятого стакана опохмелка (безразлично: водярой, вином или нашатырем), поскольку она, устраняя завалы, без колебаний, вроде неясной перспективы развенчания королей с позиций частной собственности, подтолкнула меня решительно разоблачить профессора. Насмехаясь жестоко над статьей, он был не критиком, а мародером, притом немыслимо озверевшим, поскольку сам вылетал в Швецию и пересаживал органы у значительно более выдающихся в сравнении с ним патриотов. Ко всему прочему он был замечательным гурманом; а тщедушный, мутноглазый, подрыгивающий ногами журналист строчил заметку на двенадцатое число.
Я мог прикинуться бедным, хоть и удачливым оператором норы, я мог ограничиться организованным разрушением обеих систем, без применения к ним слов и взглядов, предположив, что армии чекистов из наркомата внутренних дел не имеют здесь значения.
Впрочем, я мог встать разводящим в ряду охранников, лояльных к журналисту, т. е. мог вычислить его из массы молчавших подследственных, чем сохранил бы в этой паутине запредельную мистику норы. Разве не на этом зиждется реальная Охрана в окружении? Разве ее расчесывание до лучезарных дыр не возникает так же, как и этот единственный, только мне ведомый заговор между журналистом и мною?
Я решился на это дело. Все более и более чистый, практически холостой проблеск сознания оборачивался наваждением, впрочем, пудель оставался пока в цирке. В конце концов замаячила роковая страсть разрушать из принципа, сатанинская антитеза. Шпоры инквизитора были угрозой Дон Кихоту, а Санчо Пансе разгул террора подсказывал в традициях непротивления пройти мимо. Я прицелился и трахнул партитурой собаку так сильно, что порвалась ее связь времен, а партитура, отскочив от партера, слетела к креслу подлеца журналиста, которого режиссер настойчиво призывал-таки к партитуре. Я прицелился грамотней и сиреноподобным звуком выманил его из лиги нелегалов. Он умотал в Париж.
Когда на служебном шлюзе я чертыхался, чтобы ткнуться в просвет между выступавшими в Варшаве артистами, мне польстило на миг, что сегодня, прикинувшись пуделем, я не разболтал секреты врагу. Исчез третий взвод, оторвавшийся в свободную игру от тех, кого я перевербовал. Я ведь мог трахнуть журналиста лопатой или прижать его так, чтобы он охрип-ослеп-оглох и не смог профессора сделать слишком важным объектом. Возможно, заподозрив подвох, я отмел такой розыгрыш как недоработанный и расплывчатый. А впрочем — линейный, как эволюционность, как пьянящее созерцание дикарского захвата излюбленной ниши, и все-таки как непозволительную шалость, даже если кто-нибудь и смог бы создать такой несусветный прецедент ухода от выявления разительных совпадений. Всегда что-нибудь да остается для растаможки в последней каюте парохода у шлюза: неужели и в этом третьем выходе я все еще прикрывался охраной? Журналиста? Профессора?
КАПИТАН порнографический рассказ
1. Сижу в поезде. Он как раз остановился, а за окном, на расстоянии практически вытянутой руки движется, чудовищно медленно, другой поезд, товарный; можно разглядеть прекрасную фактуру плоскостей из листового железа, выкрашенных коричневой краской и долгие годы подвергавшихся беспрестанному терзанию изнутри, следы чего проявляются теперь с какой-то агрессивной четкостью, заставляющей рассматривать их скорее как шрамы, наросты и лишаи, а не как, например, увиденные из межпланетного пространства географические формы — вулканы, реки и озера (или, может, лучше: пустыни), хотя чаще всего их именно так воспринимают.
С четкостью как бы противоположной той, которую можно обнаружить у меня в голове, в этом довольно обширном месте, где я в каком-то смысле существую независимо от того, в поезде я или нет, и этот поезд, он тоже там существует, и еще масса разных вещей (немыслимо много, утверждают знатоки), мест, событий. Ибо события в голове не происходят, они там существуют; извлеченные из причинно-следственных связей, они появляются и исчезают, как духи (что ни говори, а это духи событий), чаще всего — назло, будто они наделены свободой воли (хотя, казалось, только что они были готовы повиноваться по первому знаку), впрочем, страшно далекие и практически сразу же уходящие в туман после того, как их переживешь.
Вот почему первым инстинктивным движением, сопровождающим углубление в себя, в это свое содержимое, является стремление разложить все по полочкам, вечно неудовлетворенная потребность гармонии, наконец-то рассказать самому себе все по порядку. И тогда события начинают коварно выказывать какие-то фальшивые личины или прятаться по незадействованным частям мозга, и разве что гипнозом каким можно их оттуда выманить. Но кому захочется гипнотизировать меня ради этого, а сам себя ведь не загипнотизируешь, ну разве что когда-нибудь разбогатею и, придет время, направлю все средства на обустройство своей жизни, на воспоминания, на отделение одного от другого, тогда бы я нанял гипнотизеров и предался бы длительным сеансам, чтобы наконец все о себе узнать с максимальной точностью. Или вот еще вариант: заняться этим делом на том свете, хороший способ заполнить вечность. И да же если собственная жизнь была бы уже изучена, то столько еще чужих жизней.
Знать, что было пережито. И если уж нельзя властвовать над прошлым, то хотя бы познать, проникнуть в него. Потрясающее богатство абсолютно приоритетных вещей. Все иерархии ценностей, эти подручные космосы, убогие и лживые, — все служит только тому, чтобы увести наше внимание от этого бардака, в котором, как мыши из пыли, появляются наши решения. Нам не дано охватить Целое, верно, но должны ли мы из-за этого тут же становиться почитателями Схемы, бутылку чтить выше водки, чешую выше селедки, как те, с позволения сказать, греческие боги, которыми сегодня каждый помыкает и которые в свое время так позорно дали себя одурачить.
2. С каким же восторгом мы позволяем отдельным событиям соединяться в цепочки; событий единичных мы не любим, мы предпочитаем эти самые цепи, цепляемся за них, ставим в зависимость от них смысл последующих событий, хотя порой даже невооруженным глазом видно, что кое-какие звенья, насильно притянутые друг к другу и связанные проволокой или просто ниткой, неизбежно разорвутся при очередном рывке нашего поглупевшего существования. Впрочем, случается порой, что цепь замыкается в круглую самоутверждающуюся форму, и тогда мы используем ее для создания всяких там общих принципов — полная аналогия тому, как если бы навести порядок только в одном углу комнаты, а затем, созерцая его, делать выводы об опрятности всего остального, месяцами не видевшего ни веника, ни тряпки. Может, лучше перебраться в этот угол и с этой удобной позиции попытаться окинуть взором оставленную повсюду свалку.
Начало, как и положено началу, встроилось точно в середину всей нашей истории, вот только глянем в историю болезни, да, точно, дело было первого марта. Ретроспектива начиналась феноменально глупым фильмом об ученом-аквалангисте, спасенном от неминуемой гибели царевной-лягушкой, фильм так неожиданно и так нечеловечески меня взволновал, что слезы ручьем лились по лицу и их не удавалось сдержать ни платком, ни немедленным осознанием абсурдности ситуации, а когда я, весь такой зареванный, вышел на свет дневной (дневной, потому что мы купили самые дешевые абонементы — на утренние сеансы), девушки решили, что со мною определенно что-то не так, и велели мне поскорее показаться врачу, я безропотно подчинился (став вдруг необычайно податливым на любые внешние влияния). Именно тогда пани Кнапик обнаружила у меня это пресловутое воспаление легких, с которым вяжется еще столько других историй, но не о них сейчас речь, а о пареньке, с которым я познакомился в коридоре, служившем чем-то вроде зала ожидания, где больные вроде меня или прикидывавшиеся таковыми ждали своей очереди на прием.
В кабинете пани Кнапик каждому пациенту приходилось провести самое малое полчаса. Потому что пани Кнапик страсть как любила поболтать. Разговор шел о том о сем, в основном о фильмах, во всяком случае точно не о болезнях. Зато после разговора человек чувствовал себя абсолютно здоровым; все болезни уходили прочь, а если и возвращались, то очень нескоро. Вот почему, имея в перспективе встречу с пани Кнапик, каждый терпеливо и в состоянии душевного подъема ждал своей очереди. Впрочем, следует признать, что ждать приходилось прилично. Что вполне объясняет, почему сидевший рядом со мной парнишка, совершенно не знавший, кто такая пани Кнапик, вдруг не выдержал и заворчал: чем там занимается этот гребанный Кнапик, девок, что ли, трахает или что? А поскольку пани Кнапик относится к числу тех немногих ценностей как посюстороннего, так и потустороннего мира, которые я готов защищать до последнего, я не мог оставить вопроса без резкой отповеди; вот так мы с ним и познакомились.
На вопрос о факультете он ответил, что религиоведение; для поддержания разговора я спросил, не знает ли он, случаем, Яцека, а он — ну конечно! даже какое-то время они были вместе на курсе. Вот так мы и оказались на общей (хоть и не вполне) почве. Ибо насколько для меня Яцек был личностью невыносимо — и это правда — основательной и лишенной чувства юмора, хотя и симпатичной, настолько паренек его просто не переваривал и совершенно не собирался скрывать этого, зато он помнил массу забавных историй, где Яцек выступал в главной роли: как Яцек пудрил девчонкам мозги изложением своих философских взглядов или как он зачитывал список пяти главных задач литературы; в тот день меня рассмешил даже анекдот о двух коровах, сидевших на проводах (я его тогда еще не знал); так вот, я, кашляя и давясь, уже, можно сказать, умер со смеху, а парнишка, уверенный в своем таланте юмориста, все убедительней перевоплощаясь в Яцека и вкладывая в его уста всякое разное, не давая мне ни слова вставить, ни вздохнуть, вдруг внезапно посерьезнел и сказал:
— В общем, глупо как-то получается, мы тут себе хиханьки да хаханьки, а парень уж два месяца как в могиле.
— Где? — спросил я.
3. И опять в смех, что легко можно было понять, но не пареньку, который смотрел на меня как на законченного психа и, наверное, думал, что я пришел сюда лечиться от сумасшествия, а он неосмотрительно ввязался со мною в разговор и почувствовал себя в опасности, хоть я уже весь в соплях от смеха и в слезах, пока в конце меня не начал душить кашель, а смеяться и кашлять одновременно невозможно, особенно таким глубоким грудным и требующим больших усилий кашлем, какой бывает при воспалении легких, так вот я немного успокоился, мой платок, само собой, уже не годился ни на что, и я спросил парнишку, нет ли у него салфетки, той не оказалось, какая-то девочка, сидевшая с другой стороны, выручила меня, и я смог прийти в более или менее приличное состояние, впрочем, для этого общества я был человеком конченым.
Несмотря ни на что (несмотря на то, что мне уже было все равно), я хотел узнать какие-нибудь подробности, но с паренька слетела разговорчивость. Он удивился, что я ничего не знаю, случай-то ведь был громкий, автобусная катастрофа, прямо перед Новым годом, газеты писали, но откуда мне было знать, что Яцек здесь каким-то боком замешан, и паренек признал мою правоту, потом кто-то вышел от пани Кнапик, и он зашел, больше его я не видел, точнее, еще разок, когда я входил, даже успели сказать на прощанье друг другу «пока».
Позже я вспомнил, что действительно, когда я ехал в Закопане на тот Новый год, на котором вел себя как животное, со мною в купе сидела молодая пара, все еще гордая обручальными кольцами, оба ниже уровня моих симпатий, особенно она — выглядела так, будто ей было лет шесть, и я все думал, как можно жить с такой, а после стал украдкой косить глаза на то, что они (вместе и чуть ли не вожделенно) читали, а была это одна из тех черно-бело-красных газет (с заголовками цвета крови), которые, как правило, никто не читает, потому что никто не покупает, и в которых полно самых удивительных сообщений, а в этой была заметка об автобусе, в котором нашли пять трупов, убитых из пистолета, а поскольку среди них был офицер Войска Польского, владелец этого оружия, следствие было засекречено; гипотезы, выдвинутые автором заметки, я счел неосновательными, а потому и не запомнил.
Мне будет тяжело описать то состояние, в какое ввергла меня новость о смерти Яцека. Уже один тот факт, что, думая о ней, я не мог не думать о тех конкретных обстоятельствах, в которых она меня застала, был причиной того, что я думал о ней весьма неохотно, а честно говоря, вообще о ней не думал, она оставалась для меня скорее чем-то странным, чем печальным. Да и Яцек в памяти моей порядком стерся, давно уже перестал быть тем человеком, с кем мне когда-нибудь захотелось бы встретиться, поболтать, он существовал для меня больше в прошлом, чем в настоящем. Поэтому его смерть имела в себе некую досадную несущественность, и она не столько изменяла, сколько утверждала состояние вещей, уже имевшее видимость некоей стабильности. Но в то же время, упрочивая статус-кво, она придавала ему излишний драматизм; мысль о том, что кто-то, кого я знал, притом совсем неплохо, находится в данный момент среди ушедших в мир иной, вызывала во мне своеобразное возбуждение, впрочем, появляющееся, как правило, в моменты, когда со всей определенностью мы можем прибегнуть к словечку «никогда».
Наверное, мне пока еще недоступно серьезное отношение к смерти (скажем так: к чужой смерти). В детстве, когда у меня сдох хомячок, я ставил пластинку с Траурным маршем Бетховена и ждал, когда же придут возвышенные чувства, пока наконец я не осознал всю неискренность ситуации, и это во мне осталось — опасение быть неискренним.
4. А сейчас, я не говорил об этом раньше, сейчас на дворе лето, конец июня, чай не остынет, сколько бы ни стоял, и если есть чем дышать, то, наверное, только свободой. Ее ароматом. Теплая, терпеливая свобода, робкая, незаслуженная, незавоеванная, нежная. Вот только упорно собиравшиеся в течение целого года мечты властно велят возделывать ее, пахать, удобрять и косить, и тогда выясняется, какое это поле дикое, сколько в нем песка и какое оно в то же время заболоченное, как много на нем камней, сорняков, ящериц и пауков, все тут есть, а по сути — ничего, и ют из этого в одночасье, хочешь не хочешь, а что-то надо слепить, надоить или хотя бы свернуть это в трубку и дунуть, но только так, чтобы свобода не оказалась пустым звуком, который потом преследовал бы нас среди осенних вихрей своим монотонным воем. Ну и как тут не заполнить самим собой великое бездонное ничто?
Вот так-то из легкокрылых желаний возникает тяжелая необходимость. Неумолимо требующая реального действия, задерживающая в своем клейком месиве легкие маятники маеты. Из необходимости принять хоть какое-то решение решения и рождаются. Запах вокзала. Молодость. Это слегка дурманит.
Итак, для начала встреча после стольких лет разлуки. Целых четырех. Давно уже запланированная, откладывавшаяся, невероятная. Мы познакомились в незапамятные времена, еще в лицее, на каникулах, само собой, нас соединили общие восходы солнца, ручьи, смешивавшие в своих бурливых водах пену наших зубных паст, уносившие ее потом в Балтийское море, костры, в которые мы под конец были готовы побросать одежду, обувь, даже собственные тела, лишь бы огонь не погас: вся эта захватывающая дух напряженность, которую мы выбрасывали из себя вместе с первым октябрьским кашлем. А потом переписка, от письма к письму все более насыщенная, все более интимная. Вернувшиеся в свою естественную среду, мы стали как бы существами разных рас, экзотичными и все-таки непонятным образом близкими друг другу. Физическая отдаленность превратила нас в абстракции без голоса и запаха, в первичные субстанции, в простые числа, но проявляющие что-то вроде доброжелательного интереса, не лишенные юмора, способности сочувствовать и еще пары приятных человеческих черт. Успев подзабыть, какая порой скука сковывала наши лица или какие на них выплывали иронические ухмылки, мы без малейших колебаний поверяли друг другу так называемые сокровенные мысли; все наши болезненные или даже просто беспокоящие, смущающие и воняющие проблемы неожиданно легко превращались у нас в чисто языковые образования (как приятно быть искренним, когда искренность в силу вещей не может быть не чем иным, как только одной из писательских условностей), которые можно вложить в конверт и послать (…на мерцающую в бездне на далекую звезду…), чтобы уже через неделю они вернулись продистиллированными, под видом общих, никогда не попадающих в десятку, но так замечательно все пускающих побоку чужих мыслей.
Вот так и стали мы идеальными друг для друга духовниками, заступниками, чутко улавливающими каждый фантом духа, все молекулы, испускаемые нашими разделенными в пространстве цветениями; я вспотел как последняя свинья, как собака бы вспотела, мой лоб жирным пятном отпечатался на стекле, я потею, наверное, каким-то жиром, и утереться-то, парень, нечем, конец времен, а мы стоим здесь и стоим; ситуация постепенно становилась все более и более нереальной, пока в конце концов мы не преисполнились отчаянной готовностью вернуть ее на почву опыта, материализовать ее, встретиться.
5. Вот так, после приличной дозы размышлений, принятой в разогретых внутренностях разных транспортных средств, я вдруг наконец оказался перед нужными дверями на нужном этаже нужного дома и т. д. (не хватало лишь таблички с фамилией), и только теперь мне подумалось, как все это там, дальше, за этими дверями, может оказаться трудным. Чуть запыхавшийся, ошарашенный неожиданной важностью момента, простоял я так какое-то время, всматриваясь в кнопку звонка. В конце концов, видимо из уважения к пережитым неудобствам, я решился ее нажать, ну а если не зазвонит, испугался я, со мною всякое бывало. Я попытался представить Баату, как она мне открывает, но в голову лезли все какие-то лесные поляны, поваленные деревья и прочие подобные реквизиты, совершенно не гармонировавшие с окружавшей меня сценографией. А без них Баата ни в какую не хотела появляться перед моими очами. И не появилась-таки, потому что открыла мне какая-то абсолютно незнакомая женщина, в связи с чем первая моя мысль, что попал не по адресу, что та цепочка следов, которые привели меня сюда, это какая-то бессмысленная космическая хохма и что из этого надо как можно скорее выбираться; однако вслед за этой пришла и другая, более взвешенная мысль: женщина эта, возможно, мама Бааты, а вся эта неразбериха из-за того, что Баата никогда словечком даже не упомянула ни о какой семье, но разве это повод надеяться, что я здесь застану ее, мою корреспондентку, одну и больше никого и ничего, ни мебели, ни занавесок, ни кастрюль, ни, тем более, родителей.
Меня пригласили на кухню, предложили стакан чаю (Баата как раз ушла в магазин купить что-нибудь к чаю), на кухне царил назойливый запах жирного.
— Чем вы сейчас занимаетесь? — спросила меня эта женщина, толстая, пятидесятилетняя, так спросила, как будто прекрасно меня знала и лишь хотела удостовериться в своем знании.
— Ну, учусь, — ответил я.
— А что конкретно изучаете, позвольте поинтересоваться?
— Литературу, польскую филологию.
— Литература! То же, что и Беатка, скажите на милость, вы, наверное, воздухом собираетесь питаться. А что вы собираетесь делать, когда закончите учебу?
— Пока не знаю, — я почувствовал себя, как бы это сказать, не совсем, — может, еще куда-нибудь пойду учиться, вот подумываю о киноведении.
— Ну хорошо, а когда вы всю эту свою учебу закончите, что вы тогда делать будете, с чего жить собираетесь?
— Понятия не имею, понимаете, это вроде как человека за завтраком спросить, что будет он есть завтра на ужин.
— А действительно, мы тут все ля-ля да ля-ля, а вы, наверное, еще не обедали? Смешно получилось. Разогреть котлетки?
— Нет, нет, спасибо, я в городе перекусил, как шел сюда с вокзала.
— И что же вы ели?
— Даже не помню, да купил там что-то.
— У вас, смотрю я, какое-то легкое отношение к жизни, пора задумываться, что будет потом. Ну а как дети пойдут? Это вам не шутки.
— Тем более что я вообще не собираюсь заводить детей.
— Это все разговоры, здесь вот (что-то зазвонило) у моей соседки парень тоже на ксендза хотел пойти учиться… Пойду открою. — На момент я остался на кухне один, но с надеждой, что пришла Баата и я буду свободен от дальнейшего выслушивания. К сожалению, в кухню вошла другая женщина, поменьше ростом, с дырявой сумкой, полной не пойми чего.
— Пан приехал к Беатке, — представили меня.
— А вы издалека, позвольте спросить? Там у вас тоже так сухо?
— Сухо? — задумался я на мгновение, зачем ей это. — Сухо.
— У нас вторую, почитай, неделю как без дождя. Ни капли. Я вам честно скажу, хоть и люблю я поливать и с радостью всегда делаю это, а так уж опротивело. Черешня, вот гляньте, какая хорошая, — она раскрыла сумку, а у нее там огурцы, помидоры, зелень какая-то, ну и черешня, — так представьте, птицы какие-то повадились, клюют.
— Скворцы? — подсказала мама Бааты.
— Не скворцы! Из лесу какие-то прилетают, седые такие.
— Тогда, может, дрозды, — предложил я.
— Тоже нет. У дрозда возле меня на тополе гнездо, я знаю, какие они, дрозды. А эти больше скворца, седые такие.
— Седые птицы из леса… — задумался я, — а вообще-то бывают такие?
— Я вот только что пану рассказывала, — мама Бааты решила взять разговор в свои руки, — об этом Миреке от этой, ну знаешь?
— А, знаю: вот какие люди бывают подлые, чтобы о ксендзе такие вещи рассказывать.
— Да какой он ксендз, если на мотоцикле ездит.
— Снова семинаристу кости перемываете? — смотрю, а это Баата незаметно вошла (наверное, у нее был свой ключ), а потом на кухню заглянул знакомый мне по письмам Фитцджеральд, ее спаниель, толстый и с одышкой.
— А ты чего по городу шастаешь, у тебя гость, им лучше займись.
Итак, пребывая каждый в своем расположении духа, мы тем не менее наконец оказались вместе, в комнате Бааты.
— Привет, — сказала она, мы сердечно обнялись, и сразу сделалось как-то славно. Комната была вытянутой, у одной стены стояла тахта, у другой — книжные полки и стол. Посредине — коврик или, скорее, дорожка бежала к окну, в которое виднелись коробки жилых домов и река за ними, а над рекой — небо цвета льна. В углу под окном — большой горшок с цветком. Баата была все той же, что и прежде, во всяком случае, я не смог бы отметить каких-то потрясающих изменений, да и вообще нам не было нужды искать общие точки в переписке (впрочем, мы оба понимали, что это не совсем то), чтобы было о чем поговорить. В конце концов настал тот неизбежный момент, когда я пошел к полкам посмотреть книги.
— О, у тебя есть Унамуно, — заметил я.
— Читал? Классный писатель.
— Ну, допустим, не читал, просто ассоциируется у меня с турлагерем, после лицея перед институтом. Дождь тогда лил как из ведра, вот мы дни напролет и вызывали духов. А ведь знаешь, когда чем-нибудь постоянно занимаешься, то в конце концов оно изживает себя. К концу второй недели, когда мы не знали, кого бы еще призвать, я придумал этого Унамуно, из-за его фамилии. Кроме того, попробовали общаться с иноязычными духами.
— Ну и что, по-польски с вами говорили?
— С ними как раз не было никаких особых проблем. А вот когда мы взялись за старопольских, но это уже в институте, перед экзаменом у Улевича, мы хотели, чтобы они нам сказали, о чем нас будут спрашивать, вот уж настоящий кошмар был. Совершенно нельзя было догадаться, что они хотят сказать, какие-то обрывки фраз, язык в состоянии разложения, как будто на том свете у всех склероз.
— Это как у Лесьмяна; помнишь его кладбищенские стихи?
— Ясно, Лесьмян должен был в этом деле неплохо разбираться, но мы-то вызываем этого де Унамуно; дело, помнится, было на какой-то школьной кухне, школа, перестроенная под дом туриста, ну и все причиндалы для жарки котлет, мясорубки, такие электрические, огромные, и мы, со свечами на столах, расселись, буквы тоже, кажись, на самом столе написали, вызываем. Ну и пришел дух, правда испанский (или даже сказал, что он из Уругвая?), короче, у него какая-то другая фамилия, не помню уже. Мы его тогда спрашиваем, почему именно он явился. А он отвечает, что его Мастер прислал. Что за Мастер? И тогда он начал его как-то так уклончиво описывать, мол, Князь Мира Сего, Властелин Мух, всякие там псевдонимы, лишь бы имени его не называть. Нас там уже страх обуял, вдруг кому-то пришло в голову спросить, а кто его вызвал. Тогда он говорит, что Александр. Мы поначалу опешили, и только немного погодя до нас дошло: ведь у Олеся Дзивиньского полное имя Александр. Смотрим на Олеся, а он белый как мел, в общем, в конце признался, что, когда мы вызывали Унамуно, он все время про себя повторял «приди, Сатана», потому что обычные духи ему надоели.
— Ну и что дальше?
— Дня три парень ходил сам не свой, мы даже подумали, а не подвергнуть ли его каким-нибудь экзерцизмам. Вот только никому особо не хотелось идти к ксендзу и дело излагать. Потом все пришло в норму, да и духов вызывать нам надоело и стало в лагере совсем скучно.
Примерно на этом месте вошла мама Бааты: принесла на подносе порезанный творожный тортик и два чая.
— Ты знаешь, зачем она приходила? — спросила она у Бааты.
— Откуда мне знать? — проворчала Баата.
— И я не знаю, — и обе прыснули со смеху.
Нет вещей, есть только идеи. Нет меня, есть только мои мысли. Но об идеях я знаю меньше, чем о вещах, о мыслях (их природе) я знаю еще меньше, чем о себе. За исключением, разумеется, тех мгновений, когда мне хочется постичь сущность собственного я, его экзистенцию, вот только ситуации эти в высшей степени неестественны, а неестественность эта как раз и отбраковывает их. Мое я ускользает от таких ситуаций, это все равно как желать наблюдать пламя в вакууме. (Хотя бывает и такое.) Идеалисты открещиваются от материального мира, ибо что в этом мире в состоянии поддержать их? Магия, спиритизм, откровения, весь этот ярмарочный ларек, в котором можно найти уверенность, но уверенность эта — никакое не очищение, а скорее осквернение, и все из-за ее реалистичности, наглядной доказуемости; наша мысль предпочтет искать свет в темноте, а не в полумраке, поэтому и Церковь, и Наука пренебрежительно(?) отворачиваются от тех вещей, честное исследование которых угрожало бы отменой как обрядов первой, так и постулатов второй.
Мы все говорим, говорим, но уже как-то не так. Мы говорим, когда едим, пьем (ведь не мешает?), сидим за столом (может, это мешает?); ничего, в сущности, не изменилось (а может, как раз и должно было измениться, не превратились ли мы вдруг в намеки на самих себя пятиминутной давности?), у нас по-прежнему есть много чего сказать друг другу, но мы — надоедаем друг другу. А надоедая — обманываем. Мы напрягаем свое внимание. В нас притаился и сделанный из ранее сказанного вывод о том, о чем (на всякий случай) должно быть следующее предложение. И чем дальше, тем больше. Весомее, значительнее. Пока надо всем этим, точно пена из миксера, не взовьется какой-нибудь смутный, неясный смысл, не выбьется из-под моих небрежных, несолидных фраз или из-под чересчур рафинированных фраз Бааты, всякий раз попадающих в тяжелую безответность, через которую, однако, я, вежливый гость, все-таки продираюсь. Легко сказать — смысл. Только откуда ему взяться и — прежде всего — что он означает? Вот я, например, когда говорю, я что, хочу что-то сверх того сказать, дополнительно, секрет какой сообщить? Не хочу ведь. Значит, это она, Баата. Но точно ли она? Если это не от меня исходит, точно так же может исходить и не от нее. Не получается у меня думать о нашем разговоре как об обычном обмене фразами. Некий высший смысл, лишающий наш разговор элементарного естественного смысла, приводящий в растерянность и никому не принадлежащий, возносился над нами так, как если бы кто в изысканном обществе тихо пукнул. В конце концов я не выдержал и вместо того, чтобы рассказать очередную байку, спросил первое, что пришло в голову:
— Есть тут хоть какая-нибудь уборная?
— Ничего себе вопрос, — ответила Баата «обиженным» тоном, но я заметил в ее глазах одобрительно-многозначительный блеск, каким учительницы одаривают отличников, не желая их открыто перед всем классом хвалить.
Над унитазом висело зеркало, поэтому, писая, я мог сколько душе угодно рассматривать свое сильно помятое в автобусных и железнодорожных дремах лицо неудачника, лицо героя, лицо мудреца; воистину лишь первый беглый взгляд в зеркало может по-настоящему удивить, потом начинается актерство, ложь, иллюзия; наблюдая за этой вереницей собственных лиц, одно достойнее другого, я забыл, что занят в данный момент чем-то, по сути, постыдным. Впрочем, нет, не забыл, а как раз наоборот — сообразил, что все-таки постыдным. Хочу сделать нечто постыдное. Может, и ты тоже хочешь сделать нечто постыдное? Почему бы нам не сделать это одновременно. Мне хочется на какое-то время остаться одной. Смысл нашего с Баатой разговора стал для меня настолько ясным, что даже сделался глупым. И практически в то же самое мгновение я увидел (почувствовал), что, пока я тут манипуляции разные с ширинкой вытворяю, она достает из-под шкафа большой лист бумаги и идет на кухню за подходящей, с гладкими краями, тарелкой.
6. Сначала неплохо бы вызвать дух живущего (Баата, что ли, сказала или мы оба знали, что проще приходят? Я тогда спросил: а что тогда с тем человеком? он че, без души ходит?) Видимо, так (Баата знаток), но это ему ничуть не мешает. Разве что дух не захочет отойти. Но и на этот случай есть выход (какой?), надо его напугать (я предпочел не узнавать, как пугают духов). Выбор человека оказался для нас не слишком трудным. Ивонка (сказала Баата) — она что с духом, что без духа — ей все равно. (Я знал Ивонку. Лучшая подруга Бааты. Под ее безраздельным влиянием. Жила через несколько домов от нее.) Ну же (растопыренные руки на тарелке, мизинцы касаются друг друга), дух Ивонки, сделай милость, приди. Ты уже здесь? (ДА, торопливо ответил дух.) Что поделываешь (коварно спросила Баата. Тарелочка начала неуверенно кружить по листу). Скажи тогда (Баата безжалостна), где ты сейчас находишься? (В WC, ответил дух настолько лаконично, насколько это было возможно. Мы с Баатой обменялись циничными ухмылками.) Хочешь ее еще о чем-нибудь спросить? (обратилась Баата ко мне. Я пожал плечами), спроси ее, есть ли у нее аларана (а что такое аларана?), когда-то мне один дух сказал, что у меня нет алараны, а я все никак не могу узнать, что это такое; вот и пытаюсь доискаться (тарелочка беспокойно дернулась), смотри, сама что-то хочет сказать. (СКАЖИ ЕЙ, ЧТОБЫ ОСТАВИЛА МЕНЯ В ПОКОЕ!) Ты подумай, с восклицательным знаком (прокомментировала это послание Баата), душка-ангел Ивонка. (И неожиданно резко:) Знаю про нее все. (Может, отослать ее обратно?) Как хочешь. Пожалуйста, дух, уходи. Ты все еще там? (Тарелочка тихонько шевельнулась.) У нее с этим проблемы (объяснила Баата), она не любит свое тело. Дух, уходи отсюда, не то скажу Роберту (моментально под тарелкой обозначилось абсолютное отсутствие духа). Видишь? и на это есть управа (Баата ликовала).
— С этой алараной интересная штука, — завела разговор Баата с деланным безразличием, вроде бы как жалела, что эта тема вообще появилась, — у одних она есть, у других ее нет, а для духов это, оказывается, основное. Ивона теряет ее, только когда сидит в сортире или когда они с Робертом и понятно чем занимаются. Вот у мамы моей она постоянно в наличии. У меня тоже порой случается, но редко.
Кто следующий?
— Виткаций. Обожаю этого типа, — призналась Баата.
— А что у него спрашивать, у Виткация? — у меня уже период виткацомании прошел, я оказался, образно говоря, в состоянии поствиткациевского похмелья, а потому особого желания разговаривать с ним у меня не было.
— Я ни о чем не хочу его спрашивать, мне хочется пофлиртовать с ним, — сказала Баата, понизив голос чуть ли не до шепота. И добавила: — Спрошу его, не придет ли ко мне сегодня ночью.
— ПРИДУ, — простецки ответил дух, когда мы выполнили все необходимые в его отношении формальности.
— А в каком обличье ты придешь ко мне? — кокетливо спросила Баата.
— В ОБЛИЧЬЕ ЖЕНЩИНЫ.
— Ни фига себе! — Баата блаженствовала. — Лесбийский секс с Виткацием! Представляешь?
Я-то мог представить, да меня это не особо трогало. Мне сразу вспомнились все эти перемудренные с перехлестом постановки его пьес, как тотчас же все расхотелось. После мы задали ему еще много вопросов, потому что он вдруг заинтересовал меня как дух самоубийцы. Но никаких сенсаций. На вопрос, не испытывает ли он на том свете каких-нибудь неприятностей по причине захоронения на католическом кладбище, дух ответил: Я ЛЕЖУ ВОВСЕ НЕ НА КАТОЛИЧЕСКОМ КЛАДБИЩЕ, ну и конец дискуссии. После того как мы отослали Виткация назад, нас обуяло настоящее безумие вызывания самых разных духов (в чем мы оба сильно изголодались), всех спрашивали про аларану, результаты оказались довольно неожиданными (у меня она была). Под конец мне на ум пришел Игорь Стравинский, которого пару лет назад (на дне рождения Мачея, превратившемся в один большой спиритический сеанс) нам пришлось оставить в квартире у Мачея, потому что дух все никак не хотел уходить, и я забеспокоился о том, что, оставленный, он может превратиться в домового у Мачея и начать пугать людей (Мачей тем временем с той квартиры съехал), ну и вообще, что-нибудь плохое могло с ним приключиться, вот мы и вызвали его, и он, к моей огромной радости, пришел, а по некоторым его высказываниям (Что делаешь? — ЛЮБЛЮ. — Кого любишь? — [нет ответа]) мы сделали вывод, что он все еще пребывает на Небе и ничто плохое его не коснется. На вопрос, что он слушает в данный момент, он велел нам включить радио. Включив, мы услышали лишь шум пустого в это время суток эфира.
— Это уже столько времени? — забеспокоилась Баата. Действительно, было уже полпятого, и мы поспешно стали готовиться ко сну.
Баата уступила мне свою постель, а сама пошла спать к маме. Я почти что заснул, а может быть, и на самом деле уже спал, когда я услышал какой-то странный скрип. Смотрю — дверь сама открывается и кто-то (невидимый) в нее проходит. Явственно слышу тихие шаги и тяжелое прерывистое дыхание. Буквально умирая со страху, зажигаю лампу — а это Фитцджеральд пришел меня навестить.
— Ну, иди сюда, Фитцджеральд, если уж пришел, — сказал я и, чтобы немного успокоиться, погладил его по кудлатому лбу. Первая моя реакция — встать и пойти вымыть руки (мы никогда собак в доме не держали, из-за чего собака ассоциируется у меня с чем-то грязным и вонючим, хоть, может, это и не всегда так), но зачем поднимать ненужный шум в чужом доме, подумал я, а когда я так подумал, Фитцджеральд принялся издавать звуки, подходившие никак не собаке, а скорее ребенку, который только учится говорить. В сущности, это была неартикулированная речь с исключительно утонченной, приглушенной экспрессией, и я поначалу уставился на этого пса, как баран на новые ворота, не в состоянии поверить увиденному, да что делать, я тут спать хочу, а эта нечистая тварь сидит возле постели моей и лопочет, видать, все одно и то же. Понятно, подумал я, Баата слишком много с ним разговаривала или ее мама, когда одна дома (до меня только теперь дошло, что, не считая моего мимолетного присутствия, Фитцджеральд здесь единственный мужчина). Тогда я сказал:
— Тихо, Фитцджеральд. Спать. — И погасил свет, а он — раз! — на кровать и лезет под одеяло.
— If you imagine, that I’m fuckin’sodomist you ’re bloody wrong, — огрызнулся я, непонятно почему подражая диалогам из американских гангстерских фильмов, и чувствительным (ну, может, и не таким уж чувствительным, потому что старый пес и тяпнуть может) пенделем вытолкнул его обратно на ковер. Он поворчал и направился в угол, откуда вскоре стало доноситься то ли чавканье, то ли хруст, но я сказал себе, что меня это больше не касается: я сплю.
7. Просыпаюсь, и у меня такое ощущение, что я влетел в фильм «Дикое сердце» (смотрел его во время достопамятной Ретроспективы, ежеминутно сотрясаемый убийственным кашлем, и, наверное, поэтому фильм мне абсолютно не понравился, несмотря на несомненное его родство с «Серебряным сном Саломеи»), какой-то маленький поселочек на юге Штатов, вот-вот сюда наедут жирные телки, разогретые после съемок порно в техасском стиле, боже мой, откуда у меня это, солнце через окно лезет прямо ко мне с поистине техасским напором, но это ведь не из-за солнца, какое там солнце, не солнце, а собака. Собака? (разве в «Диком сердце» была собака?), может, речь идет о «Под вулканом», там ведь тоже дело было в какой-то Мексике (с нами шла собака и воняла), действительно, чем-то здесь воняет (была! была собака! вцепилась в руку банкира после ограбления банка!). Инстинктивно я взглянул на свою руку, понюхал ее (от руки воняло собакой), ведь я вчера вечером трогал собаку, ну и где же она, эта вонючка? Смотрю — лежит возле цветочного горшка, но как-то странно, в чем-то странном, среди собственной, собачьей блевотины.
Я посмотрел на часы — еще только восемь, но не спать же здесь с этой облеванной собакой. Впрочем, на кухне что-то, кажется, звякнуло. Действительно, там уже была мама Бааты, в халате, готовила себе завтрак.
— Как спалось? — спросила она, лишь только я вошел.
— Спалось прекрасно, — учтиво ответил я, — только с Фитцджеральдом что-то неладное.
— Опять, наверное, чего-то нажрался. Старый пес, нюха нет, жрет все подряд, сто раз уж говорила, надо его усыпить, да Беатка против, еще на меня дуется. Значит, опять сотню ветеринару отстегивай. Вы сидите, сидите, я пойду разбужу ее.
Вскоре до меня долетели приглушенные и полные драматизма голоса; на плите закипела вода, я выключил ее и заварил себе чай; не успел я начать пить, как появилась Баата в каком-то новом платье и сказала:
— Пойдешь со мной к ветеринару?
— Мне бы умыться сначала.
— Тогда поторопись.
Мы несли Фитцджеральда в сумке, каждый держал за одну из ручек (я — за одну, Баата — за другую, а Фитцджеральд — в сумке; на самом деле он оказался очень легким, я не мог допустить, чтобы Баата несла даже это, когда у меня руки пустые, а Баата не хотела, чтобы кто-то «чужой» нес ее пса в его, быть может, последний путь), впрочем, мне все не верилось, что от какого-то глупого растеньица с собакой могло случиться что-то серьезное. И впрямь, ветеринар влил ему в пасть какую-то жидкость для прочистки (?), что тут же поставило Фитцджеральда «на ноги», так что на обратном пути он мог нас сопровождать самостоятельно, то и дело метя тротуар чем-то желтым.
— Надо с ним погулять, пока из него все не выйдет, — предложила Баата, вот мы и ходим, гуляем потихоньку, разглядываем все вокруг, а тут вдруг — кого мы видим! (Ну конечно, Ивонку с Робертом и, к моему удивлению, с детской коляской и младенцем в ней. Ивонку я бы не узнал: у нее был совершенно другой цвет волос, к тому же она перестала носить очки. Роберта я увидел впервые, ничего особенного: усы, само собой, и треники.)
— Мы вчера вызывали твой дух, — сказала Ивонке Баата после того, как мы (мило) поздоровались, — и мы знаем, чем ты занималась с семи вечера до четверти восьмого.
Лицо Ивонки залил румянец. Ивонка посмотрела на Роберта, просто-таки вперила в него взгляд. Роберт сказал Баате:
— Могла бы и воздержаться от этих злобных глупостей. Не знаю, что за черт в тебе сидит.
— Я же пошутила, — попыталась разрядить ситуацию Баата. Нам ничего не оставалось, как только распрощаться.
— Почему ты мне не написала, что у Ивоны ребенок? — спросил я ее, только ребята скрылись из виду.
— Это не ее ребенок, а ее кузины, — фыркнула Баата, — к тому же еще не крещенный.
За обедом, когда мы на минуту остались одни, Баата мне шепотом:
— Из-за всего этого я бы так и забыла тебе сказать практически самое главное. Знаешь, что сегодня ночью случилось? Моя мама положила мне палец в рот. Во сне. Она, думаю, ничего об этом не знает. Представляешь?
— Ну как, сегодня вызываем?
— А есть какие идеи?
— Я как раз вспомнил, что мой приятель погиб в аварии. Хотелось бы пообщаться.
— Понятно.
Вечер. Расчерченный лист мы достаем уже без смущения. Вызываем Яцека. Есть Яцек. Я спрашиваю, он отвечает.
— Где ты сейчас?
— В АДУ.
— Не шути.
— А Я И НЕ ШУЧУ. ТЫ КОГДА-НИБУДЬ ВИДЕЛ, ЧТОБЫ Я ШУТИЛ?
— Не припомню; и ведь на самом деле, — здесь я обращаюсь к Баате, — всегда только над ним шутили. Ну и как тебе там?
— НОРМАЛЬНО. ВЕЗДЕ, ГДЕ ОКАЗЫВАЕШЬСЯ, СТАНОВИТСЯ НОРМАЛЬНО.
— И что, есть шанс пообщаться с Богом?
— СКОРЕЕ НЕТ. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, МОГУ БЫТЬ РЕЛИГИОВЕДОМ.
— В смысле?
— МОГУ СТРОИТЬ ДОГАДКИ.
— Так ты не знаешь, как все обстоит на самом деле?
— А ЧТО ЗНАЧИТ «НА САМОМ ДЕЛЕ»?
— Так ты не обладаешь полным знанием?
— МОГ БЫ, ЕСЛИ БЫ ЗАХОТЕЛ, НО КОГДА ТЫ МОЖЕШЬ ЗНАТЬ ВСЕ, ЧТО ТОЛЬКО ЗАХОЧЕШЬ, ТО ТЕБЕ ПЕРЕСТАНЕТ ХОТЕТЬСЯ.
— Тогда чем ты там занят?
— РАЗГОВАРИВАЮ, ЗНАКОМЛЮСЬ.
— А кто там еще с тобой из известных людей?
— НЕ ИМЕЮ ПРАВА ГОВОРИТЬ. ТАЙНА.
— А можешь рассказать об аварии, в которую ты попал?
— МОГУ. ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ. — Баата глупо рассмеялась. Я ее осадил взглядом. — ЕХАЛ К ТЕТКЕ, В ДЕРЕВНЮ. ЗИМА. 30 ГРАДУСОВ МОРОЗ. НАС В АВТОБУСЕ ЧЕТВЕРО. С ВОДИТЕЛЕМ ВМЕСТЕ. ПОТОМУ ЧТО ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС. ОДИННАДЦАТЫЙ ЧАС НОЧИ. ВПЕРЕДИ МЕНЯ СИДЕЛ КАПИТАН В ФОРМЕ, МАЛЕНЬКИЙ, ЛЫСЫЙ. РЯДОМ С НИМ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, УЧИТЕЛЬНИЦА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. ПРИЧЕСКА У НЕЕ ТАКАЯ ЗАТЕЙЛИВАЯ, ВЫСОКО ВЗБИТАЯ, НА ЛАКЕ ДЕРЖИТСЯ, НОВЫЙ ГОД ПРИБЛИЖАЛСЯ. ОНИ РАЗГОВАРИВАЛИ ДРУГ С ДРУГОМ, НАВЕРНОЕ, БЫЛИ ЗНАКОМЫ. КАПИТАН ПРОЯВЛЯЛ СТАРОМОДНУЮ ГАЛАНТНОСТЬ. НЕЗАДОЛГО ДО МОЕЙ ОСТАНОВКИ В АВТОБУС СЕЛ ПЬЯНИЦА. КУРГУЗЫЙ ДЕРЕВЕНСКИЙ ПЬЯНЧУЖКА С СИЗЫМ НОСОМ. НЕ СОБИРАЛСЯ, ВИДАТЬ, НИКУДА ДАЛЕКО ЕХАТЬ, ПОТОМУ КАК ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ СЕСТЬ, ОН ВСТАЛ КАК РАЗ МЕЖДУ КАПИТАНОМ И УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ И ДЕРЖАЛСЯ ЗА ОПОРУ, НО КОГДА АВТОБУС ЗАНЕСЛО, ЕГО РУКА СОСКОЧИЛА С ОПОРЫ И ПОПАЛА АККУРАТ В ПРИЧЕСКУ УЧИТЕЛЬНИЦЫ, А ТА И ГОВОРИТ, ТОЖЕ, ВИДАТЬ, КОКЕТНИЧАЯ С КАПИТАНОМ, МОЛ, ГОСПОДИН КАПИТАН, СДЕЛАЙТЕ ЖЕ ЧТО-НИБУДЬ С ЭТИМ ПЬЯНИЦЕЙ, НЕ ТО МНЕ ПРИДЕТСЯ ОПЯТЬ ИДТИ К ПАРИКМАХЕРУ, А КАПИТАН НИЧЕГО, СИДИТ СЕБЕ, ТОЛЬКО ЛЫСИНА У НЕГО ВСЕ СИЛЬНЕЕ БАГРОВЕЕТ. ТАК ЕХАЛИ МЫ ЕЩЕ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ, ПОТОМ ПРИШЛА ПОРА МНЕ ВЫХОДИТЬ, НО КОГДА Я ХОТЕЛ ДОСТАТЬ СВОЮ СУМКУ С БАГАЖНОЙ ПОЛКИ НАВЕРХУ, ТО О СУМКУ ЗАЦЕПИЛАСЬ ФУРАЖКА КАПИТАНА, ТОЖЕ ТАМ ЛЕЖАВШАЯ, И УПАЛА НА ПОЛ, В ГРЯЗЬ. КАПИТАН, КАК УВИДЕЛ, ВСТАЛ, И Я УЖЕ ПОДУМАЛ, ЧТО ОН НАЧНЕТ ДРАТЬСЯ СО МНОЙ, А ОН, ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ПРОСТО РАССТЕГНУЛ КОБУРУ И ВЫСТРЕЛИЛ В МЕНЯ ИЗ ПИСТОЛЕТА. УЧИТЕЛЬНИЦА ПОДНЯЛА КРИК, АВТОБУС РЕЗКО ЗАТОРМОЗИЛ, ПЬЯНИЦА УПАЛ И СРАЗУ СО СТРАХУ ПОЛЕЗ ПОД СИДЕНЬЕ, НО КАПИТАН ДОСТАЛ ЕГО ТАМ И ЗАСТРЕЛИЛ. УЧИТЕЛЬНИЦА ВСЕ НЕ ПЕРЕСТАВАЛА ГОЛОСИТЬ, ТОГДА КАПИТАН УСПОКОИЛ И ЕЕ ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ, А ПОТОМ ЗАСТРЕЛИЛ И ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ БЕЗУСПЕШНО ПЫТАЛСЯ ОБЕЗОРУЖИТЬ ЕГО. В КОНЦЕ КОНЦОВ ПУСТИЛ ПУЛЮ СЕБЕ В ЛОБ. ПОКА ПРИЕХАЛА ДОРОЖНАЯ ПОМОЩЬ, ВСЕ МЫ УЖЕ УСПЕЛИ УМЕРЕТЬ. А ТЕПЕРЬ ЦЕЛУЙТЕСЬ.
— Что?
— ЦЕЛУЙТЕСЬ. ТЫ ЕЕ, А ОНА ТЕБЯ. НЕМЕДЛЕННО.
Я посмотрел на Баату.
— Он, наверное, какой-то эротоман, этот твой приятель, — сказала она. Ее лицо было замечательно спокойно. Не выражало ничего.
— А если не поцелуемся? — спросил я.
— ТОГДА ТЫ ПОТЕРЯЕШЬ АЛАРАНУ.
— Ну и что?
— АЛАРАНА ЭТО СЕРЬЕЗНО. НИКТО НЕ ЗАХОЧЕТ С ТОБОЙ РАЗГОВАРИВАТЬ. У ТЕБЯ НЕ БУДЕТ ДРУЗЕЙ, ОДНИ ЛИШЬ ШАПОЧНЫЕ ЗНАКОМСТВА. ВСЕ БУДУТ ИЗБЕГАТЬ ТЕБЯ КАК ПЛОХОГО ЧЕЛОВЕКА.
— А что с моей алараной? — неожиданно спросила Баата.
— ТЫ МОЖЕШЬ ОБРЕСТИ ЕЕ. ЦЕЛУЙТЕСЬ. СТРАСТНО.
— Ну что, поцелуемся, — предложила Баата. — От нас ведь не убудет.
— От нас ведь не убудет… — повторил я за ней. Хоть и глупо было просто так ни с того ни с сего начать целоваться. Тем более что я никогда раньше Баату не рассматривал в этом ракурсе. Сам не знаю почему, но мы оба вдруг встали.
Дверь резко распахнулась, и вошел дух, незваный, большой, густой: мама Бааты в белой ночной сорочке, с распущенными волосами. В этот момент она была воистину чем-то несусветным.
— Это что еще за сидение по ночам! — прикрикнула она. — Что тут, собственно говоря, происходит? Беата, марш в кровать! А вам, молодой человек, лучше отсюда побыстрее уезжать.
8. А мне и так в любом случае предстояло на следующий день уезжать. Только на этот раз я решил успеть на первый утренний автобус, был такой в четырнадцать минут седьмого, я записал, когда приехал; в течение этих двух часов, что мне остались до половины шестого, я, само собой, глаз не сомкнул, лежал на тахте в темноте и думал обо всем том, что произошло, а оно росло во мне, пухло, как большой черный волосатый пузырь, который нечем проколоть и который в конце концов прилепляется к тебе, облепляет тебя, залезает тебе в уши, в легкие, и в итоге ты оказываешься весь в сфере пузыря, а мир вне пузыря становится для тебя неизвестным.
В таком состоянии духа я встал с тахты на несколько минут раньше, чем собирался; я хотел просто собрать пожитки и выйти, ни с кем не раскланиваясь, чтобы как можно скорее выбросить из себя и эту квартиру, и все имевшие в ней место события; выйти на свет божий и светом этим привести себя в чувство. Но Баата тоже, по всей видимости, не спала, потому что, когда я начал суетиться, она заглянула в приоткрытую дверь и сказала:
— Уже уходишь? Подожди, я провожу тебя.
Нечеловеческая грусть ее голоса пронизала меня насквозь. Я подождал. Мы шли в молчании, нарушаемом лишь кашлем сопровождавшего нас Фитцджеральда. Не знаю, зачем Баата взяла его. Из-за него мы были вынуждены идти очень медленно, вот я и опоздал на автобус. Следующий был через час пятнадцать.
— Тогда, может, погуляем по городу, — предложила Баата. Мы гуляли в полном молчании. Баата выглядела так, как будто что-то лишило ее сил, как после огромного напряжения или после пыток, во время которых не издала ни звука. У каждого из нас за плечами были две бессонные ночи. Видать, не сделала на этот раз себе макияж (не успела?) и поэтому казалась такой бледной и опухшей.
Мы вышли на какую-то маленькую площадь, поросшую травой, с парой скамеек. Над одной из арок висела ржавая вывеска с нарисованным на ней вздыбленным конем.
— Здесь я прогуливала уроки, — неожиданно сказала Баата.
— А там что было? — спросил я, стараясь выказать минимум любопытства.
— Там был бар «Под Конем», никогда там не была.
— И чем ты занималась, когда прогуливала уроки?
— Просто сидела здесь.
И это было все, что мы сказали друг другу. Час худо-бедно пролетел.
Весь обратный путь на моем плече спал какой-то солдат с лицом сплошь в прыщах. Я решил, что ему это позволительно. Вышел я в Варшаве на Западном Вокзале, был уже почти полдень, но день серый, никакой. Мне вспомнилось, что сегодня суббота и скоро закроются все магазины, поэтому я вскочил в автобус и поехал в центр. Ничего не купил, лишь вымотался понапрасну. На Замковой площади я заметил Юлию Хартвиг, тащившую две сумки с покупками, одетую во все белое, а тем временем на небе (а вернее: под ним) повисли сине-коричневые тучи и даже начало немного моросить, и во всей этой белизне она выглядела как-то так жалко, что мне вдруг захотелось подойти к ней и предложить помочь нести ее сумки, но я вовремя сообразил, что, скорее всего, сам выгляжу как десять несчастий и что она наверняка примет меня за наркомана и подумает, что я хочу обокрасть ее, ну я и прошел мимо как ни в чем не бывало.
Поезд (пассажирский) до Гданьска был только вечером, вот и шатался я по городу, потому что боялся входить в кафе и что-либо там заказывать, вообще контактировать с кем бы то ни было. На улице Новы Свят ко мне ни с того ни с сего пристал какой-то парень и спросил:
— Веришь ли ты, что Иисус Христос воскрес?
— Да, — сказал я.
— Значит, ты уже спасен. Встретимся в раю, — сказал он мне и вручил цветную брошюрку на английском языке. С обложки на меня смотрел Иисус и улыбался, но как-то ехидно, щеря белые американские зубы.
На Центральном Вокзале атмосфера всегда такая, будто на дворе ночь. Я сел в зале ожидания наверху, люди сидели оборотившись на все стороны света, как будто совершали некое языческое богослужение. Никто не разговаривает, никто не спит, между лавками прохаживается мил… (и вовсе не мил-, а пол-) полицейский. Один гражданин достал из сумки бутерброд и положил рядом с собой на лавку, а когда застегивал сумку, неизвестно откуда появился исключительно нахальный голубь и начал этот бутерброд клевать. Заметив это, гражданин отогнал голубя и выбросил бутерброд в урну. И тогда с потолка спорхнули все голуби, числом, наверное, больше десятка, и заклубились в этой урне и над нею.
— Как крысы, — сказала пожилая женщина. — Ни дать ни взять, крысы.
Сижу в поезде. Из противоположного окна открывается вид на нечто такое, что можно написать только заглавными буквами: Невиданный Заход Солнца Над Равниной. Теперь моя голова отбрасывает тень на то, во что я вглядываюсь: наросты, лишаи, шрамы. Моя голова бросает тень рефлексии на то, что я вижу. Поскольку рефлексия просветляет и делает более рельефным то, что в голове, и затемняет и замутняет то, что перед глазами.
Когда поезд остановился в Гданьске, была еще ночь, и неудобно было будить людей звонком, а потому я поехал дальше, до Сопота, а там пошел на пляж. Постепенно начало светать. Я сел в обитое дерматином плетеное пляжное кресло (на спинке надпись: ЗДЕСЬ Я ОТДАЛАСЬ ПАРНЮ ПО ИМЕНИ ЯЦЕК. ЕМУ 19 ЛЕТ, И ЖИВЕТ ОН ВО ВЖЕШЧЕ). У моря коричневый цвет. По морю плавают корабли. Между листками тетради хрустит песок.
начато в ноябре 1992
закончено в декабре 1994
СМЫСЛ ЖИЗНИ средиземноморский рассказ
I. Падуя
Нас туда отвез парень по имени Мауро (тоже филолог, только итальянский, в любом случае на нас обоих были одинаковые очки), соблазнил нас этой Падуей, а потом оставил нас на улице Данте и — желаю вам счастья в нашей общей безнадеге (никаких перспектив ни у кого из нас троих). Только его и видели, впрочем, что там, для автостопа это дело обычное, только немного жаль, что вместе с его маленьким красным (итальянским) фиатом[2]исчезла и комнатушка, которую он занимал в общежитии и на которую мы рассчитывали. В порядке скромной компенсации перед нашими глазами неожиданно предстала знаменитая падуанская рыночная площадь, а стоящая на ней церковь (обозначенная Бесом как место возможной встречи) из строчки в путеводителе превратилась в нечто в высшей степени реальное и каменное. Имеющее ступеньки. На которые можно сесть и перевести дух. (Нам предстояло ждать всех остальных до шести вечера.) Моника Пех как села, так и осталась сидеть; меня некоторое время спустя потянуло осматривать достопримечательности, вот и оставил я ее на страже нашего скарба, а сам, свободный, как птица, пошел по какой-то улочке куда глаза гладят, стараясь по возможности удержать в голове логический порядок очередности поворотов (на случай если бы память моя, отягощаемая обслуживанием все новых и новых всплесков интереса, не справилась); улочки были узкие, и мне помимо воли пришлось стать свидетелем и даже участником (пассивным) нескольких дорожных происшествий, крику было выше крыши; персики дороже, чем в Вероне.
Новая встреча с рыночной площадью обнаружила ее обогащенной присутствием Матульской и Беса, которым Моника как раз докладывала обо всех (главным образом итальянских) ухажерах, объектом внимания которых она успела стать, пока сидела на ступенях. Они же, в свою очередь, рассказали о своем автостопе. Их подобрал грузовик. Сели, Магда первая. Шофер спросил ее, не мальчик ли она. Сказала, что нет. А Бес — ее жених? Нет. Тогда, может, брат? Тоже нет. Шофер почувствовал, что находится на правильном пути. Правая рука шофера мягко оторвалась от рычага переключателя скоростей и, точно ведомый из центра управления спутник, начала свой разведывательный полет к скрытым блузкой проявлениям Магдиного девичества. Дабы избежать открытого конфликта, Бес и Магда осуществили тактический маневр перемены мест, оставив руку слепой и поглупевшей (весь остаток водителя был сосредоточен на управлении мчащимся грузовиком), но все еще продолжавшей отчаянные конвульсивные попытки достичь то, от чего ее теперь отделяло ненавистное тело Беса. Наконец до водителя дошло, что, должно быть, произошло что-то непостижимое. Он резко затормозил и окриком заставил пассажиров покинуть кабину[3]. Когда очередь дошла до меня, я сказал, что весь город обвешан какими-то плакатами, расхваливающими какое-то культурное мероприятие, так, может, на него сходить? Ведь мы как-никак в Падуе, в городе, где золотые годы сладостной молодости своей провел не кто иной, как сам Ян Кохановский. Предложение мое было принято без каких бы то ни было конструктивных возражений, а потому мы, в приподнятом настроении (только Моника, когда ей пришлось снова надеть рюкзак, подумала, что она умрет), отправились на поиск сначала плаката, потом улицы, а в конце концов и самого здания, предоставившего свои стены этому представлению.
Это было, как оказалось, весьма разностороннее представление молодого итальянского искусства, во внутреннем дворике какой-то оркестр, наверное студенческий, играл Вивальди, внутри здания в одном зале проходил показ видеофильмов, заявленных на Венецианский фестиваль (Венеция все еще казалась нам чем-то очень далеким), другой зал занимала выставка последних достижений итальянского художественного авангарда (на их языке это называлось «mostra»). Вивальди как Вивальди, быстро нам наскучил, фильмики так себе, один меня взволновал, в нем сперва показали мальчика, сидевшего за столом, что-то говорившего, естественно, по-итальянски, а потом весь видеоряд повторялся, только вместо голоса мальчика шла музыкальная подкладка, что как бы не оставляло сомнений в смерти мальчика, и в любом случае этот просмотр теперь становится каким-то странным образом обязательным, становилось жаль, что ты раньше не прислушался к словам говорившего, как будто слушание могло здесь в чем-нибудь помочь. Другой фильм начинался отрывком из «Психоза», который по телевизору смотрел садовник, видимо отвечавший за окружавшую университет зелень, следующий кадр показывал нам двух студенток, прогуливавшихся под ручку по коридору, по которому наверняка хаживал и Ян Кохановский[4]. Студентки подходят к окну и смотрят на прекрасный парк с розами. Одна другой что-то говорит. Далее, та же самая студентка, но уже в саду, притаилась, пытается сорвать розу, у нее это получается не слишком ловко. Мы замечаем садовника, выглядывающего из-за кустов, студентка тоже замечает его и пускается наутек. Опять студентки у окна. Их замечает ухаживающий за розами садовник. Он поднимает руки вверх, а в руках — секатор и чик-чик — выполняет в воздухе движение, имитирующее стрижку. Встревоженные студентки отпрянули от окна. И снова студентка, прогуливающаяся на этот раз по коридору в одиночку. Неожиданно из ниши выступает ни дать ни взять дух Яна Кохановского, садовник. На лице решительность, руки спрятаны сзади, за спиной. Студентка от него бегом. Мы покидаем зал, грезя о лабиринте бесконечных коридоров.
II. Mostra
Начать надо с того, что там не было гардероба. Ни чего-то такого, что хотя бы отдаленно напоминало раздевалку. Ни вахты, ни бесполезной вечно сидящей при входе в туалет тетки, ничего. А человек с рюкзаком за плечами — не то же самое, что без рюкзака. У него другие желания, другие мечты, время у него идет по-другому. Он по-другому смотрит на мир. По-другому видят его другие (люди, даже собаки). Что касается нас, то прежде всего мы стремились избежать неосмотрительного разрастания и так уже невыносимо отяготившего нас багажа (хоть на этот раз речь шла только о нашем общем багаже переживаний эстетического порядка), а потому, не слишком воздыхая над большинством собранных там произведений, мы инстинктивно, ведомые безошибочным нюхом наших спин, сразу направились к самому важному. А самым важным (и относительно этого ни у кого не было никаких сомнений) оказалась camera[5], а вернее, две: на два посетителя и на четыре. В первую впускал сам художник и надо было ждать в очереди, а потому в первом порыве нашего минималистского максимализма мы сочли, что нас устроит и вторая, не пользовавшаяся таким уж большим успехом, зато как бы учитывающая нашу численность. Это была маленькая комнатка, темная, перегороженная чем-то вроде молельного барьерчика для коленопреклонения или такого барьерчика, к которому подходят за святым причастием. Сначала комнатка показалась совершенно пустой, некоторое время спустя глаз начинал замечать лежащее в дальнем углу и светящееся бледным светом нечто, похожее на крошки.
— И что бы это могло значить? — стали мы спрашивать себя как бы серьезно, но уже готовя в глубине души разные ехидные насмешки и заранее радуясь им.
— Это — смысл жизни, — выдала вдруг Матульска с апломбом знатока. Никто не посмел возразить. Вот он, лучший прикол, причем в самом начале. Нам не оставалось ничего другого, как только принять его на полном серьезе.
Вот, значит, каков он, смысл жизни. У нас сразу же появилось желание приглядеться к нему сблизи. Поозиравшись по сторонам, мы перескочили через барьерчик. Смысл жизни, каким мы его увидели, можно свести к лежащим в беспорядке маленьким кусочкам как бы фосфоресцирующего ламината. Допустив, что, даже будучи вырванным из контекста, смысл жизни остается смыслом жизни, мы взяли себе по одной его частичке, на всякий случай[6].
Оставалась еще одна camera, на два посетителя, сулившая впечатления более высокого порядка (впрочем, что для человека может быть более привлекательным, чем смысл жизни? Смысл мира? А может, смысл смерти?), и отказываться от ее посещения было бы с нашей стороны непростительным идиотизмом. Мы встали в очередь, и, окидывая рассеянным взором находившуюся неподалеку инсталляцию, художественная идея которой реализовывалась в пространстве между двумя плавающими по воде телевизорами, по одному из которых показывали фильм «Easy Rider» (с итальянскими субтитрами), а по второму — телеклипы Джизуса Джоунса, мы ждем своей очереди. Которая наконец подошла. Сначала для Беса и Моники Пех. Мы с Магдой все еще снаружи. Время пребывания в камере ограничено и составляло около пяти минут. Сидевший при входе автор (угрюмый бородач) вел беспрерывный монолог (да, да, только итальянский язык может такое позволить), адресуя его собравшейся вокруг него группке счастливчиков (а может, даже последователей), за плечами которых уже была camera. Через каждые несколько (четко отмеренных) секунд он нажимал на ту или иную клавишу маленького кассетного магнитофона, от которого понятно куда тянулась скрытая проводка.
Ну вот, наконец. Выходят. Выражение лиц неопределенное.
— Это переживание не имеет себе равных, — говорит нам Бес. — Запомните хорошенько, какие вы сейчас, ибо оттуда вы выйдете другими.
Да куда там, нету времени запоминать, за нами уже большая очередь, здесь художник смотрит на нас исподлобья, после чего переводит свой взгляд заклинателя на бархатную портьеру, за которой — зов тайны. И вот мы уже (последнее, что мне удалось уловить, был Питер Фонда, которого как раз показывали на экране) в комнате, а точнее (только мы вошли, Магда со свойственной ей точностью констатировала) — на Небе. В самом деле, нигде в нашем мире не могло быть аж так небесно-голубо. Небесно-голубые стены, небесно-голубой пол, с потолка, тоже, ясно дело, небесно-голубого, на нитках свешиваются небесные тела — месяцы, звезды, сатурны. Мы тоже — небесно-голубые из-за льющегося отовсюду небесно-голубого света. Спору нет, то, что мы увидали, с просто-таки бесстыдной точностью передавало наиболее стереотипное и при этом несомненно наиболее глубоко укорененное в каждом из нас представление о потустороннем мире (а захотел бы кто-нибудь когда-нибудь в чем-нибудь подобном оказаться и жить там — это отдельный вопрос). Но было там также много элементов, вызывающих беспокойство или по меньшей мере — раздражение в каждой христианской душе: стены сделаны из фольги, астральные тела вырезаны из пенопласта[7], завывающая арабская музыка. Бедное, кичеватое и наспех сляпанное. Впрочем, с этим можно было бы даже смириться, объяснить, допустим, художественной условностью, отсутствием денег (или вкуса; впрочем, это вещь спорная, обязан ли художник или Господь Бог обладать хорошим вкусом), целью донести до нас изначально-ярмарочный характер наших религиозных представлений, если бы не три стоящих на полу объекта, назовем их скульптурами, из папье-маше. Что бы мы тогда об этом устроенном для нас Небе ни думали, мы прежде всего ожидаем, что оно будет для нас проявлением Смысла — всеохватного, все объясняющего, а кроме того — устраивающего нас, причем с любой точки зрения. Разве Смысл может быть глупым? Или смешным? То есть допускаем ли мы (здесь речь не о каких-то придуманных философами жестоких шутках Высшего Существа), что он может нас рассмешить. Конечно, кто-то может теоретически согласиться с таким Смыслом, но пусть он усвоит, что после знакомства с ним в человеке должна возникнуть потребность в настоящем Смысле, и тогда вся канитель начнется сызнова. А потому, с формальной стороны, Смысл должен быть серьезным, если не сказать возвышенным, таким, чтобы не оставалось сомнений, что через него о себе заявляет высшая Мудрость. И совершенно наверняка — что, однако, понятно само собой — он не может быть ни в малейшей степени бессмысленным. У каждого Смысла есть свой смысл, это известно даже ребенку. А смысл Смысла (ибо много ли возьмешь от Смысла самого по себе) должен быть в принципе видимым невооруженным глазом, легко распознаваемым и понятным, так, чтобы для каждого стало очевидным, что он имеет дело со Смыслом. А теперь, пожалуйста, представьте Небо, в котором на полу стоит лебедь, рядом с ним, несколько меньше его, мост, а в противоположном углу — уточка.
Во всяком случае, там тогда мы не делали всех этих мысленных выводов и даже наверняка возмутились бы, если бы кто-то заподозрил нас в вовлечении интеллекта в экзегезу увиденной в камере глупости. Но ведь в некоторых случаях человек позволяет себе быть безошибочным, и первое впечатление тогда значит больше, чем порой годы раздумий. Итак, нескольких секунд пребывания в камере хватило нам понять, что, несмотря на небесные видимости, в ней господствует мрачная агрессивная бессмыслица. Исчезли все основания, в силу которых мы должны были подходить к чему-то такому серьезно. Магда тотчас вцепилась в небесные своды, и все вдруг светила, планеты и звезды расколыхались над нами, раскачались и расплясались, точно стайка невинных зайчиков, принимая таким образом видимость первобытного хаоса. Я попытался поставить лебедя вверх ногами, но он все время переворачивался, вскоре все это перестало занимать нас, те возможности, что предоставляла camera, были исчерпаны — была бы она святыней, тогда ее можно было бы бесчестить с еще большим удовлетворением. Мы вышли раньше отпущенного на посещение времени, чем вызвали неописуемое удивление художника; мы даже хотели поделиться с ним ощущениями, но наши иностранные языки еще не настолько созрели, чтобы, отпуская насмешки и издевки, самим не стать объектом издевок и насмешек.
Мы были глупы. Но мне интересно, как вы отреагируете на то, что я вам сейчас напишу (а это, к сожалению, правда). Нам кажется, что перед нами бесчисленное количество возможностей, а их между тем всего семь:
уточка, мост и лебедь;
лебедь, мост и уточка;
уточка, лебедь и мост;
мост, лебедь и уточка;
мост, уточка и лебедь;
лебедь, уточка и мост;
а если не нравится, то до свидания.
III. Венеция
На этот раз в качестве сборного пункта мы выбрали крылатого льва[8], стоящего на колонне на площади Св. Марка, где ежедневно, с шести до восьми вечера сидели под ним в ожидании Сколясов, затерявшихся где-то по дороге. Позже нам пришло в голову, а не вывесить ли бело-красный флаг и не объявить ли на этом (огороженном толстыми цепями) пространстве подо львом польскую колонию. Это, естественно, вызвало бы вмешательство карабинеров и, вслед за этим, отклик в прессе — не только местной, а после (наверняка принудительного, а потому бесплатного) выдворения домой нас ожидали бы медали и почести. Пока же сидим там в первый раз и выбираем ножом из поллитровой банки полужидкий свиной паштет, а карабинеры кружат рядом, сочувственно поглядывая на нас. И вдруг:
— Смотрите, вон, смысл жизни! — воскликнули девушки, смотрим, а там (со стороны города) приближаются какие-то люди, помахивая длинными и, похоже, гибкими смыслами жизни, причем так, что возникала ассоциация с хвостами радующихся собак или с внутрикишечными червями, что также легче всего наблюдать на примере собак. Постепенно нашему взору открывалось все больше проступавших из вечернего полумрака разнообразных смыслов жизни, одни из которых принимали форму геометрических фигур, другие, закрепленные на леске, работали по типу детской игрушки йо-йо (в какой-то степени они и были ею). И все они — красные, зеленые, голубые — светились бледным холодным светом. Неожиданно вокруг нас все зашевелилось от их мерцающего присутствия[9].
Ночью разразилась буря, четыре оркестра, заполнявшие воздух над Сан-Марко своим непринужденным алеаторическим бренчанием, неожиданно дружно затихли, и мгновение спустя лишь ветер носил по темной площади белую бумагу и тряпье[10].
От автора
Пани Эльжбету я придумал осенью 1989 года, когда мы с Виолеткой Пежановской пытались вместе написать роман о моей любви; «Капитан» не появился бы, если бы не анекдот, рассказанный профессором Яцеком Пшепюрой; с «Пуделем» я не справился бы без самоотверженной помощи Рафала Казьмерчака. Остальное доделал случай и нехватка у меня фантазии. Ярек Клейнберг сегодня самый выдающийся польский писатель в Израиле; у Магды Матульской есть жених — Черепаха. Всем горячий привет.
Адам Ведеманн
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Буквальный перевод: «сук собака бровь» («сук» используется также в устойчивых оборотах, эквивалентных русским «вот в чем загвоздка», «в том-то и дело»). Фонетически соответствует французскому “cinq pièces brèves” («Пять коротких пьес»).
(обратно)2
— Только на такой меня хватило.
— Нас тоже, — ответили мы, и это был наш большой лингвистический успех, потому что Мауро наконец рассмеялся.
(обратно)3
На втором автостопе Магду спросили:
— What do you do?
— I do nothing, — ответила она.
(обратно)4
Что поделаешь, если я его себе именно так и представляю: как бедного студента с бородой, в рейтузах, обтягивающих дрожащие от страха коленки.
(обратно)5
«Комнаты» (ит.).
(обратно)6
По возвращении домой я прилепил свой к встроенной тахте, и он верно служил мне вплоть до переселения, когда эта тахта была продана соседке Стодольной, а поскольку меня при этом не было, то и мой смысл жизни достался ее сыну по имени Мартин.
(обратно)7
Выйдя из камеры, Магда демонстративно призналась, что одну звезду она вынесла в сумке (это было что-то вроде мести художнику, который так ничего из этого не понял).
(обратно)8
Потом, укрываясь от дождя в аркадах напротив Базилики, периодически расцветающей светом молний, мы наткнулись на витрину с фотографиями льва, покрытого какими-то отвратительными лишаями, которого в таком состоянии везли на моторной гондоле. Мне сразу на ум пришел Игорь Стравинский, тем же самым транспортным средством, разве что в гробу, перевозимый на остров Сан-Мишель, а Бес тем временем вычитал, что лев только месяц назад вернулся после долгой реставрации, так что еще б немного, и мы могли бы до самой смерти искать друг друга по этому Ленинграду Юга. Консолидация в группе на какое-то время усилилась.
(обратно)9
На следующий день вечером, когда мы с Бесом были на пицце, девушки купили себе два таких смысла и стали ими нас приветствовать, держа их над своими головами наподобие ореолов.
— О, санта Моника!
— О, санта Мадалена! — воскликнули мы, полные восхищения, после чего немедленно разработали план чудесного явления обеих святых в какой-нибудь затерянной польской деревушке. К сожалению, через два дня эти смыслы перестали светиться.
(обратно)10
После этого предложения любое другое было бы на самом деле чем-то неуместным.
(обратно)


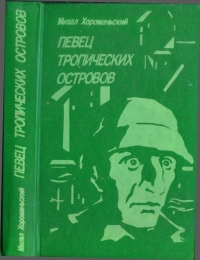

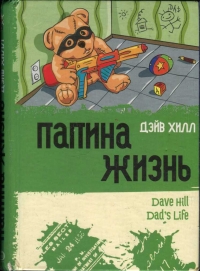

Комментарии к книге «Где собака зарыта», Адам Ведеманн
Всего 0 комментариев