СЪЕДОБНЫЕ ЛЮДИ
Я заметил, что очень многие молодые люди
посещают оккультные группы в надежде
кадрить девчонок, но что касается меня,
я надеюсь на встречу с бесами.
Роберт Ирвин
Я исправился, я исправил себя.
Я никогда не ел человеческого мяса.
Кристиан Крахт
часть первая
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ
Боже мой, Боже мой, Боже мой,
я таю, как воск, под взглядом твоим.
Я бедное дитя. Охрани меня от Бога
и Дьявола. Позволь мне спать
у деревьев твоих, в твоих садах,
за твоими стенами. Господи, мне трудно.
Молитва моя никуда не годна, но ты видишь,
что я – в неудобной позе, и солома
отпечаталась на моих коленках.
Жан Жене
1
– Давайте не будем его будить, – сказала Регина. И меня не стали будить. Меня подняли на руки и отнесли на второй этаж, заботливо разоблачили и уложили на диван, закутав одеялом.
Я проснулся, как обычно, через шесть часов. На этот раз – в пять утра. То есть это полагается так говорить, что утра – мне кажется, что в зависимости от времени года одна и та же доля суток относится к разным частям дня. Так что, как я смог убедиться, нашарив на прикроватной табуретке очки и собрав мерцающие зелёные загогулины напротив в рельефные цифры, было пять часов январской ночи.
Я вылез из-под тёплого одеяла и расшторил окно. На столе обнаружилась работающая лампа, которая тут же превратила мой смутный контур на оконном стекле в расплывчатого упыря. Такие отражения бывают только в окнах, когда темно, а в комнате горит свет – не плотные и уверенные зеркальные двойники, а двумерные тени, втиснутые в лист стекла между тобой и остальным миром. Когда я перекурил гашиша неделю назад и был оставлен в одиночестве равнодушным кузеном, в числе прочих кошмаров, которые дёргали мой мозг за сотни ниточек, была внезапно открывшаяся правда о том, что человеку вредят именно эти отражения, оконные, а не из зеркал. Именно они пьют из человека все жизненные энергии, заставляя его прогуливать лекции, проводить выходное время в кабаках вместо укрепления семьи и вложения денег в комфортное житьё, нарколыжить и ездить в Турцию или Крым. Толстый и плотный двойник, который смотрит на человека, когда он бреется или красит губы, абсолютно безвреден. Он такой же хороший парень или такая же правильная девчонка, как и ты. А его все боятся…
В любом случае, не стоит заглядываться на свои оконные подобия, поэтому я переключился на комнату. Комната явно принадлежала малолетней сводной сестре Регины, которую родители забрали с собой – показать Индию, оставив дом в полном распоряжении старшей дочери. Посередине стола в лучах лампы грелись Шэгги и Скуби-Ду, повисший у него на руках – оба с перекошенными от ужаса рожами. На стенах висели Шрэк с ослом и зелёной принцессой, беглое мадагаскарское зверьё, бледный глазастый Виктор, держащий за руку Труп Невесты и Джек Скеллингтон, попытавшийся совместить Вечер Всех Святых с Днём Рождения Одного Бога. Вкусы отпрысков ландшафтных дизайнеров мало чем отличаются от вкусов других детей.
Единственное, чего не хватало в комнате, так это моей одежды. Я осмотрел все зазоры между столом, кроватью, табуреткой и шкафом. Очевидно, меня раздели на первом этаже, в гостиной, где я отключился у телевизора. И там же оставили одежду, несправедливо решив, что я буду отсыпаться дольше всех. Я машинально открыл сестрин шкаф и, отстранив вешалки с маленькими платьями, сразу же наткнулся на жёлтый банный халатик с капюшоном в виде утиной головы с клювом-козырьком. За десятилетней девочкой он должен был волочиться по полу, а мне доходил ровно до середины бёдер. Я посмотрел на себя в нормальное зеркало и обнаружил там фрика в лучших традициях уорхоловской Фабрики: лёгкая юношеская небритость, мешки под глазами с мутным взглядом и шмыгающий нос – в утёночьей упаковке. Кря-кря. Для довершения образа нужно было только закурить, и я отправился на первый этаж.
За дверью, после того куска коридора, до которого достигал свет из моей временной спальни, стояла сплошная чернота, которая встретила меня углами шкафов, какими-то звякающими безделушками на дурацких полках и некстати прокатившейся вниз лестницей. Несмотря на общую пьяную опухлость и заторможенную реакцию я вполне спокойно дошёл до первоэтажной кухни, довольно быстро нащупал световключатель и устроился в кресле, напротив стола и холодильника. К счастью, родители Регины запретили ей и гостям курить где-нибудь кроме кухни, иначе сигареты остались бы вместе с Региной, Сашей и Семёном в гостиной. Проходя мимо, я успел убедиться, что они заперлись втроём и, судя по отсутствию звуков, уже потрахались и спят. Я закурил, запивая тёплым чаем. Интересно, чего они так испугались – что я невовремя проснусь и решу потребовать законную одежду, а потом и вовсе попробую присоединиться четвёртым? Или что я не просто отрубился из-за недельного употребления наркотиков и алкоголя, а превратился в зомбаря и приду за предназначенным мне природой вкусным человеческим мозгом? Тот неизвестный парень, который придумал, что зомби едят мозги – бесспорный гений современного мифотворчества. Кстати, очень хочется есть. Наверное, потому что вчера был только лёгкий завтрак в кафе и много алкоголя.
Я осмотрел внутренние органы холодильника и убедился, что из доступной моему кулинарному дилетантизму еды там есть только яйца. Я ненавидел что-либо готовить из-за врождённой лени и с радостью бессовестного коллаборациониста уступил ей, увидев на столе остатки хлеба и баночку с жевательным мармеладом в виде улыбающихся медведиков. Медведики были необычно большими и их было непростительно много. Жевательный мармелад – странная штука. Чем больше его съедаешь, тем больше ощущение, что сладкую псевдоживотную плоть надо старательно рассасывать, наслаждаясь перетекающим внутрь слюнявым соком. И с тем большей обречённостью впиваешься в него зубами, будто это настоящее медвежье, динозаврье или ещё какое мясо. Одного за другим я старательно обезглавливал резцами сгустки патоки и лимонной кислоты, дробил на сладких червячков и глотал. Потому что дальнейшему дроблению они, к сожалению, не поддавались.
Очередной медведь навёл меня на крамольную мысль. В России такой дефицит реальной политики, что бессмысленная мозгодрочка на политические темы порождается буквально чем угодно. Этот медведь явно был заводским браком, то ли жертвой непредсказуемых мутаций, то ли дегенеративным выблядком дурных медвежьих генов. Все медведи как медведи, одного заранее выбранного цвета, а этот был смесью сразу нескольких красителей: полморды зелёные, полморды бледно-жёлтые, с туловищем та же фигня. Перед тем как откусить и его составное мозгохранилище и разжевать его вместе с содержимым, я подумал, что во всём мире уже давно пора начать выпуск кондитерских изделий в виде глав государств: миндальный Саркози, шоколадный Обама, нуговый Ахмадинежад, марципановая Меркель и мармеладный Медведев. Чтобы граждане, обделённые заботой государства или чересчур пристально охваченные его вниманием (а такие будут всегда, до самого Армагеддона, зуб даю), могли совершить символическую гражданскую месть, самолично расчленив и утопив в цистерне с соляной кислотой чучело человека, который должен бы отвечать за их маленькие судьбы, да почему-то не смог. В прошлом государство могло устраивать гражданские казни смутьянам и отщепенцам, осмелившимся посягнуть на его машину. В двадцать первом веке граждане должны иметь возможность казнить государство. Тем более, от него всё равно не убудет.
Куски медведя полетели в растворительный резервуар, и я решил перейти на пиво, поскольку понял, что мишки явно принадлежат младшей любимице семейства. А мне не хотелось бы огорчать ребёнка, который смотрел как минимум два фильма Бёртона. Мне вообще не хочется огорчать никаких детей.
Остаток ночи и начало утра, которое в январе наступает не раньше восьми, я провёл слоняясь вверх-вниз по этажам, листая неплохие хозяйские книги и бухая Хайнекен за Хайнекеном. Около девяти меня наконец сморило в моей спаленке, и я залез обратно под одеяло, где и проспал ещё до полудня.
2
Зовите меня Измаил, Александр или как-нибудь ещё. Мне всё равно. Мама зовёт меня «сыночка», отец – «сын», сестра – «слушай», одноклассники звали «умником», «гондоном», «дружищем», «сраным хипстером» и «Джонленноном», потому что я носил круглые очки (а после восьмого класса и вовсе стал отращивать хаер). С равным успехом по этой причине меня можно было бы называть «Джеймсджойсом» или «Дженисджоплин» (последнее было бы особенно обидным из-за специфических русскоязыковых ассоциаций), но двух последних мои одноклассники явно не знали, тем более в том раннем возрасте, когда погоняло только начало ко мне прилипать. На Гарри Поттера я не потянул: во-первых, я не спасал мир, во-вторых, наш класс как-то прошмыгнул мимо творения миссис Роулинг – не то что бы не заметил или не впечатлился, просто у нас в классе мало читали, а когда появились фильмы, я уже год как был мёртвым хиппарём-анархистом, развалившим лучшую попсовую группу всех времён и народов. Естественные попытки звать меня Гарри или Гариком не прижились. И к лучшему: мне не особенно улыбалось, достигнув отроческих лет, разделить печальную судьбу почти всех Игорей и некоторых Егоров – откликаться на ласковое имя гашиша или героина, в зависимости от зависимости, местности и степеней компанейской дурноты.
Летом после десятого класса я сменил круглые очки на квадратные и безжалостно срезал длинные волосы, чтобы тут же по ним возгоревать. С короткими волосами я выглядел потешным дворовым подростком, который старается ни на йотку не отступить от неписаного, но от этого не менее серьёзного, подверженного строгим санкциям кодекса мужской внешности. Быть таким мне никак не улыбалось. Всё равно я выёбывался в одежде и в асоциальных компаниях, тусующихся в парковых беседках вокруг школы, за своего пацана не проканал бы. Впрочем, и в этой среде давно тусовались патлатые, узкоджинсоногие, а теперь уже и туннелеухие: страшные пареньки с огромными чёрными дырами в ушах. Я вообще подозреваю, что такие персонажи тусовались там всегда, и все мифы о недовольстве пролетарской молодёжи длинными волосами придуманы молодёжными писателями и режиссёрами. Когда я изложил эту теорию однокурсникам, приехавшим из провинции, мне в самой категорической форме было заявлено, что это в зажравшемся сердце родины такого нет, а вот в почках, печёнках и кишках страны этого дерьма навалом. На это я заметил, что новости до провинции доходят последними и очень доверчиво воспринимаются населением. Провинциальные пацаны прочли в каком-нибудь таблоиде или увидели в телевизионном сюжете, что они должны доёбываться до волосатых рокеров и металлистов, почесали свои репы и стали соответствовать созданному кем-то другим имиджу. После этой реплики металлюга из Ульяновска чуть не впаял мне кулачищем по щам. Позже я узнал, что ульяновские гопари два раза ловили его и брили отросший хаер налысо (во второй раз волосы только-только до плеч отросли после первого), сопровождая стрижку чувствительными побоями. Тем не менее, эта неловкая ситуация не заставила меня отказаться от своей теории. В итоге мы сошлись с металлистом на том, что многие отцы и дядья его мучителей в юности отплясывали под Битлов и Роллингов, мотая внушительными патлами, после чего взяли по пиву и сменили тему.
В общем, после созерцания себя коротковолосого мне не оставалось ничего, кроме «тактики выжженной головы». Я постригся налысо и в очках напоминал французского философа Мишеля Фуко, а без очков, пытаясь мрачной рожей и суровым взглядом уравновесить беззащитность близорукости, – американского сатаниста Антона Шандора Лавея. Тем не менее последние два школьных полугодия доходил Джонленноном. «Слышь, Леннон, пошли кирнём на скамейке, шо нас в армию не берут» (меня не брали из-за близорукости, собутыльника по такому радостному поводу – из-за сердечных пороков). «Слышь, Джон, сыграй эту свою… естэдэй» (во время выпускного, дежурный подкол: я совсем не умел играть на гитаре, несмотря на обязывающее прозвище; на всём остальном тоже не умел). И даже в серьёзную и ответственную минуту, когда возникала острая необходимость в моей помощи: «Джон, доведи до дабла… осторожно, щас сблюю… да, до окна…» (естественно, на том же самом выпускном, лучший школьный друг; впрочем, я смог довести его только до порога учительской (позже я слышал, что грузная географичка таки наебнулась на нерастворённой пище, пропитанной красным вином); а вот лучший школьный друг, когда у меня через три часа возникла необходимость в аналогичной услуге, успешно довёл меня до ближайшего туалета и даже заботливо перегнул через подоконник).
Поскольку я не отличался любовью к компьютерному железу и алгебре, в программеры я не пошёл. В манагеры и правоведы я не пошёл, потому что семья не располагала деньгами для официальной оплаты обучения или неофициальной – поступления. Я навострил лыжи в направлении филологического факультета. И успешно поступил. Любые филфаки народная молва объявляла пастбищами огромных отар юных дев, и действительно, девушки преобладали. Вот только была одна закавыка. Студентки-филологички делились на три условные категории: умные и уродливые; красивые, но отвратительно тупые; очень умные и очень красивые лесбиянки. К концу второго курса я окончательно перестал подбивать клинья к кому бы то ни было и вяло тусовался с многочисленными раздолбаями с разных факультетов, предпочитая распитие вина и насыщенные беседы бесконечной санта-барбаре любовных многогранников, распространённой в раздолбайской среде.
Университетские знакомые долго не могли определиться с тем, как меня называть. Им вообще было сложно определиться с тем, кто я и на какую полку меня поставить. Многочисленные историки, среди которых преобладали задроты, увлекающиеся ролевыми играми, а также политические радикалы в регистре от сталинцев до гитлеровцев (впрочем, и те и другие сходились в необходимости жёсткого порядка, массовых расстрелов и в том, что пивные животы ни в коем случае не портят мужчину) первое время принимали меня за толкиниста (из-за отросших за полтора года волос) и весь первый семестр недоумевали, почему это я слушаю электронную музыку, а не тяжелый металл. После первых моих студенческих новогодних праздников до них что-то дошло, и они перевели меня из категории толкинистов в категорию педерастов, несмотря на то, что я не испытывал сексуального влечения к особям своего пола. Впрочем, какой-то француз однажды высказался, что умную женщину под силу любить только педерасту, так что в чём-то эти фанаты крови и почвы были правы (вот только умных женщин на мою долю почему-то не находилось). Все радикалы дружно ощущали мою чуждость своим грёзам о самом прекрасном социальном строе: для нацболов я был слишком аполитичен, для язычников-почвенников слишком космополитичен, для коммунистов – слишком мелкобуржуазен. К тому же меня постоянно губила моя жажда спорить и глумиться над любыми попытками человеков построить мечту. Историки стройными когортами обходили меня как декадента и не называли никак, если не считать матерных оборотов. Рядовые филологини в брачном гоне также не удостаивали меня своим вниманием, поскольку в шкале качеств «образцового самца», однажды подслушанной мною в курилке, «нормальные бабки» изрядно перевешивали «умелую еблю». Технари, балдеющие от аниме-сериалов и онлайн-игр, просто не находили со мной тем для разговора: я не смотрел ни одного сериала и не играл ни в одну игру.
Имя мне подарила интерфакультетская ватага прогульщиков, планокуров и винопийц, которая сложилась к началу третьего курса. Однажды во время совместной пьянки на чьей-то обезродителевшей квартире все по очереди примеряли парик, который принадлежал маме временного хозяина хаты. Примерка перемежалась взрывами хохота, потому что с каждой новой головой, увенчиваемой светлыми локонами, мы по новой забивали бурбулятор травой и пускали его по кругу. Моя очередь была последней, я был без очков и на этот раз не строил страшную рожу (скулы уже болели от смеха, и я даже рефлексивно не смог бы набычиться). К сожалению, выражение моего лица в момент обретения имени не было запечатлено на плёнку, но если верить остальным участникам вечеринки, в парике, с чуть прищуренными глазами, я был необычайно похож на обдолбанного Джима Моррисона, на которого совершенно не похож в обычном состоянии. На всех последующих пьянках меня неоднократно фотографировали, хозяин квартиры даже несколько раз таскал на вечеринки в других домах парик (из-за чего у него однажды был жёсткий разговор с матерью, которая решила, что сын торгует своим телом, переодевшись в женское платье), но это волшебное сходство не всплывало вновь на поверхность моего черепа. Тем не менее, новое прозвище намертво приклеилось ко мне. Да я и не возражал. По сути дела, из одного мёртвого рок-отморозка я превратился в другого. Теперь мне оставалось только умереть от передоза в двадцать семь лет. Зато никакой Чапмэн в меня не выстрелит.
В начале четвёртого курса, состоящего из систематических прогулов, нашу компанию замечательно утяжелили несколько мажоров, у которых всегда водились деньги на алкоголь, траву и кинематограф. Я никогда не испытывал к обладателям карманных денег классовой неприязни. Ещё в детстве, общаясь с разными знакомыми родителей и их отпрысками, я пришёл к выводу, что личные качества человека никак не зависят от его кошелька: занудный или агрессивный нищеброд ничем не уступит такому же мерзкому толстосуму, а продвинутый буржуёнок всегда найдёт общий язык с прошаренным пролетарием. Когда мы бухали и дули, я чувствовал нечто вроде «розовой зависти»: то же самое, что проплывало по моему мозгу, когда я слышал чужую игру на чём-нибудь. Музыкантам и мажорам просто свезло. Так же, как в чём-то другом свезло нам.
Всю первую половину зимы, вяло начавшейся в позднем ноябре, меня мотыляло между «поэтами» и «музыкантами» – университетской и старой школьной компанией. Желудок и печень фильтровали вино и пиво, лёгкие засорялись никотином, извилины менялись местами, заполненные травяным дымом, а я очень много смеялся и творил разные непотребства, отчаянно пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку, которая позволит мне продолжить развлекаться и в будущем. Последний раз подобная жизнепрожигательная истерия творилась со мной летом после десятого класса, когда первым же июньским днём меня необычно остро накрыло осознание того, что это – мои последние трёхмесячные каникулы, после которых надо будет сдавать экзамены отсюда, сдавать экзамены туда, и такой пронзительной свободы в моей жизни больше никогда не будет. Тогда я протусовался всё лето, уговорил родителей ехать на юга втроём с сестрой, оставив квартиру в моих руках, прочёл пятнадцать по-настоящему сильных книг, удалил из компа весь русский говнорок и первый раз захотел покончить с собой, чтобы мой сосед по парте досиживал одиннадцатый класс в одиночестве, не подозревая о том, что я растворился в дождливых августовских сумерках, где-то в середине плэйлиста из Depeche Mode и The Cure вперемешку. Воля к смерти зудела в позвоночнике, но на практике привела лишь к тому, что я удлинил последние каникулы на две сентябрьские бонус-недели, которые родители провели в Евпатории. Первого сентября я ухмыльчато наблюдал общешкольную линейку из-за забора и даже поймал лучшего друга за взгляд, случайно брошенный на чёрную свежевыкрашенную решётку. Он тихим сапом выбрался из толпы, и мы пошли гулять по городу, наблюдая общую родительско-детскую суматоху и запивая упадочное предчувствие скорых холодов заранее охлаждённым пивасом. Его долго искали наши одноклассники, у которых не хватило приметливости опознать мою выстриженное новоочкастое рыло, но это не суть. Суть в том, что последующие две недели он сливал занятия, приходил ко мне в гости и вместо того, чтобы слушать грозно-сочувственные речи о нашем последнем годе и смотреть на затылки десятилетней выдержки друзей, недругов и открытых врагов по несчастью, мы слушали старый немецкий панк, новый английский трип-хоп и вечные электронные выебоны. За окном волны раннего ветряного холода сменяли приступы бабьелетнего тепла, а мы курили на балконе, плевались в будничное отсутствие прохожих под окнами и замирали от внутренней поступи неумолимо приближающегося нового времени наших личных жизней.
Но это всё было четыре с охвостьем двумесячья года назад. За это время я успел свыкнуться с новой социальной кельей, обжить её, пометив территорию сигаретными бычками и снобскими высказываниями, задымить новыми наркотиками, залакировать своё комнатное познание мира походами на концерты и новыми сильными книгами, по сравнению с которыми старые, десятиклассниковые – нет, не поблекли, просто остались в тени подросткового ощущения первого конца первого мира. В первые же сентябрьские недели, которые я, несмотря на очередное родительское отсутствие, провёл, в основном, в университете, а не дома, меня пронзило предчувствие новой предстоящей инициации: скоро мне придётся самому зарабатывать себе на жизнь.
Надо сказать, что в последний раз с темой работы я сталкивался пять лет назад. Поскольку я учился в привилегированной школе, куда принимали либо за деньги, либо по связям (мамины, в РОНО), нас, начиная с восьмого класса стращали трескучими тоталитарно-корпоративными нотациями о том, что раздолбаев, троечников и хулиганов здесь не держат. И что место таковых либо в путягах, либо в школах по месту жительства (в нашу школу все добирались из разных микрорайонов). Поскольку я и лучший друг уже тогда отличались нездоровой тягой к асоциальной трате времени на свои личные нужды, в середине девятого класса мы решили просчитать возможные маневренные варианты. Идти в школы по месту жительства нам не улыбалось (там бывало по-разному, но общее мнение рисовало их территорией клановых гопничьих войн и старого доброго ультранасилия; почему-то очень не хотелось на своей шкуре проверять народные стереотипы), и друг купил в ларьке на автобусной остановке справочник московских путяг. Мы начали читать его, перебирая один техникум за другим и смакуя специальности, к которым мы могли приобщиться, воспользовавшись предоставленной справочником информацией. Привилегированные бездельники, в жизни не сделавшие ничего своими собственными руками (помимо людей с золотыми руками, есть люди с руками говёными, теми, что вырастают корявыми ветвями, как и положено говну, из жопы), мы сразу же начали глумиться над возможными вариантами принесения пользы людям своим трудом. Трудовой парад из похожих на западных гей-активистов токарей-карусельщиков, готических холодильщиков, которые наверняка прячут в своих холодилах фольклорную расчленёнку, загадочных, но звучащих по-европейски респектабельно кафкианских маркшейдеров, весёлых сантехников с руками в отходах жизнедеятельности и идущих парами мотористов и металлургов, которые, слившись вместе, превращались в байкера, гоняющего по пригороду под Iron Maiden, замыкали окончательно добившие наше воображение составители фарша. Вслед за ними мы отправили маршировать в воображаемой процессии колонны профессионального составляющего фарша с миниатюрными мясорубками, в которых им предстояло достигнуть вершины карьерной лестницы. И на этом решили обсудить возможные перспективы приобщения к профессии позднее. Год мы закончили так себе, но не вылетели. Я перешёл в десятый благодаря «руке в РОНО» (единственный случай в моей жизни, когда я пользовался блатом), а мать друга корешилась с завучем по образовательной части. Всё это проходило мимо нас, мы просто сдали экзамены и узнали о своём зачислении.
Впоследствии я даже не задумывался о предстоящем вкалывании. В начале образования будущая работа казалась далёким прибытием в какой-нибудь таблоидный порт с долгим загулом в журналистских кабаках. На худой конец маячила занудная рутина корректорства. И в самом глубоком подполье сознания была тщательно запрятана мысль о школьном учительстве, которая иногда прорывала попытки укрыть её от дневного света и вставала передо мной минутным кошмаром. Четвёртый университетский сентябрь накрыл меня осознанием того, что через два года, один из которых будет посвящён отдрачиванию дипломника, я должен буду, пройдя предварительное крещение педагогической практики, пойти обивать пороги, предлагая свои услуги, удостоверяемые дипломом. За три года непринуждённого тусования, разговоров, попоек и сопровождающих эти занятия откровений я успел забыть о том, что существует какой-то иной ритм и стиль жизни. И мне неосознанно захотелось провести последний если не год, то хотя бы семестр наотрыв, пропав в потерянном времени, замедлившимся от гашиша. Попутно я пытался ухватить за хвост хотя бы одну из безумных разноцветных идей, которые носились вокруг, облетая по орбите мою накуренную голову, и дразнили своей невоплотимостью. Если быть откровенным хотя бы с самим собой, я хотел и после университета ничего не делать, посещать вечеринки и весело обсуждать нюансы всего на свете. Для остальных людей и для стыдливого внутреннего голоса, который иногда всё-таки включался и пытался поучать меня чужими словами, я определял эту фантастическую безработную жизнь, как «занятия свободным искусством». Несчастье моё было в том, что я ничего не умел. Я писал изящные модернистские стихи, длиной в километр и в два слова, но за стихи уже не платили и не обещали платить в будущем. Под стимуляторами альтернативной мозговой деятельности и без таковых я выдавал безумнейшие гоны, раскрывающие всю подноготную окружающей неизвестной жизни, но они таяли в воздухе вместе со струйками дыма, и никто, включая меня самого, не пытался их записывать. Иногда я воображал Сократа, ученики которого не рискнули или не нашли необходимым записывать свои разговоры с ним, и он так и умер – неизвестным древним греком, осуждённым выпить яду несмотря на недоказанное устное авторство.
Пик угара и декадентского «надрыва» пришёлся на середину сессии, когда я испытал второй в своей жизни суицидальный от-не-хер-делать позыв. На этот раз я мечтал вовсе не о растворении в позднеавгустовской вечерней полужаре-полупрохладе, теперь мне хотелось растаять в метельной круговерти, похоронить своё сознание капелькой воды на чьём-нибудь прохожем пальто, которая испарится, когда его носитель вернётся домой. Я завалил четверть сессии и в перерыве между двумя последними экзаменами обзавёлся двумя упаковками феназепама, которые один знакомый раздолбай тайком утянул из родительской бессонничной аптечки и подарил мне, когда узнал, что я хочу уснуть. (В детстве я употреблял это политкорректное обозначение смерти только по отношению к выуженной из реки плотве).
Придя домой после бессонных гостей в полдень, я распечатал пачки, поставил рядом пакет сока и начал методично есть по две таблетки, запивая. По животу растеклась слабость, голова освободилась от прикреплённости к земным проблемам и начала клониться к полу, однако я успел расправить постель и залезть под одеяло. После этого сознание выключили и началась покойная пустота, в которую я и рассчитывал проникнуть. Видимо, в пустоте не существовало времени, потому что через два мига я разлепил глаза, когда услышал голос мамы. Дальнейшее мелькало кадрами в режиме слайдшоу, помещённый в которое, я вроде бы пытался вылезти обратно в трёхмерный мир. Оказалось, что ко мне приехали однокурсники за лекциями по философии, которые я им обещал. Через два дня они рассказали, что я выглядел как персонаж фильма «На игле» во время ломки. Отдав им лекции, я на автомате отправился из дома. Следовало бы увязаться за заёмщиками лекций, чтобы они довели меня хоть куда-нибудь, но всё происходило слишком быстро. Теоретически, я должен был думать, много и быстро думать, в частности, мой издомный уход явно был связан с нежеланием объяснять родителям, что со мной произошло и почему это я спал чуть больше суток, но я не помню ни одной связной мысли. Казалось, что за меня думает моё тело: порывистыми медленными движениями, заторможенными реакциями и каким-то стремлением скорее уйти из осмысленного мира, отползти от света лампы, от беззащитного родного взгляда, натыкающегося на мою беспощадную отвратительность (я очень люблю своих родителей). По прошествии десяти дней эти трое суток вспоминаются как путешествие через территорию, на которой мышление, облечённое в слова, сурово преследуется по закону и порядочный турист, предупреждённый посольством, послушно выключает способность к рефлексии. При этом речевой аппарат и обмен диалогами не запрещены и происходят, хотя и весьма специфически.
Я непонятным образом добрался до Регины, до её городского жилища. Поскольку из подмосковного родительского дома было проблемно добираться до университета, родители сняли ей каморку в пределах сомкнувшегося вокруг города кольца. Мне было сложно звонить по телефону и я не помнил код от подъезда (даже в трезвом состоянии я его всегда забывал), зато моё тело визуально помнило сам подъезд. В отсутствии сознания оно развернуло меня, обошло мной дом и вычислило нужное окно на первом этаже. Нижние окна во всех порядочных домах располагаются ровно настолько, чтобы до карниза невозможно было дотянуться рукой. Тело заметило настольную лампу, освещавшую кусок комнаты за окном, медленно походило вдоль подъезда из стороны в сторону, сильнее ощутило неприятный телу январский мороз и осознало, что чем скорее оно попадёт в регинин дом, тем скорее согреется и вернётся в покойную пустоту. Тогда тело схватило первую подвернувшуюся ветку, отломило её и постучало в окно толстым концом, потому что догадалось, что стук толстого конца будет ощутимее и весомее и скорее дойдёт до регининых ушей.
Регина, услышав стук, выглянула в окно неожиданно быстро. Перед ней стоял её недавний знакомец с другого отделения филфака, непонятно бледный, с осунувшимся и отрешённым лицом. Больше всего он напоминал зомбарей из трэш-фильмов, которые очень любил смотреть Саша, но которые совсем не любила смотреть она. Правда, зомбари в фильмах были лучше загримированы, поэтому Джим неприятно напоминал настоящего зомбаря, которых в природе не существует. Сперва Регина ринулась было отворить форточку, но потом решила не студить комнату и отошла к столу за мобильником, вернулась к окну и набрала номер Джима.
– Привет, ты чего там тусуешься? – спросила она, когда зимний снегозаметаемый зомбарь медленно выковырял свой телефон из внутренних карманов. Зомбарь помолчал секунд десять, потом его губы зашевелились.
– Я код от подъезда забыл, – сказал он.
– Девятнадцать-двенадцать.
– Я зайду, – зомбарь ухитрялся говорить так, как будто не существовало разницы между утверждением и вопросом.
– Заходи, конечно.
Тело выключило мобильник и медленно пошло обратно. Несколько секунд постояло у двери, вспоминая код, загруженный в актуальную память полминуты назад. Загруженная информация была связана с абстрактными понятиями, плохо осмысляемыми без отключённого языка. После недолгого скрипа теменной коры головного мозга нейроны донесли адекватную информацию до пальцев, которые машинально набрали трёхцифровую последовательность, а потом ввели вспомненный код. Тело довело меня до кожаной двери, из-за которой уже выглядывала Регина.
– Что с тобой? – спросила она.
– Обдолбался. Можно переночевать? – спросил зомбарь. – У меня завтра экзамен, – добавил он входя.
– Конечно, можно. Чем это ты так?
– Феназепам. Помнишь, я у Лёни стрельнул. Я думал умереть, но через сутки проснулся.
Регина провела тело на кухню и усадила его в старое плюшевое кресло сбоку от холодильника.
– Тебе приготовить что-нибудь? – спросила она.
Тело машинально кивнуло. Оно не принимало пищи уже чуть больше суток.
Регина сварила телу сосисок и налила яблочного сока. Тело выпило сладкой жидкости и тупо уставилось на три вываренные пальцеобразные мясные палочки, потом покромсало их пододвинутой вилкой и начало пропихивать через горло в пищевод, запивая соком. После того, как последний кусок был съеден, тело согнулось и неожиданно резко побежало в санузел. Там тело обильно вырвало мягкими липкими кусками только что съеденного.
– Я не могу есть, – сообщило оно Регине, вернувшись на кухню. – Слишком обдолбался. Завтра, наверное. Мне надо пить и спать.
– Да, конечно, – Регина смотрела на зомбаря со смесью шока и внезапно нахлынувшего понимания. – Я пойду постелю.
И она пошла и накрыла телу постель на гостевом диване. Тело медленно разделось и улеглось. И тут же вернулось в покойную пустоту. Тем временем к Регине зашёл Саша, её бывший парень, с которым они продолжали жить и периодически трахаться. Саша был большой, бородатый и длинноволосый. Собственно, он и был тем ульяновским металлистом, которого два раза брили тамошние гопники и который однажды чуть не навешал носителю тела из-за его снобских высказываний. После этого инцидента они подружились и часто пили и общались.
– Чего, в гости зашёл? – спросил он у тела.
– Он вчера обдолбался, – ответила Регина за тело. – Феназепамом. Чувствует себя плохо. И всё время тормоза включает.
– Ааа, ну это бывает.
Саша с Региной поужинали и легли спать на двухспальном хозяйском диване. В принципе, тело спало в полнейшем отрубоне, так что можно было и перепихнуться. Однажды носитель тела уже ночевал у них и долго не мог заснуть, потому что его терроризировал сашин толстый рыжий кот Объебос, старый и кастрированный. Объебос хотел умиротворённо уснуть на госте и подготавливал плацдарм для сна дружеским кошачьим жестом: он долго месил грудь носителя тела когтистыми лапами и урчал древнекошачьи религиозные гимны. Гость несколько раз бесцеремонно скидывал Объебоса на пол и поворачивался на бок, но всякий раз, как он расслабленно-предсонно возвращался в исходную наспинную позицию, Объебос тут же вспрыгивал обратно. Сейчас уже трудно вспомнить, кто кого тогда победил, но это уже не важно, тем более что один из участников межвидовой войны через месяц откинул лапы. В любом случае, во время противостояния гость явственно различил звуки взаимной любви на соседнем лежбище. Но сейчас, в тот момент, когда гость лежал в наркотической полукоме, Регине внезапно не захотелось, и она сильной рукой отвернула Сашу к стене.
Тем временем покойная пустота была нарушена: к телу вернулся язык. А с ним и половина меня.
3
я ходил по тёмному городу вместе со знакомыми с Петром и Региной которые теперь знали друг друга хотя раньше они были из разных тусовок общего у которых было разве что я
и вокруг ещё много людей было тоже наши знакомые мы все были знакомы в беспокойной пустоте потому что в любой пустоте все вместе
Пётр или может быть Костик Пианист это потому что он пианист хотя и на гитаре умеет мне только репертуар не нравится кто-то из них предложил поехать в клуб «Ikra» такой замечательный клуб только он находится в самой жопе в одной из нескольких жоп Москвы на самой окраине я уже не помню кто там выступал возможно Psychic TV или Einsturzende Neubauten может быть мёртвый Егор Летов в общем кто-то из очень крутых стариков
Митя говорит нет это будут Роллинг Стоунз у них тур по странам Магриба вот и наша очередь Митя их очень любит
мы тусуемся одновременно и в городе и на улице в открытом пространстве как будто улица это тоже часть нашей квартиры и мы имеем на неё все законные права закон о собственности на нашей стороне
не забывай он мне говорит это значит также что и ваша квартира тоже часть улицы и вся улица имеет на неё законные права понимаешь? ВСЯ улица
не волнует говорю это не так интересно
Регина целует Петра которого она в жизни не видела они о чём-то увлечённо болтают наверное про музыку или про нефть
не ты не понимаешь он говорит но ты поймёшь обязательно поймёшь настанет такое время когда ты всё поймёшь
тут я внезапно не вижу а как-то боком или чем-то внутри или даже снаружи но не обычным человеческим чувством а чем-то непонятно чем ощущаю ВСЮ улицу которая вокруг
ВСЯ улица большая она одновременно люди фонари и здания не ты не я и не эти а что-то большее и совсем ненужное никому
там ходят и смотрят из окон и включаются светить когда темнеет и метут снегом когда мы ходим по ВСЕЙ улице нашей квартиры а ещё стареют ветшают ломают себе канализацию осыпаются по крошке
это потому что ВСЯ улица наша квартира находится на окраине Садовой петли не в новом дурацком доме а в старом полуосыпающемся я даже и не знаю чья из нас это квартира потому что раньше вроде никто в таких не жил так что это целиком НАША квартира ничья и всехняя и Митина и Регинина и Петрова и моя да
ВСЯ улица начала меня стремать но тут же нас много и мы наконец-то собираемся ехать и идём к метро оно тут же рядом у подъезда хотя хрен знает что больше стремает быть на улице в квартире всё-таки это НАША улица и квартира или ехать в какой-то клуб «Ikra» который хрен знает где
и вот мы сидим в вагоне кто-то сидит кто-то стоит кто-то подтягивается на поручнях это так просто
потому что весело
а мы едем так через город это когда метро не под землёй как ему положено и навеки определено а когда оно вылазит с-под кожи города нет Города в городах нету метро только в Городах вылазит говорю с-под кожи Города и ползёт по ней снаружи это как если ширнуть руку или ногу иглой пропороть и вытолкнуть другой конец с другой стороны
такое есть бывает в некоторых местах там где окраина и всё мусорно хотя и не всегда вот есть Кунцево там у Сталина была дача то есть это не трущоба если даже Сталин там дачи строил
а интересно ему военные солдаты строили или гастарбайтеры из Средней Азии?
дурак ты тогда не было гастарбайтеров тогда все были просто арбайтеры махтфраеры конечно ему солдаты строили он же генералиссимус
ну понятно
тогда дачи быстрее строили чем сейчас потому что можно расстрелять если дачу медленно строишь
чё и Сталина можно было расстрелять?
да его и расстреляли как английского человека английские люди плохо строят дачи таджики гораздо лучше
ну в общем мы едем через какие-то такие трущобы Сталин там даже не ночевал и даже трубку о перила не выбивал а за окном темнеет снег летит метель концерт в «Ikr’е» очень вечерний поздно закончится и наверное мы там и останемся ночевать потому что домой поздно возвращаться если только Пётр таксо не поймает и так стрёмно вокруг а за окнами проплывают мрачные промзоны и совсем голые крестьянские поля потому что это уже не совсем Город это уже вся остальная Россия не Москва и там поля на которых каждый год ничего не всходит пристанционные платформы на которых стоит по два человека с разных сторон или целые компании которые стоят вокруг фонаря там такие жёлтые фонари по два на каждую станцию а всё остальное тьма
я смотрю на карту линий потому что мы уже долго едем а станции всё нет и вижу что мы едем по новой ветке я ещё по ней ни разу не ездил а вид за окнами изменяется теперь там вокруг каждой станции пара клубов и казино а дальше опять поля беспокойная пустота и темнота иногда только кто-то возникает в свете луны вот мужик корову режет вот кто-то идёт домой чтобы его накормили борщом с мясом а дальше опять станция и модные заведения
я читаю по карте ветки названия ближайших станций которые нам нужно миновать кажется что эта полоса новой ветки уходит куда-то вглубь из Москвы что Москва тонкой вертикальной чертой перечёркивает всю Россию то ли теперь Москва есть в каждом регионе и больше не нужно жаловаться на то что она все соки из остальной России сосёт то ли она тихо сваливает из России в Китай или в Америку или к казахам за братской помощью такая бесконечная Москва
ближайшие две станции называются «Японский фашизм» и «Ресторан «Русский карандаш»»
тут резко открываются все двери и тётка громко говорит: «станция «Японский фашизм» осторожно двери закрываются следующая станция…»
Здесь я проснулся, обхватив голову руками. Я вернулся к своему телу. Не целиком, какая-то часть ещё отдыхала в пустоте, но большая часть меня уже приехала. Я как раз открыл глаза, и двери метро в беспокойной пустоте навсегда закрылись.
4
Регина и Саша покормили большую часть меня фруктами, и мы с ней отправились на наши разные экзамены. В коротенькой очереди из пяти человек я вновь выключился и очнулся уже в аудитории, перед преподавателем.
– Ну, расскажите мне чего-нибудь о Декарте, молодой человек, – предложил философ.
– Пожалуйста, – ответила часть меня. – Он родился в семье английских пуритан и во время английских революций на время эмигрировал в Голландию. Считал основой человеческого познания опытные ощущения, – и ещё несколько подобных пассажей, завершавшихся словами: «Только это был не Декарт, а Джон Локк».
Философ внимательно и вдумчиво смотрел в мои обдолбанные глаза.
– Да, – согласился он. – Вы замечательно изложили мне гносеологию и политические взгляды Джона Локка. Четвёрка вам подойдёт?
– Подойдёт, – согласились остатки меня, те самые, которым удалось выслушать единственную посещённую лекцию и даже настолько ей заинтересоваться, чтобы запомнить. Философ с каким-то непонятным облегчением кивнул и расписался в моей зачётке, а я повлёк своё тело, которое медленно возвращалось в полусон, прочь.
Регина сдала что-то своё, романо-германское, на отлично и на радостях напоила меня в околоуниверситетской пивнухе, не подумав о моём отходняке. Ровно посередине нашего подземного возвращения в её логово, в переходе с красной ветки метро на серую, меня вывернуло выпитым на грязный кафель, который никогда не видел солнечного света. В такие отвратительные моменты мне всегда везло. Никто не побежал звать милиционеров, никто даже слова не сказал. Регина купила в ларьке минеральной воды и мокрой салфеткой утёрла моё несчастное рыло, потом обмахнула пальто, на которое попало несколько струй и отошла на два шага, чтобы посмотреть. Не знаю, что она увидела, но вернувшись, она поцеловала меня в щёку.
Дома Регина накормила меня чем-то мясным с кусками неопрятных овощей, обильно удобрённых специями. На этот раз еда пошла неожиданно хорошо, и я тут же отключился на гостевом диване. Проснулся я почему-то на Регинином плече, основательно раздетый и раскутанный, несмотря на холод. Вернуться обратно в сны, как обычно со мной бывало во время первого пробуждения, почему-то не хотелось. Я посмотрел на мирно сопящую Регину и пошёл пить чай.
За завтраком выяснилось, что Саши и Семёна, нового любовника, дома вчера не было. Спрашивать, каким образом я проснулся не там, где засыпал, было глупо и занудно, поэтому я свыкся с тем, что последующие три дня каждый раз просыпался рядом с Региной. Получалось, что в какой-то момент сна она перетаскивает меня в свою кровать и иногда просто кладёт поверх одеяла рядом с собой, а иногда затаскивает внутрь. В этом было что-то настолько нежное и не нуждающееся в словах, что мы с ней почти не разговаривали во время нашей общей бодрости: я упорно продолжал вставать раньше Регины часа на три, проспав не больше шести часов. Видимо, это было побочное последствие дешёвого передоза: если раньше, выныривая из сна в залитую солнцем реальность, которую комната тщетно пыталась спрятать от меня, стыдливо завернув в шторы, я захлопывал слипающиеся глаза и топил их обратно в опухшем от сна лице (иногда мне казалось, что виной всему близорукость – окружающая действительность была настолько нечётка и расплывчата, словно нарисована вокруг широкими расплесканными мазками, – всплывающее из сонных болот сознание просто не могло поверить в то, что пока я спал, произошла метафизическая Октябрьская революция, и Божьей мастерской завладели безумные авангардные художники, небритые, злые и не сомневающиеся в том, что мир должен выглядеть именно так), то теперь, проведя шесть часов нигде, словно выключенная лампочка, я внезапно возникал в Регининой постели, вызванный из безжизненной пустоты чьей-то непонятной волей. Глаза распахивались и внутренности головы тут же начинали трещать радиосигналами бесконечного диалога множества маленьких я друг с другом.
После пробуждающего щелчка тумблера я разряжал утренний мочеиспускательный стояк в одну из трёх ёмкостей совмещённого санузла, чистил ароматной пастой гнилые зубы и около часу пил чай, курил и читал. Потом шёл за продуктами в соседний универсам и снова пил чай. Когда Регина просыпалась, мы завтракали и смотрели кино: триллеры, японские ужасы (европейские и американские истории о потустороннем вряд ли уже смогут кого-нибудь испугать), старый и новый нуар. Между просмотрами мы болтали о половых извращениях и писательских ухищрениях, создающих из случайной темы мрачную атмосферную прозу, которая цепляет не меньше фильмов. Эти три дня как будто выключенного, спрятанного от посторонней жизни времени очень хорошо сочетались с моими ежевечерними падениями в безвременность и беспространственность.
На четвёртое утро Регина проснулась раньше меня. Когда в меня был пущен ток, включающий мои ощущения и внутреннюю речь, я ощутил, что мне заткнули рот куском мяса. Открыв глаза, я увидел зелёные колодцы, в которых тонуло моё размытое лицо, захлёбывающееся радужкой. Колодцы тут же поползли вверх вместе с куском мяса, который оказался Регининым языком. Чужие эмоции убегали в близорукую размытость, а очки находились на другом конце комнаты, на столе возле моего дивана. Пока я одевался, мыл лицо и зубы, Регина уже заварила чай и намазала маслом шесть тостов. – Привет, – сказала она, когда я вошёл в кухню. – Сегодня Семён приезжает.
– Ага, – ответил я. – Ну я тогда позавтракаю и пойду?
– Как хочешь, – Регина пожала плечами, – я тебя не гоню…
Я пожал плечами, понял, что очень хочется ответно поцеловать её, но как всегда, не смог. Вместо этого я вяло перебросился фразами о предстоящих планах и с радостью обещал поехать в загородный дом через пару дней. Потом потоптался, потоптался, да и пошёл.
5
Вот и настал день, когда я вновь должен был переступить порог отчего-матернего дома. Прошло всего лишь четыре астрономических дня, как я его покинул, но для меня за это время воздвиглась и распалась вселенная.
Меня всё ещё основательно мутило, и какие-то куски проживаемой реальности пропадали прямо на глазах: вот я где-то живу и в чём-то участвую, а вот – хоп! – и я уже в пяти метрах от только что виденного. Всё это напоминало моё вхождение в этот причудливый четырёхдневный мир, только теперь со мной присутствовала довольно основательная часть моего я, вполне способная адекватно оценивать мелькающую реальность и даже испытывать от мелькания ощутимый дискомфорт (собственно говоря, здесь был уже почти весь я, если какая-то часть и отсутствовала, то самая малая, ничтожная и неощутимая; с другой стороны, несмотря на свою малость, она могла быть и одной из главных частей). Моё с таким трудом выкарабкавшееся из покойной пустоты почти полноценное и полновесное я каждые пять минут норовило вернуться назад, в спасительное небытие. От моего персонального времени чья-то длань отрывала большие куски, комкала и выбрасывала.
Мне не хотелось возвращаться домой в таком мерцающем состоянии (ведь моё я могло исчезнуть в самый разгар беседы с родителями), поэтому я поехал к кузену. Кузен у меня был крутой манагер – далеко не последнего звена, – и поэтому любил жить свою выходную жизнь с московским шиком: клуб, колёса, фитнес (я никогда не мог разобраться в точной последовательности этих составляющих уикэнда, да и он сам, похоже, не мог). При этом он был не коренной москвич, часто ездил домой на пару недель и любил говорить, что там, в глубинке, всё то же самое, только клубы совсем убогие, а колёса не доезжают из-за бездорожья, поэтому их заменяет обычная водка. В последнее время кузен пытался остепениться и поумерить свое отдыхательное потреблятство, так что часто зависал на выходных дома, под пивняк и гашиш.
Гашиш у него был, за пивняком был немедленно послан я.
В мерцании телеэкрана, на котором без звука шёл какой-то параноидальный чёрно-белый нуар времён холодной войны, под тихое ритмичное буханье колонок (какой-то любимый кузеном невесёлый даб, вынесенный им из молодости девяностых) мы дунули и улетели.
В прошлый мой визит я смотрел по накуру третью часть «Терминатора» и запомнил только, что это очень смешной и позитивный фильм. Теперь же меня как-то странно распластало по дивану и целиком погрузило в кино. Кузен включил звук, и подозрительно сразу стало понятно, что парень с простым американским лицом пытается навести порядок в своём родном городке, жители которого перестали узнавать своих родных – те стали какими-то «другими» (я представил, что мама, отец, сестра или почему-то вдруг Регина стали «другими» и почувствовал ощутимый холод внутри; странное дело: обычно гашиш либо превращает реальность в россыпь изумительно смешных вещей, либо – при перекуре (о гашише нельзя говорить «передоз», хотя бы из сострадания к мрачным, злым и пропащим тварям, плотно сидящим на опиатах) – расщепляет сознание до сотни маленьких «я» и заставляет их бегать по кругу, играть в салки и одновременно громко друг с другом разговаривать; в моём случае это обычно вызывало дикий ужас и мучительное и неосуществимое желание поскорее спрятаться в сон; в этот раз, возможно, из-за остаточного воздействия феназепама, я просто очень остро и живо воспринимал действительность, пусть даже её сняли в пятьдесят лохматом году и показывали мне через чёрные южнокорейские ящики; я всё глубже погружался в сюжет и одновременно ощущал его своей шкурой; меня окружали нелюди, заменявшие моих близких и хотели упразднить и моё сокровенное, уже тёртое в покойной пустоте, я; позже, вспоминая, я подумал, что это скорее маме, отцу, сестре или почему-то вдруг Регине следовало ощущать мою чужесть – внезапное превращение подростка чёрт знает в кого… Вообще, подростки – это коконы, в которые заворачиваются наивные, открытые и жестокие дети-гусеницы, а вылупляется из подростка каждый раз какая-то совершенно невиданная тварь)…
Кузен тем временем спокойно пил пиво и смотрел фильм.
Утром, когда мы мрачно и вполпохмела пили кофе с ромом, он сообщил, что мы созерцали «Вторжение похитителей тел», малобюджетный фильм времён охоты на коммунистических ведьм. Затем подарил мне свой устаревший плеер, покормил завтраком и выпроводил.
6
Ночь братской помощи не прошла бесследно. Моё ощущение времени окончательно ко мне вернулось, зато сознание, выкупанное в пиве и окуренное гашишем, чувствовало себя старым, потрёпанным и небритым. Пожалуй, можно и домой возвращаться.
Дома мне ничего не сказали по поводу загула (а что тут скажешь? Это либо до старости, либо лет через пять постепенно сойдёт на нет). Я сдал последний экзамен, впереди были две с половиной недели отдыха и пять пересдач в начале семестра. Я убрал все учебные материалы в нижний ящик письменного стола, чтобы глаза не мозолили, и рухнул на диван, ощущая вкус обретённого времени, которое несправедливо похитило у меня общество цепкими лапами учебных заведений. Теперь снова можно было болтать, бродить, читать, слушать и смотреть, что хочется. Огорчало только, что обретённое время бодрствования восполнялось утраченным временем сна, причём на этот раз оно было похищено неприятной и непонятной мне со школьных лет химией. Нет, оно даже не похищено было, я его сам сдуру отдал муторному, злому и коварному волшебнику с именем, которое не услышишь даже в самых ёбнутых советских фильмах-сказках для детей – бромдигидрохлорфенилбензодиазепин.
Раньше я очень ценил время своих снов. Настолько, что позволял себе опаздывать в школу, университет, пропускать утренние прогулки в хороших компаниях, если сон протекал, как у всех приличных граждан, и вечеринки, если мой ритм сбивался, и я ложился спать где-нибудь в полдень или в два часа пополудни. Я думаю, что и на работу бы ходил также, подвернись мне таковая.
Во снах я бродил в знакомых обстановках, беседовал со знакомцами, совершал и наблюдал совершение разных действий; и каждый знакомец нёс что-то несусветное, неподобающее, но совершенно понятное тому ночному сознанию, которым мы воспринимаем эти речи; каждое действие было чем-то до боли родным, домашним, сердечным, сотканным из уюта собственного интимного жилища и терпкой атмосферы квартиры друга детства.
Как и все люди двадцать первого века, я листал Фрейда (трудно представить себе человека, который бы прочёл хоть одну его большую работу до конца, если он сам не собирается лечить неврозы и карманы задушевными беседами). Мне всегда казалось, что в его учении (а фрейдизм – это не теория, это именно учение, первая нью-эйджевая секта, Бог которой – Тень собственного отца каждого из адептов) что-то безнадёжно устарело, застряло на полпути, недожарилось (впрочем, возможно, фрейдизм ещё получит своего Оригена, который разделит проекцию Отца на три ипостаси и свои вселенские соборы, на которых публично отлучат юнгианцев, последователей суебесного Ранка, лжеименного Фромма и гнилоустого Адлера; для полной радости я бы хотел, чтобы отлучение было именно в таких терминах и чтобы потом последовали затяжные, кровавые и изуверские религиозные войны). Не исключено, что Фрейд ухватил машинерию, которой пользуются те, кто ответственны за наши сны, однако в наше время новейших технологий, которые лезут из лабораторий одна за другой, кусая предшественниц за хвост и отшвыривая в сторону, что мешает трауммахерам изворачиваться и посылать нам сны, собранные по совершенно другим схемам? В закомплексованной Вене начала века профессорам было неудобно ходить по бардакам или вещать об этом с кафедры, поэтому им и снилась всевозможная фаллическая и вагинальная поебень. Бананы и зонтики заменяли пенисы, а пальто благоразумно напоминало, что надо бы надеть презерватив.
У меня всё было прямо наоборот: мне часто снились совершенно незавуалированные метафорами и символами половые акты, причём самые причудливые. Однажды мне пригрезился районный тусовщик, бухарь и пидарас, выдававший себя за поэта. Он обнял и поцеловал меня в шею. Проснулся я неожиданно быстро, без малейшего намёка на эрекцию, и около часа думал, что бы это значило (в итоге я пришёл к выводу, что мой знакомец не такой уж плохой человек, как я о нём раньше думал, и даже признал у него наличие пусть скромного, но без всяких сомнений поэтического дара; позже, рассказывая о нём университетским друзьям, я называл его уже не «бухарем и пидарасом», а «алкоголиком и гомосексуалистом»). А в другом сне мне привиделось, что знакомая по университету, длинная, тощая андрогинная девка превратилась в красивого юношу (которого она, в общем-то, и напоминала, что с андрогинными девками бывает довольно редко); мы с ней странствовали по каким-то мрачным полуосвещённым не то чердакам, не то подвалам, и в какой-то момент я сразу понял, что она превратилась в парня, после чего мы – промельком кадра – оказались в просторном пустом ящике, где я занялся с ней (в середине осознания этого она уже вернулась в свой природный пол) содомией. Таких снов было очень много. Как-то раз, проснувшись и выпив кофе, я подумал, что в моих снах секс выступает символом чего-то другого, каких-то приливов нежности или подспудной агрессии по отношению к друзьям, знакомым и просто запомнившимся прохожим. Всё, о чём венцы столетней давности явно знали или догадывались, но о чём боялись подумать, в наше время вылезло наружу во всех подробностях, с самым крупным наездом камеры на колыхания плоти. Начиная с средних классов школы всем всё известно. Если что-то и цензурируется Супер-Эго, то это скорее безымянные душевные поползновения, а не сексуальная акробатика и смена отверстий.
Я лежал и уныло пялился в потолок.
Не то чтобы сны посещали меня каждую ночь. В некоторые насыщенные периоды моей жизни я месяцами спал мертвецки, очевидно посещая ту самую покойную пустоту, которая изъяла моё я на четыре дня. Тем не менее, даже в те дни цветной сон обязательно вклинивался в череду чёрных бессюжетных ночей. Сейчас отсутствие снов подчёркивалось ещё тем, что я абсолютно не ощущал желания спать. Я просто импульсивно догадывался, что скоро отрублюсь и отрубался. Отрубился бы я и во время уличной прогулки, если бы вздумал прогуляться. К счастью, четыре дня меня заботливо опекала Регина, а у брата последние кадры «Вторжения похитителей тел» я досматривал с загодя расстеленного лежбища (вот интересно: отключись я где-нибудь в кухне или в ванной, перетащил бы он меня хотя бы в комнату?)
Лежать просто так было скучно. Я попробовал заснуть, но вместо обычного ощущения тяжести и утопания в голове была лёгкость. Вздохнув, я решил на свой страх и риск пойти прогуляться по парку. Подумав, что если отключусь, то в лучшем случае меня разбудят в обезьяннике, понял, что на всякий случай надо обзавестись компаньоном, который бы оберёг моё неправильное тело от излишних приключений.
Лучший друг детства, с которым мы сливали начало одиннадцатого класса, был на работе. Младший кузен, несмотря на полное отсутствие способностей к менеджменту и экономике любивший гашиш не меньше старшего, пребывал в гашишевых облаках в компании своих сверстников. Я подумал было присоединиться к ним (хотя курить гашиш со школьниками – это верх непристойности, не имеющий никаких легальных оправданий, мои одновременные желания гулять и обезопасить себя компанией были так велики, что я уже готов был поступиться принципами), но тут на моё счастье позвонил Арсеньев.
Обычно Арсеньев никому не звонил. Он устроился так, что все сами звонили ему, а он обычно отвечал. Изредка Арсеньев всё-таки проявлял внимание первым, но тогда он обычно просто приходил в гости и всё. Без звонков. Моего адреса он не знал. У Арсеньева были довольно обеспеченные родители, которые часто ездили на дачу. А если на дачу не ехали они, то ездили бабушка с дедушкой. И тогда одна из роскошных многокомнатных хат оказывалась в полном распоряжении Арсеньева или его младшей сестры Василисы. Как правило, в начале выходных кого-нибудь из общих друзей посещала мысль, что у Арсеньева кто-нибудь мог уехать на дачу. И он звонил ему. Удостоверившись, что был прав, этот застрельщик уикэнда обзванивал по дороге друзей, и вскоре арсеньевские покои буквально прорастали гостями – обычно помятыми и опухшими: кто-то был после долгого учебного/рабочего дня, кто-то встал пару часов назад…
И вот он мне позвонил. Я подумал, что это самая замечательная перспектива для моего состояния – зависнуть у Арсеньева. Если я и отключусь (а я наверняка отключусь), то просто засну на одном из его диванов, а через шесть часов буду допивать то, что не успели выпить перед своим сном остальные гости (мне сложно было представить, что у Арсеньева можно быть вдвоём с хозяином, настолько с ним не вязалось представление об общении наедине; нет, с ним, конечно, можно было болтать без посторонних реплик и перетягиваний разговорного одеяла на чью-то чужую сторону; но при этом, как что-то неотменимое, словно соприродное самому арсеньевскому естеству, представлялось фоновое жужжание чужих голосов – обязательно живых голосов, не фильм, не радиопьеса и не аудиокнига; ты говорил с Арсеньевым о том, о сём, потом Арсеньев переключался на беседу с другими, а ты сам становился фоном, болтал с тем, кого Арсеньев ещё или уже не забалтывал; при этом, будучи фоном, ты этого абсолютно не стеснялся, потому что это никак не ощущалось; ты просто болтал с другими, пока хозяин дома отлучился в чужое сознание, оставив в покое твоё).
– Здорово, наркоман сратый, – сказал Арсеньев.
– Почему наркоман? – искренне удивился я.
– Потому что нормальные люди феназепам не едят.
Это уже было слишком. Феназепамом отдарился Лёня, университетский дружбан, с которым мы болтали о Набокове. Лёня был парень серьёзный, поэтому вместе с Набоковым он любил остальную литературу русской эмиграции, в том числе наизануднейшую (я предпочитал такую же ёбнутую или такую же красивую, как Набоков). Вкусы не помешали Лёше совершить щедрый и не занудный поступок: порыться в родительских загашниках и вручить мне упаковку на десять таблеток. Завтрашним утром, встретив меня в университетских коридорах, он честно признается: во-первых, я очень отчаянно говорил о том, как хочу заснуть и не проснуться, а во-вторых, ему хотелось посмотреть на зомби, в которого я превращусь. О том, что от десяти таблеток не умирают, Лёня знал. А вот Арсеньев знать о моих суицидальных опытах точно не мог. Он был на четвёртом курсе журфака, с которого его вот-вот должны были выпереть за систематические прогулы и павлиний хвост несданных дисциплин, веером осенявший его раздолбайскую роскошь. Я не мог представить его в компании филологических раздолбаев. Те могли не читать вообще ничего, но в их мозгах всё равно намертво отпечатывалось почтение к текстам (очевидно, его таки вдалбливали те редкие лекции, которые удостаивались их посещением). Арсеньев же срать хотел на любые тексты. А ещё больше он срать хотел на любые величины. Он просто читал то, что ему нравилось. И ему было совершенно наплевать на любые мнения о его вкусах. Вкусы у него, на мой взгляд, были довольно занудные и обычные, зато очень искренние: дзэн-поп в лице Харуки Мураками, спрутом оплетшего континенты, Милорад Павич, лекции Ошо и нотации Бориса Гребенщикова (я всегда считал его литератором, а не музыкантом; те зачатки музыки, которые присутствуют в его песнях, напрочь забивает дух козлобородой благостности, исходящий от текстов). Кроме того, тусовки журналистов и филологов не пересекались из-за духа конкуренции. Основным филологическим послеуниверситетским хлебом было сотрудничество в разного рода изданиях, и здесь на пути хлипких филологов вставали журналисты, более наглые, отмороженные и напористые, зачастую прошедшие через две дозы героина и почти килограммы вынюханного. В общем, возникал вполне законный вопрос.
– Откуда ты это знаешь? – который я и озвучил.
– Мы тебе звонили пару дней назад. Твоя мама ответила, что ты спишь. И утром, и днём, и вечером. И следующим утром тоже. Люди не спят так долго, Леннон, – в районной тусовке все пользовались старым погонялом; я не протестовал. – Мы подумали и решили, что ты обдолбался какой-нибудь хренотой. И наверняка дешёвой. Мы, кстати, уже хотели твою смерть отметить, а ты опять всех наебал, засранец…
Бейкер-стрит. Какого хера мы все в детстве смотрели про Бейкер-стрит.
– Вы закончите тем, что станете аналитиками ФСБ.
– ЦРУ. В ФСБ идут работать только лузеры, которые английским не балакают.
– По-английски, Пётр. По-английски не балакают.
– Вот ты и будешь в ФСБ работать. Ты слишком хорошо знаешь русский, чувак.
– Ни фига, – сопротивлялся я, – я буду работать на американскую разведку. Они там очень нуждаются в преданной агентуре, знающей туземные языки.
– Ну тогда я буду работать посредником между ЦРУ и русской мафией.
Тема русской мафии в последнее время была довольно популярна в наших узких кругах. Общий друг детства Марк, оставленный родителями-физиками в России, – получать медицинское образование, без пригляда довольно быстро пошёл на отрыв. Вместо того, чтобы спокойно потрошить жмуров в анатомичке и постигать науку облегчения болей, он начал торговать травой и университетскими зачётами (карьеру посредника между ленивыми студентами и коррумпированными преподами он феерически начал с того, что собрал с тридцати первокуров по сотне грин, взял у них зачётки, зашёл в туалет и расписался во всех тридцати; после чего поехал играть в преф и тут же проиграл половину выручки; что характерно, мажоры обиделись не столько на отжатые деньги, сколько на неполученные, честно оплаченные зачёты и испорченные зачётки; самые энергичные и обидчивые отправились выяснять отношения к Марку в общагу и были спущены им с лестницы; через некоторое время Марк всё же вписался в систему и торговал уже настоящими честными зачётами). Родители Марка, зная буйный авантюрный характер сына и подозревая, что лучшее, что светит ему в России – это тюрьма, забрали его к себе в США. Там Марк некоторое время чистил улицы Детройта от снега, а потом таки завёл свой небольшой бизнес. В перерыве между этими двумя социальными статусами он решил поучаствовать в ограблении местного наркобарыги в компании таких же ебанатов из русской диаспоры. Парни ворвались в дом дилера, потрясая только что купленными replications, и довольно быстро обнаружили себя на дне рождения жертвы. Жертва сидела во главе стола, окружённая старшими друзьями по бизнесу. Очень серьёзными людьми с настоящим оружием, на каждый экземпляр которого у них имелась лицензия. Марка спасло от депортации только то, что он сидел за рулём и даже не догадывался, куда везёт приятелей.
Договорившись с Арсеньевым о распределении наших ролей и поделив спецслужбы, на которые будем работать, мы синхронно вышли из домов и отправились к маленькому парку. Арсеньев пришёл первым и уже пил пиво, сидя на лавочке.
– Здорово, мудозвон! – жизнерадостно заорал он.
– Здорово, мудодав, – я ответствовал более вяло, но не менее дружелюбно.
Было уже довольно темно и холодно. Тот период зимы, когда падающий снег не радует. Слишком мёрзло, и ледяной режущий руки озноб пробирается к пальцам через любые перчатки. Особенно мерзко закуривать, потому что приходится вынимать из перчаток руки.
– Может, пойдём куда-нибудь? – как можно более развязно предложил я.
– Давай. Только не ко мне, у меня сейчас все в сборе.
Это разрушило все мои с таким трудом построенные планы. Арсеньев предложил зайти в ближайший пивняк и мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Тем более, что в пивняках всегда платил он.
7
В пивняке я быстро отогрелся и стал благостным, что твой, не к ночи будь помянут, Гребенщиков. Арсеньев же, в подражание неупоминаемому, был благостен всегда. Мы откинулись на кожаные валики, съели что-то немецкое мясное, и теперь потягивали Хайнекен.
– Меня неделю назад наконец отчислили, – между делом сообщил Арсеньев.
– Ну и как армия?
– Я уже в другой перевёлся. Там пришлось заплатить, но в общем всё в порядке.
– И куда?
– В московский филиал Европейского Университета Свободных Искусств, на режиссёрский, уже сдал всё.
Режиссура действительно подходила натуре Арсеньева больше, чем журналистика. Я добродушно ухмыльнулся.
– Ну круто, чувак…
– Напиши какую-нибудь пьесу, поставлю.
В голове забрезжили миражи первого осуществления творческих потуг. Наконец-то мои словоплетения будут хоть где-то к месту. Мне становилось пьянее, мутнее и лучше.
– Только без словоблудия, пожалуйста, – попытался вернуть меня из пьяных эмпиреев Арсеньев. – Большая часть того, что ты делаешь – это словоблудие.
Старый камень раздора и яблоко преткновения между филологами и журналистами. Нелюбовь последних к играм языка и предпочтение старых добротных истин от всех гуру и свами на свете.
– Весь мир – это слова, Петя, – добродушно протянул я. Меня всё больше и больше развозило. – Мир, построенный из слов – это всё, что нам дано, и это самое мерзкое наказание человечества. Мы обречены на словесность. Блядское общение с помощью разных языков и ничего больше…
– Это всё потому, что ты не видишь дальше слов.
– Ни фига. Я вижу то, что не имеет адеватного словесного выражения, и это меня ужасно гнетёт.
Перебрав сверх меры, многие начинают воевать с врагами. Большинство воюет с правительством, понаехавшими, кавказцами, гастарбайтерами, сионистским оккупационным правительством и мировым глобализмом. Ну и, конечно, с Америкой. Отдельные чудаковатые оригиналы воюют с инопланетянами, уйгурами или велосипедистами. Я и здесь успевал отличиться. Война с отдельными подвидами человечества – это слишком пошло, мелко и занудно. Я воевал с чем-то глобальным, нечеловеческим и неостановимым. С суммой тех чисел, которые выпадали у Бога на костях в его игре за, против или в людей (на самом деле я подозреваю, что мои алкогольные войны не менее убоги и унылы, чем у всех остальных, но как и все остальные, ничего не могу с собой поделать). Как и полагается филологу-ренегату, я очень часто воевал с тем, что в качестве средства общения люди обладают всего лишь набором слов с условными значениями. И хвататет этого набора только для совершенных пустяков, а те настоящие чувства, которые как-то случайно заглядывают в голову и сердце, обречены быть невыразимыми, запертыми, погребёнными… Чем больше я убеждался в непереводимости ни на какой язык самых интимных ощущений, тем больше меня бесили вожди разномастного и яркоцветного, но в своей основе одинаково серого нью-эйджа. Особенно меня бесило, когда лекциями неосуфиев и дзэн-модернистов заслушивались мои хорошие друзья и знакомцы. В ответ я начинал искать истину на стыках ненавистных слов, в нарезках Берроуза и самопальной каббалистике.
– Всё, что ты видишь – это обычные бессмысленные слова, – спокойно улыбаясь, ответил Арсеньев. – Слова, и ничего кроме слов.
– Слова – это наша тюрьма… А в тюрьме есть стены, на которых бывшие зэки, – ну, которые отсидели, или их казнили, или умерли, если у них пожизненное… А кстати у всех пожизненное, – да, в этой системе что-то вроде моратория на смертную казнь… Так вот, эти бывшие зэки исчертили стены посланиями, знаешь, календарные зарубки, граффити, стихи, инициалы… И вот в этой куче, если хорошо в ней порыться, можно найти… Ну, скажем, зашифрованный план побега.
Арсеньев задумчиво теребил картонную подставку для пивного бокала.
– По-моему, единственный реальный план побега, – это осознать, что никакой тюрьмы нет… И стен нет, и тюремщиков, и вообще ничего.
– Ага, – я скептически фыркнул. – Точно так же, побыв в не-тюрьме, можно сбежать и оттуда. И планом побега будет осознание того, что тюрьма есть.
– А она и есть, Леннон. Потому что все верят, что они в ней живут, вот она и есть. А на самом деле её нет.
Я безнадёжно махнул рукой.
– Это всё ваша пелевинская софистика. Хуйня полная. Это слишком просто, ровно настолько, чтобы все повелись… Мир полон ключей, и они разбросаны повсюду, – я осовело пошарил взглядом в поисках наглядных доказательств и как всегда не нашёл ничего подходящего. По телевизору крутили «Отступников» Скорсезе, на которых никто в зале не обращал внимания. Все были подвешены на две верёвочки: пивного обволакивающего благодушия и неторопливого лаунжа, скучного, но не напрягающего. Джек Николсон, сжав нос, показывал Ди Каприо крысу, которая завелась в его банде.
– Вот, – заглядевшись на мимику Николсона, сказал я. – Помнишь «Сияние» Стивена Кинга? Вот простейший пример входа в недра и пазухи этого мира.
– Где? – спросил Арсеньев, тоже внимая беззвучному разговору ирландских бандосов. – В том, что Николсон замёрз в отеле и вышел через чёрный вход главой мафии?
– Нет. Red rum, вот где, – я перевёл взгляд на не вспоминающего друга. – Помнишь там паренька, который всё время писал на стенах RED RUM, дурацкую надпись такую? Которая наоборот читалась как MURDER.
– Ты видишь в этом ключ к познанию мира? – Арсеньев с интересом посмотрел на меня через пустой бокал. – Может, повторить?
– Да, повторить – это тема. Только доведи меня до дома. Я в последнее время быстро отключаюсь. Из-за феназепама. Причём наглухо отключаюсь.
– Доведу, конечно. Только адрес напиши, – Арсеньев повернулся к пробегавшей девушке (всё в пивняке было медленным, кроме бегавших халдеек; возможно, они были слишком мерзлявыми и вечно пытались согреть свои телеса ходьбой; тогда летом они должны будут до неприличия замедлиться; или не должны? Всё это пробегало в моей голове, пока я писал на пивной картонке свой домашний адрес). – Будьте добры ещё два литра Хайнекена, пожалуйста.
Официантка кивнула и улетела куда-то вглубь, в сторону от одного из источников лаунжа.
– Любой мардер, в смысле убийство, является источением жизни из человеческого или ещё какого-нибудь животного тела, – откинувшись головой к стене, бормотал я. – Точнее, изъятием из тела души. А душа, как сказано где-то в Библии, есть кровь. Или кровь есть душа. Один хрен. Поэтому кровь и не едят. Кстати, мы с тобой сегодня ели что-то явно кровавое, перед пивом… Так что сейчас перевариваем чью-то простенькую душу, поросячью или говяжью. Да… А красный ром – по-моему, одна из красивейших метафор крови.
Арсеньев появился где-то сбоку.
– Чувак, ты по стене сползаешь, – сказал он и подал мне руку. На нас уже кто-то смотрел. Чужие взгляды виделись мне со всех сторон сразу, но ни один из них меня не смущал. Меня даже не останавливало то, что меня могут вышвырнуть из пивняка. В прошлом году пару раз вышвыривали. А всё потому, что желудок слишком слабый. Или опьянение слишком быстрое и сильное. Или потому что я слишком накуренный был и всё время падал в приступах хохота.
Я не без труда Арсеньева, обхватившего меня с двух сторон и постаравшегося дёрнуть вверх не слишком резко, встал и доковылял до сральника. Задумчиво постоял над писсуаром, потом вошёл в освободившуюся кабинку, представил только что вышедшего здоровячка, скорее всего, отца семейства, под сороковник, раскорячившегося над унитазом, и его наслаждение от расслабления сфинктера. Меня тут же замутило, я наклонился ниже, чтобы не забрызгать джинсы, и изверг коричневатую муть с кусками непереваренного немецкого мясного, из пороси или говяда. В глотке, как обычно, было очень больно, кисло и тухло.
Вернувшись, я присоединился к Арсеньеву, который уже ополовинил принесённый экспресс-халдейками бокал.
– Выглядишь как-то хреново, – сказал Арсеньев.
– Меня вывернуло. Чьей-то жизнью, которую я так и не сумел переварить. Кусками мяса с красным ромом, – проскрипел я в ответ.
– Молодцом, – одобрил Арсеньев. – Может, тебе лучше не пить?
– Да нет, мне уже не помешает…
– Ну тогда лучше не есть. Впрочем, мы, кажется, и не собирались.
За соседними столами нас вяло, со смешками, обсуждали. Впрочем, возможно, это был всего лишь пьяный приступ моей паранойи.
– Тебе не кажется, что за тем столом, – я показал направление под нашим столиком, – нас только что назвали педиками?
– Педиками? Где? – Арсеньев круто развернулся, уставил в ту же сторону, что и я, указующий палец. – Ты говоришь, вот за тем столиком нас назвали педиками?
Сидящие за тем столиком переглянулись. Кто-то подавился поедаемым.
– Нет, – выдавил я, краснея и постепенно съезжая в истерический смех.
– А, – ещё громче озвучил Арсеньев, – значит, за тем столиком нас педиками не называли! – он изобразил добродушие и послал тому столику воздушный поцелуй.
Несмотря на то, что мне страшно было повернуть голову в ту сторону, я боковым зрением увидел, что подавившийся упал на диван и сполз под стул, в лужи грязи, натекшие от общих ботинок. Кто-то бросился его поднимать, вскочил слишком резко и растянулся рядом, в стиле ранних киногиньолей. Третий бросился на помощь товарищам и уронил на второго стул. Похоже, они ещё больше нарезались, чем я.
– Ну так что там по поводу крови, редрамов и ключей к этому миру? – Арсеньев повернулся ко мне, совершенно невозмутимый.
– Как ты ими управляешь? – восхищённо спросил я. – Ну, так, чтобы они всё время подскальзывались, наебенивались и роняли на себя мебель?
– Я об этом не задумывался. Ты лучше про редрамы рассказывай.
Я начал вспоминать придуманные пять минут назад редрамы.
– А чего там ещё рассказывать… Всё уже сказано. А, нет, – схватился я за невплетённую в общую ткань нить. – Что суть мардера в изъятии из живого существа красного рома, мы уже установили. Но есть ещё один дополнительный смысл. Любое убийство – это насильственное прекращение незаконченной жизни, которая в идеале должна длиться до своего естественного завершения. Каждый убитый чего-то в своей жизни не успел. Не доделал, не долюбил, не докусал. Сама эта внезапная остановка требует возобновления, нового воплощения, новой попытки совершить всё то, что хотелось. Да, точно, каждое убийство порождает тягу к возобновлению жизни. И в этом смысле мы можем представить слово REDRUM как глагол – «перебарабанить». Тем более, что любая жизнь – это ритмическая цепь повторяющихся действий, а ритм лучше всего задаётся перкуссиями и барабанами. Так что мардер – это ещё и повеление редрам убитого. А если вспомнить о военных барабанах и связать это с вполне естественной жаждой мести…
– Ну не знаю, не знаю, – покачал головой Арсеньев.
Между нами всунулось пьяное грязное мурло. Из-за того столика.
– Слышь, парни, – прохрипело оно, переводя глаза с Арсеньева на меня. – Вы нас, ёба, педиками назвали или да, а?!
Сказано это всё было почти нечленораздельно. Но ключевые слова предъявы были в достаточной степени различимы, чтобы говоривший имел законное право рассчитывать на ответ.
– Вы что-то путаете, – спокойно ответил Арсеньев. – Это вы нас назвали педиками. Или парни вот за тем столиком, – он махнул в третью сторону, – кого-то из нас, вас или нас назвали педиками. Мы вас педиками не называли.
– Точно не называли? – это был один из упавших, по-моему, тот, кто упал, пытаясь помочь другу.
– Абсолютно точно.
– А не пиздишь?
– Не пижжу, – Арсеньев спокойно смотрел в залитые мутно-жёлтые глаза. За глазами что-то напряжённо думало.
– А вот что… А может, тогда это… Давайте пойдём туда и спросим, кого они назвали педиками, – озарило парня.
– Давай, – обрадовался Арсеньев и встал. За тем столиком тоже встали. То ли им было слышно, то ли они умели общаться между собой телепатически, без слов, попирая и опровергая мои алкоголические ламентации, но двинулись они в сторону третьего столика. За третьим столиком сидели три тощих большеглазых юнца, которые при первых же шагах, вскочили и ломанулись к выходу, отшвырнув в сторону охранника. Один из них на ходу запихивал в рюкзак ноутбук, а второй что-то кричал. Охранник вынырнул было за ними, но там было слишком холодно и бегали юнцы явно быстрее толстого дядьки. К тому моменту, когда он вернулся, Арсеньев уже сидел напротив меня, а накирявшиеся телепаты, не понимаюшие, что происходит, растерянно топтались. Охранник, вместе с грустной официанткой и менеджером начали с ними о чём-то громко и резко трындеть. Ещё одна официантка, только сердитая, а не грустная, направилась к нам.
– Нам счёт, барышня, – Арсеньев опередил любые возможные обвинения. – И мне ещё бокал, пожалуйста. – Поворот ко мне. – В общем, про редрамы было неплохо, но малоубедительно.
– Это почему это малоубедительно? – обиделся я. – По-моему, очень даже убедительно. И вообще, это только один частный случай из множества. – Я вновь пошарил вокруг глазами, ища другие члены этого множества. На глаза попалась надпись FLOWER FLAVOUR. Машинально я пробежал справа налево и обрадовался. – Вот тебе ещё секретный ключ к тайне этого мира.
– Где? – опять спросил Арсеньев.
– Ну вот же, REWOLF FLOWER, – я протянул ему пластиковую обёртку от чайного пакетика с выисканной надписью. – Волф – это в америкосовском так всегда называли мужчину-самца, такого ёбаря-террориста, охотника на баб. А флауэрами называли хиппарей, таких обкуренных волосатиков, размягчённых, угашенных… Да, и ведь хиппари с этим своим флавер-павер, они же проповедовали свободную любовь, то есть отрицали традиционную систему женских-мужских отношений, в которых мужчина охотится на женщин с автомобилями, деньгами, круизами, ресторанами, а женщина на него охотится с брачными контрактами, домом, детьми, разводами… В классическом мире царит игра, ритуалы, правила и риск обломаться, причём очень нехило. В старые времена на совращённых женщин очень недобро поглядывали. С другой стороны, в старые времена и разводов не было, так что и женщина, поймав мужчину в хомут, могла ему тот ещё домашний пиздос устроить… Вот, а хиппари на всё это хрен клали и предлагали просто спокойно трахаться, забив на все правила, получать наслаждение от самого процесса, а не от игры. – Тут я поперхнулся пивом и замолчал.
– И что? Где же здесь ключ?
– Ну как где! В том, что FLOWER, зеркально отражённый, даёт REWOLF. Что мы можем тоже прочесть как глагол, неологизм такой. И призыв получается такой: «сделай из цветка обратно ёбаря-террориста». Возъебари хиппаря, о как! И что нам это даёт? А нам это даёт очередное знание о том, что эпохе слабости и размягчения всегда следует новая волна жёсткости, брутальности и возвращения старых правил. А эпоха старых правил всегда сменяется новой волной расслабления и бунта против всех этих схем, браков, съёмов, сексов в туалетах и на выпускных. Когда толпа просто хер кладёт на все условности, границы, различия, и идёт навстречу друг другу. И две эти волны должны сменять одна другую. Вслед за REWOLF FLOWER всегда идёт REFLOWER WOLF, и по-другому эта машина управления человечеством не работаёт. А ключ прячется в языке. В данном случае, американском английском.
– Ну это и так всегда всем известно было, – пожал плечами Арсеньев, – что вслед за чёрным приходит белое, а за белым чёрное. Это вообще-то сутки так устроены: день, а потом ночь. И год тоже так устроен. И человек днём работает, а потом спит.
– А вот и неправда, – обрадовался я. – Я не сплю совсем, я просто вырубаюсь и сразу же встаю через шесть часов. Как будто и не был нигде во время сна.
– Это потому что ты живёшь в мире феназепама, а не в человеческом мире. Это бывает, случается. Героинщики живут в мире опиухи, а травяные сторчавшиеся в мире конопли, а там всё по-другому устроено.
– Да ты просто привык от мира отмахиваться. Нет никакой тюрьмы, значит и хрен с ней. А она есть, и мне очень интересно как она устроена.
– Ну, – Арсеньев допил пиво и поставил рядом новопринесённый бокал, – предложи ещё что-нибудь на рассмотрение.
– Ну давай, – меня уже начал бесить его псевдобуддистский снобизм. Я сдёрнул с него кепку с надписью ENGLAND UNDERGROUND и продемонстрировал надпись. – Прочтём это слово наоборот. Получится NU.org – RED NU. В данном случае, будет смешение английского, французского и нашего великого и могучего нищебродского языка. Подполье, подземье – это сайт, посвящённый ню, точка орг. Причём это ню – красное. Домен орг подчёркивает интернациональность демонстрируемых ню, то бишь их вселенскость, универсальность. Идеальное обнажение – это лишение не только рукотворных покровов, одёжки и кед, идеальное человеческое обнажение – это снятие плоти с костей, тление, сдирание кожи. Этот японец-самурай, писатель, говорил, что человеческие внутренности так же прекрасны, как и внешние, поверхностные черты человека, которыми мы привыкли восторгаться. И в итоге он стал фанатеть по харакири и сам его себе сделал в конце жизни.
– По-моему, все классические японцы-самураи готовы были сделать себе харакири. И никто по нему не фанател, – перебил Арсеньев. – А Юкио Мисима был извращенец, который сделал его не из-за нарушения своей чести, а потому, что ему просто нравилось, когда из живота вылезают кишки.
– Неважно. В любом случае, он тоже подобрался к этой тайне, со своей, японской границы. В общем, раздевание в идеале – это раздевание до костей и мяса. То есть красное ню, красное мясное раздевание. И всё это, конечно, одна из самых подземных, нутряных тайн человечества. Идеальное раздевание человека временем, червями, самопереваривающимися тканями происходит под землёй, куда его закапывают, это ведь одно из самых главных таинств человеческой жизни, такой лучший стриптиз человечества, который для человеческих глаз не предназначен. Вот мы и получаем UNDERGROUND – NU.org – RED NU. Кроме того, NU.org, похоже на русское Нюёрк, город есть такой через океан отсюда. Город, который куча фриков воспринимает как сатанинский, глобалистский и злокозненный, столицу царства смерти, расположенного на Западе. Вот тебе и ещё один ключ, случайно найденный на твоей бейсболке.
На этот раз Арсеньев помолчал, смакуя пиво.
– Нет, это какая-то совсем хреновая тайна, – сказал он наконец. – Кроме того, она явно не учитывает древнюю традицию сжигать трупы на костре. Это было гораздо раньше, чем их в землю стали закапывать. Не только на востоке, но и в Европе тоже, по-моему. А были ещё и такие, которые отправляли трупы в плавание на лодках, не под землю, а в воду, точнее, по воде, ну и там, до первой бури, наверное… А ещё такие были, которые собакам и птицам скармливали. Так что опять у тебя концы с концами не сходятся.
– А это была изначальная антиземляная линия такая. Землеборчество, да. Люди чувствовали, что здесь какая-то очень мрачная тайна этого мира скрыта, и поэтому сжигали покойников, чтобы не было этого медленного раздевания до костей и праха. Они нутром чуяли, что здесь какая-то издевательская суть самой человеческой природы, и делали всё назло. А потом появились силы, которые заставили людей хоронить покойников в земле, даже считать, что они там живут, цветы приносить. Хотя покойники должны быть на небе. В общем, эти коварные подземельные силы всех построили по-своему.
– Ну, всё это как-то надумано и отвратительно, – резюмировал Арсеньев. – Дурак ты, боцман, и тайны у тебя дурацкие.
– Да ну тебя, Арсеньев, – сказал я. – Ты скучный, и тайны мира у тебя тоже скучные.
Какой-то совершенно непонятный хрен, сидевший столиков за семь от нас, уже расплатившийся и идущий к выходу (возможно, он слышал последние две наши реплики), на ходу обернулся к нам и со смесью гордости и гнева на лице выпалил:
– Пидоры сраные!!!
И пошёл дальше, как ни в чём ни бывало.
– Здесь всегда так, в этом пивняке, – меланхолично заметил Арсеньев. – Особенно под самый вечер.
Пиво заканчивалось. Я чувствовал, что мне уже пора спать. Тем не менее, Арсеньева хотелось уесть ещё чем-нибудь.
– Сколько времени? – спросил я его.
– Время было, время есть, времени больше нет, – ответил он.
Я схватил его за руку и развернул её к себе. Часов не было. И на второй руке тоже.
– Где твои часы, Арсеньев? Ты их чё, на ногах теперь носишь?
– Я их неделю назад проёб где-то. По-моему, в метро заснул, на кольцевой, и гонял весь вечер туда-сюда. Кто-то сообразил.
– Вечно с тобой такая фигня.
Арсеньев часто терял мобильники, часы, зажигалки и прочую мелочь.
– А, всё равно говно. Контрафактный ю-бот.
– Ю-бот? – переспросил я. – Лодка ю?
– Ну, что-то типа того. Я вообще в марках не разбираюсь.
Меня тихо осеняло перед окончательным помрачением.
– Вот, смотри, ещё откровение! – я схватил ещё один пивной кружок и начертал на нём семь латинских букв.
– TAO BOAT? – склонился над кружком Арсеньев.
– Ну да, вечный путь – это вечный корабль. Лодка, рассекающая волны океана, погребальная лодка, торговая, военная, любая – в этом смысл любого человеческого дао. На ней даже можно не грести, вообще ни фига не делать, как даосам положено. Всё равно течением куда-нибудь пришкандыбает. А этот твой проёбанный ю-бот – это лодка Ты. Твоё дао, которое ты обрёл и куда-то проёб по пьяни. Стой, ты когда её, говоришь, проёб?
– Неделю назад, – Арсеньев подумал. – Да, точно, неделю назад. Я после отчисла бухать пошёл и к вечеру совсем никакой был.
– Ну вот, тогда совсем сходится. Тебя отчислили, потому что ты не ту лодку выбрал. Ты сел в лодку журналистов, а как журналист ты был бы говно. Но мировая справедливость восторжествовала, тебя списали за борт и в знак этого наведения порядка и установления гармонии ты был лишён часов во время священного сна. К тому же часы у тебя были палёные, то есть твоя «лодка-ты» была ненастоящей. Теперь ты обрёл свою новую лодку, в знак чего можешь совсем не носить часов. Потому что настоящий правильный выбор во внешних доказательствах в виде наручных амулетов не нуждается.
По лицу было видно, что последняя открытая тайна Арсеньеву понравилась.
– Вот сейчас, – сказал он, но тут я отключился и конца фразы не услышал.
8
На этот раз я проснулся в совершенно незнакомой квартире, под утро. Я лежал на кожаном диване, одетый, но при этом всё равно какой-то расхристанный. Мобильник отметил пятнадцать пропущенных звонков от мамы, два sms’а от неё же – с просьбами обозначить и охарактеризовать своё состояние и местонахождение, и ещё один – от Регины, напоминавшей, что завтра, то есть уже сегодня, должна состояться вылазка в загородный дом Регининых родителей.
Арсеньев обнаружился на кухне, задумчиво допивающий какой-то коктейль невероятных цветов. На полу, уткнувшись носом в арсеньевскую штанину, валялся парень в очках и бороде.
– Действительно шесть часов спал, – сказал Арсеньев.
– Ну да, – я пожал плечами. – Только всё равно не чувствую, что спал. Закрыл глаза в баре, открыл – уже здесь. Где мы вообще?
– У него, – Арсеньев показал пальцем на спящего, – в гостях. Это Миша.
– Доброе утро, Миша, – вежливо сказал я. – Приятно познакомиться.
– Он со мной спорил, кто кого перепьёт, – объяснил Арсеньев молчаливость хозяина квартиры, – и я его убрал. Подчистую.
Арсеньев был известен своей алкоголической стойкостью. В очень сильном подпитии он не терял адекватности и добродушия, зато куда-то пропадали логика и быстрота реакции. Однажды, бухая у Марка, когда тот ещё не уехал, Пётр заметил, что незатушенный бычок упал на диван, и тот начал тихо тлеть. Всё уже разошлись по домам или по своим лежбищам, так что Пётр оказался с проблемой один на один. Он честно раз десять ходил в ванную и пытался донести воду ладонями, но вода не доносилась, и он лёг спать, махнув рукой. К утру обивка дивана истлела почти вся, но Марк её не выкинул, оставив в назидание неаккуратным гостям. К тому же ему было лень покупать новый.
– Я думаю, надо бы Мишу на твоё место перенести. Раз уж ты его освободил.
Я взял Мишу за ноги, а Арсеньев подхватил под микитки, и мы отволокли его в комнату и вернулись в кухню.
– А как мы вообще здесь очутились? – спросил я, роясь в буфете в поисках чая.
– Ну, ты отключился. Не мог же я тебя оставить на улице. А адреса твоего не знаю.
Мог бы и не спрашивать. Пивную картонку с адресом Арсеньев наверняка проебал.
– И мы поехали к Мише, – продолжал Арсеньев. – У него как раз девушка к родителям уехала. К тому же, я тоже домой не хотел. Кстати, его девушка – лесбиянка.
– Фига се, – удивился я, – это как?
– Ну как, она женщин любит.
– Но она ему даёт хотя бы?
– Ему – да, конечно. Но вообще любит женщин.
– Ааа, – успокоился я, – Тогда понятно. Это нормально. Только она бисексуалка тогда получается. У меня куча знакомых, которые такими семьями живут.
Допив чай, мы растормошили Мишу, потому что его старая дверь не защёлкивалась снаружи. Её обязательно надо было закрыть ключом. Миша ничего не соображал, но дверь за нами закрыл.
– Кстати, он внешне чем-то напоминает Гребенщикова, – заметил Арсеньев на лестнице.
– Да, – согласился я, – напоминает. Терпеть не могу Гребенщикова.
– Это потому что ты всякой хренью морочишься, всякими редрамами и прочей хуетой.
– Не забудь про дао-лодку.
Про дао-лодку Арсеньев не забыл. Для неё он мог сделать исключение из всего моего словоблудия (возможно, только потому, что она была связана с дао). Мы выпили в утреннем парке по пиву и разбрелись по домам.
Постаравшись насколько возможно корректней извиниться перед мамой («в гостях был, заснул, а телефон на беззвучном звонке, и вообще он в кармане пальто остался»), я объяснил ей, что еду к друзьям за город, всё со мной будет в порядке, завтра-послезавтра вернусь, поцеловал в щёку и повлёкся в сторону университета.
От Комсомольской мы на электричке поехали в сторону северо-запада. И уже в электричке начали пить. Пройдя от станции около километра, обнаружили, что Регина выронила ключи, пошли обратно, обшаривая глазами и руками все окрестные кусты и канавы, мимо которых шли в сторону дачи. Вернувшись к станции, поняли, что Регина их не теряла, просто переложила в рюкзак, в боковой кармашек. По дороге болтали о том о сём, и Регина вспомнила, как на питерском концерте «The Tiger Lillies», когда Мартин Жак повторял во вступлении: «I wanna have sex with, I wanna have sex with» своим неповторимо мерзким голосом, многие кричали: «With me, Martin!», и Регина, бывшая в первых рядах, кричала особенно громко и яростно. Мартин окинул её взглядом, прищурился и сказал: «With you – may be, but now I wanna have sex with flies!» На половине пути мы решили открыть вино, чтобы согреться, и когда все сделали по глотку, и бутылка оказалась в моих руках, я вдруг очень остро почувствовал невнятную, совершенно неправильную обиду, какое-то иррациональное чувство обделённости, оставленности и отверженности чем-то прекраснейшим. Этой обиде был необходим хотя бы какой-то повод для существования, и она довольно быстро нашла его в слишком долгом пути, в неоправданной и глупой задержке с потерянными ключами, в жгучем холоде, в том, что все очень медленно идут. Я сделал довольно большой глоток, отпил гораздо больше, чем все остальные, а потом внезапно для всех и даже для самого себя, рванул вперёд, выставив перед собой правую руку с бутылкой словно олимпийский факел. Пробежав метров двадцать и оглянувшись назад, я демонстративно сделал ещё один большой затяжной глоток, и все тут же рванули за мной, что-то возмущённо крича. Бутылка вина была одна, было много пива и в доме обязательно должен был быть чай, но вина была всего одна бутылка. Я бежал по сто метров и отпивал, даже ухитрялся отхлёбывать на ходу, а Регина, Семён и Саша как-то призрачно то приближались, то отдалялись на прежнюю дистанцию. Такой галлюцинаторной гармошкой мы прибежали к дому, и я поставил уже пустую бутылку у ворот.
– Финиш, – сказал я.
– Да пошёл ты, козлина, – сказала Регина.
– Вот ты же, сука, пидор, – сказал Саша, наклонившись и пошевелив бутылку, чтобы убедиться, что в ней не осталось хотя бы чуть-чуть.
Семён, самый спокойный и неразговорчивый, просто пожал плечами, как бы сочувствуя и моему безумному порыву и всей компании, оставшейся без благородного напитка.
Кроме нас, в доме ещё жил садовник из Западной Украины по имени Любомир, ухитрявшийся прятаться внутри, хотя дом был не так уж велик. Саша называл его Любомудр, а я – Любомир-бисту-шейн, но мы его так и не увидели, ни в тот вечер, ни в следующий. В первый вечер я отключился на середине фильма про постаревших братьев Блюз, а потом, успев покемарить после ночного пива, мармеладных медведей и ночного блуждания по дому в одёжке младшей сестры Регины,
9
я проснулся в середине дня. Снизу до меня доносился разговор Регины, её бывшего парня и её парня сегодняшнего. Наверняка они что-нибудь приготовили. Поскольку одними медведями сыт не будешь, я тут же вскочил и пошёл вниз.
– Господи, Джим, какого хрена ты надел Маргин халат?! – Регина стояла у плиты со сковородой в руке и сердито пялилась на моё облачение.
Марга. Вот оно как. Маргарита? Просто Марга?
– А какого хрена вы мою одежду сныкали?! И, кстати, куда?
– Да, – сказал Семён, – мы же его в гостиной раздели, – он и Саша сидели за столом и тоже внимательно меня изучали.
– Доброе утро, милые поселяне, – сказал я. – Я добрая большая утка. Обычно я крякаю и плаваю в озере, вот только немножко опизденела и начала пить, курить и ругаться матом. Угостите меня пивом.
Саша откинул мою руку от бутылки.
– У нас сухой закон, утка. Только чай. А будешь выпендриваться, мы тебя на день благодарения сожрём.
– На день благодарения индюшек едят, дурак, – сказал я, – а я утка.
– Ты – пидор, – опроверг мою самоидентификацию Саша. – Ты вчера всё вино выпил. Ты ночью и так до хера пива удолбал. Так что пей чай со всеми и не крякай.
Я начал пить чай и не крякать. Регина угостила нас ростбифами с омлетом, и я, конечно же, извозюкал левый рукав халата в бледно-жёлтой влажной смеси молока с яйцами.
– Свинья ты, – сказала Регина и начала снимать с меня халат. Я съёжился на табуретке, голый, с желтовато-смуглой гусиной кожей. Под утиным оперением укрывался гусь.
– Вот ведь свинья, – Регина всплеснула руками, – Ты ещё и голый в нём ходил! Это же халат моей девятилетней сестры!
– Да, – вставил Семён, – мы с тебя трусов не снимали и не прятали!
– Ну, – промямлил я, – я обычно сплю без трусов. И когда второй раз заснул, то, естественно, тоже снял их. Машинально.
Регину это всё, похоже, начинало бесить.
– Какого чёрта, Джим! Я не знаю, где и с кем ты спишь… Что это за херня вообще: ходить в шмотках моей сестры голым…
– Я вообще-то сплю в кроватях, ни с кем. С кем я последний раз полгода назад спал.
Это я наврал. На самом деле, полтора года.
– Всё равно, это ужасно… В моих вещах ещё ладно, но не в сестриных…
Я пошёл в гостиную, нашёл Регинины шмотки (явно её, сестра слишком мелкая, а мать в два раза крупнее, если судить по семейной улыбчатой фотке) и не спеша в них облачился. Шерстяная бежевая юбка, чёрный свитер и тёплое зеленоватое пончо поверх. В таком виде я и вернулся.
– Блядь, ну вот это уже чересчур, – сказал Семён. Он встал и попробовал стащить с меня для начала пончо, но я ловко отмахивался и отбивался. Вернувшаяся из ванной Регина разняла нас.
– Ты же сказала, что в твоих можно, вот я и оделся, – объяснил я свой новый облик. – По-моему, ничего так.
– Ты фрик, Джим, – вздохнула она.
Меня осенила новая мысль.
– Я этот, как его… В общем, на районе меня зовут Джон, потому что раньше у меня хаер был длинный и очки круглые, а не квадратные. А в универе я – Джим… Я тут подумал и решил объединить обратно мою раздвоенную личность. Теперь я буду пастор Джим Джонс, а вы – мой народный храм. У меня есть замечательная идея, народ мой, – я выдержал паузу. – Давайте покончим с собой, все сразу, чтобы спасти свои души и не дать пожрать их диаволу. Тела ваши бренные нечестивые народы земли пожрут без остатка, но наших славных душ им не видать…
Никто не отреагировал. Видать, они не знали, кто такой был Джим Джонс.
– Не смешно, – сказала наконец Регина и ушла в ванную. Она запустила стиральную машину с халатом, а когда вернулась, я уже был в своей одежде. Не смешно так не смешно. День мы провели в ленивом чаепитии, покуривании и просмотре каких-то дурацких мультфильмов. Саша пробовал навязать кино про зомбарей, чего наотрез не хотела Регина, я попытался продвинуть пару старых нуаров, и Регина меня поддержала, но тут воспротивились Саша и Семён (как человек, обожающий фильмы про зомби, может не любить нуар, - таким вопросом я некоторое время терзался; что интересно, противоположная ситуация, когда человек, обожающий старые нуары, не любит зомбятник, непонимания у меня не вызывала). В итоге Семён помирил всех на какой-то японской анимационной хуете. Я даже и не знаю теперь, как так получилось, что мы посмотрели целых пять серий. По-моему, всем, кроме Семёна, было ужасно скучно. Вечер вообще вышел бы унылым, говёнее некуда, если бы Регина во время одного из чаепитий не сообщила новость: она даёт отставку Семёну, и теперь у неё будет новый хахель (её выражение, не моё!), Борис – менеджер, сатанист и ебанат, студент философского. Бориса мы все знали. Вообще-то известен он был поначалу не как Борис и даже не как Борюсик (так он в последнее время представлялся в университетской курилке и кофейнях), а как Сабина. Все первые три курса он был Сабиной, это было нечто вроде его анимы, женского начала, чуткого, ранимого и эмоционального. – «Здравствуйте, я – Сабина», – говорил молодой костлявый паренёк, глядя на неизвестного ему человека зелёными блудливыми буркалами поверх прямоугольных очков, водружённых на массивный шнобель. Пожалуй, только преподаватели знали не Сабину, а Бориса Вартовского. К четвёртому курсу женское начало было поглощено мужским, и Сабина превратилась в Борюсика, Борюсик нашёл работу, отрастил усики и волосы «под пажа», а также впервые начал кадрить женщин на глазах общественности. Правда, теперь он нервировал всех припадочным смехом, сопровождавшимся эпилептическими судорогами конечностей. Все качали головами и сходились в мнении, что гетеросексуализация и социализация для Борюсика даром не прошли. Регина сказала, что теперь будет спать с Борюсиком, что хочет заняться этим прямо сегодня и что она ему уже позвонила, он за ними заедет и заберёт всех в Москву, а Регину непосредственно к себе, в пустую родительскую квартиру в Бибирево. Говорят, что у него чёрное постельное бельё и теперь он не бреет ноги и подмышки. Семён пожал плечами. – «Не думал я, что так рано это произойдёт», – сказал он. – «Дааа… Борюсик – это ты сильно», – сказал Саша. Когда мы случайно оказались с Региной вдвоём (у меня не было никаких задних мыслей), она внимательно окинула меня взглядом, обернулась на лестницу (это было в комнате сестры; Регина вешала халат сушиться, а я собирал вещи в рюкзак) и поцеловала меня. Второй раз за эту безумную пьяную зиму. – «Не волнуйся, – прошептала она, – это, скорее всего, не больше, чем на неделю. Он же смешной», – и вышла из комнаты.
К восьми вечера все уже были готовы. Семён не вздыхал, но всё равно выглядел грустно. Саша что-то насвистывал. Борюсик приехал к десяти и сразу же о чём-то восторженно затрещал. Мы забились в его короллу, причём Регина неожиданно села на заднее сиденье, между Сашей и Семёном, а мне предоставили честь сидеть справа от водителя. В зеркале Регина выглядела мрачной ведьмой или цыганской наркобаронессой в окружении телохранителей. Её взгляд сверлил мой в зеркале. Борюсик непрерывно о чём-то вещал, адресуясь то ко мне (потому что я был ближе всех), то к Регине, а чаще всего ко всем сразу.
Меня высадили в двух километрах от дома. Я успел вскочить в один из последних автобусов и вскоре уже был дома. До трёх ночи я сидел и думал о втором поцелуе Регины, а потом заснул. На этот раз мне даже приснился сюжетный и очень рельефный сон. Я безуспешно ухаживал за своей кузиной, осознавая её родство, как что-то роковое и непреодолимое, причину обязательного выбивания табурета из-под ног, исчезновения возлюбленной в последний момент перед пробуждением, в тот самый момент, когда её рука уже лежит в моей, или когда я прижат левым боком к её правому (движение навстречу друг другу двух тел, тот невероятный миг, когда они наконец соприкасаются). У кузины было лицо и тело Регины (хотя у меня есть настоящая двоюродная сестра в Новосибирске, и она совершенно не похожа на Регину), но голос был чьим-то чужим, не регининым и не кузининым, а чьим-то третьим. Первый чайно-фруктовый час по пробуждении я сидел
10
и пытался вспомнить, кому же он принадлежит в реальной жизни. Никто из знакомых не подходил, к кому бы я этот непонятный голос не примеривал, словно туфельку убежавшей красавице, чья карета превратилась в невкусный овощ, а лакеи разбежались по канавам серыми тенями. К концу часа я от досады начал вспоминать преподавательниц, и тут меня непроизвольной ассоциацией вынесло к правильному ответу. Я вспомнил манеру преподавательницы истории западной философии вести семинар, рассматривая свои ногти, беседовать со студентами, даже не глядя на них. И тут же вспомнил точно такую же манеру одной из наших постоянно сменявшихся классных руководительниц, временной учительницы литературы и русского языка, довольно быстро оставившей школу, чтобы стать матерью. Голос был точно её. Это было уже слишком для моего похмельного сознания. Школьные учительницы в моих эротических сновидениях появлялись впервые (пусть их представлял только голос, а не тело). Не хватало только матерей одноклассников.
Я позвонил Арсеньеву.
– Здорово, Арсеньев.
На той стороне трубки что-то скрипнуло, хмыкнуло и замычало.
– Арсеньев, ты там?
– Кто это? – с придыханием несвежего сна.
– Это я, Джон.
– А, Джон… Здорово, – я его явно разбудил.
– Слушай, Арсеньев, ты там чего делаешь? Я к тебе заскочу?
– Ммм… Да, конечно. Заскакивай.
Вот что хорошо в Арсеньеве: во сколько бы я ему ни позвонил, он не рассердится. Он либо выключит телефон (я люблю звонить по десять раз, словно речь идёт о спасении жизни или неожиданно привалившем счастье), либо ответит. Когда я в своё время так же названивал Марку, он крыл меня ёбами.
Арсеньев продолжал спать и тогда, когда я до него дошёл. Он вышел на лестничную площадку грязноволосым сомнамбулой, запустил меня и рухнул обратно в постель. Прошло около полутора часа (которые я по большей части провёл в интернете, ожидая появления Регины в гуглтолке и от скуки шароёбясь в википедии), прежде чем из наших коротких разговоров (каждые пятнадцать минут я пытался удостовериться, не собирается ли Арсеньев проснуться) я выяснил, что Арсеньеву сегодня исполняется двадцать один год, и по этому поводу состоится большая, обильная гостями, выпивкой и песнями вечеринка. Родители уехали куда-то отдыхать (внутренне уже приготовившись разбираться с соседями снизу; те уже даже не орали на Арсеньева-младшего, они просто скептически оглядывали дверную щель, откуда высовывалось опухшее рыло виновника их прихода и доносились звуки бешеного веселья в диапазоне от истерического смеха до оргазма, спокойно пожимали плечами и уходили, предупредив, что по приезду «побеседуют с отцом», – эти беседы обычно улаживались небольшими суммами денег), и уже в разных концах Москвы и Подмосковья просыпались люди, которым предстояло сегодняшним вечером пить, блевать, хохотать и трахаться в разных комнатах – до самого утра, чтобы около шести-семи обездвижиться (телом раньше, телом позже), словно банда упырей, застигнутых криком петуха и рассветом. Половина гостей будет с района, остальные – из старого и нового арсеньевских мест обучения (только вписавшись в новый вуз и первый день потусовавшись, он уже нашёл себе хороших знакомых, которых зазвал на вечеринку). Сообщив мне эту новость, Арсеньев снова ушёл в свои тяжёлые сны.
Пока он спал, я решил устроить подарок и создать из гостиной инсталляцию (я вообще предпочитаю дарить бесплатные подарки, а ещё лучше – вообще ничего не дарить, в конце концов, общение со мной – уже вещь довольна ценная). Закрыв жалюзи, за которыми ярилось январское, набирающее силу солнце, я повесил на люстру найденные в прихожей кеды, из которых и толстолапый Арсеньев, и мягкостопая Василиса явно выросли; затем декорировал стены выдранными из глянцевых журналов фотографиями Путина и Обамы (Путину я пририсовал фломастером чёрную повязку на правый глаз, как у карибских пиратов, а Обаме – ямайские дрэды); из пустого холодильника были вынуты куски колбасы, уже начинающей плесневеть, и приколоты к кедам. Потом меня осенило, и кеды перекочевали на входную дверь, а на люстру я повесил проволочную вешалку с пиджаком, к которому подтяжками прикрепил джинсы. На пиджак я нацепил белый лист бумаги, на котором написал: «Он был двадцатилетним»; а на серёдку джинсов щедро плеснул водой из кружки. Потом нарисовал много указателей в виде эрегированных пенисов и прицепил их на стены в коридоре – путеводительная нить, ведущая в туалет.
Тут как раз проснулся Арсеньев. Он мутно оглядел цепь указующих срамных удов и прошлёпал к месту назначения. Опорожнившись, он вышел гораздо более ясный и светлый, посмотрел на повешенную модель себя двадцатилетнего и улыбнулся.
– Круто, – сказал Арсеньев. – А почему у меня между ног мокро?
– Ты обоссался, – объяснил я. – Когда людей вешают, у них происходит опорожнение пузыря. И ещё мужики кончают. Я бы мог подрочить, но подумал, что ты неправильно поймёшь…
Арсеньев понял всё правильно и выудил из мусорного ведра пакет из-под сметаны, в котором сохранилось немного на донышке. Он обмазал ширинку повешенных джинсов, и теперь мы оба любовались творением рук своих.
– Да, – сказал наконец Арсеньев. – Вот теперь совсем круто.
Впрочем, с этим мнением согласились далеко не все. Гости начали подтягиваться к четырём (мы с Арсеньевым успели посмотреть старый фильм Вуди Аллена, покуривая и потягивая зелёный чай; гостиная заволоклась дымом; повешенного, чтобы не мешал общению, мы перенесли в спальню Арсеньева и перевесили на тамошнюю люстру). Первый же отряд ушёл с Арсеньевым в супермаркет, потом Арсеньев пошёл встречать гостей из других районов Москвы, а я помогал оставшимся накрывать праздничный стол и нарезать закуску. Пока мы трудились, кто-то из праздных гостей снял мёртвого прошлогоднего Арсеньева с люстры и прибил костюм и джинсы гвоздями к стене – вверх ногами, согнув одну из штанин в колене. – «Это аркан Таро, Повешенный называется, – объяснил мне новый художник. – Он мудрости ищет, как такой бог, ну был такой один…»
Моего партизана-повешенного переделал в карту Таро Митра, Дмитрий Машуркин, общий знакомый, одноклассник Арсеньева и Марка. Он был известен тем, что с завидной периодичностью уходил в академический отпуск. Однажды он даже чуть не загремел в армию, но в итоге был отмазан; в этот период они с Арсеньевым как-то завалились в гости к однокласснице и сообщили, что завтра Митру увозят в стройбат и что сегодня последний день, когда эта одноклассница видит Митру, потому что живым он из стройбата не вернётся. Сердобольная подруга устроила Митре проводы за свой счёт, и утром он действительно чуть не уехал в «любую воинскую часть» – настолько искренней была скорбь девушки.
В гостиной уже становилось шумно. Наконец явился Арсеньев с оравой гостей. Кого-то я знал – Костю Пианиста из Красноперекопска, печальную девушку Ольгу и бывшего дьякона Софиевской церкви из Одессы Джорджа. Джордж тоже был родом из Красноперекопска, их с Пианистом детство и отрочество было довольно бурным по московским меркам: будучи воспитанниками детского сада, они однажды обнаружили ведро с краской, оставленное рабочими на веранде, и спалили первый институт своей сложной социализации под ноль. Потом – и это в шестилетнем возрасте! – Джорджа обуял достоевский покаянный зуд, которым он поделился с подельником; оба покаялись в содеянном перед родителями и властями, поставили родителей на огромные бабки и были пороты. Дальше их пути на некоторое время разошлись: законопослушный Пианист поступил на журналистский, а Джордж в это время работал на улицах грабителем и драгдиллером. В церковь он сбежал после какого-то серьёзного косяка перед непосредственным суровым начальством и довольно быстро сделал там карьеру. Последнее церковное лето ознаменовалось гощением Арсеньева, приехавшего в родные пианистовы места, двумя разбитыми церковными машинами, растратой казённых сумм и бегством из церкви в мир, в Москву. В Москве Джордж некоторое время мыкался по чужим общежитиям, гостевым хатам, а теперь собирался уехать в Лондон – играть в переходах на скрипке. Играть он не умел, но знал, что европейцы жалеют всех, а в музыкой считают любое говно, которое отежеляет воздух, главное не забыть напомнить, что это музыка, и что это не просто музыка, что у ног музыканта лежит специальная шляпа для денег. Джордж даже приглядел специальную шляпу – она принадлежала Митре, но её все часто брали поносить. Шляпа была очень странная – она одновременно напоминала и ковбойский головной убор и шляпу в стиле нуар, такие в Москве обычно носили любавичские хасиды. Джордж как раз этим утром уйдёт в этой шляпе. Скрипку он попросил у случайного знакомого – старую детскую четвертинку, на которой тот пилил в детстве, мучимый родителями. Будущий скрипач и настоящий Пианист (Костя обычно играл на гитаре, но и на клавишах, оправдывая фамилию, играть умел) были уже вполпьяна. Вместе с ними припёрся какой-то бледный парень по имени Макс, он, кажется, познакомился с Костей в клубняке и был, по его словам, отличным парнем. Мы все перездоровались, перезнакомились, я и Пианист синхронно прошипели друг другу приветствия закадычных врагов (он меня недолюбливал, и я платил ему той же монетой).
– Ого, – сказал Арсеньев, увидев новый вариант повешенного.
– Будем считать, что прошлый год ты провёл в поисках мудрости, – пояснил Митра.
– Или проведёшь в них будущий, – встрял я, – учитывая то, что ты теперь в правильной лодке.
– А, да! – вспомнил Арсеньев. И тут же пересказал пришедшим моё лодочное откровение. Получилось это у него лучше, чем у меня: моё бормотание в подпитии превратилось в телегу.
– Ну да, – сказал Митра, – а ещё индейцы парней в лодках хоронили, я в «Мертвеце» видел…
Пианист надул губы. Обычно экспертом по всякого рода китайщине был он. Воображаемая лодка, рассекающая мировые воды, посетившая голову враждебного каббалиста-словоблуда, уязвила его.
– Ни фига подобного, – заявил он. – Не бывает у даосов лодок. Чтобы была лодка, нужно её сделать. А даосы практикуют недеяние, так что никаких лодок у них нет. Даосы вообще не путешествуют…
– По-моему, Лао-цзы перешёл границу, ушёл к западным варварам, и после этого китайцы ничего о нём не знают, – возразил я.
Пианист посмотрел на меня с ещё большим неудовольствием.
– Западные варвары поймали Лао-цзы, сварили его и съели, что послужило даосам уроком и предупреждением. После такой херни никто никуда не путешествовал, – отрезал он.
Макс улыбнулся.
– На самом деле нет никаких даосов, – сказал он. – Китайские легисты во времена Сократа установили жуткую диктатуру и сожгли все книги. И «Дао дэ цзин», и сочинения Конфуция, и «Чжуан-цзы» тоже. Их потом по памяти восстанавливали. И наверняка в оригиналах всё было по-другому. Так что и даосы и конфуцианцы ненастоящие, настоящие остались до сожжения текстов.
Мы с Пианистом, кажется, одновременно раззявили хлебальники, восхищённые таким подходом.
– Мы тут все гужуемся, а там стол накрыт, – флегматично заметил очкастый серьёзный Лёва.
И действительно: на столе стояла батарея бухла, колбасы и сыры были коряво порубаны нашими коллективными руками, коробочки с салатами аккуратно вскрыты, вымытые фрукты влажно поблескивали под люстрой, на которой утром висела первая версия «Повешенного». Все как-то синхронно, однопорывно прошли в гостиную и начали щёлкать зажигалками, открывая пиво. Я этого не умел (старший кузен, считавший позорным неумение мужчины открывать пиво зажигалкой или ключами, однажды в воспитательных целях даже спрятал открывашку («у тебя же есть открывашка, хренов ты консьюмерист!» – орал я в бессильном отчаянии; кузен неумолимо пил своё пиво и не поддавался на увещевания); это был единственный раз в жизни, когда я после получаса напряжённых усилий таки откупорил злосчастное пиво и, конечно, к утру уже забыл, как это делается), поэтому пододвинул к себе чуть ли не все банки, которые стояли на столе. Минут через десять их всё равно одну за одной оттянули в свои стороны соседи.
Общий разговор постепенно распался на несколько отдельных. Я начал охмелевать, и мне жутко захотелось влезть во все сразу. Краем глаза я смотрел на профиль печальной Ольги. Она была совершенно непохожа на Регину. У Регины были золотистые длинные волосы и озёрно-стальные глаза, а у Ольги чёрное каре, зелёное раскосие и крупный шнобель. Но всё равно, глядя на Ольгу, я почему-то всё отчетливей вспоминал Регину; правда, не её лицо и не фигуру, а только голос; пробиться к внешности мешало тело Борюсика – нескладное, угловатое, в чёрном пальто, тоже без лица; зато очень отчётливо представлялись его жестикулирующие руки. Довольно странно было представлять Борюсика без его голоса (он ведь вечно о чём-нибудь трещал). Но я отчётливо слышал Регину, причём совершенно не понимал того, что она тихо, мелодично и спокойно говорила (чем медленнее она произносила свои абсолютно недоступные слова, тем отчаяннее вертел руками её новый хахель). Из этой прострации меня на некоторое время выдёргивал увиденный боковым зрением профиль Ольги, и он же через пару секунд вновь погружал меня в созерцание фантомной пары. Решив, что надо что-то с этим делать, я мотнул головой, отпил ещё пива (наверное зря, успел подумать) и отвернулся от той части стола, в углу которой маячила Ольга.
Арсеньев о чём-то болтал с актёрами. Наверное, уже вербовал их в любую постановку. Постановку, которой не будет. Постановку, которую он ещё не придумал.
– Ну да, я бы хотела, чтобы это было такое брехтовское кабаре, с блэкджеком и шлюхами, – говорила одна из актёрок. – Чтобы зритель писал кипятком от стриптиза и от китчевых песенок о том, как оно всё есть…
– Только надо что-нибудь современное, – поддакивал Арсеньев, – что-нибудь незамыленное и незахватанное. Вот этот, – он показал в мою сторону, – что-нибудь нам напишет. А вот этот, – палец показывает в сторону Машуркина, – сочинит музыку и похабные песни. Напишешь? – он обратился ко мне.
– Напишу, – я обрадовался возвращению в реальность.
– Про что?
Я помолчал пару секунд. На мгновение вновь мелькнул Борюсик, и Регина отчётливо произнесла несколько слов. Я наконец понял их смысл.
– Про агностиков-каннибалов, – я спокойно посмотрел на Арсеньева (уверен, что со стороны я выглядел даже трезво).
Актёрско-арсеньевский трёп умолк. В глазах заинтересованной актёрки (или она всё же была будущим режиссёром и планировала совместную с Арсеньевым работу?) читалось лёгкое позитивное охуение. Арсеньев медленно расплывался в улыбке.
– Про кого? – спросила актёрка.
– Про кого, про кого? – как-то недоверчиво повернулся в мою сторону бледный Макс, выдернув себя из совершенно посторонней беседы с Митрой (по-моему, они базарили о Таро, в которых Митра совершенно не рубил).
– Про агностиков-каннибалов, – спокойно повторил я. Регину я уже не слышал, просто развивал ухваченные слова. – Секта такая, они собираются раз в месяц, чтобы кого-нибудь захомячить, случайного чувака, на улице попадётся, и всё… Но это будет не жесть, это будет скорее водевиль такой, в трёх актах. В общем, предводителя этой секты полюбит уродливая фотомодель, или даже одноногая, да, точно, одноногая…
– Нет, одноногая – это уже слишком, – перебила меня собеседница Арсеньева. – Это, конечно, было бы круто, но это слишком.
– Ну ладно, тогда просто уродливая такая фотомодель, со страшной рожей. В первом акте они полюбят друг друга. И он пройдёт испытание знакомством с её родителями. У неё будут такие ебанутые родители, они схватят его и привяжут к кушетке и устроят сеанс психоанализа по системе «злой психоаналитик – добрый психоаналитик». А дочку запрут в шкафу. Во втором акте испытание нужно пройти ей: на предводителя серьёзно наедут остальные члены секты, они будут возбухать в том смысле, что неплохо бы эту его зазнобу съесть, чтобы всей секте причаститься её естества, познать… Да, точно! Помните в Библии про секс говорится слово «познать», не «поиметь», не «овладеть», а именно «познать»… А эти самые агностики-каннибалы, они же агностики, они не верят в познание мира, вещей, вообще ничего, самые радикалы такие из агностиков… Поэтому они говорят, что неплохо бы всем её непознать… И наезжают, и прессуют его по-чёрному. Но в третьем акте она сама интуитивно находит выход: она присылает им заместительную жертву – своего младшего брата, студента-программиста, адского такого задрота, который рубится в «World of Warcraft», смотрит тоннами аниме, у него такие огромные советские квадратные очки, как у Егора Летова… И кстати, пусть у фотомодели, и у её родителей тоже у всех такие будут… И в общем, весь третий акт секта будет полным составом жрать этого братишку, и ковыряться в зубах, и цыкать, и рыгать и вести душеспасительные философские беседы о судьбах непознаваемого мира и человечества…
Я перевёл дух.
– Ну как, поставите?
– Охуеть, – покачала головой актёрка-режиссёрша.
– Ты ёбнутый, Джон, – Арсеньев смотрел на меня влюблёнными глазами.
Я повернулся в сторону Ольги и снова залип на ней. Регинин голос и руки Борюсика исчезли, и я теперь краем уха слышал болтовню Арсеньева о том, как лучше изображать поедание человеческого тела на сцене и вопросы Митры об Арканах, на которые Макс отвечал по большей части односложно. Через некоторое время Ольга отошла к компьютеру и принялась с кем-то общаться. Митра, видимо, удовлетворённый выуженными из Макса сведениями о средневековом символизме цыганских карт, перешёл к Арсеньеву. Они оба периодически сочиняли песни для исполнения под гитару, иногда вдвоём. Пианист обычно привлекался в качестве аккомпаниатора и аранжировщика.
– Вам не хватает ударника, – заметил я. – И электронщика.
Впрочем, они всё равно были правы. А я нет. В России всегда ценили подгитарные творения (от цыганских завываний и городских сопливых романсов до забубенной романтики бородатых бардов и рокерского хриплого правдорубства), а всё остальное считали выдумками Диавола и присных его. К тому же главным всегда считались тексты, а не музыка.
– Нам не хватает звукозаписывающей студии, – резонно возразил Митра. – И видео, которое можно выложить в интернете.
– Вам надо писать песни на английском. Или на ебанатском обкуренном, как Эдвард Хиль. Тогда вас хоть кто-то да увидит, – это был Макс, который незаметно подобрался к нашему кружку.
– По-моему, английские альбомы Гребенщикова не удались, – возразил я. – И их не удадутся. Время скрытого смысла и намёков на умные книги во всём мире давно прошло, это только здесь любят до сих пор. Да и то скорее старпёры, чем молодёжь.
Арсеньев и Митра не сопротивлялись. Им уже надоел этот дурацкий спор, который мы вели месяцами. В авангарде их возражений были Леонард Коэн и Ник Кейв. Я штурмовал их железобетонные крепости Beyonce и Леди Гагой, хотя от обеих меня тянуло блевать. Хитрый Митра троллил меня чёрными рифмоплётами, оснастившими хип-хоп длинными мрачными виршами о жизни гетто и тех, кто сумел из него вырваться. Я отмахивался группами «Prodigy» и «Chemical Brothers», а также минимализмом текстов «Rammstein», больше похожих на речёвки радикальной партии и разговоры в порнофильмах, чем на тексты песен. Арсеньев и Митра окончательно добивали меня многоречивостью «Gogol Bordello», и тут мне обычно крыть было нечем. Я уползал в свою приватную нору зализывать уязвлённую нелюбовь к пению под гитару. От «GB» охуевали все в нашей компании, не исключая и меня. Да чего уж там, во всех компаниях, в которых я тусовался, любили этих сумасшедших эмигрантов, взорвавших и Америку и веси своей оставленной родины смесью панка, цыганщины и брутального русского акцента.
Сейчас и Арсеньев и Митра предпочли отмахнуться от моих подначиваний, и это ещё больше меня подзадорило.
– Вообще, во всём западном мире мы до сих пор ассоциируемся с империей зла, так почему бы нам и не предстать перед ними в этом образе…
– Нам – это кому?
– Ну, нам – в смысле, художникам, музыкантам, режиссёрам. Такое вот обозрение ГУЛАГа и окрестностей с чёртова колеса устроить. С песнями и танцами, с казачком и медведями. Только чтобы медведь был подкован в Марксе и Фрейде. Особенно во Фрейде.
Макс задумчиво посмотрел в мои пьяные глаза.
– По-моему, империя зла уже несколько устарела… Мы уже не столько империя, сколько огромная банановая республика зла. В которой, правда, нет бананов, – произнёс он. – Это уже несовременно. Неактуально.
– Я бы не стал играть в группе, которая называется «Империя зла», – сказал Арсеньев. – Это слишком претенциозно и пафосно. Я такой пафос не потяну. Я бы играл в группе «Парламентская республика добра». Или, допустим, «Конституционная монархия добра»…
– Добро – это не интересно, – пробурчал подошедший Лёва. – Добро – это скучно, занудно и хило.
– Нет, действительно, – понесло меня вдаль, – «империя зла» – это устарело, это было 25 лет назад, мы все ещё не родились… Сейчас надо хватать насущное и злободневное, не остывшее ещё. Вот группа «Children of Khodorkovsky» пошла бы на ура. А ещё лучшее вообще назвать группу «Юкос». Была такая группа финская, техно лабали, «Pan Sonic». Они изначально назывались «Panasonic», потому что просто хотели спиздить чужой раскрученный брэнд, чтобы деньги в рекламу вкладывала корпорация, а рекламировали при этом ещё и их. В итоге их заставили изменить название… Так вот, офигенно было бы взять название «Юкос», просто вот спиздить и всё. Тем более и фирмы такой уже нет…
– По-моему, права на это название кому-то уже принадлежат, – мягко заметил Макс. – У вас его тоже отберут. И ещё, наверное, сильно опиздюлят.
– Это кому это они принадлежат? – обиделся я на сомнение в предмете моего вдохновенного гона. – Путину? Медведеву?
– Я думаю, тому, кто купил компанию вместе с названием, не помню, кто это был, – сказал Макс. – Ладно, мне позвонить надо, – и он ушёл в кухню.
– А тогда можно очень просто её переназвать, – ответил я удаляющейся Максовой спине. – Назвать группу «You’cause» – «Тыпотомушто». И делов-то. Группа «You’cause» представляет альбом «Empire of Evil».
– Лучше так: «You’cause strikes back at empire», – поправил меня Арсеньев.
– О, точно! – обрадовался я неожиданной поддержке. – Так ещё заебастей будет.
– Только играть в этой группе я всё равно не буду, – сказал Арсеньев. – Я не люблю нефть и всё говно, которое с ней связано.
– И я тоже, – поддакнул Митра, – я вообще не люблю группы. Я один буду играть, на всём сразу.
11
Вот так и шёл вечер – в необязательных разговорах и словоблудии, которое я старательно вызывал в людях, подчёркивающих свою к нему неприязнь. Я нутром чувствовал, что на самых краях и стыках такой вот болтовни, на кромке дешёвого трёпа и болезненного бреда подчас таится истина. Я ощущал это брюхом, жопой и соединяющим их кишечником. Но тогда я ещё не знал этого точно. Возможно, знай я это, я бы больше молчал, улыбался и вздыхал, слушая чужие придумки и гоны и тщательно изгоняя в подкорку свои, не давая им расцвесть ядовитой зеленью на своих извилинных полях. Я бы душил их, выпалывал на корню, выдирал и обстригал эти цветы зла, предпочтя чтобы сад моего мозга зарос сорняками общих мест, увлечений и вкусов. Я бы стал интересоваться футболом, попсовым буддизмом, трансцендентальной медитацией и аюрведической кухней, русским роком и экстремальными видами спорта, менеджментом или на худой конец дауншифтингом в Гоа. Я бы занялся делом, в свободное время смотрел бы аниме и играл в онлайн-игры, нашёл девушку своей мечты и женился бы на ней, обзавёлся дочкой и глупой злой собачкой. Или сыном и злым умным котом. Поругивал бы, как все, правительство и, опять же не отличаясь в этом от большинства двуногих сопельменников, в глубине души, втайне или въяве, осознавая это или нет, верил бы ему. Надеялся бы на медведевскую модернизацию и внедрение интернета в чукотские чумы или на путинский план и тот нанопанк, в который он обещал превратить страну, в которой крестьянство уничтожили, а индустриализацию провели через такую жопу, что она вышла в неисправимо говённом виде.
Я такой же как все. И знай я тогда некоторые вещи, даже догадываясь о склонности безобидных бредней воплощаться, я бы себя замолчал. Ушёл бы свою фантазию на пенсию или сослал её в пансионат, в котором у каждого человека лелеют пролежни и плешины детская невинность, отроческая чистота восприятия, подростковая бескомпромиссность и юношеский максимализм. Просто сработал бы свойственный почти всем инстинкт выживания.
Но я был всего лишь долбоёбом. Таким же как все, только долбоёбом, у которого период юношеского беспредела и отрыва несколько затянулся, хотя и существовал явно на последнем дыхании. Да, скорее всего я был Римом периода упадка, который вскоре должен был сменить византийский расцвет.
Именно поэтому фантастические слова были произнесены. И колёса завертелись.
и вёсла заработали
и лодка поплыла
12
В середине вечеринки поплыл и я сам. Поплыл в алкоголе, томлении и бреду.
Я помню, как мы стали выходить курить в коридор, потому что в комнате уже висело столько топоров, что старушек-процентщиц, если бы такие ещё существовали, можно было бы ликвидировать как класс. Помню компанию спускавшихся гопарей, которые о чём-то нам говорили, заходили к нам в гости и стреляли наше пиво. Помню предчувствие махача, который так и не произошёл. Помню, как отлёживался в кровати арсеньевской сестры, мутно посматривая на мельтешащие в коридоре фигуры. Помню, как Лёва вызванивал всех имеющихся у него в телефоне бырыг, чтобы нам привезли травы, но барыги отнекивались и отбрехивались (я думаю, им было просто лень вылезать из тёплых постелей и куда-то ехать; из своего небогатого опыта общения с барыгами, я вынес ощущение, что ни один барыга не боится потерять клиентов): мол, сейчас ничего нет, вот приезжай-ка ты, парень, завтра.
Я абсолютно не помню, как, зачем и почему начал клеиться к Ольге. Я отчётливо помню, как мысли и видения про Регину внезапно исчезли и вместо них была теперь Ольга. Помню отдельные разговоры, помню, как отпихнул Ольгу от разговора с кем-то в гуглтолке или аське, прочёл последние фразы (речь шла о каких-то проблемах с компьютером) и написал в ответ шнуровский афоризм: «Без компьютера соси, а по-английски он – PC». Ольга обиделась на меня, но своего я добился: заэкранный собеседник прекратил общение, и интернет отпустил Ольгу. Помню, как мы стояли в пустой и тёмной арсеньевской спальне и глядели то в окно, то на китайский фонарик с зажжённой свечой. Помню, как в гостиной мы полулежали рядом, соприкасаясь головами, помню, как четвёртый стакан красного вина всколыхнул желудок, и я довершил инсталляцию арсеньевской квартиры в комнате, ещё не затронутой моим художественным гением – я, конечно, про уборную. Помню, как облегчённо дышал (очень часто, толчками, поминутно кашляя и отплёвываясь) после освобождения внутренностей от лишнего, и заблеванный красным белый унитаз казался мне окровавленным. Помню, как пьяно обрадовался этой красоте низменного, ухмыльнулся, прополоскал рот, вернулся в гостиную и лёг на незаконное место рядом Ольгой.
И наконец-то провалился в покойную пустоту (я ждал этого момента с самого начала вечеринки, пару раз думая: «вот сейчас уже скоро вырублюсь», но всё время что-то отвлекало – Ольга, вино, музыка, трёп).
13
Когда я откинулся в никуда в гостях у Регины, меня оттащили наверх и уложили спать. В гостях у Арсеньева было по-другому. Впрочем, я всё равно ничего не помню, это реконструкция, сделанная благодаря опросу разных людей, которым я позвонил вечером следующего дня. Все рассказы были очищены от индивидуальных преувеличений, и получившаяся выжимка выглядела следующим образом.
Во-первых, во всём виноват мерзавец Пианист. Это ему зачем-то понадобилось моё участие в беседе (или, может быть, он предположил, что я тихо и неспешно откидываю копыта), и он начал тормошить меня, толкать, щипать и тискать.
Его франкенштейновские гальванические опыты принесли свои плоды: Джонни вскочил, резко и дёргано, и повернул к нему пустоглазое лицо (меня не испугались, наверное, потому, что большинство людей в этой компании не любят фильмы про зомби).
– Э-э-э, здорово, Джон, – сказал Пианист, – рад, что ты, сука такая, жив.
Во-вторых, я не знаю, кто общался со всеми этими ржущими уёбищами, потому что кто-то с ними общался.
– Да, детка, я знаю, что на самом деле ты был бы рад, если бы меня здесь не было, – проскрипел Джон таким отвратительным голосом, что все заржали ещё громче.
– Ого, – оторжавшись, молвил Пианист, – это звучит.
Джонни прошлёпал на кухню и вернулся с огромным кухонным тесаком. Все стоявшие на ногах чуть не повалились на пол. Почему-то никто не предположил, что чудовище вернулось, чтобы отчекрыжить им их бесполезные головы.
В-третьих, я и не ожидал, что владевший мной демон начнёт выделывать гиньольные номера.
– Поменяй мне пол, чувак, – Джонни протянул Арсеньеву тесак. – Ну-ка быстро отрежь мне член и проковыряй влагалище. И чтобы был клитор. И чтобы я мог кончать. Поменяй мне резко пол на не такой.
Пианист уполз под стол в диком хохоте, Лёва и Митра проснулись и выпучили глаза, Ромыч хотел взять тесак и выполнить просьбу, а Арсеньев отобрал нож и засунул его на верхнюю полку книжного шкафа, подальше от Джонни.
– Не, Джонни, давай лучше ты на столе голым станцуешь, – обычный арсеньевский невозмутимый голос.
В-четвёртых, этот демон, одержимый не то жестоким скопческим суицидом, не то экстремальной транссексуальностью, к сожалению, отлично понимал собеседников. Поскольку:
Джонни ломаными движениями, напоминающими не то зомбарей, не то роботов из советской кинофантастики, сорвал с себя свитер и жилет. Срывал он их дольше, чем ему хотелось, и он решил не заморачиваться и оставить футболку на голой безволосой груди. А вот штаны и трусы сползли в мгновение ока, и Джонни сразу же по их передислокации полез на стол. Арсеньев, Пианист и Макс (который во время вечеринки часто отлучался на кухню для каких-то непонятных разговоров) принялись быстро убирать со стола бокалы, кружки, тарелки и всякое прочее, смешивая надкушенные колбасные кружки и лепестки сыра, недоеденные разными людьми салаты, банановые кожурки и мандариновые очистки, прилипавшие к пальцам вместе с выковырянными языком косточками. Джонни расхаживал по вмиг опустевшему столу под одному ему слышную маршевую музыку с изредка вклинивавшимися хип-хоповыми фрагментами, под которые Джонни внезапно начинал извиваться заправским уличным брэйк-дансером. Лежащие гости просыпались и пялились на болтающийся маятником апатичный член и голую задницу. Кто-то бил в ладоши в такт невидимой, играющей внутри Джонни музыке, кто-то кашлял, спросонья поперхнувшись слюной, кто-то даже (вот невероятно, но говорят, было и такое!) отворачивался в сторону. Режиссёрша присвистнула и погрузилась в самый глубокий сон, желая забыться и уйти от безумной реальности. Некоторые проснувшиеся сменили охрипшего от ржача Пианиста на его посту главсмехового.
В-пятых, вина Пианиста не ограничивается тем, что он, сволота, сратый наркоман и клятая пидарасина, несвоевременно меня разбудил (точнее, разбудил во мне что-то иноприродное или родное, только очень глубоко прятавшееся, хтоническое и подпочвенное). Он также повинен в том балагане, который завершил моё безумное бессознательное бодрствование.
Пианист стянул Джонни со стола, и он рухнул в расправленное раскладное кресло, в котором Ольга заснула от омерзения, охватившего её от выходок незадачливого ухажёра. Ольга проснулась, попыталась отпихнуть свалившееся на неё тело, но не смогла, тогда она встала сама и ушла в другой конец гостиной.
– Слышь, чувак, давай мы возьмём интервью у твоего хуя! – радостно предложил Джонни Пианист.
– Давай! – обрадовано заскрипел Джонни. – Спрашивай!
– Спрашиваю. Как поживаешь, приятель? Ты с нами? Ты – хуй? – Пианист протянул к члену импровизированный микрофон – столовую вилку. В трезвом сознании Джонни в жизни бы не допустил, чтобы в его детородный уд тыкали вилкой. Но Джонни-зомбарю всё было похер.
– Я ни хуя не хуй, – пропищал он мерзким голоском, – я – архетип, во как!
И вот здесь наконец-то проснулся я. Шести часов не прошло ещё, но я нарисовался в своей голове и обнаружил себя полуголым, лежащим в кресле без Ольги и с маячащей у моего члена вилкой.
«Блядь, – я расслабленно делал логические выводы из открывшейся моим глазам картины, – Пианист хочет отъесть мне неприличное, как у Заболоцкого. Людоед у джентльмена неприличное отгрыз. Вы все пидарасы, а я – дженльмен».
Не желая видеть поедание своего члена, я закрыл глаза и приложил ладонь ко лбу. Лоб был горячим и сухим. Вслепую я нашарил на столе чьи-то сигареты, сунул руку в ту область, где когда-то были джинсы, но нашарил только вилку, дрожавшую от очередного приступа смеха. Я отбил вилку рукой и призывно пощёлкал пальцами, требуя зажигалку. Кто-то поднёс к сигарете искомый изрыгатель огня, и я затянулся.
– Так, – сказал я своим обычным голосом, только очень усталым и больным, – а теперь по порядку. Я ничего не помню после того, как вырубился. Что здесь вообще творилось.
– Ну, мы тебе подрочили, и ты кончил себе в рот, – тут же нашёлся Лёва. Все снова зашлись.
Я задумчиво обвёл зубы, нёбо и всё, до чего мог дотянуться, языком. Во рту было блевотное послевкусие, не больше.
– Что-то не чувствую вкуса спермы, – так же задумчиво умозаключил я вслух. Я не знаю, каково оно на вкус, это чадопородительное семя, но мне хотелось сказать что-нибудь мудро-ёбнутое. Естественно, все продолжили угорать, даже Арсеньев уже не мог стоять и медленно сползал на пол, опираясь спиной на шкаф.
– Ладно, это всё завтра, завтра, не сегодня, – я открыл глаза, похлопал ими и огорчился, увидев оползших и полыхающих хохотом знакомцев и незнакомцев (завтра, кстати, Митра скажет, что он безумно завидовал мне всю вторую часть вечера, потому что во время танца на меня смотрели все девушки – внимательно и отвесив очаровательные хлебальники). – Сейчас я хочу спокойно поспать. Помогите мне встать и найдите мою одежду.
Что-то уж слишком часто я теряю одежду в бессознательном состоянии. Наверное, я реинкарнация леди Годивы. Или какого-нибудь адамита, проповедовавшего избавление от скверны цивилизации, в том числе от всяческих препоясаний, обвёрток, обуток и головопокрытий.
Арсеньев нашарил на полу мои трусы и кинул в меня. Митра нашёл джинсы, но не смог их подцепить и после нескольких неудачных попыток виновато пожал плечами. Я препоясал свои проинтервьюированные чресла и был отконвоирован в родительскую спальню, где уже дремала Ольга. Повалившись рядом, я начал бездумно и безвольно лапать её за сиськи. На её крики три раза являлись Пианист с Арсеньевым и выносили меня, держа за руки и ноги. Выдворяя меня третий раз, они занесли меня в спальню Василисы и швырнули в её кровать. Там я и закемарил, обмотавшись двумя одеялами.
14
это зачем это
окоп
мы все в окопе прячемся родители Регина Борюсик Ольга Арсеньев где-то даже Митра
потому что война
вот зачем
ну то есть это не война не как с немцами или турками но это впрочем когда было мхом поросло сырной плесенью
не так как с людьми соседями или другие какие компании с района когда встретишь парня из другой компании а он тебе с ходу в табло засветит потому что у ваших компаний война особенно плохо когда других ненаших сразу легион тьма ну не так что сотня а поменьше ну так может быть десяток ну даже пять или вообще три потому что всё равно их сразу три а тебя всего один это надо резко вскидываться и ноги
потому что повалят начнут пинать вдруг ребро сломают или нос перебьют как этому француз есть такой или англичанин который с Докторхаусом в паре играл
ещё когда Докторхауса и больницы в помине не было
вот другая война с не людьми а такими не знаю с кем я их не видел
это конечно все враги нелюди так ротный командир солдатам говорит и ещё генерал тоже говорит чтобы солдаты лучше убивали врагов потому что они ведь не люди чтобы рука не дрожала их убивать и мучить гранатами мучить и пистолетом мучить и танками по ним это тоже мучить и проволокой их мучить и ещё надо своих солдат немножко которые ссыкло если есть такой и который дезертир вот его тоже надо помучить
ну и враги тоже говорят что мы не люди это так всегда и наших они тоже будут мучить и своих которые там сомневаются их тоже
раньше били шпицрутенами и вешали и ещё могли голову отрубить ну это смотря в какой стране могли ещё говном помазать всего
и война из-под земли вылезли которые
они совсем страх и ужас их все боятся как пиздец как смертный грех ну вообще не люди никакие
и вот в окопах или это дома развалины большой такой дом крестьянский ну не знаю там много людей и переходы туда-сюда лабиринт и таинство полное
и вот я вижу рядом молодой дядько очкарик волосы взъерошенные или не рядом а поодаль вижу говорю Регине
это ж ведь Стивенкинг
а она
ну гляди супер совсем вот и Стивенкинг на нашей стороне
и вот то ли задание у меня то ли просто случайно иду в заворот коридор но не под землёй нет под землёй там нелюди может там бывшие люди которых закопали чтобы спрятать от верхнего от неба от солнца от дождя снега града грозы ручейка воздуха
бывших людей надо сжигать чтобы в пепел я считаю
чтобы черви не ели чтобы не гнило всё чтобы плоть сразу раз и нет
только пепел и пыль и прах
в общем я иду коридором но не под землёй хотя окон нет только лампы так откуда мне знать может это и под землёй только я не хочу под землёй
выхожу из одной двери и раз а это Москва
много народу и машины
но только всё не так это пиздец
это как-то связано с войной с подземельем которую мы в окопах делали то есть мы там убили кого или кто-то нечеловек убил кого и тут всё это и случилось из-за убийства
тут всё сразу остановилось и никакой работы и зарплаты купли и продажи учёбы тоже нет
а ещё много людей и всё сломалось все против всех это песня такая немецкая есть alle gegen alle здесь убивают здесь тоже нехорошо свосем пиздец
и я гляжу это Новый Арбат много зданий большие до неба вот где я вышел и я бочком так по стеночке между каплями
чтобы не задели
и я понимаю нет то есть это сразу ясно тут есть толпа с которой что угодно можно много одиннадцать или пятнадцать миллионов я не знаю сколько в москве человек
а есть не толпа их поменьше но всё равно много это я не знаю что партия или полиция или батька Махно или хуй в пальто
у них есть оружие у кого-то еда вода пиво а денег нет деньги уже наверное вообще не нужны
это один парень волосатый в телевизоре говорил другому что он очень бы хотел чтобы не было денег я как-то видел ну вот и нет их теперь наверное он наколдовал или очень об этом Бога просил или нелюдей чтобы они вылезли и устроили чтобы без денег
такой злой был дядька на весь мир обиженный с волосами до жопы но без бороды так что на девку похоже в подтяжках на штанах и в ботинках говнодавах я не знаю кто это
и вот самое главное что у этой партии или полиции есть аусвайсы с фоткой и печатью так что это лучше чем без аусвайсов если кто приебётся хоть они же самые можно показать и всё в порядке ничего не сделают
и чтобы получить аусвайс надо что-то совсем страшное сделать перерезать горло тётке или изнасиловать девку или парню засадить что-то мерзкое
и вот я знаю что тут рядом есть их филиал где можно аусвайс получить если поешь человека бывшего человека убивать не надо и трахать тоже
и я думаю ну парню ведь уже всё равно его ведь уже и нет совсем можно поесть парня ему ничего не будет а мне аусвайс и хоть какая-то упрятка защита чтобы не отрубили чего и не сломали и телефон не спиздили
и вот я в эту дверь ломлюсь там до отмены денег и здоровья и нормальной жизни опера была там очередь расписание время быстро идёт и мне дают бумажный стакан с растворимым кофе и на бумажной тарелке мяса шматок я быстро проглотил выпил кофе блевота без сахара
а мясо на свинину похоже или на борщ что там плавает
мясо и мясо так себе не страшно
потом моментальная фотография и мне хитрая тётка говорит что вы оставьте пока фотографию и аусвайс мы печать завтра ставим выдадим
жопой чую это наебон разводят
они меня пометили и вот сейчас я выйду и меня на части сразу раскурочат или может выебут сперва или за ноги на фонарь
а давай говорю я сейчас фотку и аусвайс возьму и на печать завтра приду и вы поставите
и вся надежда в этом
тётка плечами пожала ваше дело говорит
и даже фотку в аусвайс не наклеила так что её надо пальцем придерживать
иду и облегчение
меня наверное не убьют всё хорошо
выхожу от каннибалов и оперы сворачиваю в проулок и всё равно что тут толпа у них аусвайса нет а у меня есть хоть и без печати пока что
захожу в дом а там коммуна забаррикадировались ну как убежали от всего этого и у них запасов много всего еды сигарет выпивки чая с сахаром и лимоном жевательного мармелада и сладкой ваты причём это не просто коммуна там хиппарей или сектантов или скинхэдов а это ещё и как гетто латиносов только они скорее похожи на армян носатые как коты или тигры чёрные волосы средиземноморские глаза и меня почему-то легко впускают девушка дверь открыла
я её не знаю но она зато очень красивая по-своему по-средиземноморски или по-мексикански пышные бёдра и попа толстая но красивая и большая грудь хотя я никогда большие буфера не любил как-то они не особо мне больше поменьше нравились но тут очень красиво и приятно
встаёт
нравится
и вот она меня запускает и за руку берёт и мы уже как будто любовники но мы ещё не трахались это как когда первый раз с девушкой целуешься ещё ничего никуда а только поцеловались а чего и куда потом будет может через десять минут а может и вообще только завтра
и вот мы ходим за талию а трахаться не моги потому что там много народу не толпа как на улице но всё равно в каждой комнате есть хоть один ребята малые играют в танки девушки чего-то готовят парень читает и пьёт дедушка спит стоя
и весь этот дом очень много комнат прямо целое поместье только дом
очень вдруг курить хочется я иду с ней на кухню чтобы спички взять а там тётка спускается её мама или тётя или не знаю уж кто а мы обнимаемся и я хочу похвастать вот говорю я аусвайс получил только без печати ещё завтра получу с печатью я ничего такого я только человека чуть-чуть покушал так ведь это не убить и не вые то есть поиметь я сказать хотел (это я говорю так исправляюсь потому что она взрослый человек уже почти пожилой а пожилые они мата не любят они на нём только правительство ругают и друг друга если кто что плохое сделал и ещё все певцы пидорасы)
в общем говорю вот аусвайс есть за то что поел человека если что пригодится можно будет спастись а то они наверняка прикажут делать холокост и геноцид
это я так намекаю что я кавалер надёжный не хуй с горы если что то хоть что-то есть чтобы в этом говне выжить так чтобы она не ругалась что я её дочку или племяшку за талию держу даже уже не за талию а за попу а ещё рука близко к сиське (и даже не думаю что может у них это ещё страшнее грех чем убить или изнасиловать может они человекоедов за людей вообще не считают один раз поел человека и всё сам уже теперь не человек никакой к тебе прикасаться нельзя говорить нельзя ничего нельзя а может это и не страшно так но всё равно большой грех и сперва надо очиститься пост молитвы покаяние бичевание побивание камнями но не так что до смерти как ебанаты какие а наполовину только и пока это очищение идёт сколько там ну сорок дней или восемь или десять то девушек не то что за попу и сиську держать близко к ним подходить не смей)
и стоит и стоит
а женщина эта берёт аусвайс смотрит и говорит завтра печать говорит ага ты смотри не ходи я знаю их действия и обычаи они когда за печатью приходишь убивают и ебут и едят у нас Рома так сходил
и тут же всё облегчение куда-то как не было его
и понятно что всё не туда и какой уж тут секс поел человека и зря поел
хотя ему конечно всё равно да и мне по-большому счёту всё равно но обидно очень
и опускается
хотя может быть если совсем чуть-чуть так нежно
15
Я проснулся около двух дня. Время моё вернулось: я спал не меньше десяти часов. Член, несмотря на финальную тревогу во сне, стоял как влитой. И очень тянуло отлить.
Унитаз с прошлой безумной ночи был украшен брызгами полупереваренного моим желудком вина. К утру они выцвели и поблекли. Я попытался размыть хотя бы некоторые струёй, но они не поддавались. Ну и хрен с вами.
На кухне сидел Макс и пил чай. Я присоединился к нему и накромсал бутербродов.
– Проснулся, – утвердительно сказал Макс.
– Ага, – мрачно ответил я.
– Как самочувствие?
– Голова, – я неопределённо пожал плечами. – Всё, больше ни капли.
– Это здорово, – Макс потянулся и похрустел костями. – Домой сейчас? Если что, могу подвезти.
– Ты на машине поедешь? После вчерашнего?
– Я не пил, – Макс побарабанил пальцами по столу. – Я вообще не пью. У меня в молодости пара таких же пробуждений была.
– В молодости? А сколько тебе? – я недоверчиво посмотрел на Максово лицо. – Ты не особо взрослым выглядишь.
– Тридцать два.
– Ого, – я чуть не подавился. – Я думал – тебе что-то вроде двадцати пяти, ну двадцать семь максимум. Молодо выглядишь.
– Ну да, возможно, – Макс рассеянно рассматривал подноготье, – Так поедешь, если по пути?
– Не, – я помотал свинцовым кочаном. – Мне лучше по морозу пройтись. В машине вывернет.
– Ну ладно.
Мы допили чай, пинками подняли вчерашнего именинника и вышли на улицу. Макс пошёл к чёрному саабу, я вклинился в кишечную завязь московского пригорода и не спеша пошёл самой короткой дорогой. В дом, милый дом, мою крепость, убежище, лежбище, книгохранилище и отвисалище после бурных трудов и дней.
16
Выходные прошли спокойно и умиротворённо. Мама была рада, что я нагулялся и ничего со мной не случилось. Сестра болтала о своём среднеподростковом и спрашивала, как это новое кино с Джонни Деппом. Я подавлял в себе желание ответить, что в гробу видел «фильмы с Джонни Деппом» и предпочитаю просто хорошие фильмы, в которых иногда может появиться Джонни Депп. А может и не появиться. Отвечал, что не видел и что скорее всего сам, доброй волей, не пойду, поелику в ломы, так что шла бы ты сама, сестра, туда, в эти вертепы разврата, попкорна и тупого ржача. Заодно мне потом расскажешь, может и схожу. Сестра покорствовала и шла в ближайший вертеп, возвращалась в воскресное утро после тусовки у подруги. Фильм ей понравился, хороший, ничё так. Надо бы в понедельник сходить, думал я.
В течение субботы обильное возлияние чая выгоняло из меня токсины, утихомиривало дрожащие руки и успокаивало трещащий затылок.
В воскресенье я уже мог слушать бодрое техно и читать что-то современное, отечественное и унылое, наугад вытянутое из шкафа. Что-то расхваливаемое обозревателями, написанное без изъёбств, так, чтобы до любого валенка дошло. Впрочем, так пишут и иностранцы, только у них лучше получается. Наверное, переводчики олдскульные стараются. Поэтому отечественное что-то было впихнуто обратно, вместо него я извлёк Грэма Грина. На этот раз я не отрубился на середине, а лёг спать сам, волевым усилием отложил книгу после неизбежного взрыва в отеле, спрятанного между главами, и смежил вежды.
И наступил понедельник.
Я решил съездить в универовскую кофейню, которая располагалась при восьмой столовой. В учебные дни там обычно обретались хронические прогульщики, нищеброды и долбоёбы вроде меня. Мы литрами пили дешёвый зелёный чай, выкуривали по две пачки сигарет и безостановочно болтали. Когда мне очень не хотелось идти на лекции, я приезжал к одиннадцати и терпеливо ждал минут двадцать (кофейня должна была открываться к моменту моего приезда, но единственная и бессменная барменша каждый день запаздывала), затем занимал столик где-нибудь посередине (чтобы не обдавало облаком холода от двери, которую каждый из входящих норовил не закрыть и чтобы не задалбывала музыка какого-то уёбищного российского радио, под которую так любила работать барменша, во всех остальных отношениях великолепнейший человек) и ждал, когда появится кто-нибудь из знакомых. Знакомые появлялись всегда.
Обогнув правый гуманитарный корпус и ненавистный стадион, на котором из нас пили кровь первые два курса (меня просто бесило, что нас, выросших, вырвавшихся из школьных дебильных правил и распорядков людей, заставляют мудохаться как приготовишек на идиотской разминке; в младших классах все эти приседания, наклоны, подскоки и прочее жоповерчение доставляли невероятное удовольствие и вызывали беззаветную щенячью радость; в средних и старших классах казались ещё одной формой изнасилования взрослым миром, которое вот-вот, после выпускного, уйдёт в решительное «никогда этого больше не будет»; но в семнадцать-восемнадцать лет это был уже явный перебор; хотелось что-нибудь взорвать или спалить к ебеням; «физическая культура» стала первой дисциплиной, которую я начал активно прогуливать), я подошёл к скромному двухэтажному зданию. Раньше на втором этаже тоже была кофейня, но вскоре её сочли нерентабельной, срастили с той, что внизу, а второй этаж сдали под съёмочные площадки для ситкомов. Теперь в кофейню ненадолго и украдкой забегали селебритиз, которые обычно хватали что-нибудь в бутылках и убегали в свои апартаменты, не желая задерживаться на территории неудачников.
В уютной кофейне было пусто: каникулы. В углу у двери пили кофе два инспектора ГАИ – один моржовоусый, а второй – обезьяноликий. Где-то посередине, на моём любимом месте расселся Борюсик.
– А, привет, Джимми, – пронзительно крикнул он через всю залу и помахал рукой.
– Здорово, – хмуро буркнул я.
В моём кармане спасительно зазвонил телефон, и я сел за соседний с борюсиковым столик. Номер был незнакомым.
– Алё?
– Привет, Джонни, – голос был странно искажён.
– Привет, это кто?
– Это Макс, мы у Петра на днюхе тусили.
– Ааа, здорово, – я вспомнил бледного хорошо соханившегося для своего среднего возраста чувака.
– Арсеньев говорил, что ты стихи пишешь авангардные, которые читать невозможно…
– Ну да, пишу.
– Ты не мог бы показать?
– Да, конечно.
– Ты сейчас где?
– Я в восьмой столовой, это недалеко от гумкорпуса МГУ.
– А, я знаю это место. Я тут как раз рядом. Ты там ещё долго будешь?
– Ну, могу и долго.
– Тогда жди.
Мне, непонятно почему, стало неприятно. Вот вроде бы кто-то заинтересовался моей неудобоваримой поэзией (хотя в наше время никому неинтересна любая поэзия; она вообще превратилась в развлечение для наказанных ей Богом задротов). Вот вроде бы не только пьеса (которую стоило бы уже начать), но и эти длинные словесные выблевы с ломаным ритмом, отсутствием рифмы, зато избыточными аллитерациями, кого-то заинтересовали… Вот! Вот! Я понял, что меня напрягло: что этот хер моржовый мог знать о моих стихах? Я их читал в разных компаниях, не более того. И во всех компаниях к моим стихам относились в лучшем случае скептически (Регина, например, после каждого прочитанного опуса, покачивала головой и цедила: «да, это забавно, неплохо»; я, кстати, поступал точно так же, когда меня атаковали своими слёзозакапанностями и ух-развесёлостями долбаные графоманы (пищущие непубликующиеся идиоты тянутся друг к другу со своим мерзостным жалостливым полувсхлипом: «а вот я вчера тоже написал!»), ноющие про «крофьлюбофь» и «девочка ушла»). Как этот хер-с-горы мог заинтересоваться моими стихами, не слышав ни одной строчки (никто из слышавших их от меня не мог выдать ни одного пассажа; они и не были рассчитаны на чтение наизусть; я сам помнил только два – одно, потому что короткое, второе – потому что любимое)?! Я попытался вспомнить Максово лицо – бледное, востроносое, с бесцветными бровями и щепоткой жидких усиков… Серые глаза, спрятанные за жёлтыми веками… Он выглядел очень молодым и очень неприметным. Возможно, потому что был скуп на слова, скромен и отстранён во всех разговорах…
Здесь меня накрыло отрезвляющее прозрение, переносящее воспаривший дух из поэтических эмпиреев в бесстыжесть богемных будней: Макс – всего-навсего педик, гомоэротический кобелина, углядевший для себя очередную желанную жопу, молодую и отмороженную, жопу – искательницу приключений. Мою. Простое подклеивание молодого мяса.
Теперь меня переполняло невесёлое отвращение, направленное не на Макса и не на себя, а на этот глупый мир, сочащийся спермой и бартолиниевой жидкостью, мир, в котором тихие моложавые педики клеят глупую молодёжь, а глупая молодёжь пытается клеить печальных Ольг. Мир, в котором Регины мутят с Борюсиками (тот назойливо навязывал свою компанию и даже пересел за мой столик), а демоны просят отрезать своему временному носителю член.
– Что-то ты смурной, лапочка, – Борюсик, несмотря на гетеросексуализацию, продолжал в разговорах манерничать и строить глазки. Это не раздражало. Это было забавно.
– Да, выходные дурацкие выдались, – я сказал это таким тоном, что было понятно, что на самом деле вся жизнь не удалась. – Напился, отключился, а когда пришёл в себя, выяснилось, что я просил отрезать себе член.
– Что, правда?! – Борюсик распахнул глаза.
– А ещё у моего члена брали интервью.
– Да, клёво ты погулял… Надеюсь, его всё-таки не отрезали?
– Нет. Ножей под рукой не было. А отрывать или отгрызать никто не решился.
Зазвонил телефон, второй раз спасая меня от общения с Борюсиком. На этот раз звонили ему, по работе, вытягивая куда-то ехать. Слава Богу. Хотя лучше бы он всё-таки остался. Вот было бы здорово, если бы Макс переключился на Борюсика, вступил с ним в партнёрство и увёз подальше, в какой-нибудь свой Максленд. Подальше от меня и от Регины.
– Блин, придётся мне ехать, – Борюсик так печально развёл руками, как будто он терял что-то ценное, прерывая нашу беседу. Или, возможно я терял. – Вот только кофе допью.
Он выпустил дым, закурив новую сигарету и запил остывшим кофе, тёплым и невкусным. Терпеть не могу кофе, над которым не клубится пар.
– Тебе, кстати, привет от Регины.
– Спасибо, ей тоже от меня.
– Я знаю, – добавил Борюсик заговорщицки, театрально перегнувшись через столик, – что вы с ней спали.
Неплохо. Особенно если учесть, что мы с ней именно спали, непорочно разделяя ложе, как Тристан и Изольда в первые свои ночи. Только вместо обоюдоострого меча между нами лежало моё отравление феназепамом.
– Откуда? – спросил я. – Откуда ты это знаешь?
– Она мне сама сказала. На той вечеринке в загородном доме, так ведь? – он внимательно побуравил меня. – Ведь было, ага?
Ещё лучше. Всё лучше и лучше.
– Мы, кстати, в это время были уже вроде как любовниками, – задушевно продолжал Борюсик. – Ну, где-то день. Нет, полтора. Так что я вроде бы должен ревновать. Но знаешь, я не ревную, – он похлопал меня по руке, затушил сигарету в кофейной жиже и помахал рукой у подбородка, накинул пальто и ушёл.
Некоторое время я сидел и старательно пытался не думать ни о чём. Точнее, пытался отогнать всех призрачных Регин, Борюсиков, Саш, Семёнов и Максов, водивших хороводы вокруг моей головы. И ещё там, конечно, была Ольга. Я пытался думать о том, как буду пересдавать четыре зачёта и два экзамена в феврале, а может, и в марте. Или даже в апреле. В апреле ничего сдавать не хотелось и я загонял себя в февраль. Но хороводы пидоров, любовников, бывших, бисексуалов, незадавшихся пассий никуда не девались. Они продолжали заманивать меня к себе – подмигиваниями, профилями, полуоткрытыми губами, какими-то магнетическими волнами. Я попытался переключить внимание на сотрудников ГАИ, и это меня увлекло.
– Ну я попробовал, у шурина на юбилее, – говорил моржовоусый.
– И как? – спрашивал обезьянолицый, поглаживая небритый подбородок, выглядевший так, словно его неумело обтёсывали плотницким топором.
– Говно.
– В смысле?
– Такое же безвкусное. На самом деле, я не распробовал, потому что мерзко было. На сопли похоже, склизкие такие, к тому же знать, что они ещё живые, буээ, – ГАИшник смешно сморщил лицо, отчего усы встопорщились. – Я просто проглотил и всё. Как лекарство. Вкуса и не почувствовал почти. Вообще не понимаю, за каким хреном их жрут?
– Евреи их тоже, кстати, не едет, как и свинью, – ответил второй.
– Ну и правильно делают, что не едят. А ты откуда знаешь?
– У меня племянник, Пашка, на еврейке женат. Они у тестя в гостях были, а он такой, – ГАИшник неопределённо повертел огромной пятернёй в воздухе, – не то чтобы совсем еврей, но свинины не ест. И шапочку носит, тюбетейку такую. Пашка креветок к пиву взял, тесть ему всё и объяснил. Им вообще ничего этого нельзя есть – креветок, устриц, раков.
– И чего – он не закусывал?
– Чего не закусывал?
– Ну – пиво. Креветками не закусывал?
– А, нет. Закусывал, конечно. Я ж говорю, он не совсем еврей, он – так, свинины только не ест, а всё остальное, – ещё один взмах рукой.
Дверь открылась и вошёл Макс. Он уже подошёл к моему столику – не улыбаясь, не щурясь, не выказывая никаких эмоций, как-то слепо или наоборот – отчётливо, – когда моржовоусый нелюбитель устриц окликнул его.
– Мужик, ты бы дверь закрыл за собой, а?
Макс резко развернулся, извиняюще улыбнулся и пошёл закрывать. Когда он вернулся, губы его всё так же стеснительно улыбались.
– Привет, – сказал я.
– Привет-привет. Я сейчас, – он подошёл к барной стойке, заказал зелёный чай вернулся. – Давно здесь не был.
– А ты здесь когда был? Ты ж когда учился, здесь этого всего вообще не было.
– Я не здесь учился, в институте стран Азии и Африки, – он обвёл взглядом помещение. – Я здесь года три назад часто тусил. Мы с одной аспиранткой встречались и здесь обедали. И кофе пили.
Эта «аспирантка» меня очень обрадовала. Значит, всё-таки не пидор. Или гонит?.. Понял, что молодая жопа почуяла хищника, собирающегося её обольстить, и вся подобралась, напрягла сфинктер, выгнула кишечные кольца?.. Бред какой-то, я уже параноиком становлюсь.
– Ну, что ты мне почитаешь? – Макс налил первую чашку и сделал первый глоток, наверняка обжигающий и приторно-горький.
– А ничего.
– То есть? – он вопросительно поднял одну бровь (вот чёрт! Всегда мечтал в детстве о двух умениях – шевелить ушами и двигать бровями по отдельности).
– Я не помню своих стихов наизусть. Только два. Одно – из двух слов, а второе – там больше слов, но всё равно… Больше я ничего не помню.
– Мда, это, конечно, засада. Я почему-то всегда думал, что поэты все свои стихи наизусть помнят. Какими бы они ни были…
– А зачем они тебе вообще?
– Да я тут сколачиваю нечто вроде такого маленького сообщества… Я сам не поэт, но люблю… В последнее время ничего интересного в поэтическом мире не происходит, вот я и решил как-то подогреть процесс. Пара чтений в «Билингве», небольшой сборник, маленьким тиражом, конечно… Двести экземпляров, ну, триста максимум. К тому же я Митю Кузьмина этим заинтересовал. А поэтов мало, интересных, я имею в виду… Я нескольких у этой аспирантки нашёл, кого-то ещё в паре мест, – он наконец-то посмотрел на меня печальным беззащитным взглядом.
– Блин, здорово, – я не знал, что сказать. Парень, которого я подозревал в меркантильном гомосексуальном интересе, был всего лишь чудаковатым филантропом, промоутером неизвестных поэтов. И кстати – моим шансом на проникновение в эту среду.
– Может, хотя бы эти два прочтёшь? – он почти жалобно посмотрел на меня.
– Конечно, – я допил свой чай. – Первое, очень короткое. О клубной жизни.
ибица
шароёбится
Вот.
Макс посмотрел на меня и вдруг расхохотался.
– Да, это очень минималистично, – сказал он.
– Ну да, – я пожал плечами. – Мне кажется, что оно идеально описывает огромный социальный процесс в двух словах. А второе – про маленького котёнка. Называется «Котёнок».
я – маленький котёнок
у меня четыре лапы и хвост
если вы будете за него хватать
я вас очень больно укушу
когда я зеваю
разевается большая пасть
и глаза закрываются
почти как у вас
я часто хочу есть
чего-нибудь есть
я бегаю по кухне
и громко кричу «мяу»
мой хозяин старый педераст
запускает меня в пододеяльник
когда ложится спать один
я брожу внутри по мягким местам
а когда хочу вылезти говорю «мяу»
меня купили на рынке из корзины
и у меня нет ни братьев ни сестёр
ни мягких зубов хватавших за шкирман
а так может быть я бы вырос большой
громко мяучил и трахал свою мать
а так я один и только хозяин у меня
вот пойду на диван помурчу и засну
Как-то так.
Макс слушал, и хлебло его всё больше вытягивалось в изумлении.
– Это хорошо, – сказал он, – такое фрейдовское…
– Глупости, – отрезал я. – Фрейд всё напутал и нагнал. Никто не хочет своих матерей и не желает смерти своим отцам. Это какие-то извращённые фишки Австро-Венгрии начала двадцатого. Наверно, просто в сексуальном трэнде было. А в этом стихотворении просто правда жизни, с подколом дедушки Зигмунда. Выросший кот ведь не знает, что это его мать, для него это просто славная большая кошка, которую надо оплодотворить.
Макс внимательно выслушал эту тираду и потёр ладони.
– Значит так. Мне очень понравилось, и я предлагаю следующее: мы сейчас едем к тебе, ты берёшь свои стихи и мы едем в «Билингву». Я там сегодня с парой людей встречаюсь. Прочтёшь, обсудим, поговорим. Условимся о чтениях и издании. А потом я тебя обратно домой закину или на такси посажу.
Какая-то у него прямо мания – подвозить на своей машине. Но всё же. Стихи, разговоры, вхождение в круг.
– А откуда ты мой телефон знаешь? – зачем-то спросил я.
– Арсеньев дал.
Ну да. А чего ты ожидал.
– Ну поехали.
Мы вышли, докурив по сигарете. Я влез в «сааб» с пассажирской стороны и посмотрел через лобовуху на январские сумерки и снег, такой особенно порошливый и неспешный в лучах фонаря. С зеркальца – там, где обычно висят православные кресты, миниатюрные иконки или тотемические зверьки, свисала куриная косточка, обглоданная, серовато-блеклая. Из полуоткрытого бардачка свисали на дужке солнцезащитные очки Ray Ban.
– Что это за шняга такая? – я показал на косточку.
– Друг один подарил, шаман, – Макс деловито пристёгивался и поворачивал ключ. – Пристегнись, пожалуйста.
Я повиновался. Макс перевёл взгляд с меня на очки.
– Хочешь примерить?
И, не дожидаясь моего ответа, протянул их мне. Я машинально взял и надел. Покрутил головой, всмотрелся в мутного себя в зеркале и, когда поворачивал голову в сторону Макса, успел как раз в ту долю секунды, которая позволила мне увидеть шприц у моего плеча. Тут же плечо почувствало резкий укол. И всё. Больше я ничего не успел.
17
и снова белая покойная пустота
и отсутствие жизни
и только амфитеатр
университетская аудитория
дядька такой за кафедрой
глаза вращаются
рот брызжет слюной и шевелится
только ни хера не слышно
ни дядьки ни ещё кого
вокруг сидят эти такие же студенты в больших зеркальных хипстерских очках и парни и девки многие улыбаются и много солнца
наверное на открытом воздухе вот и светит
дядька всё говорит и говорит не слышно но при этом всё понятно ну как будто это телепатия только он всё равно зачем-то шевелит губами как прикол такой да наверное прикалывается
один парень рядом совсем говорит своей девчонке та тоже рядом и видно что они вместе не как я один без пары без ничего
ну говорит уходи тогда к профессору
тоже не слышно но я понимаю
и зачем-то понимаю что это не про того дядьку который на кафедре но и не про меня
нет ну точно не про меня
а она поворачивается ко мне эй говорит мороз
я всё понял это они так всем говорят ну у них мороз это как чувак или пацан и как товарищ или господин у взрослых
чего говорю
напиши этому в дядьку показывает записку что его сегодня будут ждать передние интеллектуалы в подъезде целовать будут
зачем
любят вот и будут целовать
я всё понял это как есть левые там и правые левые потому что живут в сердце а правые потому что живут в правом полушарии которое на картах справа то есть в Европе Иране Камбодже и Зимбабве
так же здесь есть передние и задние
а вы какие спрашиваю
мы задние конечно мы любим когда сзади
а передние любят спереди
а почему
потому что им нравится когда глаза умирают когда в глазах видно что человек или кошка умирают
а задние тогда
задние просто любят навалиться и закрыть человека сзади и сверху спасти его от чего с неба падает говно там всякое мусор вода бомбы гондоны с малофьёй на них падает всё который снизу живой а который сзади сверху тот жмур и его не хоронят
а что так
его за ноги поднимают и кипятят в котле с горячей водой чтобы вымылся и тоже можно целовать потому что чистый
а кто профессор а кто за кафедрой
я профессор девка снимает и снова надевает зеркальные очки и мне пиздец потому что я ни хуя не вижу себя в них меня нет
а где я тогда где блядь я ну где же я где этот я
и тут вижу что стою на кафедре прямо на ней а кроме нет никого рядом
и девка профессор кричит ты в Канаде слышь ты понял ты в Канаде
и тут меня накрывает и страшно так что лёд и холод я вспоминаю что Канада это ведь такая квартира в деревне Аушвиц в которой были временно живые
и тут ещё солнце гаснет раз и всё
часть вторая
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ НОЧИ
Я не знаю вкуса человечьей плоти,
но уверен, что теперь все сардельки
и паштеты будут отдавать трупом.
Жан Жене
18
Покойную пустоту сменили мысли и темнота. Во тьме казалось, что я дома, лежу на своей кровати. Сзади, над головой, стоит стеллаж с дисками, напротив кровати прячут словесную мудрость и дурость книжные полки, а по диагонали от меня – дверь, за которой из кухни в гостиную ходят родители и сестра, носят чай, замирают у гипнотизирующего телевизора, смотрят новый фильм, разговаривают о том, как у сестры в школе и начинают, но тут же осекаются, тяжёлый и тревожный разговор о своём беспутном сыне и брате, который шляется невесть где, употребляет непонятно что и вообще занимается чёрт знает чем.
Но я был не дома. Я лежал одетый и поверх меня были не два тёплых одеяла, а три грубых пледа. За стеной кто-то ходил, курил, переговаривался.
Я пошевелил конечностями и понял, что не связан. Впереди снизу маячила полоска света. Дойдя до неё, я нащупал дверную ручку, безуспещно подёргал и начал стучать. Самый ближний шум тут же стих, кто-то подошёл к двери и звякнул ключом.
– Отойти от двери, – лязгающий командный голос.
Я отошёл назад и сел на своё ложе.
– Отошли?
– Да, – хрипло ответил я. И только тут понял, что очень хочу пить. И ссать. Пить больше хочу.
– Лечь. Руки по швам, – голос был словно из фильма об армейской или тюремной муштре (эти фильмы всегда казались мне гораздо страшнее всех ужастиков и трэш-картин). Я лёг. И руки по швам.
– Легли?
– Да.
Ключ повернулся в замке и в моё узилище вошла чёрная тень. Вспыхнул свет. Стоявший надо мной был в защитного цвета штанах, серой майке и чём-то вроде чегеваровской беретки на голове. Остальное прятала близорукость. Заодно я понял, что лежу на топчане в крохотном чуланчике, где больше ничего и нет.
– Вы проснулись? – спрашивающий словно бы сомневался в том, что я бодрствую и вижу вместо его, симпатичного или уродливого, лица – блин с пятнами глаз.
– Да. Я бы хотел…
– Вам всё попозже объяснят.
– Да нет. Я пить хочу. И проссаться. И ещё мне нужны очки.
– Ждите, – парень в беретке вышел и через пару минут вернулся с гранёным стаканом и трёхлитровой банкой. – Вот. Пейте и ссыте.
– Прямо сюда? – я поставил банку рядом с топчаном.
Он не ответил. Я жадно выпил воду (по просыпу чуть холодноватая вода всегда кажется самым вкусным напитком; через десять минут её теснят в этом статусе чай, кефир и всякое алкоголесодержащее безобразие), затем встал, расстегнул джинсы, вытащил член и засунул в банку, которую держал другой рукой. Стеснения я не чувствовал, одно облегчение. В середине извержения пряного потока мелькнула мысль о том, что парень в беретке наверняка даже не смотрит. Подумаешь, большое удовольствие – смотреть, как у тебя на глазах ссут в банку. Но он смотрел. И даже с интересом.
– Вы обрезаны? – спросил он.
Нет, блядь, я не обрезан! Это я так хитро закатываю крайнюю плоть при мочеиспускании!.. Чтобы её как будто и не было. Чтобы веселее и интереснее было в банку ссать.
– А вы сами не видите? – спросил я в ответ. – Раз уж вы смотрите.
Парень проигнорировал мой наглый вопрос.
– Вы мусульманин? Или еврей?
– Нет, – отрезал я, протягивая ему банку. – Это так, для красоты и удобства.
Мой ответ его, кажется, разочаровал.
– Сидите здесь и ждите, когда за вами придут.
– А очки?
– Потом. Ждите.
И он ушёл, закрыв меня в чулане.
Я лёг и стал думать. Я не мог заставить себя испугаться, потому что не понимал, что происходит. Знакомый Пианиста навешал мне лапши на уши и похитил, вколов какой-то снотворной хуйни. Отвёз чёрт знает куда и положил отсыпаться. Ко мне приставили бесцеремонного, но вежливого часового. Зачем я им нужен? С секс-рабами, донорами органов и сектантами-неофитами так не обращаются.
Подумав о похищении на органы, я испугался и залез руками под рубашку, ощупал весь торс, но не обнаружил никаких швов. Впрочем, возможно, всё ещё предстоит.
Я подошёл к двери и отчаянно забарабанил.
– В чём дело? – это был всё тот же часовой.
– Я хочу знать, – я сглотнул, – чё вообще за херня происходит?
За дверью помолчали, словно обдумывая тон вопроса и лексику, в которой он был выражен.
– Не волнуйтесь, – раздалось наконец из-за двери. – Нам необходимо задать вам несколько вопросов, после чего вы будете отпущены. Вас отвезут домой.
– Но в чём дело? – я не унимался. – Что я такого важного знаю? Я обычный студент, политикой и бизнесом не занимаюсь…
– Подождите некоторое время, – часовой был корректен и неумолим. – Потерпите и всё закончится.
– Но вы хотя бы очки мои можете принести? Мне уже надоело блуждать среди пятен.
– Ваши очки наверху, вместе с остальными вещами.
Очки. Чёрные очки Ray-ban, которые я надел в машине.
– Минуточку, – я восстанавливал реальность. – Я же был в контактных линзах. А они куда делись?
– С вас их сняли, чтобы глаза чувствовали себя комфортнее.
Как с трупа. Коронки из золота. Контактные линзы. Я почему-то вспомнил, что был во сне в Канаде. Какие заботливые похитители. Спи я в линзах, глаза бы горели и чесались.
– Ладно. Но когда уже будут вопросы? Или чего вы там хотите…
– Скоро уже. Ждите.
Я вернулся к кровати и какое-то время лежал, ожидая. Ничего не происходило. Изредка мимо чуланчика кто-то проходил. Иногда часового о чём-то неразборчиво спрашивали и он так же нечленораздельно отвечал. Наконец мне всё это надоело – вопросы, догадки, страхи, образы вырезанных почек, которые теснились в голове, жужжа словно мухи, наталкивающиеся на стекло абсолютного непонимания; совершенно ненужные воспоминания; отрывки недочитанных книг. Нужно было заняться осмысленным делом, полностью подчиняющим себе разум и хоть на время изгоняющим всю раздражающую чушь. Я решил предаться рукоблудию.
Спустив штаны до колен и повернувшись на левый бок, я подумал о толстоватых бёдрах одноклассницы, чьё лицо уже почти стёрлось в памяти, маленькой груди однокурсницы, фиолетовых глазах тусовочной знакомой. Всё это мелькало, надо было выбрать. После сделанного выбора пошёл псевдосюжет с воображаемой, ни разу не виданной наготой (я ни разу не спал с этой девушкой). Её лицо пряталось от меня, только губы были время от время видны. Наши фантомы не произнесли ни полслова.
Часовой вошёл как раз в тот момент, когда я вытирал свой детородный уд о грубый плед. Нежная мякоть, лишённая защищающей кожи, неприятно закололась и заставила меня скривиться. Часовой замер на пороге.
– Вы что тут делаете? – спросил он меня так, словно бы меня здесь не должно было быть.
– Дрочу, – спокойно ответил я, – Точнее, уже удачно подрочил. А что мне ещё делать, ожидаючи?
Часовой продолжал стоять, вероятно, думая о том, что лучше: отъебошить меня, ставя на место, или как ни в чём не бывало делать свою работу.
– Надевайте штаны, – сказал он наконец, – надо идти.
Я застегнулся. Часовой присобачил меня к своей левой руке наручниками и вывел из чулана. Мы шли каким-то коридором, потом по лестнице поднялись на два этажа. Судя по всему, я был в подвале. На первом этаже было прокурено, откуда-то слышался хохот и чьи-то возбуждённые разговоры. На втором меня ввели в какую-то комнату и посадили на стул с мягкой спинкой, напротив письменного стола. За ним кто-то сидел.
– Вот он, господин Залягвин, – сказал конвоир.
– Хорошо, – ответило ему пятно из-за стола, – снимите наручники и можете идти. Вы просили принести вам очки, если не ошибаюсь? – сказал он мне, когда конвоир удалился. – Вот они, возьмите.
Я взял протянутый чехол, надел очки и поморгал. Напротив меня сидел молодой человек с хвостом волос и козлиной бородкой, чуть желтоватый, с лёгким налётом монгольщины. Перед ним лежал педантично согнутый прямым углом ноутбук и валялась мешанина файлов с бумагами.
– Ну что, будем знакомиться? – молодой человек приветливо улыбнулся, не открывая рта. Говорил он мягко и чуть-чуть тихо, обволакивающе. – Меня зовут Даниил Залягвин, можете звать меня Даня. А вас, господин Джон Леннон?
Ага. Они узнали обо мне из арсеньевской компании. Ага. Сукин сын Макс так мне и говорил.
– Меня зовут Джон Леннон, – в тон ему ласково ответил я. – Можете звать меня Джон или Джонни.
– Ну что ж, можно и так, – Даня пожал плечами. – Ваше настоящее имя интересует нас в последнюю очередь. Может быть, вы хотите чаю?
– Если честно, не отказался бы, – я думал, он сходит за чаем или позовёт кого-нибудь, но Даня вынул из шкафа электрочайник и воткнул его в переходник под столом. Воды он налил из кулера, притаившегося в углу, рядом с каким-то ползучим растением, распространившим свою поросль с подоконника на верх шкафа. Из шкафа же были извлечены две старые чашки (с синим мальчиком, пасущим гусей и алой девочкой, читающей книгу), пакет с посыпанным сахаром мармеладом, вазочка с конфетами и коробка пакетного чая. Для компании, похищающей людей как-то слишком скудно, по-сиротски. Даня налил в чашки кипятку, подёргал пакеты и жестом предложил приниматься за угощение. Я сделал глоток и понял, что хочу есть.
– А вы не могли бы придумать чего-нибудь из еды? А то я почти с утра ничего не ел, – я посмотрел на плотно зашторенное окно. – Кстати, сколько сейчас времени?
– Сейчас два часа ночи, – Даня понимающе кивнул, словно бы сочувствуя моему голоду. – Сейчас что-нибудь придумаем, не волнуйтесь. – Он позвонил по внутреннему телефону. – Михаил Сергеевич, нам тут ещё одного человека накормить нужно. Да, обычное, конечно. Да, давайте суп, – он положил трубку и вновь улыбнулся. – Вы ведь будете мясной борщ?
– Буду, – я уже съел третью конфету и сейчас засовывал обёртку в вазочку. – А что вам всё-таки от меня надо?
– Нас заинтересовал один из ваших разговоров… В частном, так сказать, кругу, – Даня прищурился. – Вот вы упомянули агностиков-каннибалов на одной вечеринке. Что вы о них знаете?
– Пока ещё не очень много, – я съел ещё две конфеты. – Только то, что они едят человечину и что они каким-то мистическим или философским образом связывают своё радикальное гурманство с невозможностью человека познать окружающий мир. Вот и всё.
Даня понимающе кивал.
– Так, так, – он снова по-кошачьи прищурился, – это понятно. А откуда вы о них узнали?
– Ниоткуда, – я развёл руками, – из головы. Это как… Ну не знаю… Как нацисты-серфингисты… Или как гастарбайтеры-асассины, посланники нового Горного Старца на московских улицах. Знаете, он их держит в каких-нибудь киргизских холмах, в своём героиновом поместье, держит на чистом опиуме, и когда ему не нравится какой-нибудь российский политик, он лишает кого-нибудь чернухи, снижает ему дозы и говорит, что надо убить человека, называет фамилию, должность. И этот киргиз или, допустим, таджик, не важно, отправляется в далёкую заснеженную Россию, нанимается в какую-нибудь строительную или ремонтную бригаду, которая строит неугодному дачу или что-нибудь ремонтирует. И когда хозяин приходит принимать работу, гастарбайтер-ассасин мочит его мастерком или шпателем прямо в висок. Ну, всё как в одиннадцатом веке или когда там это было… Вот также и с агностиками-каннибалами.
Залягвин слушал внимательно, иногда, в самых неподходящих местах, его глаза внезапно широко раскрывались.
– Вы хотите сказать, – он комично поджал губы и наморщил лоб, – то есть вы хотите сказать, что вы этих агностиков-каннибалов просто выдумали?
– Ну да, просто выдумал.
Дверь открылась, и в кабинет Залягвина вошла женщина в униформе гостиничной горничной. В руках у неё был поднос, на котором стояла тарелка борща с ложечкой сметаны, которая уже пустила по бордовой поверхности белесоватые пятна.
– Вот, пожалуйста, обычное блюдо, сорок пять, – она ласково улыбнулась сперва Дане, потом мне. Даня тут же сдвинул телефон, папки и сладости к ноутбуку и, приняв поднос, поставил его на освободившееся пространство.
– Спасибо, Леночка.
– Угощайтесь, – улыбка теперь была адресована персонально мне.
– Спасибо, – я хотел что-нибудь прибавить к благодарности, но ничего кроме неполиткорректного возрастного «тётенька» и неуместного «барышня» в голову не приходило.
– Кушайте, Джон, – Залягвин запнулся. – Надеюсь, ты не будешь против, если я буду называть тебя на «ты»?
– Да, конечно, – я разболтал сметану в свекольно-картофельной гуще и принялся поглощать ароматную жижу. На ложку я дул слабо, поэтому часто обжигался.
– Не буду тебе пока мешать. Приятного аппетита, – Залягвин отвернулся к ноутбуку и начал что-то где-то печатать.
Борщ был вкусен. Только свинина была чересчур жестковата. Она вообще не была похожа на свинину, да и на говядину тоже. Впрочем, я не разбираюсь в мясе животных. Доев и рыгнув от души, я перевёл взгляд на отвернувшегося Даню.
– Спасибо, борщ очень хороший. А что это за мясо?
– Это, – Даня вынырнул из интернета, улыбнулся и полез в верхний ящик стола, выудил оттуда паспорт, мятый, без обложки, с какими-то зелёными потёками. – Это Богораз Семён Васильевич, семьдесят восьмого года рождения, прописан в Красноярске, найден на Ленинградском вокзале. Но вы не волнуйтесь: мясо ничем не заражено, всё в полном порядке. – Он протянул мне паспорт. Со второй страницы на меня пялилось изумлённое туповатое лицо двадцатилетнего парня.
Я вновь посмотрел на Даню. Теперь в его беззубой улыбке было что-то ироническое.
Я не знаю, что чувствовал Фиест, которого родной брат накормил блюдом из фиестовых сыновей. Я также не знаю, что испытывал Гарпаг, которого персидский царь Иштувегу угостил гарпаговым дитятей. Я знаю только то, что почувствовал я сам. Глупый красноярский мужик, бичевавший на трёхвокзальнике, каким-то образом засунул руку в моё нутро, и она там дёргает своими пальчиками за перборки и щекочет стенки желудка, обжигаясь соляной кислотой. Я не выдержал этой щекотки (одновременно с этой чисто физической проблемой я столкнулся с тем, что мой мозг словно бы погладили против извилин) и вывернул борщ с Богоразом обратно, забрызгав поднос и часть стола.
Раньше я часто рассуждал, что есть мясо человека, особенно если он уже мёртв и ничего возразить не может, и если при этом убил это мясо не ты, и в особенности если ты даже не подзуживал убийцу к превращению человека в человечину, – то это вовсе и не грех. Обычно я ссылался на отмазки, которые один из подсудных посмертному судилищу грешников приводит подземному владыке Эрлик-хану в монгольском народном предании о Чойжид-дагини. Этот грешник говорит буддийскому Аиду: да, мясо животных я ел, грешен, но саму живность я не изничтожал, это делали другие – охотники, мясники. И Эрлик-хан грешнику ответствует: ну, раз так, не тяжёл твой грех, человечек, и наказание тебе за него мы определим небольшое, не жестокое. Понятно, что этой историей монголы подвёрстывали строгую буддийскую аскезу к своему неискоренимому мясоедству, но я беззастенчиво пользовался народной байкой для подтверждения своих нигилистических выкладок. Обычно я говорил в кругу знакомых так: если бы меня накормили вкусным блюдом, а потом сообщили, что изготовлено оно из человечины, то я просто развёл бы руками и не почувствовал за собой никакой вины. Не я резал человека, не я угощал им гостя. Пускай упокоится в моём желудке, напитает меня силой и извергнется в надлежащее время в положенном виде. На эти рассуждения обычно откликались суровые ревнители любой морали, от посконной крестьянской до коммунистической, и впечатлительные девушки. Моралисты говорили, что я социопат, лишний человек в обществе, и грозили мне публичной казнью. Девушки говорили, что я идиот и презрительно отворачивались.
Теперь же выяснилось, что мой желудок,в отличие от разума, человечины не принимает. Непереваренные кусочки Семёна Богораза валялись в лужице среди бледных параллелепипедов картошки и розоватых листочков свёклы.
– Господи Боже мой, – я устало потёр виски и посмотрел в угол. Смотреть на Даню мне было страшно.
– Добро пожаловать в центр Союза Агностиков-Каннибалов, Джонни, – Даня подошёл ко мне и бесцеремонно поднял моё лицо за подбородок, чтобы я смотрел в его глаза, ледяные и насмешливые. – Мы хотим знать, откуда ты узнал о нашем существовании.
– Так, – я попытался выдохнуть и закашлялся. Остатки бомжа пытались выпорхнуть из меня. Даня подал мне стакан воды.
– Итак? – он вернулся на своё место и внимательно на меня смотрел.
– Давайте… Давайте предположим… Я не знаю, где всё это находится, где этот ваш центр. Меня привезли сюда спящим. Я очнулся от наркоза уже в чулане. Я ничего не видел, только вас…
– Ну, родной, ты ещё видел Макса, – Залягвин, кажется, понял, к чему я клоню и стал ещё более фамильярным. – И того парня, который доставил тебя сюда.
– Нет, его я не видел. Я же без очков был. Какой-то упырь в беретке Че Гевары.
– В любом случае ты видел меня и Макса.
– Я вас забуду. Обоих забуду. Честное слово, забуду, – я, кажется, начинал умолять.
– Дело не в этом, Джонни, – Залягвин покачал головой. – Нам нужен источник твоей информации, понимаешь? Канал слива, откуда идёт информация. Слабое звено в цепочке.
Чёрт! Я же вас выдумал, пидоры вы ёбаные, во все дыры дратые ублюдки! Вас нет, вас нет, вашу же мать, вас ведь нет!
А если они поймут, что ты их выдумал, то тебе точно конец, мальчик. Это произнёс Очень Важный Внутренний Голос, который просыпался только когда – совсем, всё, швах. Первый раз этот голос нашёптывал мне слова успокоения, когда я тонул на Чёрном море. Нас тогда трое тонуло. Вокруг были взрослые, но они думали, что мы дурачимся, как это заведено у глупых детей. Волк, волк! Никто не обращал внимания на наши детские вопли, а нас относило всё дальше и дальше, и вот тогда этот Голос и сказал мне, даже не сказал, а громко подумал, где-то глубоко-глубоко, в самой сердцевине, в самом средоточии моего я. – «Ты видел, как это – жить, мальчик», – сказал он. – «Теперь видь, как это – умирать. Не страшно. Просто видь это и будь спокойный». Видимо, Голосу тогда показалось, что мы трое уже покойники, разбухшие синие водоудавыши, страшные колоды, из которых через пять-десять-двадцать минут истечёт невинное жестокое доброе детское дыхание. Дыхание полетит своими особыми дыхательными путями, а колоды останутся на память обезумевшим от горя взрослым. Но это будут уже их, взрослых, дела. И Голос решил, что я должен хотя бы умереть достойно, без этих дурацких криков, которым всё равно никто не верит. Как самурай. И я стал спокойный. Я прекратил орать и то погружался в воду, то выныривал из последних сил. Тут нас и спасли. Дядька с берега, далёкого в этот миг, как никогда, углядел двух пацанят и одну девчонку, которые барахтаются как-то не так, как нужно. Взрослые, плескавшиеся рядом, как долбоебические бегемоты, все эти толстые тётки и вислоусые дядьки с пивными мамонами, не обращали на нас внимания, а он увидел. И по очереди вытащил всех троих. Тогда всё быстро забылось, – страх, крики, беспомощность, – остался только Внутренний Голос. Который на самом деле ничего говорил. Это больше было похоже на то, как если бы я был кинофильмом, который внезапно почувствовал, что его кто-то смотрит. Какой-то нечеловеческий глаз в самой глубине моего черепа, где-то у затылка, смотрящий через меня и думающий свои нечеловеческие мысли, которые в приблизительном переводе звучали бы как увещевание трепыхающегося на экране персонажа достойно идти к своему концу.
Потом этот Голос (на самом деле безмолвный Глаз – наблюдатель, подсматривающий; голосом он остался для меня только потому, что его появление диктовало мне жёсткие императивы, каждый раз оказывавшиеся наиболее уместными; Голос не произносил ни одного слова, но каждый раз, как он возникал, я сразу понимал, что нужно делать) появлялся ещё несколько раз: когда меня и пару ребят вязали менты за хулиганство; когда мы курили траву в слишком опасной близости к входу в университет и в его пределах (повинуясь Голосу, я начинал яростно шипеть, чтобы все бычковали чинарики или вообще на хер их выбрасывали, и каждый раз по избавлении от вещдоков кто-нибудь появлялся – замдекана, научный руководитель, охранник территории, – и мрачно осматривал нас, но видя спокойные честные лица, отворачивался и шёл дальше по своим делам); когда двадцать третьего февраля я бухал в самом центре кишечного заворота нашего микрорайона с тем самым «бухарем и пидарасом», который ещё не превратился для меня в «алкоголика и гомосексуалиста», слушая его ламентации, изливаемые зудящим комариным голоском. Тогда Голос насильно заставил меня повернуть нетрезвую голову в сторону и увидеть в двухстах метрах от нас пьяную толпу, которая шла совсем в другую сторону, но внезапно резко повернула и ломанулась по направлению к нам. Тогда я за две секунды дёрнул собеседника за рукав пальто и силой заставил бежать, нарезая угол за углом (районный фрик отличался заторможенностью и постыдной верой в изначальную доброту людских помыслов, благодаря чему часто ловил пиздюлей).
Сейчас Голос долбил меня изнутри: ты не придумал этих уродов ты не выдумал их они были всегда всегда. С наполеоновских времен с петровских с сотворения мира. Ты узнал про них от знакомого аспиранта собеседника в кафе от кого угодно.
Я нашёл в себе силы посмотреть в уже откровенно злое лицо Залягвина.
– Да, действительно я про вас слышал…
Залягвин молчал, холодно буравя меня.
– От одного парня в кофейне. Мы случайно вместе сидели, пили чай и болтали о том о сём, знаешь, как это бывает, – я машинально перешёл на Залягвинское «ты», – о всяком, и парень такой занудный был, он всё болтал о тайных обществах, старых, новых, наших, ненаших… Про красных, коричневых, масонов… В том числе, сказал, есть и такие… Вы.
– И как он выглядит, этот парень? – Залягвин издевательски ухмыльнулся. Ухмылялся он тоже не показывая зубов: всё лицо перекашивалось, челюсть выпячивалась вперёд, нос презрительно морщился. – Ты ведь не помнишь, как его зовут, Джонни, я угадал?
– Ну, – я пожал плечами, – простое такое ебало у паренька, открытое… Я его узнаю, если увижу, а так, по памяти, нет. Я ведь не писатель, знаешь ли, я поэт.
Даня сделал какое-то движение, которое я успел заметить только краем глаза, такое летящее движение, очень балетное. В ту же секунду я оказался лежащим на ковре, с онемевшей щекой. Въебавший мне урод стоял, широко расставив ноги, любуясь сверху поверженным авангардистом.
– И ты, конечно, хочешь, чтобы мы отвезли тебя туда, в это кафе, да? – ровным голосом продолжал свои невинные расспросы Залягвин. – Чтобы ты отследил этого человека и указал его нам? Я правильно всё понял?
– Да, – ответил я, ощутив вкус крови на языке. Вся левая сторона лица начинала странно ныть.
Залягвин резко нагнулся и одним рывком поднял меня.
– Я даю тебе ровно десять секунд, чтобы вспомнить внешние приметы этого паренька, а если это был другой человек, то – приметы этого другого человека, – на байку о случайном знакомом он явно не повёлся.
Приметы-то я помнил. Прототипом моего «паренька» был один задрот с исторического, который, подсаживаясь за столик, постепенно втягивал собеседника в долгий разговор о русских националистах, футбольных хулиганах и районных гопниках, давая понять, что всех их он осуждает, но материал знает не по газетам и интернету. После разговоров с ним складывалось ощущение, что он участвует в каждой драке и каждой попойке своего района, между ударами ужасаясь тому, что ожидает Россию в будущем, после того, как всё рухнет и начнутся анархические войны мелких бандформирований. Лицо у этого парня было простое и честное, обычный ёжик, нос картошкой, добрые внимательные глаза. Больше всего он был похож на норвежского нациста Видкуна Квислинга, если распрямить ему морщины и заставить улыбаться, а не по-бараньи пялиться на фотоаппарат как на врага Норвегии. Я бы мог описать Дане его внешность. Чтобы вспомнить это, десяти секунд хватало с лихвой, вот только паренёк был совсем ни при чём. Ну нельзя топить человека, даже если он зануда. Занудство – грех, но не смертный, в отличие от перекидывания свалившегося на тебя говна на первого попавшегося.
– Окей, Даня, – сказал я. – Тебя ведь ещё можно называть Даней? После всего того, что между нами было? – сказал и внутренне съёжился, приготовившись словить ещё один удар. Но Даня на подъёб не отреагировал.
– Да, конечно.
– В общем, никакого паренька не было. Про вас мне сказал не знаю кто, на дне рождения Арсеньева. Внутренний голос, архангел Гавриил, демон Сократа, кто угодно, только, – здесь я проглотил окончание фразы, поперхнувшись от двух резких ударов в область желудка и кишок. Проглотил и вяло сплюнул полузадушенным голосом. – Только это было в моей голове.
Даня ёбнул меня снизу в подбородок, а потом пнул в колено. Я зажмурился от боли и обхватил его руками.
– Какой же ты, Даня, мудак, – прошептал я, надеясь одновременно и на то, что он услышит и на то, что не разберёт. Он услышал, возможно, разобрал – в любом случае, он ещё раз прошёлся по моему животу. Я осел на пол. Даня пнул меня под рёбра, и я тут же переместил руки на левый бок. – Чего тебе от меня нужно?
– Мне нужна правда, – ответил Даня и снова засадил ногой под рёбра, с другой стороны.
– Вот она, блядь, правда! – я наполовину стонал, наполовину хрипел. – Я вас просто так придумал, из головы!.. Под бухло, блядь! Вы же агностики, сукины дети, вы должны верить в непознаваемость такой хуйни!
Даня выдал ещё серию пинков. Злость на абсурдное безумие всей ситуации и на этого коротышку что-то со мной сделала. На этот раз внутри говорил совсем другой Голос, не Голос самосохранения и осторожности. Голос безумной бессильной ярости. Я резко схватил Даню за левую ногу и дёрнул его вниз.
Даня такого не ожидал. Иначе наверняка приземлился более удачно и ещё в полёте умудрился бы впаять мне первый из бесконечной череды «ударов возмездия». А так он резко свалился, успев только выбросить ладони вперёд, но всё равно ударился виском. Моя злость ещё не прошла, поэтому я ёбнул его в нос. Затем вскочил и отошёл назад, к столу. Даня уже вставал и выражение его лица мне очень не нравилось. Похоже, что он не привык к такому повороту событий – чтобы ему, в его собственном кабинете, вешали пусть и не таких серьёзных, но всё-таки пиздюлей. Я резко выдернул из ноутбука все торчавшие в нём шнуры и швырнул его в Данину голову. Попал. Даня пошатнулся. Следом полетели обе кружки, тарелка с выблеванным борщом и вазочка с конфетами. Кружки упали за Даниной спиной, бывший борщ обрызгал его рубашку, а вазочка, растеряв в полёте остатки подъеденных мной конфет, стукнула его в грудь.
– Я вас выдумал! – заорал я в отчаянии. – Просто выдумал!
Внезапно сзади меня кто-то схватил за плечи. Я обернулся и увидел обеспокоенного Макса, который быстро завернул мне руки за спину и, придерживая их одной рукой, второй закрыл меня от Залягвина, в глазах которого уже было желание задушить.
– Стой, Даня, остановись! – Макс оттолкнул меня в сторону двери между шкафами, из которой вышел. Дверь была покрашена в тот же унылый зелёный цвет, что и стена. – А ты иди туда, посиди пока там, – Макс обращался ко мне как к ребёнку, а не как к человеку, которого ширнули снотворным, похитили, накормили человечиной и отмудохали ногами.
Не желая оставаться в одной комнате с Даней, я вбежал в указанную мне комнату и прикрыл дверь. Судя по всему, здесь была изба-читальня. Овальный стол с фикусом посерёдке, книжные полки у стены, стулья у зашторенных окон. Я отодвинул одну из штор в сторону и увидел парковку, забитую машинами. Саабы, мерсы, пара лендроверов. Метрах в пятидесяти от окна стоял двухметровый каменный забор, а за ним был лес. Шла такая же мягкая метель, как тогда, когда до моего похищения оставались считанные минуты, когда мы с Максом выходили из восьмой столовой. Только теперь была ночь, и я был в лесном доме.
Ну да. Избушка на курьих ножках. Несёт меня леса за дальние леса. В дом лесных разбойников-людоедов.
Я прислонил лоб к ледяному окну и заплакал. Не знаю даже от чего. То ли оттого, что меня, скорее всего, съедят, то ли оттого, что представил, как мама в очередной раз беспокоится, что я шляюсь неизвестно где и не звоню, ходит по комнате, не находя себе места, перебирает предметы на столе (я однажды видел это, когда дура-сестра задержалась на дне рождения, а мобильник её сел), а потом, если бы я сумел вырваться отсюда, спокойно бы мне выговаривала, не подавая виду, что волновалась по-настоящему… Если бы. Чёртово это если бы. Слёзы, бессильные, горячие, остывающие за одну секунду на щеках, текли и текли.
Между тем в кабинете Дани шёл разговор на повышенных тонах.
Даня не кричал, он скорее громко шипел, а Макс резко, но корректно опровергал Данины слова.
– Дай мне его ещё на часок, и этот гадёныш всё расскажет, – требовал Даня. – Он быстро сломается, да он уже сломался. Нам необходимо узнать, кто всё слил.
– Даня, никто ничего не сливал, я это уже понял, – Макс был «очень добрым следователем», – я же был на той вечеринке. Он случайно всё это придумал…
– Такие вещи случайно не происходят, и ты знаешь это лучше меня!
– Я уже говорил с Романом Фёдоровичем, он тоже считает, что нельзя упускать возможность самоинициации.
– Самоинициации не бывает! – Даня впервые крикнул, как будто Макс задел наконец его единственную чувствительную струну.
– Данечка, инициации – это вещь очень тонкая и сложная, не горячись, ладно? Тут есть множество нюансов, – голоса их затухали, наверное, Макс отвёл Даню к выходу из кабинета. Хлопнула дверь. Я вновь остался один.
Некоторое время я сидел за столом, спрятав голову в руки. Мне в кои-то веки ни о чём не думалось. Просто несколько минут трупного окоченения сознания. Изредка оно подёргивалось слабыми разрядами («есть очень хочется: зря блевал»; «я – живой»; «мне тепло, поэтому я не умру»), словно его гальванизировали. Если бы я не встал пару часов назад, я бы, наверное, заснул. Свернулся бы калачиком и попробовал замурлыкать. Говорят, кошки часто мурлычут, когда им больно или они чуют бродящую рядом кошачью смерть, успокаивают себя. Но заснуть я не мог. Не знаю, сколько времени я сидел так, полувыключенный. Внезапно как будто что-то щёлкнуло, и я встал.
Меня заинтересовали книги. Что могут читать агностики-каннибалы? Локка? Бертрана Рассела? Учебники по разделыванию мяса?
К моему удивлению, ни Локка, ни даже биографии Чикатило или Иссея Сагавы там не было. Не было даже книг Томаса Харриса про Ганнибала Лектера. Полки скорее напоминали библиотеку обычного советского человека, который начал скупать всё подряд, когда началась гласность и все табу рухнули. Здесь были Ницше и маркиз де Сад, Джеймс Хедли Чейз и Хорхе Луис Борхес, Солженицын и Генри Миллер. На самой верхней полке царственно высился старый тридцатитомник Достоевского. Кроме него, все книги, судя по ужасным обложкам и корявому шрифту заглавий, были изданы в первой половине девяностых.
– Книгами интересуетесь? – я вздрогнул и повернул голову. Это Макс вернулся.
– Д-да, – я пожал плечами. – Странная у вас тут подборка.
– Это – личный вкус одного человека, – Макс выглядел усталым и вымотанным. – Он считает, что читать надо всё. Впрочем, он не читает книг в обычном смысле слова. Он просто по очереди читает слова.
– Он не познаёт написанного? Не может понять?
– Это долго объяснять, но в общих чертах – да. Впрочем, это не важно, это сейчас не имеет значения, – Макс присел за стол и закурил, стряхивая пепел в горшок с фикусом. – Как вы себя чувствуете?
– Скажите, что со мной будет?
– Вы, главное, не волнуйтесь… Мы не будем вас есть или убивать, если вы об этом. Всё будет в порядке… Вы не могли бы принести пепельницу, она – там, в правом шкафу, на второй полке?.. Только не волнуйтесь, – я принёс ему пепельницу и поставил слева от фикуса, а сам сел напротив, – вы довольно хорошо держитесь, продолжайте в том же духе… Простите, что втянул вас в это, но после дня рождения я действительно был в шоке от того, что услышал. Я тогда действительно подумал, что пошла утечка информации, кто-то проболтался по пьяни или просто так… От неумения хранить информацию. С другой стороны, мне надо было сразу сообразить: все члены нашего сообщества – люди довольно солидные, а там, на этой вечеринке, был, можно сказать, «низ среднего класса». Сложно было представить, что вы узнали о нас от кого-то из наших людей, разве что из внутреннего круга, – он пожал плечами, – но это вовсе исключено.
– Вы считаете, что «низ среднего класса» не может общаться с теми, кто у вас? – я устало глядел на это страшное лицо. Лицо адекватного человека. Лицо вежливого человека. Лицо человека, который мыслит логически. Вот только по каким-то причинам этот человек ест людей или считает, что их можно есть и осуществляет процесс их поедания клиентами. Вежливый адекватный логически мыслящий Макс добродушно улыбнулся.
– Знаете, иногда мне кажется, что экономическая иерархия гораздо жёстче, чем кастовая или сословная. До парий нельзя дотрагиваться и брать в руки их вещи, поэтому люди высших каст всегда начеку – боятся оскверниться. Они видят этих других людей, которые ниже их. А люди, которые находятся выше потому, что у них больше денег, власти и влияния, просто не видят тех, что снизу. Людей из низших классов для них просто не существует. Даже их горничные, водители, няни и уборщицы – это уже другие люди, которых они хоть чуть-чуть, но переносят в свою касту. Совершенно другая система восприятия людей.
Он меня забалтывает. Засирает мне мозги. Баки заколачивает.
– Макс, что со мной всё-таки будет?
Макс тяжело вздохнул и помолчал.
– Вы, главное, воспринимайте всё спокойно, – начал он. Повращал сигаретой в воздухе, подбирая слова. – Вы поймите… Отпустить вас прямо сейчас мы не можем…
– Почему, Макс? Я обещаю вам, что ничего никому не скажу. Никаких милиций, родителей, друзей. Просто ширните меня ещё раз или завяжите глаза платком. Можете вообще вывезти меня на другой конец Подмосковья, я там проснусь, и вы уедете, и всё, я про вас забуду.
Макс устало посмотрел на меня, как на надоедливого ребёнка, умоляющего купить очередную порцию жирной нездоровой пищи или сладостей и не желающего слушать про болезни зубов и избыточный вес.
– Выслушайте меня. Только выслушайте внимательно, пожалуйста. И не перебивайте. Во-первых, я ещё раз обещаю вам, что больше не будет никакого насилия. Даня уже всё осознал, он вообще больше не будет с вами общаться. Мы не будем вас есть, убивать, пытать, только общаться, ничего более. Мы даже не будем выкалывать вам глаза, – он выдержал паузу и, видимо, уловив какое-то изменение в моём лице (а я очень перессал в этот момент, меня как будто кто-то схватил за сердце холодной рукой и что-то резко кольнуло), улыбнулся уголками губ. – Да, был и такой вариант. Даня предложил. Ослепить вас, отрезать язык, пробить барабанные перепонки и перебить пальцы рук, а потом вывезти вас в другую область, за Урал. Мы, конечно, отвергли это предложение. Надеюсь, вы не будете думать о Дане как об изверге и садисте, он просто хороший сотрудник внутреннего отдела безопасности.
– Господи, не проще ли было съесть? Или убить?
– Всё дело в том, что вы не заслуживаете смерти. Вы ничего плохого нам не сделали. Просто вы случайным путём о нас узнали и в силу этого представляете опасность, поэтому вас нужно нейтрализовать, но не убивать, ни в коем случае. Мы не убиваем невинных людей.
– А Богораз? Он что-то сделал?
– Это особый случай, о котором нужно долго говорить. Всё в своё время, – Макс встал и похлопал меня по плечу. – Не горячитесь. Скоро вам всё станет понятно, потерпите…
Вот что мне режет слух.
– А мы разве не на ты? С сегодняшнего, то есть вчерашнего вчера? – не знаю, зачем я это сказал.
– Что? Ах да, – Макс улыбнулся и подмигнул. – Это было вчера, там мы могли быть на ты. Потому что так принято – переходить на ты, чтобы быть ближе или уж не знаю зачем… Я не люблю говорить на ты. Близости всё равно никакой нет, это иллюзия. Я предпочитаю честное соблюдение дистанции… А, впрочем, Бог с ним, – он махнул рукой и вновь сел напротив и закурил. – Поймите пока ещё вот что. Вы нам очень нужны… Мы должны одну вещь проверить. Если она не подтвердится, мы вас отпустим домой, под честное слово. Я ещё раз вколю вам снотворное и отвезу вас в Москву. А если подтвердится, мы вас тем более отпустим. Но вы к нам ещё вернётесь, по доброй воле. А пока считайте, что вы в некотором роде умерли для мира. Всего на несколько дней, не больше недели, Максимум – полторы… Или ещё лучше считайте, что это весь мир умер для вас, только в вас ещё теплится жизнь. Попробуйте задуматься об этом, хотя бы на полчаса…
Ну, родной, ты ещё видел Макса. И того парня, который привёл тебя сюда.
Если их ожидания не оправдаются, никто меня никуда не отпустит. Интересно, они выкалывают глаза и отрезают языки под наркозом или нет. Я этого не заслужил. Куда-нибудь за Урал.
– Послушайте, – я закрыл глаза и помотал головой: мысли разбегались в разные стороны как стая вспугнутых птиц. Что мне сказать что мне сказать что мне сказать?
– Да, – Макс терпеливо вздохнул.
– Мне надо домой позвонить, – выдавил я с трудом. – Родители будут волноваться.
– Домой? Да, конечно, – Макс задумчиво потёр пальцы. – Сейчас уже около трёх, – он посмотрел на часы, – три с половиной. Давайте вы отправите эсэмэс, а завтра мы придумаем, как объяснить ваше недельное отсутствие и вы позвоните домой. Хорошо?
– Да, – я кивнул и отчего-то почувствовал облегчение.
– Тогда подождите чуть-чуть, – Макс вышел и пока я пытался уловить это стремительно ускользающее чувство – нет, не защищённости, а какого-то ореола, покрова, находясь под которым, я смогу не дрогнув и не сойдя с ума пройти через весь этот мрачный балаган, – он, очевидно, дошёл до хранилища моих личных вещей и достал мобильный телефон, с которым и вернулся.
– Ну вот, – сказал он, – пишите.
Десять пропущенных звонков. Десять попыток достучаться до родной плоти, которая заперлась в своём отчаянии, наверняка забаррикадировав дверь в своё глупое и гнусное одиночество алкоголем или наркотиками.
Я дрожащими пальцами набрал: «мам,извини,что не позвонил.я с друзьями,кино смотрели.завтра позвоню», – и отправил. Конвертик на экране некоторое время позаклеивал сам себя, а затем полетел в своё странствие. Через пару секунд ко мне прилетел такой же: в нём сообщалось, что моё сообщение адресату «Мама» доставлено.
– Написали? – Макс забрал у меня мобильник и выключил его. – Я отведу вас в гостевую комнату.
Гостевая комната за кабинетом Залягвина, маленькая комнатушка с небольшой кроватью, расправленной и манящей холодным одеялом, тумбочкой для личных вещей (у меня, в отличие от официальных гостей, которые тут наверняка время от времени останавливались, ничего не было; тумбочка напрасно ожидала, приоткрыв свой большой беззубый рот – я был принудительным гостем, старательно обысканным и лишившимся всего кроме одежды; даже контактные линзы где-то сохли и гнили, лишённые раствора), стулом со спинкой и небольшим журнальным столиком. На столике стоял гранёный стакан с водой и лежала пара таблеток.
– Что это?
– Это снотворное. Я думаю, вам стоит поспать ещё. Утром вам будет лучше и мы спокойно обо всём поговорим.
– Отлить надо, – я вопросительно посмотрел на Макса.
– Туалет в конце коридора, в тупике.
– А где мои линзы?
– Что? А, да, мы их сняли. Не волнуйтесь, они в контейнере, у нас здесь нашёлся лишний. Роман Фёдорович носит.
Он уже второй раз упомянул этого Романа Фёдоровича. Главный людоед?
– Спасибо, – я вышел и дошёл до туалета. Внутри также был душ и зеркало. На меня смотрело усталое, помятое лицо. Внизу свитера и на правом колене были багровые следы борща с Богоразом. Я снял очки, умыл лицо, отлил и попытался оттереть пятна, но безуспешно. Они побледнели и только.
В гостевой комнате Макс стоял спиной ко мне, глядя в окно.
– Красивая метель, правда? – он обернулся.
– Да, – я протолкнул таблетки в горло потоком воды и начал раздеваться. – Вы не могли бы постирать мою одежду. На ней следы одного из ваших блюд.
– Конечно, давайте, – Макс принял у меня майку и свитер. – Спокойной ночи. И помните, – добавил он улыбаясь, – весь мир умер. Ни родителей, ни друзей, ни любимых девушек. Мир умер на полторы недели. Остались только вы.
Он ушёл, а я неожиданно быстро уснул, едва успев забраться под одеяло. Под одеялом было холодно. Я даже не успел почувствовать, как пространство вокруг нагревается от моего тела, – просто закрыл глаза и пропал.
19
мы плывём на ветхом потрёпанном доисторическом пароходе начало века может быть что тридцатые годы но уже точно не после войны такой старый белый пароход и это Африка
то есть может быть это скорее похоже на колониальную Индию потому что мы все ну не все но многие в пробковых шлемах а некоторые в тюрбанах как сикхи или парсы но я точно знаю что это Африка
где-то внутри Африки самое сердце тьмы дикие племена сафари геноцид
тутси и хуту
но их как будто и нет мы уже долго плывём на нашем пароходе по большой длиннющей реке река одна длинная большая прямая только местами у неё небольшие заковыристые завороты
как если бы срезать одну небольшую сторону у кишки распрямить её и залить водой и пустить по ней пароходы с диксилендом цветами мороженым и кокаином
такой угар НЭПа веймарская республика
так вот если пустить по кишке речное судоходство то как бы её ни распрямляли всё равно найдутся такие изгибистые места
и пароход плывёт по этой реке не знаю Конго Лимпопо Белый Нил Голубой Нил что угодно
по сторонам равнины возделанные поля пшеница может быть другие злаки а где-то вдали лес джунгли
иногда по берегам ходят крестьяне машут нам руками по-моему они все белые я не видел ещё ни одного чёрного мужика
на корме стоит Арсеньев в шортах курит сигару поплёвывает в реку пускает колечки на нём шорты феска а грудь голая волосатая он очень загорелый
привет говорит тебе не жарко
я вижу что я в меховой шубе такая боярская как у гайдуков в Румынии или не знаю где и большая меховая шапка на голове на ней какой-то значок но я его почему-то не вижу
я как будто со стороны увидел что я в шапке но снять не снял и не разглядел поближе
чувствую что не жарко наоборот очень тепло и уютно
ты знаешь говорит Арсеньев наша экспедиция проплыла через всю Африку и ни одного негра не увидела
что серьёзно
да их здесь просто нет и видимо не было они живут где-то не здесь
а кто здесь живёт а я знаю здесь живут русские крестьяне и колхозники
да впрочем мы всегда это знали
Арсеньев поворачивается и показывает мне в сторону кают-компании
мы сейчас хотим посовещаться перед вечерними танцами ты нам нужен как главный врач экспедиции
мы идём в кают-компанию я беру свой чемодан такой рюкзак и достаю оттуда пакет с таблетками раздаю всем остальным
ешьте сукины дети вы нездоровы
там все остальные они в матросской форме и мы это вроде команда по вечерам танцуем и пьём вино
так лучше управлять плывущим по реке кораблём
все съели нужные вещества запили газировкой
вошла медсестра в костюме медсестры очень похожа на Регину только волосы чёрные почему они чёрные думаю
наверное всем медсёстрам так полагается чтобы брюнетки рыжих и блондинок туда не берут а если кто-то и затешется сразу же раскусят что тут краска басма или химия и под зад коленом иди официанткой работай нам здесь такие не нужны
а вот врачи наверное любые могут быть вот я же врач хотя я сам брюнет так что это не доказательство
медсестра подходит ко мне и говорит чужим голосом нет это не Регина голос не её
ты клятву Гиппократа давал
нет ещё
она берёт меня за руку и ведёт к портретам знаменитых докторов это уже не кают-компания а наш медицинский центр каюта-госпиталь
если ты клятвы ещё не давал то надо срочно поклясться без клятвы танцевать нельзя вечером
вообще нельзя танцевать
показывает рукой на портреты
вот знаменитые врачи Чехов Амбруаз Парэ Луи-Фердинанд Селин Пастер и Павлов в походных условиях можно клясться перед ними а не перед Гиппократом
а как клясться
положи руку на сердце и расскажи им всю свою жизнь с внутриутробного до этой экспедиции потом поклонись и тогда мы снова встретимся давай скорей клянись я буду ждать тебя в коридоре у поворота на гальюн
ладно
давай я жду не опаздывай
и она уходит
я стою перед портретами и думаю как бы лучше начать клятву но никак не соображается я не помню что было в детстве стою и думаю что сейчас всё скажу всё сделаю как надо а потом пойду где у меня назначено
я уже не в шапке боярина и не в шубе а в рубашке с коротким рукавом меня обвевает ветерок хотя я и в каюте может окно открыто
на голове бейсболка
наверное надо начать с того что я родился
20
Меня потрясли за плечо, и я разлепил глаза.
– А? Что? – я нашарил на тумбочке очки и надел.
Передо мной стоял какой-то парень, возможно, вчерашний, тот, что отвёл меня к Залягвину на растерзание.
– Максим Аркадьевич просил вас разбудить пораньше. Вы будете завтракать?
Похоже, Макс их тут вымуштровал со своей привычкой говорить на «вы».
– Завтракать? – мне вспомнился вчерашний неудачный ужин (хотя он в каком-то смысле тоже был завтраком, я ведь только проснулся от укола). – А что у вас есть?
– Холодное всякое… Бутерброды, йогурты, фрукты. Из горячего – омлет с колбасой.
– С какой колбасой? Из чего?
Парень странно посмотрел на меня.
– С обычной колбасой, конечно. Обычный сервелат из магазина.
– Давайте омлет и йогурты.
Он кивнул и вышел. Я вылез из-под одеяла и начал искать одежду. Чёрт, я же отдал её в стирку. Как тогда у Регины.
Завернувшись в одеяло как в кочевнический плащ, я осторожно опустил ноги на холодный ковёр и увидел пару смешных тапок – больших и мягких, в виде розовых бульдогов. Уличную обувь куда-то унесли.
Парень вошёл в дверь боком и развернул передо мной небольшой поднос: тарелка с ядовито-синим рисунком, основная часть которого была спрятана от меня бледно-лимонным омлетом с кусочками колбасы, которая выглядела как комки свернувшейся крови, два йогурта, стакан крепкого чая в поездном подстаканнике (всякий раз, как вижу такой подстаканник не в поезде, мне почему-то кажется, что его оттуда спиздили) и вилка с ложечкой. Ножа не положили.
– Что с вами? – парень поставил поднос на тумбочку и непонимающе уставился на мой «плащ».
– Я попросил Макса… Максима… в общем, я попросил его отдать мои вещи в стирку. Они испачкались вчера.
– Ладно, я попытаюсь для вас что-нибудь найти, – он снова вышел.
Омлет был неплох. Он напоминал по вкусу те огромные омлеты, которые готовят на больших противнях в школьных столовых (эти омлеты всегда казались мне двухэтажными, как английские автобусы, потому что были в два раза выше домашних), а потом разрезают на порции, шлёпают их на девственно белые тарелки и выдают ордам детей, половина которых отдаёт их на мойку целыми, не отщипнув и кусочка. По мере того, как омлет таял, прижатый к нёбу, попадая в пищевод в почти жидком состоянии, шматок за шматком, рисунок на тарелке освобождался из-под него, и я сперва увидел корявого ухажёра в пудреном парике, затем селянку у дерева, которой он целовал руку, и наконец возникло надгробие, видимо, они оба стояли у входа на кладбище. Нарисован рисунок был плохо – дешёвая стилизация под рокайльно-сентиментальные мотивы.
Ко мне вернулся мой (камердинер? тюремщик?) и выдал серые домашние штаны и чёрный халат с поясом.
– Примерьте, – предложил он.
Я отложил полусъеденный йогурт, скинул одеяло и надел штаны. Они были чуть великоваты, поэтому я заправил штанины в бульдогов. Рукава халата, которые наползали на кисти рук, пришлось подвернуть.
– Спасибо.
– Максим Аркадьевич будет где-то через час. Он сразу поднимется к вам, когда приедет, – парень помялся, думая, как лучше сказать. – У меня к вам большая просьба. Пожалуйста, не мастурбируйте в ожидании.
Я развёл руками и скорчил недовольную физиономию.
– Хорошо, не буду. К тому же здесь есть душ…
господи, о чём я говорю. дурак.
– Постойте, а это не вы меня вчера отводили к этому? – очень хотелось сказать «уроду» или даже «уёбку», но я сдержался. «Он просто хороший сотрудник внутреннего отдела безопасности». – К Залягвину?
– Нет, не я. Тот, кто отвёл вас к Даниилу Степановичу, рассказал. Просто… это режет глаза.
– Да, конечно.
режет глаза. выколоть глаза и отрезать язык.
Почему-то было уже не так стрёмно, как вчера. Все мысли об этих фанатиках-изуверах остались где-то во сне, на каком-то корабле. Я был принудительным гостем в каком-то непонятном санатории. Внутренний Голос советовал мне быть начеку, приготовиться рвать когти в первый же подходящий момент, но внешне я был спокоен. Голос был где-то глубоко, словно за слоем жира, приглушённый и подземный. Так было лучше всем: и мне, и Голосу и моим похитителям.
Парень потоптался ещё и ушёл. Я доел йогурты и отправился в туалет. Там висело новое полотенце (вчера было только одно – вафельное, для рук), очевидно, специально для меня. На подзеркальной полке появился стакан с красной зубной щёткой и тюбик с мятной пастой.
чувствуй себя как дома. они говорят: чувствуй себя как дома. не верь. не забывай, где ты.
Когда я вернулся, в моей комнате сидел уже другой охранник, такой же молодой, с тонкими усиками под хищным носом.
– Проснулись. Позавтракали. Чувствуете себя спокойно, – он говорил скорее не вопросительно, а императивно, как школьник, пародирующий гипнотизёра. – Я должен отвести вас в кабинет.
– Куда? К Максу?
– Нет, он тоже сразу приедет и пройдёт туда, вместе с Романом Фёдоровичем, – хищноносый встал и, взяв меня под локоть, повёл к лестнице. Судя по всему, дом был больше обычной дачи, но меньше дворцовой усадьбы. Что-то вроде занюханной начальной школы для трёх классов, без спортзала, библиотеки и даже, наверное, без столовой. На первом этаже меня провели через большую гостиную в просторный светлый кабинет. В окне кровоточило японское менструальное солнце.
– Вот здесь посидите, – конвоир вышел.
Здесь тоже была библиотека, больше и интересней той, что на втором этаже. Большинство книг было на французском и английском, но попадались также итальянские и немецкие: научные труды по мифологии, антропологии, истории тайных обществ. Из английских книг я узнал только «Золотую ветвь» Фрэзера, из немецких – «Mein Kampf» и «Das Kapital». Похоже, главный агностик-каннибал, перед тем как окончательно разувериться в познаваемости мира, долго и упорно пытался постичь его – всеми возможными способами. Будь я на его месте, я бы сжёг эту библиотеку.
Письменный стол был украшен зелёной настольной лампой (старая-старая, из каких-то дошкольных, невероятных советских времён, знакомых по артефактам и фильмам) и новым органайзером. Ящики стола были заперты. В корзину для бумаг был воткнут стерильный свежий мусорный пакет. Тоска.
Я попробовал полистать «Mein Kampf», но не понял ничего кроме случайно выхваченных из чужеязыкой мешанины большебуквых слов «бюрократизмуса», «капитализмуса» и многократных «юден» и «юдиш». К тому же, там совсем не было картинок и разговоров. Какой прок в иностранной книге без картинок и разговоров? Мама говорила: учи языки. Надо было слушать маму.
чёрт. позвонить. несколько дней.
Внутри возникла какая-то щемящая нежность – из-за того, что мне в очередной раз предстояло обмануть маму, уверив её, что всё в порядке (на этот раз всё было настолько не в порядке, что предыдущие обманы, касавшиеся моего времяпрепровождения, выглядели лёгкими ошибками в переводе, тогда как сейчас предстояло откровенное переворачивание с ног на голову, вроде того, как Толстой переводил Мопассана, заставляя матроса узнать в проститутке сестру до полового акта, а не после).
Поставив скрытые от меня мёртвыми немецкими словами мемуары параноидального австрийского задрота на место, я машинально пошарил глазами по книжным полкам и увидел чёрную папку, которая лежала на больших томах Британники. В ней оказалась распечатка русского текста без указания автора, заголовка тоже не было.
«Если внимательно всмотреться в общие места антисталинской риторики, если проанализировать её основные тезисы, то можно легко разделить весь массив обвинений, брошенных Вождю, весь этот водопад предъявленных покойнику счетов, кажущийся таким мощным, слитным и цельным, на отдельные сируйки, каждая из которых носит отчётливо выраженное кастовое начало, которое в условиях Российского государства совпадает также с субнациональным началом.
Сталина обвиняют в уничтожении российского крестьянства, чистых шудр нашей страны (которые в своём большинстве представлены российской субнациональностью русских людей…»
Я хмыкнул и посмотрел на дверь.
Кто это мне говорил про индийские касты? Макс, кажется? Какие-то они весьма странные, эти агностики.
«…обладавших также православной идентичностью), обвиняют в срезе так называемой «ленинской гвардии» (которая не является еврейской пассионарной прослойкой, как ошибочно принято считать), обвиняют в погроме армейского командования и т. д. и т. п.
Нам бы хотелось истолковать здесь эти акции, найти их глубинный метафизический смысл, недоступный профанам современной политологии.
Якобы уничтоженное, стёртое в лагерную пыль крестьянское население России на самом деле было просто возвращено в своё исходное кастовое состояние, наиболее приближенное к идеальному. Развращаемые в течение семидесяти лет, с момента так называемого «освобождения», многие крестьяне действительно испортились, отошли от первозданной монолитности, общности, которая объединяла отдельные кланы в одну большую сверхсемью, в которой индивидуальное личностное начало ощущалось как фикция, марево, мираж. Сталин вновь создал эту семейную сеть, покрывавшую Россию пёстрым ковром коллективных хозяйств, удалил «урода из семьи», отправив всех индивидуалистов, мономанов, соблазнённых своими ложными личностями, приносить Родине (бесконечной толпе родных) пользу на колымских приисках. То упадочное, разложившееся состояние крестьянства, которое мы можем наблюдать сейчас, имеет причиной не сталинскую коллективизацию, а реформы наследников Вождя, купленных английской разведкой. Отмена гениальнейшей паспортной системы, целью которой являлось прекратить преступную практику перехода из касты в касту, окончательно поставила крест на сталинском революционном почине.
В отношении ленинской гвардии политика Сталина представляется ещё более мудрой. Чтобы осознать это, вглядимся в кастовую сущность репрессированных. Все они являются представителями вирусной касты, так называемой интеллигенции, которая во всех традиционных обществах и во все века вела паразитарный образ жизни, подтачивающий изнутри здоровое тело государств. В греко-римском мире были софисты во всём их многообразии (мы не говорим здесь о настоящих посвящённых философах, каковым несомненно являлся Пифагор), в Индии – буддисты, в Иране – манихеи, в средневековой Европе – катары, в послепетровской России – интеллигенция. Многие ошибочно связывают российскую интеллигенцию с экспансивными течениями иудаизма. Это неверно. К настоящему иудаизму российские интеллигенты, как и их этнические коллеги из немецкой «Хаскалы», отношения не имели. Настоящая элита, своего рода брахманы русских иудеев, хасидские учителя, чья благодать передавалась по наследству, всегда держались в стороне от эмансипации и скорее молчаливо осуждали её, чем поддерживали. Российская политическая псевдоэлита состояла из оторванных от своих традиционных корней русских, евреев, латышей, татар и прочих. (Здесь уместно заметить, что та гордость принадлежностью к интеллигенции, которой так принято было кичиться и бравировать, начиная с 1840-ых гг., представляет собой не что иное, как кощунственную пародию на традиционную кастовую гордость. Никогда ещё вирусные касты не доходили до такого бесстыдства, чтобы во всеуслышание претендовать на права брахманов или кшатриев.
Кшатрии, да. Это, кажется, военные. Брахманы – жрецы, а кшатрии – воины.
Катары, например, использовали своих агентов внутри истинных каст, благодаря чему полностью подчинили своему влиянию провансальское духовенство и тамплиеров, и внутри своих антисоциумов они провозглашали себя истинными посвящёнными, но только во времена средств массовой информации и поголовной грамотности (эти два бича современного мира, перенасыщенного бесполезными знаниями, неприменимыми способностями и бессмысленным информационным шумом, кстати, были придуманы и применены в антицивилизационной войне международными вирусными кастами, от масонов до революционеров) стало возможным настолько изменить картину мира в головах несчастных народов Земли). Поэтому показательные процессы, на которых верховоды интеллигентской гидры честно каялись в своих всамделишных преступлениях, являлись всего лишь революционной попыткой обнажить заговор закулисной сволочи, перевернуть извращённую картину мира, в которой сельские учителя, инженеры и лекари стояли выше военных и духовенства, попирая их отмеченные одежды своими грязными сапожищами. Отметим, насколько гуманна была система так называемой Большой Чистки: яркие, опасные лидеры уничтожались, расстреливались, в то время как рядовым интеллигентам, всем этим многочисленным секретарям, адъютантам, фактотумам Троцкого-Зиновьева-Каменева-Радека-Бухарина, многие из которых попали в интеллигенты случайно, по дурости, из-за лености, был милосердно дан шанс на спасение и долгую жизнь, полную очистительным, исцеляющим их язвы и искупающим их грехи трудом на благо общества. Эти люди своими непростительными грехами заслужили себе страшное воздаяние (народная глубинная память о необходимости которого сохранилась в предании о том, что маршалу Блюхеру во время допроса выбили глаз), вроде страшных мучительных четвертований или раздроблений костей на колесе (когда-то Европа помнила о необходимости телесных наказаний, идентичных по тяжести загробным наказаниям души), однако им дан был шанс жить и работать в резервациях для предателей, в чистилище ГУЛАГа, который, конечно же, не был адом.
То же самое можно сказать и о военной «элите» 1920-30-ых гг. В отличие от Германии, обладавшей практически на пустом месте созданной системой обучения войск SS, включавшей постижение традиционных наук, военная верхушка состояла из интеркастового сброда, который нуждался в строгом и жёстком обучении, чему и способствовали чистки среди военных.
Таким образом, уже в конце 1920-ых гг., Сталин запустил механизм «самопоедания ложных элит». Согласно древней мудрости, «гниение рыбы идёт от морды к хвосту». Поскольку в тот момент убрать псевдоэлиту и заменить её элитой настоящей, восстановив в правах представителей сакральных каст, не представлялось возможным, Сталин организовал процесс перманентного гниения, надеясь, что его наследники довершат начатое и извлекут из алхимической колбы философский камень истинного общества, построенного по вертикальной модели власти, с её величественной иерархией, восходящей от земли до Вождя с божественным отблеском на лице. Бухарин и Ягода ели Зиновьева и Каменева, Ежов ел Бухарина и Ягоду, Берия вкушал Ежова. Берию не ел уже никто (при жизни гениального Вождя), вероятно, потому, что Берия, как и сам Сталин (а также, возможно, Микоян) принадлежали к вкусившим традиционных учений в молодые годы (в одном из тайных священных центров на юге России). Берию, как известно, съел английский шпион Хрущёв. В издевательской иронии этому агенту врага не откажешь: заручившись поддержкой недобитых представителей псевдоэлиты, а также военного выдвиженца Жукова (некоторые источники не исключают возможности тесного общения последнего с представителями японских буддистов во время военной операции на реке Халкин-Гол; японские буддисты и тогда и сейчас были самой мощной вирусной кастой в Восточной Азии), он арестовал Берию и обвинил его в своём грехе (он ведь мог обвинить его в работе на американскую или французскую разведку, но выбрал именно английскую)! Настоящего наследника Сталина расстреляли. Здесь особо надо учесть, что пресловутая «Книга Закона» Алистера Кроули, экземпляры которой были отправлены им Сталину, Гитлеру и Муссолини, до адресатов ни разу не доходила. В СССР её прочёл именно Хрущёв, благодаря своему агенту в секретариате Сталина – товарищу Товстухе. Из скромной, но на редкость регулярной переписки Хрущёва с Кроули со всей очевидностью следует…»
Что следовало из скромной переписки Хрущёва с Кроули, я дочитать не успел. Кто-то шёл в сторону кабинета, и я поспешно засунул папку с ебанутым эссе обратно на полку.
Дверь открылась, и в кабинет вошёл Макс, голова его была повёрнута к двери, к кому-то отстающему.
– Всего пару дней, я думаю, не больше, – говорил он. – К тому же сегодня появится Колоднов.
– Колоднов, – вошедший процедил эти слова с омерзением, – сколько мы ещё можем терпеть этого выскочку, этого богомерзкого ересиарха и извратителя, – он увидел меня, как-то сразу нащупал глазами, как Вий – Хому Брута, и намертво прицепил к своему взгляду. Макс тоже повернул голову, и вот оба смотрели на меня – Макс спокойным отрешённым взором, а незнакомый мне человек смотрел жадно и как-то влюблённо, как стареющий ловелас, который в каждой новой пассии всё более настойчиво ищет какой-то одному ему понятной гармонии, чего-то из забытого детства.
Незнакомец был красив. Очень часто красота человеческих лиц создаётся одной или двумя чертами, и тогда её не испортить даже дефективности других частей (у незнакомца, например, были мелкие кривые зубы). Красоту этого человека создавали борода и глаза. Борода была густая, добротная и рыжая, с пробившейся проседью по углам. Она струилась до ключиц и явно хотела разделиться на два куста, – такие бороды любили носить давным-давно православные священники и ортодоксальные раввины, – но хозяин не давал ей раздвоиться.
Он буравил меня тускло-серыми глазками. Маленькие, широко расставленные, они наперекор всем стереотипам, прямо сочились чем-то гипнотическим и змеиным, приковывающим кроликов к земле.
Первым нарушил общее бессловесное ознакомление Макс.
– Вот, – он как-то странно показал в мою сторону протянутой ладонью. – Джон Леннон. А это, – другая рука сделала ещё более заковыристый жест, – Роман Фёдорович Ногин.
Ногин порывисто протянул мне толстую ладонь.
– А вы знаете, молодой человек, что Джон Леннон был содомитом и тайным членом Ордена Восточного Храма? – спросил он вместо приветствия.
– Нет, не знаю, – я пожал плечами. Если уж Хрущёв переписывается с Кроули, почему бы и Леннону не состоять в восточных храмовниках.
– Меня как-то всегда волновала та неполнота знаний, – продолжил Ногин, проходя и садясь за свой стол, – то есть условных знаний, конечно, того информационного шума, который наполняет наши жизни… Неполнота и ущербность сведений молодёжи о своих вождях и кумирах…
– Я вообще-то «Beatles» не слушаю, – сказал я, – меня так в школе назвали, из-за очков.
Ногина это не смутило. Он ловко подхватил мою фразу и включил её в свой спич.
– Из-за очков никого просто так не называют, поверьте мне. Особенно в детстве. Очки – это повод для прозвища, причина всегда гораздо глубже. В конце концов, если бы важны были именно очки, вас назвали бы «очкастый» или, уж не знаю там… «Очкарик-в-жопе-шарик».
– Это тоже было, – согласился я. – Только «В-жопе-шарик» – это всё-таки дразнилка, а не прозвище. Для прозвища слишком длинное.
– Тем, кто начал вас так называть, важно было подчеркнуть, что вы относитесь к миру западной культуры, к одному из её столпов в этом столетии. Даже если они сами этого не осознавали, важным было именно это.
– Вы так старательно пытаетесь всё объяснить, так ищите всему причину и смысл, что я не понимаю, как вы можете быть агностиком.
– Вот! – Ногин назидательно воздел указательный перст. – Вы уловили самую сущность вопроса. Да вы присаживайтесь, молодой человек, не стойте…
Я взял один из стульев, скромно притаившийся у противоположной книжным шкафам стены и сел у стола, напротив Ногина. Чем-то меня эти глаза притягивали, не то чтобы против моей воли, а как-то помимо неё, словно какая-то моя часть жила и чувствовала автономно.
– На протяжении всей моей жизни, – пафосно (и пафоса этого явно не замечая) начал Ногин, – я пытался всему найти полноценное объяснение. Я читал Маркса и Фрейда («и Гитлера», – ехидно добавил мой внутренний голос), Фрэзера, Леви-Стросса, Мишеля Фуко, Жака Деррида, Ницше и ещё бог весть кого. Я докапывался до глубиной сути любого факта, находил сотни экономических, классовых, сексуальных, религиозных, психологических причин чего угодно…
– Колбасы с салом.
– Что? – мне таки удалось выбить его из ровного потока повествования.
– Например, колбаса с салом. У неё тысячи объяснений, психологических и религиозных.
Краем глаза я увидел, что Макс, устроившийся в тени, предостерегающе сморщился и даже попробовал зашипеть.
– Вы зря смеётесь, молодой человек, – Ногин насупился. – Простите, что не могу называть вас Джоном Ленноном, как-то рот произносить отказывается…
– Меня ещё Джимом Моррисоном называли. В другой компании.
Почему я просто не сказал им, как меня зовут? Возможно, потому, что их действительно это не интересовало, а может быть, настоящее, паспортное, домашнее, данное родителями имя – это последнее, что у меня осталось, единственная невзятая крепость.
Ногин зажмурился и даже кажется пошевелил губами, словно пробуя имя на вкус.
– Да, – произнёс он наконец, – пожалуй, я буду называть вас Джимом. Так вот, Джим… Кстати, а вам известно, что Джим Моррисон прошёл посвящение у чёрного шамана, одного из последних натчезов?
– Нет. «Doors» я тоже не слушаю.
Тут я соврал, конечно, ну да чёрт с ним.
– Ладно, вернёмся к колбасе. Вы же не станете отрицать, что из всех видов мясных изделий колбаса – идеальный символический фаллос? В отличие от сосисок и сарделек, которые слишком похожи на средний фаллос размерами, колбаса стремится к нечеловеческой длине, толщине, вообще к тому, чтобы быть символом органа мощи, а не карикатурой на него. Кстати, изначально мясо потреблялось как что-то хаотическое, разорванное на куски, сваренное в супе…
– Всё, я понял, – тут не поспоришь. Ногин , судя по всему, действительно мог рассуждать о подтекстах и глубинном смысле чего угодно.
– А кружочки сала, – невозмутимо продолжал Ногин, – следует видеть, конечно, не сифилитическими шанкрами, а воплощением semen virile, мужского семени. Сперма, источник жизни, как вам наверное известно, – вязкая, бесформенная и липкая субстанция, не то жидкость, не то что-то сыпчатое… Слякоть какая-то, одним словом. Психологически очень сложно смириться с мыслью о том, что ты появился на свет из такой мерзости. Поэтому вполне естественным выглядит представление о тяжёлой, густой, твёрдой сперме, как те шарики из сала которыми наполнена колбаса.
– Вы меня убедили.
– Ну так вот, ища подобных объяснений и во множестве их находя… Они выскакивали как чёртики из коробочек на моём пути… Однажды я пришёл к выводу, что ни одна из гносеологических схем и стратегий прошлого века, тогда он ещё не был прошлым, не работает. Не помогает ни сведение всего к половой мистике, ни объяснение экономическими условиями социального строя, ни воля к власти, ни что-нибудь ещё.
Роман Фёдорович говорил долго, витиевато и кудряво, подчёркивая отдельные «сильные» места своей не то исповеди, не то чёрной страшилки, рассказа необычного убийцы, энергичными взмахами рук. Его голос взлетал вместе с руками, набирая мощь и силу. В «спокойных» же местах его голос был скорее изнеженным и манерным, каким говорят эстеты и некоторые гомосексуалисты, те, которые учились поведению у звёзд отечественного шоу-бизнеса.
21
Он рассказал о том, как, разуверившись в возможности понять окружающую его действительность целиком и отдельные её элементы, объяснить, свести к какой-либо прочной категории и поместить на нужную полку, он разъярился и первый раз отведал человеческого мяса. Мясо было нежным на вкус, потому что принадлежало молодому парню, моих примерно лет. Парень путешествовал автостопом из тогда ещё Ленинграда (городу оставалось всего шесть дней до того, чтобы потерять имя мумии) в Ростов-на-Дону, где его кореша, с которыми он познакомился на рок-концерте, проводили время в бездельи, праздности и марихуановом длинном времени. Доехав до Москвы и перекантовавшись у кого-то из стритовых арбатских тусовщиков, отметив с ними победу Ельцина над путчистами, путешественник первого сентября вышел на трассу и поднял большой палец. Первым остановился чёрный опель Ногина. Ногин был вежлив и предупредителен. Он сам, в годы своей молодости, ездил по Союзу на попутках – в Крым и на Рижское взморье. Это было время золотого покоя, семидесятые, говорил Ногин парню, всё было очень здорово, Солженицына выслали, кого-то посадили, зато для многих открыли дорогу на Запад через Израиль, всё было путём: хочешь – живи и не мешай жить другим, не хочешь – уезжай к капиталистам и живи на их вэлферы и гранты. Тогда почти никого не сажали, все слушали рок-н-ролл и фанк, все плясали под «битлов», «роллингов» и немецких ямайцев «Boney M», курили среднеазиатский план и пили крымское вино. Мы были такие же, как вы сейчас, говорил Ногин, и в доказательство тряс своими длинными волосами. Бороды у него тогда ещё не было. А какой у нас тогда был секс, вздыхал хозяин чёрного опеля, все жили как-то радостно и жарко, словно вечное лето на дворе, бесконечное космическое лето, пахнущее Агдамом и продаваемой нефтью, лето нефтегазового изобилия и танцев. В ногинском кассетнике играл «Physical Graffiti» цеппелинов, и паренёк, конечно же, согласился переночевать на даче у водителя, подбросившего его чуть дальше к югу. Я тебя с припасами отправлю, парень, в лучшем виде, обещал Ногин, и похоже не врал. Тогда этого роскошного здания здесь не было, только старая дача родителей, огромные огороды с клубникой и огурцами, на которых этим летом ничего не выращивали, колодец, деревенского типа сральник с вырезанным сердечком и мерзость запустения. Родители обустроились на даче своих родителей (она была гораздо ближе к Москве), а свою отдали сыну. Дача была ещё не обжита, хотя на ней уже успели провести пару вечеринок. Ногин провёл парня в комнату с кроватью на втором этаже, потом они заварили чай, и гость склонился над кружкой, хозяин встал, чтобы достать банку апельсинового варенья, но вместо неё ему почему-то попался под руку топор. Взял его Ногин и ударил гостя по башке, трещина вспухла чёрной кровью, гость подавился чаем, который пил, но кажется, уже не почувствовал этого, тем более что Ногин ещё пару раз ударил его. А он и сам не знал, почему это сделал. Скорее всего потому, что вместо банки варенья на полке лежал топор. Вот тогда он и понял, что всё совершенно не важно в этом мире, всё случайно и не по-настоящему, мы должны идти через жизнь как автоматы и брать первое, что нам попадается на пути и делать то, что следует делать попавшимся предметом. Если ты видишь варенье, угости гостя вареньем, если нащупал в кармане презерватив, трахни гостя в задницу, если под руку попался топор, отруби гостю голову, руки и ноги. Если у тебя есть труп неизвестного человека, спрячь его, сожги или съешь. Почему бы тебе не попробовать человеческого мяса, если оно само пришло в твои руки (ведь топор сам сунулся в толстую сильную кисть, и так же нечаянно живой советский хиппи, случайный попутчик, превратился в мясо, гору обременительной неживой плоти)? Ногин вырезал несколько шматов с бёдер и пожарил на ужин с картошкой и лучком. То ли парень ему попался особенно вкусный, то ли какое-то извращённое ощущение запредельного преступления щекотало мозги, только на следующее утро Ногин завтракал человечиной, потом варил из хиппаря суп и делал плов. Внутренние органы он есть не решился, запалил ночью костёр и сжёг их вместе со старым шмотьём и рухлядью. Тут в его философии возник новый этап. Он решил, что всё же не стоит слепо и бездумно творить безобразия. Наоборот, надо притвориться обычным, таким же, как все и играть в дурацкие игры кромешного и абсолютно непроницаемого бытия, заняться бизнесом или прикинуться свободным художником (каковым он и притворялся все танцевальные семидесятые и сложные восьмидесятые, начавшиеся андроповским завинчиванием гаек, а закончившиеся скрежещущим рассыпанием проржавевшего механизма на куски). Главное, не забывать, что всё это бред и иллюзия, и ни одна из научных теорий или мировых религий не даст блаженного недосягаемого понимания, только разве тупую веру, не больше, а верить Ногин не хотел, знать же не получалось. В середине девяностых он поделился своим опытом с двумя старыми знакомыми, и рассказ произвёл на них большое впечатление. Вместе с одним из друзей к Ногину припёрся его молодой подголосок, нечто вроде ученика, он молча смеялся над рассказом, не потому, что каннибализм – это так смешно, а потому, что все они сильно накурились марокканского гашиша (этот «ученик» его и принёс), а под гашишом смеяться можно над чем угодно. Ногин внезапно увидел брючный ремень, который он зачем-то вынул из своих уличных джинсов, когда переодевался, и повесил отдельно от остальной одежды, на стуле. Он взял его, ловко накинул на шею незадачливому молодому идиоту и быстро и умело задушил его. Друзья восприняли это второе убийство, совершённое словно бы в доказательство предыдущего, спокойно, никого из них не вырвало, никто не побежал звонить в милицию. Втроём они отнесли труп в погреб и разошлись по комнатам спать. Поскольку в те времена спальных мест в этой загородной резиденции было по-прежнему мало, кто-то из них спал в одной кровати вдвоём, и даже под одним одеялом. Никто не боялся, что такая же участь, как случайному гостю, уготована и ему. Все как-то нутром ощущали, что они вместе – одна компания, банда, секта, крепкая семья. Утром труп обмыли и разделали. На этот раз Ногин не проводил на даче всё свободное время, поэтому он угостил друзей блюдами из самых вкусных частей, а большой остаток оказавшегося съедобным человека они ночью сожгли на костре. Все с интересом смотрели на разверстое тело с отрезанными кусками, тело, зиявшее большими искусственными дырами по бокам, сзади и в середине. Бывший человек выглядел как-то особенно иллюзорно, непривычно, не буднично, он всем своим видом создавал ощущение, будто юбка бытия завернулась, и под ней оказалось что-то непонятное, может быть, женские ноги, но только такие, какими их могли бы увидеть коты или собаки, или, скажем, малые дети, забравшиеся под материны юбки без всяких дурных намерений. В общем, что-то настоящее, а не посюстороннее. Это другое тоже не поддавалось познанию, но оно хотя бы стоило того, чтобы жить – потому что эти дыры в реальности были пробиты их собственными безумными руками, разорвавшими завесу и теперь жадно и живо шарящими не то в пустоте, не то в какой-то нечеловеческой жиже. Познать это всё равно было нельзя, но как это отличалось от бесконечных серых будней! До этого жизнь наполняли скотские пьянки и скользкая потная ебля (до прихода западной культуры казавшаяся особо изощрённой), теперь же она пропиталась неуловимым волшебством и текла под звуки потайной беззвучной музыки, слышать которую может только посвящённый. «Ученика» никто не хватился. Сам он был из глубинки, трижды отчислялся из разных институтов, жил тайком в общагах и на чужих квартирах. Кто-то вспоминал его, конечно, спрашивал: «А где этот, как его, ну ты понял, о ком я? Что-то давно о нём ничего не слышно», – но вскоре и эти вопросы прекратились. А приятель Ногина Барханов, которого все они немножко недолюбливали и за глаза называли «жидом бархатым», вскоре установил контакты с обеспеченными кругами. В обеспеченных кругах нашлось немало желающих отведать человечины (они не боялись убийств, многих из них пытались убить и не одного человека убили по их приказу) и чувствовать себя при этом не либертеном-гедонистом, членом «Общества друзей преступления» или просто одиноким прихотливым маньяком, а настоящим художником, мучающимся от невыразимой сложности и бессмысленности этого мира, привносящим в игрушечное бытие элементы хаоса. Ногин и Еловин, второй теневой «философ» сообщества, провели несколько бесед и пару предварительных ужинов, после чего получили изрядные суммы. Старую занюханную дачу снесли и на её месте воздвигли новый дворец. Теперь раз в месяц сюда съезжалась пресыщенная элита – на жертвоприношение и пиршество, под вино и философские беседы. Чтобы никого не испугать (многие гедонисты оказались очень чувствительными), жертву не показывали. Всех кормили, все смеялись, балагурили, иронично именовали друг друга «людоедами» и «кровопийцами», потом те, кто желал присутствовать, выходили во двор, где им демонстрировали наполовину съеденного, раздетого до внутренностей человека, у которого была спилена верхушка черепа и вынут мозг («Это в знак того, что наши познавательные способности минимальны», – объяснял Ногин, – «мы вполне могли бы и обойтись без этих серых напластований, это почти как лишний вес, жировые складки или бабский целлюлит»). Человеческие остатки беззвучно скалились, но никто не видел в них обвинения, Ногин готов был за это поручиться: раздетый человек всегда смешон и жалок, он не смеет обвинять; человек, раздетый до мышц и костей, смешон вдвойне. – «Мы отнимаем его у червей», – говорил Ногин друзьям и спонсорам. – «Вообразите себя могильным червём? Какова между нами разница, а? Ведь мы занимаемся общим делом». – Гости аплодировали и самый отличившийся в только что закончившейся застольной беседе подносил факел к пропитанным бензином дровам. Остатки человека вспыхивали, и гости грелись около костра, кто-то танцевал, кто-то жадно вглядывался в чернеющую плоть. Так было лет пять, от появления нового президента до его взлёта на второй срок, золотое время. Дальше начался постепенный декаданс и разложение внутреннего круга. Общество чётко делилось на «теоретиков», включавших философский костяк секты и небольшой, жиденький приток молодняка (эти, помимо погружения в теоретические штудии, работали на общество секретарями, бухгалтерами и телохранителями) и «практиков» – тех представителей элиты, чьими членскими взносами вся эта шатия жила. Внезапно начались проблемы в среде теоретиков, причём не среди непроверенной сомнительной молодёжи (она-то как раз была предана делу учителей до мозга костей), а среди тех, кто примазался к теоретикам в самом начале. Один из них, Берсенев, внезапно заявил на очередном собрании, что каждый поедаемый труп должен проходить предварительный классовый и идеологический боди-контроль. – «Мы не можем есть непонятных людей с улицы», – заявил он. – «Мы должны придирчиво проверять свои жертвы…» – Тут на него уже зашикали, и сердитый Ногин сказал, что этих людей нельзя считать жертвами, во всяком случае, это не наша вина, что они умерли, и жертвы они не наши. Берсенев тем не менее продолжил свою мысль. Гораздо полезнее знать, кого убиваешь и кого ешь. Мы должны, считал он, близко знать каждого такого бывшего человека, почувствовать сердцем его боли и тревоги, поэтому надо выбирать людей, отживших своё, одиноких или пропащих, наркоманов, бомжей, уличных подростков, общаться с ними, возможно, давать им некоторое время пожить здесь, угощать опиатами, если они в них нуждаются, приглашать наших немногочисленных членов женского пола, чтобы они с ними спали. Только после этого акт жертвоприношения будет по-настоящему чистым, ведь когда убиваешь чёрт знает кого, в этом даже удовольствия никакого нет, это всё равно, что занавеску порвать или замучить дворовую безымянную кошку, убивать и есть нужно хорошо знакомого человека, почти приятеля, наёмного работника, чьи интересы, убеждения и нужды тебе хорошо понятны. Ногина от всей этой речи перекосоёбило. Во-первых, он вспомнил своё ощущение от первого убийства, которое произошло только оттого, что вместо апельсинового варенья на полке лежал топор. Во-вторых, это было первое покушение на его единоличное лидерство в секте (сам Ногин об этом не сказал, но догадаться мне было не трудно). Вторым начал еретичествовать и смущать молодёжь некто Мотин, человек тёмной биографии, которого прибило к секте в период легализации вооружённого бизнеса и постепенного исчезновения коротко стриженых парней с бейсбольными битами и волынами в карманах спортивных курток. Мотин заявил, что он согласен: есть кого попало – это безответственное и некрасивое занятие. Однако резоны у него были другие. Мотин поддерживал Ногина в том, чтобы жить, играя по всем правилам, подчиняться всем условностям жизни и особенно её, как он выражался, понятиям. Однако что же это означает на практике, спрашивал Мотин, и тут его мысль делала пируэт и соприкасалась с выкладками Берсенева. Это означает, что необходимо осмысленное убийство, совершённое с каких-то позиций, мы должны не просто разверзать проходы во Вселенную через дырки в человеке, а разверзать их через дырки в конкретном человеке; человеке, который нам по каким-то причинам не нужен. Ненужными Мотин считал гастарбайтеров-среднеазиатов, гомосексуалистов и представителей кавказских диаспор, а также евреев, но про евреев он не говорил, потому что слышал как Барханова дразнят «бархатым жидом» и думал, что раз этот Барханов, не последний среди отцов-основателей человек, – еврей (он не знал, что Барханова дразнят так из-за фамилии, по национальности тот был русский), то не стоит с ним прежде времени ссориться. Кавказцев Мотин также, подумав, не включил, потому что у них были деньги, сила и не было страха, который был у среднеазиатов и гомосексуалов. Новая ересь ещё больше разобидела Ногина. Он дал резкую отповедь, обосновав необходимость гастарбайтеров экономическими причинами и подчеркнул, что подчинение правилам игры в жизнь вовсе не подразумевает отождествления с интересами какой-либо этнической, социальной или религиозной группы. Если Мотину так не угодили дворники и строители, приехавшие из средней Азии, пусть идёт в одну из многочисленных сект фашистов, там его примут с распростёртыми объятьями. Характерно, что о гомосексуалах он ничего не сказал. Мотин натянуто улыбнулся и что-то побурчал себе под нос. Всем казалось, что дело замяли, но через пару месяцев выяснилось – ничего подобного. Мотин продолжил агитацию среди молодняка, осторожно нащупывая психологические бреши и политические склонности, а через полгода он обработал кое-кого из спонсоров и увёл их за собой. Когда об этом узнали, Ногин рвал и метал. Он говорил, что этого хитрожопого иудушку надо было сразу же съесть, как только заметили, что он мутит молодых. Судя по всему, только Ногину разрешалось высказывать подобные мысли, да и то вскользь или в запале. Отцы-основатели понимали, что даже если шутя предполагать поедание друг друга, ни к чему хорошему это не приведёт. Между тем, Мотин стал известен как организатор ночных сафари на гастов. Двое уведённых спонсоров (как раз из тех, что боялись и брезговали смотреть на разверстый труп) вложились в машину, охотничье оружие и небольшой загородный домик, гораздо скромнее ногинского. После удачной охоты, которая проводилась с разной частотой в разные времена года, они приезжали к Мотину и скорее по привычке, чем из желания, ели убоину. К тому же Мотин придумал новую концептуальную идею: готовить из подстреленных блюда их национальной кухни. Впрочем, наверняка, это была туфта и лажа – кулинар он был слабенький, куда уж ему чужую кухню осилить, если он щи варил абы как. Но это бы всё ничего, эти две ереси учение пережило (Берсенев и не пытался никого совращать в своё чужебесие, он был шутом и карманным оппозиционером секты; для поддержания собственного достоинства он продолжал потявкивать на собраниях, но на него обращали внимания не больше, чем на голосистую болонку, давно ставшую членом семьи, к лаю которой все уже притерпелись, и теперь он режет слух только гостям). Появилось внезапно и неожиданно гораздо более страшное учение – так называемая колодновщина. Ересиарх, как часто бывает в таких случаях, фигурой был почти случайной. Он прибился к секте как-то боком, по приколу, возможно потому, что любил и умел беседовать с любого сорта людьми и в любом регистре. Это не значит, что в нём не было цельного ядра, ядро-то как раз было, но такое безалаберное и неуловимое, что просто диву даёшься. К концу девяностых Колоднов чего только не перепробовал. Он, в отличие от всех остальных зачинателей, человеком был необеспеченным, из народа. Он не был, как Ногин или Еловин, сыном заслуженных функционеров, проживающим доставшуюся даром отцовскую роскошь. И не был он, как Барханов, умелым журналистом и светским тусовщиком, сделавшим карьеру ещё при совдепе. Колоднов был из глубинки, той самой, где в девяностые останавливались заводы, исчезала работа и стреляли друг в друга молодые бандосы. В начале смутного переходного времени он, был, как это ни смешно, ментом, оперуполномоченным, а до этого успел побывать туристским инструктором, фотографом-любителем, заведующим клубом по художественной части, преподавателем трансцендентальной медитации и много кем ещё, вольным художником. После того, как он уволился из ментуры, судьба швыряла его из города в город, из профессии в профессию, не позволяя ни утонуть, ни выбраться из воды, он не достигал дна, но и не возносился на гребне волны. Деньги у него как-то не держались, а то немногое, что прикопилось, разлетелось во время дефолта девяноста восьмого. Как раз в это время он совершено случайно, через какую-то мутную ночь, проведённую в душном подмосковном кабаке, вышел на Барханова. Кто-то потом вспоминал, что Колоднов демонстративно отказался смотреть на горящий страшной масленичной бабой труп, – «я во время работы такие дыры в реальности по пять раз на дню видел», – но свидетельство это исходило от шута Берсенева, и хоть все его и поддержали, веры ему не было. Через некоторое время Колоднов вернулся в глубинку, и о нём все забыли. Возможно, и он забыл про агностиков-каннибалов. В конце концов, жизнь у него тоже была насыщенная. Но вот однажды судьба повернулась к бродяге лицом, а не задней частью тела, и Колоднов, как в опере или голливудском фильме, получил наследство: небольшую сумму денег и деревенский дом. Дом находился в дачной местности, километрах в десяти от ногинского дворца. Тем не менее, они встретились. Ногин испытал неловкость, он уже и думать забыл об этом провинциальном понаедыше, который и был-то в секте всего неделю, не больше, да мало ли, сколько их у него бывало на том этапе, когда ещё ни дворца не было, ни связей, ни денег. Кто-то просто ушёл, кто-то умер, кого-то убили. Колоднов возник перед Ногиным как немой укор, стыдное воспоминание о том дурацком десятилетии, когда сам Ногин три раза чуть не умер от наркоты, дважды его пиздили ногами неизвестные люди, выскочившие из машин (это, кстати, ещё больше уверило его в холодной абсурдности мира, – оба раза просто останавливалась машина, вылезали какие-то мужики, совершенно не похожие на бандосов, скорее – на обычных заводских работяг, толкали Ногина на снег и начинали без всяких обвинений или претензий пинать его ногами, во второй раз сломали два ребра), один раз в него чуть не попали из пистолета, когда обстреливали чужой автомобиль. Теперь Ногин был уверенный, крепко стоящий обеими ногами на земле человек, да и Колоднов стоял на земле, пусть и не так прочно, как Ногин, но всё же не шатаясь. Он не набивался в гости, но и не сторонился Ногина, когда они изредка пересекались в кабаках, на заправках, в супермаркетах, просто обменивались приветствиями. Сперва на общем собрании Ногин хотел предложить убрать Колоднова, съесть его и забыть, что когда-то был такой случайный член секты, но не решился. Это бы всколыхнуло общую память о том, что были ещё и другие такие захожие, и некоторые из них до сих пор бродят на свободе, живые и здоровые, кто-нибудь, возможно, вообще за границей, и что будет, если один из них возьмёт да напишет воспоминания или даже чёрный роман, действие которого будет происходить в мрачном Помосковье, никто бы не смог с точностью предположить, но то, что хорошего точно ничего не будет, отлично поняли бы все. Поэтому Ногин ничего не говорил о новом отдалённом соседе примерно год, но к тому времени его уже приметил Барханов и даже стареющий Еловин, который выбирался из резиденции раз в месяц, однажды, выехав за покупками, наткнулся на кого-то смутно знакомого, кого-то будто из прошлой тоталитарной жизни, когда они все читали не самиздатовских интеллектуалов, а – настоящих, западных, непереведённых. Этот полузнакомый тип стоял у стойки с рыбными консервами и придирчиво осматривал жестянки с килькой в томате. Еловин отчего-то испугался и поспешил вернуться домой, так и не купив себе сладостей, до которых был большой охотник. В этот вечер он выпил несколько стаканов пустого чая (сладкий чай он терпеть не мог, даже вприкуску, предпочитая чередовать простую крепкую горечь с тающим шоколадным покрытием конфет и мармеладной мякотью) и пошёл к Ногину, а у того уже как раз сидел Барханов. Все трое поняли друг друга с полуслова и решили, во избежание лишних тревог, пригласить Колоднова на очередной совет, как будто он и не отсутствовал прошедшие девять лет неизвестно где, в какой-то своей медвежьей перди. Колоднова известили, подкараулив на заправке. Тот охотно принял приглашение, и философское ядро секты и успокоилось (ну вот, судя по всему, совесть и прочая херня Колоднова не мучает) и заволновалось (а вдруг этот опасный нищеброд захочет их шантажировать? ведь если они пожалуются на него спонсорам, те могут очень серьёзно напрячься: что это за организация, которая не может разобраться с собственной безопасностью?! к тому же, изначально они, выходит, и не были такими секретными, как нам рассказывали, заходи-выходи, кто хочет, где мы вообще состоим, господа?!) одновременно. Однако на первый раз всё обошлось. Общество обсуждало административные вопросы, распределение поступивших финансов и расписание ближайшего мероприятия. Жертва была уже присмотрена в одном из тусовочных заповедников, с ней уже познакомился основной загонщик, тридцатилетний Владислав, и даже успел предложить ей то, в чём жертва сильнее всего нуждалась, – работу («Будешь элитной уборщицей», – говорил Владислав, – «у нас буржуи порядочные, не то, что эта шваль вокруг, чаевые оставляют будь здоров»), вот тут и начал подвякивать своё Берсенев. На него, как заведено, никто не обратил внимания. Только Колоднов. Он вежливо уклонился от участия в мероприятии, сказав, что есть дела, чтобы их отменить, нужно будет много чего-нибудь врать, причём виртуозно врать, а он этого не умеет, но попросил позвать на следующее совещание. Там он и рванул. Когда шло обычное обсуждение насущных проблем, он молчал, потом дали высказаться Берсеневу, а потом Колоднов вышел из тени, в которой просидел весь вечер, неторопливо потягивая вино, положил руки на стол, обвёл всех взглядом и сказал: «Да, трупы с вырезанными дырами приоткрывают вход куда-то туда, я не знаю, как это лучше назвать. Но что открывается в тот момент, когда жертве перерезают горло? Ровным счётом ничего. Зачем нам вообще рисковать чем-то и убивать, тратить силы и средства на такую ерунду? Ведь каждый день умирают люди, очень много молодых. Дайте мне двух парней покрепче, и я ограблю морг, вынесу подчистую всё, что можно съесть без ущерба для здоровья». – Все тогда опешили от этой речи. – «Или даже так», – продолжал Колоднов, словно бы и не замечая недоброго молчания, – «давайте купим кого-нибудь в окрестных моргах, пошлём туда мальчишек работать обмывальщиками… Обмывателями? В общем, теми, кто трупы моет. Так у нас всегда будет информация, кто поступил, когда. А потом положим всех, кого выкрадем в погреб, и это будет наш стратегический запас. Можно будет полгода новых не искать. Вот ты же говорил», – он повернулся к Ногину, – «что нужно спокойно играть в эти дурацкие игры? Разве ты не видишь, что тут козыри сами в руки идут?» – Ногин позеленел (он опять-таки об этом не сказал, но я это прямо увидел): уже второй раз его слова перетолковывались безответственными мерзавцами, которые хотят использовать их в своих интересах, сперва Мотин, теперь этот выродок. Он посмотрел на двоих молодых, допущенных на совещание (один из них был тот, кто через некоторое время увидит пленника, сжимающего член, который ещё налит кровью, но вот ещё пара секунд, и начнёт опадать, превращаясь в сосиску, не годящуюся в качестве символического фаллоса), и подумал – а не дать ли им приказ прямо сейчас накинуться на выродка, заломить руки и держать, пока Ногин будет перерезать ему горло ножом. Ногин поискал глазами нож, а ножа-то и не было. Были столовые и тупой хлебный нож, а нужен ведь кинжал или тесак! Конечно, есть на кухне, но идти на кухню, пока Колоднова будут держать… нет, это ниже его достоинства, я буду как придурок, понял Ногин. Над ним словно кто-то издевался: много лет назад, почти двадцать уже, топор сам нашёл его, а тут какой-то сраный нож спрятался! Тем не менее, из положения надо было как-то выходить. Еловин, его фактотум и ближайший наперсник (он был старше Ногина и даже в некотором роде являлся его учителем, но теперь их отношения поменялись; он подарил однажды Ногину очень дорогой топор ручной работы с металлической ручкой, инкрустированной драгоценными камнями; на нём было написано: «Ученику от превзойдённого учителя»), встрепенулся первым и задыхающимся голосом стал разбивать в пух и прах зарождающуюся на глазах новую ересь. Поедание трупов, пусть и в высшей степени свежих, но умерших не от твоей руки, лишает весь процесс удовольствия охоты, превращает его из благородной игры в какую-то бездарную возню с непонятными объектами. С таким же успехом можно вырезать ровные куски из деревьев или выбивать кирпичи из стен. Перед тем, как съесть, человека нужно выследить, поднять его с помощью загонщиков и вывести прямо к охотничьей засаде. Важно не вспугнуть его слишком неуверенными или наоборот, чересчур радужными перспективами (я вспомнил, как легко меня взяли на «поэзию», пообещав свести с модными кругами). – «То есть, я так понял, что главное – это всё-таки убийство?» – перебил Еловина Колоднов. Они ещё долго вежливо препирались, а молчавший весь вечер Ногин тихо зверел. Он пообещал себе, что в следующий раз обязательно захватит в залу топор или тесак. В следующий раз Колоднов не пришёл, и ещё два месяца его не было. Появился он внезапно и снова начал вести свои искушающие речи, а потом и вовсе стал приглашать к себе молодых – для бесед. Нет, он их не переманивал, просто вёл разговоры на разные темы, в том числе говорили и о поедании трупов не-убитых людей, но как-то вскользь, не выделяя. Больше всего Ногина злило, что Колоднов не звал молодых уйти от него и создать бригаду грабителей моргов. Если бы так, к нему быстро отправили бы асассинов, но ересиарх был хитрей, он затеял долгую выжидательную войну, отрыл себе окопные лежбища и ничего не делал, изредка, шутки ради, постреливая. Так длилось уже полгода. Резких действий никто не предпринимал. Ногин пыхтел, а Колоднов, передавали молодые, бывшие у него, ухмылялся. И вот тут ночью Ногину позвонил Макс, он на этот раз никого не выслеживал (его задачей обычно было – взять след жертвы, загонять он толком не умел и до меня этим не занимался), просто зашёл в случайные гости, и тут – такое! Они долго это обсуждали, строили предположения и опровергали их. Практичный Залягвин настаивал на том, что где-то произошла утечка, Ногин думал с ним для вида согласиться (сам он в утечку не верил, но хотел обвинить в ней Колоднова и наконец-то свалить его, это был бы самый удачный ход из возможных), Еловин меланхолично покачивал дряхлой головой и бессвязно бормотал, что надо бы проверить всю молодёжь, наверняка кто-то потерял осторожность и сболтнул, это всё из-за общения с Колодновым, он развращает наших мальчиков своими сократическими беседами. Ногин неодобрительно посматривал на своего бывшего гуру (тот выдавал его тайный замысел, не догадываясь о нём) и чертыхался. И вот наконец привезли меня, я сломал залягвинский ноутбук и заявил, что сам всё это придумал. Еловин считает, что я всё вру, Барханов вообще не в курсе, что происходит, Ногин же внезапно мне поверил (и даже решился плюнуть на расправу с Колодновым, хотя шанс выпал отличный). Мне вспомнился этот топор, говорит Роман Фёдорович, тот, с которого всё началось. Вспомнилось, как он там лежал и ждал своей жертвы, ты вот такой же, возник словно ниоткуда, никто из нас тебя не знал, а ты взял и появился. Ты, главное, не бойся, считай, что ты топор, топоры не боятся. Топору ничего не будет, он ведь не голова и не рука, вообще не человек, думай, что ты инструмент, что ты лежишь в одиночестве и ждёшь встречи с чьей-нибудь рукой. Мы это проверим, говорит Ногин, я нутром чую, что ты рубанёшь, знаешь, как кишками чуют? Вот я так думаю, что ты нам нужен.
Я даже не пытаюсь сопротивляться этому психу. А что, робко так говорю, мной можно делать, кроме отсечения частей тела, измельчения, располовинивания, если я топор? Ногин понимает, о чём я. Ты не бойся, впутывать тебя в наши человеческие мысли, подозрения, сведения счетов мы не будем. Кто сейчас проблемы топором решает? Это прошлый век. Ты у нас будешь как лакмусовая бумажка, или катализатор, или ингибитор, или как там это называется. А если выйдет, что я не топор? (Вот не надо этого говорить, но меня вечно чёрт за язык тянет). Если не топор, то домой поедешь. Был бы ты обычный человек, мы бы, может и съели тебя, но ты, если и не топор, то тебя так сделали или выглядишь так, как будто топор. А это уже немало. Подожди чуть-чуть. Думай: я – топор, я – топор, я – кусок прекрасного крепкого дерева с насаженной на него головой из первосортной стали.
22
Если избавить разглагольствования Ногина от излишней пафосности (похоже, она просто самозарождалась из напористости его голоса, из напряжённости речевых периодов и манерности его «спокойных» мест), если додумать за него ряд деталей, сочинить ему мотивацию некоторых поступков и посмотреть на получившееся целое нормальными, не-ногинскими глазами, то получится что-то вроде этого рассказа. Сам Ногин повествовал об этом совершенно иначе. В его тонких губах шипели, фыркали и плескались в слюне слова «экзистенциальный», «онтологический», «гносеология», «имманентность» и «примордиально» (один раз он даже произнёс «примордиальненько» и показал руками, что имеет в виду; Макс, наверное, понял – возможно, на бессознательном уровне; я, к счастью, нет).
Внушив мне мантру топора, Ногин иссяк, и в дело вступил Макс. Он вынул мой мобильник, предложил мне поездку в Ульяновск, не поленился проверить расписание поездов для достоверности и сам нажал кнопку вызова.
– Алло, – сказал я (стараясь не слушать мамин голос, чтобы не было так больно). – Мам, ты извини, что вчера так вышло… Да, да, я понимаю. Слушай, тут такое дело, я сейчас в Ульяновск еду, на недельку… К девушке в гости, к её деду и бабке. Да, конечно, уже заказаны. Собираемся сейчас. Я тебе ещё позвоню и напишу… Да, как раз к учёбе вернусь. Да. Ну да, само собой. Ну пока.
Вот так я и отправился в Ульяновск, судя по всему, к металлисту Саше (единственный знакомый мне ульяновец) и к его знакомым гопникам. А жить я буду у регининых пращуров, пока внучка оккупирует борюсиковскую хату. Хотя нет, там уже, скорее всего, предки вернулись, наверное, теперь они на съёмной хате регининой, вдвоём… Макс спрятал мобильник обратно, Ногин произнёс ещё несколько вежливых фраз, меня в очередной раз (в два голоса) заверили, что никто меня не будет ни убивать, ни есть, ни членовредительствовать, что если я окажусь не топором, а апельсиновым вареньем, меня просто отправят обратно. – «В конце концов, если вы начнёте болтать о том, что с вами произошло, вы довольно быстро превратитесь для нас в человека, а следовательно, станете съедобным, вот и всё», – подытожил Роман Фёдорович.
День я провёл «у себя» наверху. Меня покормили обедом, мне вернули рюкзак, не вынув из него паспорт и плеер (ещё там была книга Грэма Грина, прихваченная в понедельник, но её я не открывал, какие уж тут книги). Я бродил по коридору, старательно обходя кабинет Залягвина (хозяина на месте не было, но мне всё равно хотелось пройти мимо побыстрее), возвращался к себе, тоскливо смотрел в окно на угасающий день, потом в коридоре зажгли свет, и я тоже включил лампу. Пару раз зашёл в библиотеку на втором этаже и на второй раз внезапно обнаружил там ещё одного человека, старика. Я подумал, что это тот самый Еловин (Ногин упоминал о том, что он одряхлел, «и путь его земного странствия, его безуспешный, но оттого не перестающий быть героическим поиск хоть одной крупинки осмысленности в этих бесплодных землях близится к концу», – Ногин произнёс это с такой гримасой жалости и брезгливости , что стало ясно – в переводе на человеческий язык все вышепроизнесённые высокопарности означают, что Еловин – старый богемный пердун, из которого сыплется песок). Старик никак не отреагировал на моё появление. Он сидел в темноте, горел только торшер в углу. Казалось, что он спит или умер, но время от времени он шевелился: почёсывал колено, перекидывал ногу за ногу, осторожно, по-черепашьи поворачивал голову. Глаза его были открыты, но я так и не понял, куда он смотрит – во-первых, было темно, а во-вторых, на остром утином носу старика красовались квадратные тёмные очки. То, что старик смотрит, я обнаружил, когда забрёл в библиотеку второй раз, ближе к ужину. Торшер теперь был перенесён к столу, за которым старик сидел, откинувшись в кресле, очки его оказались жёлтыми, взгляд каким-то застывшим. Рядом с ним сидел один из молодых и читал старику какую-то книгу, причём он не просто читал её, а шептал – прямо в стариковское ухо, посмотрит в текст, потом пошепчет, потом опять – в книгу. При моём появлении гвардеец остановился и непонимающе посмотрел на меня, старик же совершенно не обратил внимания. Казалось, ему совершенно всё равно, шепчут ему или не шепчут. Может быть, он – слепой?
– Что вы тут делаете? – спросил гвардеец. Это был один из «сегодняшних», тот, что принёс мне завтрак. – Уходите отсюда.
Я ушёл. Тут ко мне сразу поднялся Макс, и я спросил его про старика.
– А, – Макс улыбнулся, – это дедушка. Не обращайте внимания. Ему лучше не мешать, так что вы туда не ходите, когда он там.
– Чей дедушка? Ваш или Ногина?
– Да нет, просто – дедушка. Он здесь как-то так незаметно завёлся, уж не помню когда… По-моему, ещё во времена старой дачи. Никто не знает, кто он, откуда. Просто есть и всё.
– А зачем молодые ему что-то шепчут?
– Знаете, – Макс поморщился, – просто не трогайте его и всё. Если всё будет так, как мы предполагаем, вы это вскоре узнаете, в свой черёд. А если нет, просто забудете о нём, как забудете о нас всех. Вы лучше готовьтесь к вечерней церемонии.
Вечером должно было состояться очередное совещание верхушки агностиков-каннибалов. Макс предупредил, что мне нужно будет присутствовать. Ничего больше от меня пока не требовалось – просто сидеть там и думать о своём одиночестве в этом мире. Топор, блядь…
Совещание должно было начаться в восемь, после небольшого ужина. На этот раз мне должны были накрыть в гостиной внизу. Пока я втыкал на дедушку, кто-то принёс в мою комнату выстиранную одежду. Переодевшись и зачем-то надев наушники и спрятав паспорт в задний карман джинсов, я спустился. Не думаю, что я всерьёз рассчитывал на побег. Я не знаю, где я, в какую сторону выбираться к трассе или железной дороге, денег у меня почти нет. Всё равно – с паспортом и плеером я чувствовал себя как-то увереннее.
В гостиной, где вчера, судя по всему, пировали спонсоры и VIP-члены общества (интересно, почему они назначили очередную сходку на понедельник?), сейчас был накрыт стол на пятерых: Ногина, Еловина, Макса, Залягвина и меня. Залягвин посмотрел на меня долгим, очень выразительным и не сулящим ничего хорошего взглядом.
Гвардейцы в беретках подали жареную рыбу с рисом. Мы быстро съели её, сохраняя молчание. За чаем завязалась беседа, и я смог поближе рассмотреть Еловина.
Он был далеко не так стар, как дедушка, очень подвижен и довольно живо улыбался. Седой, коротко остриженный, он напоминал писателя-деревенщика и даже одет был в какую-то непритязательную жилетку и старые выцветшие брюки (Ногин и Макс были в респектабельных костюмах, а Залягвин в моднявых джинсах и офисной рубашке). Вот только когда Еловин улыбался, чудилось что-то жуткое. После третьей улыбки я вспомнил, о ком она мне напоминает – примерно так же радушно, открыто, весело и уверенно улыбался с некоторых фотографий доктор Йозеф Менгеле. И глаза у него так же лучились. Говорил Еловин тихо и полузадушено, чуть-чуть стеная и приблеивая, но все к нему прислушивались.
– Мне кажется, это бесполезная затея, – постанывал он. – Он ходит к нам, мы с ним продолжаем бодаться, но ведь это ник чему не приводит… Он всё так же будет жить в затворничестве и переманивать мальчиков.
Двое мальчиков, посещавших суаре у ересиарха, вскоре присоединились к беседе и отчитались о последнем посещении.
– На этот раз о трупах ничего не было, – сказал один. – Он говорил с нами о кино.
– О старом и новом кино, – добавил второй.
– О кино? – переспросил Ногин. – Он – что, киноман?
– Ну не то что бы, – первый пожал плечами. – Он не любит новое кино. В основном он говорил о старом и новом Голливуде.
– Я не люблю никакого кино, – Ногин брезгливо отвернулся от них, не то «во ересь совращаемых», не то «агентов во вражеском центре», предоставив расспросы Максу. Еловин, видимо, тоже не любил кино, поскольку во время отчёта отмалчивался. Ересиарх не в первый раз радовал верхушку такими невинными беседами. Интересно, что мешает Ногину просто приказать кому-нибудь из юношей обвинить Колоднова в подстрекательстве, переманивании или ещё в каком-нибудь злоумышлении против секты. Неужели этот ебанат, убийца и людоед стремится сохранить чистые руки и выдержать честную игру до самого конца, чем бы вся эта катавасия ни закончилась? Нет, наверное, здесь что-то другое, такое же ебанатское, как и всё остальное…
К восьми подъехал Барханов, старый, грузный, с седыми неопрятными патлами до плеч и старческими пятнами на лице. Больше всего он напоминал Джозефа Гордон-Левитта, голливудского паренька с индейскими чертами лица (если бы тот дожил до шестидесяти и приобрёл многолетний стаж злоупотребления жирной пищей и алкоголем). Голос у Барханова был похож на ногинский – такой же резкий, напористый и при этом ещё и не манерный, что выгодно отличало его от Романа Фёдоровича (убийцы с манерными голосами – это что-то запредельно мерзкое, возможно, мне подсознательно думалось, что мужчина, говорящий с особыми интонациями, специальными растягиваниями гласных и специфическим произношением отдельных согласных звуков, должен иметь на это моральное право) и Еловина, у которого в полумёртвом голосе тоже проскальзывало что-то «эдакое». Он с порога объявил, что Колоднова уже невозможно терпеть и что с ним пора что-то делать, что все пассионарные агностики и все целеустремлённые каннибалы страны нам этого не простят, если мы с ним чего-нибудь не сделаем. Потом он заметил меня и удивлённо спросил:
– А это что за хрен с горы?
Макс что-то зашептал ему на ухо и Барханов, словно разочарованный объяснением, процедил:
– Ааа, э-этот, – и продолжил страстный, исполненный ненависти антиколодновский спич.
– Это человек, который тормозит всю нашу деятельность самим фактом своего существования! – ухал он. – Каждое мгновение, когда он там ест и пьёт у себя, от нас отворачиваются покровители. С каждым его словом им всё меньше хочется вкушать человеческое мясо. Каждый его жест, каждое движение, любое потягивание и изменение малейшей мышцы его тела, даже в те моменты, когда он спит в своей постели, каждая секунда его существования – это смерть, которая заглядывает к нам в окна и спрашивает: не заждались ли мы её?
Судя по тому, что никто не улыбался, не возмущался и вообще не выказывал никаких эмоций, я догадался, что это у Барханова такая манера изъясняться, драматизируя всё на свете.
– Он скоро будет здесь, – тускло заметил Ногин.
Барханова это не остановило.
– Это очень хорошо, что он будет здесь, потому что чем чаще он здесь будет бывать, тем лучше вы станете понимать, что ему здесь не место, что его вообще не должно быть. Тем лучше и вернее вы затвердите аморальность его существования, тем быстрее наполнится чаша терпения, чтобы опрокинуться и пролиться гневом и возмущением… Чем больше вы будете копить в себе праведную ненависть, тем сильнее она ударит, когда придёт час исполнения.
Так он трещал и трещал, ночное радио оккупантов или партизан, не важно, ни одного перерыва на рекламу. Главным были интонации и бесконечная вязь метафор, корявые библеизмы, беззаконно совокупившиеся с речами Геббельса и Левитана. Еловин вяло взблеивал в те редкие и недолгие промежутки, когда Барханов останавливался перевести дыхание. Мальчики унесли тарелки и принесли чай. Макс всё чаще посматривал на часы. Ногин закипал.
И вот наконец объект всеобщей ненависти появился. Первым его увидел гвардеец, сидевший на третьем этаже и следящий за дорогой. Он тут же позвонил Залягвину. Прибежали вышколенные гвардейцы, которые в мгновение ока убрали недопитый чай, принесли в гостиную вазы с фруктами и сластями и принялись готовить свежий. Колоднова ждали как важного чиновника, от которого зависят судьбы многих начинаний. Барханов приумолк, Еловин пересел в тень, а Ногин расчесал перед зеркалом волосы и бороду.
Колоднов оказался удивительно молодым. Его молодость не маскировала даже окладистая борода – светлая, густая, из какой-то словно бесцветной шерсти, не то седой, не то просто прозрачной, тающей под чужими взглядами; его выдавали глаза, водянистые, спрятанные и мальчишески лукавые. Ересиарх почти не улыбался, да ему и не надо было – глаза всё выдавали. Он мог серьёзно втирать людоедским философам свои критические поправки к их учению, а по глазам было видно, что он их всех в грош не ставит. – «Вы тут все долбоёбы, пидарасы и вшивые засранцы», – словно бы говорили его глаза.
Барханов, который в своё время привёл Колоднова в секту, сегодня говорил больше всех, будто отмаливая давний грех.
– Вы понимаете, что это ересь и мерзость, то, что вы предлагаете?! – наседал он на ересиарха и мерзавца. – Никогда никакие эксперименты с трупом не заменят того космоса, той звёздной бездны, которую мы покоряем, изымая из этого мира живого человека. «Есть человек, и это таки проблема», – говорил великий Сталин. Отсутствие человека – это не проблема, не загадка, не занавес между нами и сутью вещей…
– Сути вещей не существует, – поправил его Ногин. – Да и сами вещи…
– Плевать, что их не существует, – духарился старик. – Главное, что наличие между нами и космосом человека, живого, как будто бы настоящего, якобы такого же, как мы, – это настоящая стена, камень, кирпичная кладка. И мы должны почеловечно, покирпично её разобрать до основания, чтобы быть один на один с величайшей загадкой мироздания, приблизиться, скажем так, к Богу, который одним духом своим всё это создал. Дух Божий – живой, он пронизывает жизнь, он сам и есть – жизнь, а вы предлагаете нам ковыряться в отбросах жизни, в её экскрементах, в мёртвых людях. Вы умерщвляете тягу духа живых людей к жизни, вы убиваете это богодухновенное желание – вскрыть жизнь и узнать тайны её, ну хорошо, ну пусть не узнать, а хоть просто коснуться, рядышком постоять… Вы – духовный мертвец, философский труп… вот вы кто!
– Вы, очевидно, претендуете на то, чтобы быть самым живым? – саркастично спросил Колоднов. Голос у него был жёстче всех остальных, вместе взятых, хотя и звучал чуть приглушённо. – Если вы хотите проникнуть в тайны жизни, почему бы вам не пойти обычным путём?
– Это каким же? – удивлённо спросил Барханов.
– Ну, обычным. Завести себе бабу, родить детей, бросить её, уйти к другой… Как все люди живут. Впрочем, вы для этого пути, конечно, уже староваты, – он скептически оглядел собравшихся врагов.
Тут они взвыли все.
Вообще, как я заметил, общей философии, чего-то концептуального, что объединяло бы всех, у агностиков-каннибалов не было. Складывалось впечатление, что один экзальтированный эрудит-ебанат случайно ухайдакал подвернувшегося не в добрый час хиппаря и ему просто понравилось. Понравилось, что вот он взял и убил человека топором, понравилось есть его мясо (и чёрт его знает, что для него было важнее – вкус человечины или само то, что это, мать его за ногу, человечина, а не свинина, говядина, дичь), понравилось, что никто не нашёл и не наказал, понравилось похвастать этим друзьям. Поскольку Ногин был человеком утончённым, ему понадобилось найти какое-то обоснование своим противоестественным наклонностям, и он что-то такое слепил. Остальные подхватили его расползающиеся вкривь и вкось тезисы, перетолковали, добавили своего и теперь им постоянно приходилось валять ваньку перед молодыми (тех ведь наверняка принимали в серьёзную секту, а не в шарашкину контору, организованную тремя долбоёбами), чтобы не уронить достоинства. Ногин педантично поправлял всех, употреблявших глагол знать, потому что краеугольным камнем учения, причиной ногинского вельтшмерца была как раз неспособность сапиенсов познать что-либо наверняка своим посапывающим рацио. Барханов напирал на старинное русское богоискательство, пропущенное через тягу в выси и дали. Еловин городил что-то своё, стоеросовое и не принимаемое во внимание почти никем. Колоднов со своей невинной репликой об обычной человеческой жизни несомненно умудрился пнуть одной ногой в три жопы (а нагородить такой мерзкой и идиотской чепухи, как агностическо-каннибальская, можно только имея жопу на месте головы) сразу.
– Вы не понимаете великой разницы между жалкими индивидуальными жизнями и Жизнью в целом! – орал Барханов. – Предлагать мне сузить свои интересы до животного копошения…
– Вот оно, реакционное обывательское брюзжание, которое противится великой проблеме целостности, поиску всеединства и растворения пусть в иллюзорном, но всё-таки Абсолюте! – Ногин чеканил слова, как монеты, и даже в голосе его вместо привычной томности звучала медь.
– Это демонстрация полнейшего непонимания всей глубины и ужаса половых отношений, – подъелдыкивал Еловин. – К тому же вы не понимаете и малой доли того, что открывается при вглядывании в человеческую половую систему, в бездны, в чёрные дыры, откуда на нас смотрит тот хтонический мрак, из которого мы все появились…
Только Залягвин и Макс не обращали на Колоднова никакого внимания. Они спокойно пили чай, предоставив учителям самим разобраться с нанесённым оскорблением. Никакой ценности для них эта перепалка не представляла.
– Хорошо, вернёмся тогда к проблеме жизни, – продолжил Колоднов, когда все немного успокоились. – Раз уж мы рассматриваем Жизнь в целом, не ориентируясь на мелкое «животное копошение», как вы удачно выразились, то надо принять во внимание, что главной особенностью так называемой Жизни является растворённость в ней смерти, множества отдельных маленьких смертей, из которых вырастает новая жизнь. В принципе Жизнь, если абстрагироваться и попытаться представить её непознаваемую суть, предстаёт как непрерывный процесс самопоедания и самовосстановления. Отдельные кусочки умирают, и из них тут же вырастает что-то новое. Трупы способствуют произрастанию плодов и трав, плоды и травы способствуют росту скотов и человеков, которым суждено вновь и вновь превращаться в трупы, разве не так?
– Вы всё слишком утрируете и упрощаете, – проворчал Ногин.
– Таким образом, мы с равным успехом можем отталкиваться от любого члена этой бинарной оппозиции. Мы можем вглядываться в живое существо как в предтрупное создание, а можем смотреть на труп, как на источник жизни, силы и энергии.
Дальше он говорил о фиксации убийц на отождествлении с непознаваемой Жизнью (они как бы присваивают себе её право даровать смерть). Убийцы согласились с отдельными пунктами (да, в момент убийства происходит волшебное вхождение в мастерскую Жизни, сказал Барханов, мы словно присаживаемся на тот мифологический престол несуществующего Бога; нет, я ни на чём не фиксируюсь, наотрез отказался от предложенного описания Ногин, я просто делаю своё дело честными трудовыми руками, не осознавая себя и этот паскудный окружающий мир, различий между трупами и жизнью я не вижу; я не отождествляюсь с Жизнью, но я глубоко и пристально вглядываюсь в её разверстые ложесна, которые являются вместе с тем и её Ликом, бормотал Еловин), поругивали само противопоставление жизни и смерти (я так и не понял, что им не понравилось, учитывая их прежние рассуждения; наверное, то, что оно исходило от Колоднова) и начинали выказывать признаки усталости.
– Миша, – спросил внезапно Ногин, – а ты не хочешь вина?
– Я за рулём, – ответил Колоднов. – Впрочем, тут ехать недолго, почему бы и нет…
– Макс, – повернулся главканнибал к отрешённому помощнику, – принеси-ка нам вина.
– Роман Фёдорович, вчерашнее всё закончилось, а новых закупок мы ещё не делали. Разве только завтра…
Повисла неловкая пауза. – «Ой, как невежливо получилось», – сардонически ухмыльнулся Даня.
– Тогда давайте ещё чаю, – сказал Колоднов.
За чаем все молчали. Казалось, все по десятому-двадцатому разу играли безобразный скучный фарс, и всем резко, в одно мгновение опротивело в нём участвовать. Каждый занимался своим. Барханов о чём-то шептал Ногину, пока тот подпиливал ногти ножичком с перламутровой рукоятью, Еловин дремал, роняя голову и вздёргивая её, так что она всё ближе и ближе подлетала к скатерти (я подумал, что вот-вот она наконец приложится рылом о столешницу, но в очередном полёте голова плавно притормозила и мягко приземлилась, словно на подушку), Макс и Залягвин куда-то вышли. Колоднов молча хлебал чай с рафинадом вприкуску (это был первый человек, пьющий чай таким образом, которого я видел вживую; он будто вышел из старорежимной книги, созданной в те времена, когда все вокруг так делали).
– Слушай, а ты куришь? – он внезапно повернулся ко мне.
– Да, – я запнулся. Курил я много и непонятно зачем. Сегодня с утра я не выкурил ни одной сигареты, хотя раньше и представить не мог такого дня.
– Так пойдём покурим, – Колоднов толкнул меня локтем в бок. – Эй, Роман, у вас здесь не курят?
– Курят, – Ногин поморщился. – Но только в дни закланий, я не могу запретить гостям курить. Если ты хочешь…
– А что же ты так? Людей ешь, а запретить курить не можешь, – Колоднов ехидно улыбнулся, отчего Ногин ещё больше сморщил нос. – Тогда я с молодым на улицу пойду.
Он встал, и я нерешительно поднялся вслед за ним. Не оглядываясь на двух бодрствующих людоедов и одного прикемарившего на столе, а также стараясь не смотреть на двух гвардейцев. Колоднов уверенно прошёл через пышную прихожую (там стояло чучело медведя, из раскрытой пасти которого высовывалась человеческая кисть; я мог только надеяться, что она искусственная), вышел на крыльцо и пошёл к своей машине, старенькой потрёпанной девятке, самоуверенно стоящей сбоку между максовым саабом и чёрным лендровером (наверняка на него пересел из опеля Ногин). Уже у самой машины он развернулся и посмотрел на меня. Я застыл на пороге в домашних тапочках-бульдогах. С одной стороны, я как-то бессознательно боялся переступать порог дома, словно, сделай я это, в меня тут же начали бы стрелять, а с другой – сработал рефлекс не выходить из дома в домашних тапочках, даже на лестничную площадку я всегда шёл в уличной обуви.
– Эй, а ты чего там? – крикнул мне Колоднов. – Курить не будешь, что ли?
Я машинально сделал первый шаг, который дался мне очень тяжело. Словно бы я ступил на другую планету. Пошёл дальше. Как только я подошёл к машине, Колоднов открыл дверцу и стал рыться в бардачке.
– Где же они? – бормотал он. – Ведь тут где-то оставил, старый дурак…
Постепенно он залез в машину целиком, сел на водительское место и продолжил шарить в разных закутках.
– А ты чего стоишь? – он посмотрел на меня так, словно я только подошёл неизвестно откуда. Я не нашёлся с ответом. – А ну залезай, искать поможешь, – и резко схватил меня за руку, втаскивая в машину. Я больно ударился лбом о крышу.
– Ой, блядь, – поморщился и на автомате залез на сиденье рядом с Колодновым.
– Пристегнись давай, – посоветовал ересиарх. – С ремнём сигареты легче ищутся, – и нажал на газ. Машина медленно поехала к воротам. Колоднов посигналил. Гвардеец в беретке открыл ворота и пропустил нас. Я не знал, пригибаться ли мне или вести себя, как будто ничего не произошло. Мы выехали, подскакивая и переваливаясь, к более-менее ровной дороге и рванули. Колоднов одной рукой вынул из нагрудного кармана куртки пачку красного «Marlboro».
– Вот они где были, – сказал он. – В куртке моей. Ты прикинь?
Я вынул сигарету и закурил.
– Тьфу, чёрт, давно таких крепких не курил, – подавившись крепкой затяжкой, я закашлялся.
– А ты не затягивайся, – посоветовал мой новый похититель. – Сигареты не для школьных выебонов придумали, а для насыщения организма вредным никотином.
– Куда вы меня везёте? – спросил я его. Мимо с обеих сторон проносились ряды чёрно-белых елей, которые изредка расступались, чтобы открыть чёрную поляну. Время от времени попадались дома, некоторые гораздо хуже Ногинского, а некоторые вполне ему под стать.
– Куда-куда, в Зайцево, конечно, к себе, – Колоднов приоткрыл окно, чтобы стряхивать пепел, и я съёжился от холода.
– В Зайцево?
– Ну да, в Зайцево. Это недалеко. Здесь Шапошниково, а там будет Зайцево.
23
Шапошников и Зайцев были выпивохами, развратниками и дуэлянтами. Денег у них особо не было, поэтому пили, что придётся , а развратничали с собственными крепостными, которым можно было не платить. Шапошников любил девок в теле, а Зайцев – мужиков в бороде. Друг другу они приходились какой-то отдалённой роднёй по линии одной из прабабок, дружили и всегда стояли один за другого горой. Когда какой-то захудалый помещичек, их же круга, попробовал высмеять содомские склонности Сергея Игоревича Зайцева, на дуэль его вызвал Шапошников (сам Зайцев относился к своему греху со всей возможной серьёзностью, многажды пытался отмолить его и никогда не обижался на оскорбления, ибо и сам чувствовал себя неполноценным); он отстрелил насмешнику кончик носа, чтобы тот не совал его в чужую постель. Зато когда Александра Андреича Шапошникова уличили в неуплате давнего карточного долга, за друга вступился Зайцев. Его противник лишился большого и указательного пальцев, чтобы те не лезли считать деньги в чужой карман. Шли годы, а друзья всё не старели, всё так же портили девок и мужиков, умножая приплод и улучшая породу (Шапошников позволял себе, на правах друга детства, подпустить Зайцеву шпильку: мол, тот, в отличие от самого Шапошникова, растрачивает семя попусту, никаких новых душ бородатые мужики ему в брюхе не принесут). Всё закончилось во второй год по отмене крепостного права, которой друзья словно бы и не заметили. Шапошников впервые решил жениться, причём по любви (раньше он неоднократно пытался приволокнуться за дочками из хороших семейств, за которыми давали деревни и деньги, но все отцы семейств, зная его привычки, вежливо отказывали) – на мещанке, осиротевшей купеческой дочери Соне. Естественно, они спали до того как стареющий ловелас сделал предложение. Вот тут она его и огорошила. Всяко бы хорошо было, сказала она, только мне надо подумать, кого из вас предпочесть. Из кого это из нас, удивился Шапошников. Из тебя и твоего друга, ответила Соня. Шапошников ходил к своей зазнобе по вторникам и четвергам, а по понедельникам, средам и пятницам её навещал Зайцев, который впервые полюбил особу противоположного пола и был как на седьмом небе (счастье это чуть портил тот факт, что даже в отношениях с женщиной он предпочитал «узкую тернистую тропку широкой удобной дороге», как отметил в частном письме). Так Шапошников и Зайцев впервые вышли к барьеру лучший друг против лучшего друга. Выйдя, они дождались секундантского сигнала, затем развернулись и перетаптывались на месте минут десять, пока Шапошников наконец не выстрелил. Стрелял он себе в висок. Через пару минут, которые Зайцев провёл возле трупа, выстрелил и он. Вот и всё, что осталось от хозяев «деревни Шапошникова» и «деревни Зайцева» (так они были отмечены на карте конца электрического века). Соня, говорит легенда, утопилась в лесном озере. Соня, говорят сухие факты, жила в своём доме ещё шесть лет, торговала галантереей, разорилась и уехала в неизвестную Америку, так что всё равно считай что пропала.
Всё это мне рассказала безумная (наверное, она всё-таки была в своём уме, но немножко не от мира сего) краеведша (Колоднов называл её краеведицей) Александра Алсуфьева, которая зашла к нам в гости на третий день моего пребывания в колодновских апартаментах. Алсуфьева знала много таких «романтических историй», выуженных из газет, дневников, пасквилей и письменных вызовов на дуэль. Она была большая, грузная, с очень специфическим пронзительным голосом. Колоднов предупредил, чтобы я ни в коем случае не говорил ей, откуда я взялся. Она ничего не знала об агностиках-каннибалах. Выдумать их из больной головы, как я, к своему счастью, не могла.
История не произвела на меня большого впечатления. Раньше бы, наверное, позабавила, но теперь меня волновали совершенно другие вещи. Сразу, как мы приехали, миновав заправку, сельский ночной ларёк, забитый сигаретами и бухлом и проехав ещё пару километров по шоссе, Колоднов пристегнул меня наручниками к кровати.
– Ты, главное, резких движений не делай, – предупредил он меня.
– Каких ещё движений, блядь?! Я запястьем пошевелить не могу…
– Вот и не шевели. Просто лежи и не волнуйся, – посоветовал Колоднов. – Ссать хочешь?
– Да, – я поморщился от боли.
– Ну, иди поссы, – и он расковал меня, а потом опять приковал. И заснул. Я тоже заснул. А что ещё делать, когда тебя к кровати приковали?
Утром Колоднов объяснил мне смысл моего нового умыкания.
– Понимаешь, – он задумчиво посмотрел куда-то в сторону. – Ты им зачем-то нужен, мне парень один вчера рассказал, из ихних. Вот я и взял тебя, так, на всякий случай. Возможно, получится тебя обменять.
– На что ещё обменять?
– Ну, на какие-нибудь верные гарантии… Возможно, они вообще меня оставят в покое…
– Они мне говорили, что это вы их в покое не оставляете, – я потёр руку. Запястье ныло и зудело.
– Я? – Колоднов усмехнулся. – Да в гробу я этих уродов ебал. А что мне оставалось делать, когда они пригласили меня на своё идиотское совещание?
– Вы могли бы не ходить на него, отказаться…
– Э, нет, милый мой. Тогда бы меня быстренько убрали, сказали бы, что я предатель идеи или что-нибудь ещё в таком же духе.
– Вообще-то, они весь год, как вы сюда переехали, думали, что с вами делать и не решались убрать как раз по той причине, что это с их идеями плохо связывается. Боялись начать поедать своих.
– Ну, милый мой, ты их просто не знаешь. С ними надо только так, брать за горло, но не слишком сильно давить, чтобы руку сразу не отхватили. Вообще, что-то есть идеальное в такой ситуации, когда твоя рука на их горле и ихняя на твоём. Вот так и стоим и ничего не делаем…
– А почему вы просто не уехали? Почему бы вам не продать тут всё и не уехать?
– Лень, – Колоднов так добродушно улыбнулся, что я не нашёлся с ответом. – Вечная русская лень…
Ересиарх брезгливо выкинул мои бульдоги, изгвазданные в грязи, и выдал новые тапки, вернее, старые – потёртые, замуслившиеся, пропитанные потом чужих ног и с дырками для больших пальцев, – определил мне посуду (точнее, показал свои тарелку, блюдо и чашку, и сказал: «Вот это – мои. Не трогать! Понял? Не трогать!!!»), мы позавтракали, потом я погнал его в районный центр за контейнером для линз, сославшись на Женевскую конвенцию; он, ворчливо матюкаясь и брюзжа, приковал меня и я ещё час провёл в тоскливой полуподвижности, жалостливо свесив окольцованную конечность и разглядывая свободную длань (не узоры же на стенах рассматривать), потом Колоднов меня снова расковал и засел за телевизор, попросив не отвлекать его и не сваливать.
– Ты ведь не свалишь, а? – он испытующе смотрел на меня в упор. Вопрос был задан умело. Ответить: «Нет, я обязательно свалю», – я не мог. Сказать, что, конечно же, я буду тише воды ниже травы дожидаться своей участи в одиночестве и даже помыслить о побеге не вздумаю, я тоже не мог.
– Что мне на это ответить? – спросил я.
– Да ничего не надо отвечать. Это риторический вопрос был. Просто сиди пока тут и никуда не девайся. Ты ведь куда-то на неделю уехал, разве не так? Представь, что будет, если ты сейчас домой завалишься, все эти спросы, расспросы, объяснения, почему вернулся, почему вообще уезжал… К тому же они опять за тебя возьмутся, у них сил для этого достаточно, заодно меня прижучат, почему спиздил пацана да упустил… Тебе это надо?
Похоже, он был прав.
В итоге, большую часть среды мы провели в разных комнатах. Я – на кухне, он – в комнате у телевизора. Изредка ересиарх переключался на интернет («Ты туда не лезь», – сказал он мне, – «там только сплошной срач всех со всеми и педофилия, нечего там тебе делать»). Первое время я его несколько дичился. Колоднов казался мне таким же как те, ну может, чуть более вменяемым. Однако мало-помалу мы начали общаться (сперва – на нейтральной территории, непосредственно за кухонным столом, – и в нейтральное, доброе время – во время вкушения пищи и заваривания чая; если общение захватывало его, он оставался или я шёл вслед за ним в комнату и телевизору тогда подрезали язычок пультом, в итоге звучали мы, а он лишь бестолково мерцал, отбрасывая цветные тени на комнату) и сразу же заспорили, тут я и убедился, что он совсем другой. Нет, он тоже, конечно, был фриком, однако совершенно безобидным. Пожалуй, я впервые в жизни общался со старорежимным русским интеллигентом, не представителем среднего класса и не с высоколобым интеллектуалом, специалистом в своей узкой области, а с полуюродивым человеком из народа, готовым спорить на любые темы (иногда поочерёдно отстаивая совершенно полярные точки зрения). Кстати, сам Колоднов считал, что генезис русской интеллигенции восходит к крестьянским бунтам, начавшимся сразу после объединения страны и реформы православия. Первыми интеллигентами были раскольники, готовые сжечь себя за два перста, и хлысты, предвосхитившие рейверский танцевальный экстаз, а заодно обожествившие друг друга.
– Ну, обожествление себя кто только не практиковал. Это и у Кроули есть, – заметил я ему. – Каждый мужчина и каждая женщина – это звезда.
– Это всё не то, – возмущённо замахал руками Колоднов. – Это всё от ума придумано. Все эти ваши Кроули и Лавеи, они на самом деле не протестовали, они душой не чувствовали этот окружающий гнёт. К тому же они что, они ведь обычные умники, начитавшиеся в университетах древних текстов и решившие с ними поиграться, больше ничего. Это от головы всё: в церковь скучно ходить, помолюсь-ка я лучше Сатане, так веселее.
– Кроули и Лавей как раз из народа были, между прочим. И к Сатане они пришли разными путями, далеко не от скуки. К тому же к Сатане только Лавей пришёл, Кроули пришёл к Кроули.
– Вот тут как раз большой вопрос возникает, кто к кому пришёл. И не больше ли тот Кроули, к которому пришёл Кроули, похож на Сатану, чем Сатана Лавея, – здесь Колоднов в очередной раз переключил разговор, и мы говорили уже о Сатане.
Все наши разговоры были легковесными – парящими, перепархивающими с цветка на цветок. Мы по очереди меняли направление, уцепившись за новые фамилии и факты, всплывшие на поверхность. Впрочем, иногда случались контрапункты, которые управляли разговором, настойчиво появляясь то тут, то там, возвращая подзагулявших собеседников к себе. Однажды мы долго говорили об агностиках-каннибалах, делились мнением о сумасшествии Ногина и об отмороженности его молодых последователей (я удивлялся тому, как они могут видеть в Ногине вождя и гуру, ведь он совершенно непоследователен, да и какой-то чёткой доктрины у секты нет; у них нет даже хотя бы общих представлений). Контрапунктом этого разговора был непосредственно акт поедания человеческого мяса. Сперва я рассказал о своих прежних рассуждениях на эту тему и о том, как меня стошнило при столкновении с физическим, а не умственным каннибализмом.
– Вот-вот, – Колоднов наставительно помахал пальцем, – это потому, что ты – съедобный человек. Человек поедаемый, а не поедающий.
– А они чем-то отличаются?
– Нет, не отличаются. Каждый может быть пожран ближним или дальним своим, в этом смысле все потенциально едомы. Просто есть люди со стержнем, которые будут дольше сопротивляться попыткам съесть их, люди-хищники, они сами кого хочешь съедят, поэтому они даже от более сильного хищника обороняются, бегут от него изо всех сил, на самое высокое дерево залазят… Видел, как львы леопардов на дерево загоняют и вымаривают, пока те не свалятся, или львы не уйдут? Вот и эти так же борются, из последних сил. А есть люди-травояды, которых можно спокойно вести на бойню, они и не скажут ничего, только пригорюнятся.
– Ну, – я поглубже откинулся в старое кресло с продранной обивкой. – Это какой-то ёбаный социал-дарвинизм получается. Которым кто только не увлекался, от нацистов и Циолковского до того же дурака Лавея. И по-моему никому из этих ребят увлечение на пользу не пошло…
– Милый мой, это не социал-дарвинизм, это обычная правда жизни, – Колоднов иронично скривился. – Всё ваше поколение такое – сборище съедобных людей, мясо для фарша. Вас можно в любой загон вести, за любым лидером… Просто разные бараны выбирают разных волков, кому на чьих зубах хрустеть приятней. Вы все под разных Джаггернаутов бросаетесь, кто-то под красные колёса, кто-то под коричневые, наиболее продвинутые, – он издевательски протянул это слово, манерно удлиняя гласные, – под либеральные, радикально-экологические, толерантные колёса. Самые бесстыдные, и таких, конечно, больше всех, идут за тем, кто даёт больше денег, все эти проправительственные молодые гандоны. А нормальное человеческое большинство просто слепо шарахается, пытаясь выжить, не замечая всего того пиздеца, что вокруг, на всё закрывая глаза и прячась в пятничный алкоголь и компьютерные игры. Вас всех просто бери и ешь с маслом, всех до одного.
– Так вы точно такие же. И были и есть. Просто вместо красного и коричневого у вас были западническое и патриотическое подполье. А вместо компьютерных игр – турпоходы и дурацкие песни под гитару. Ну не только дурацкие, конечно. Галич и Высоцкий и сейчас могут дать просраться многим, но так ведь и компьютерные игры бывают разные. Есть говно, есть и шедевры, – по-моему, дух перманентного противостояния всех всем, владевший Колодновым, добрался и до меня. Раньше я и представить не мог, что буду защищать компьютерные игры и апеллировать к Высоцкому с Галичем (не то что бы я их не любил, я просто привык их не замечать, как что-то из параллельного мира или, скорее, нечто из опыта пограничного, но совершенно чуждого мне этноса).
Ответа на эту реплику я в тот день не дождался. Колоднов не стал менять тему и уходить в сторону, не стал он и опровергать мои выкладки. Он допил чай и молча пошёл смотреть телевизор. Или сидеть в интернете, наедине с многоходовыми ссорами и педофилией.
Вечером я поинтересовался, не остоебенивает ли ему вкушать продукцию отечественных телеканалов вкупе с отечественными рекламщиками. Нет, ему не остоебенивало.
В четверг (или, может быть, в пятницу (а, может, что и в субботу (не исключено также, что в воскресенье (сомневаюсь, что это был понедельник, но небольшие шансы есть (этот день никак не мог быть вторником, разве что воспринимать сутки по-еврейски, от заката до заката))))) мы незаметно вернулись к этому разговору. Колоднов сказал, что всё было не так. В турпоходах преодолевались леса и покорялись горы, реки податливо несли лодки к морю, заботливо обхватив их течением за днище, ночи весело трещали разговорами и пахли вином и мясом. Всё было очень живо, природа буквально обступала тесным кругом отважных не перво-, но всё же – проходцев, проникающих в её нутро. Не было никакой политики, были дружелюбные анекдоты о своих и чужих вождях (они вовсе не были оскорбительными, всего лишь обычное наплевательство – добрая русская народная традиция, они жили в своём мире, мы – в своём); было кино чужих держав и своих (намертво прикованных, союзных, и братских, варшавско-договорных) – тоже было кино; был секс, перерастающий в семью или в материнское одиночество с отцовскими алиментами; были веселие и радость пред лицем Господним, а политики не было.
– Потому что вас тоже ели. Вам не хотелось, чтобы вас ели в комсомоле и парторганизациях, и вам не улыбалось диссидентствовать, это ж ведь пиздюлей вечно получать… Хотя в ваши времена были даже не пиздюли, а лагеря!.. Поэтому вас ели в турпоходах. Точнее, вы предпочли, чтобы от вас все отвязались, и вы сами себя поедали этими бесконечными летне-осенними странствиями.
В общем, по этому поводу мы ни к какому соглашению не пришли. Зато я узнал, что Колоднов человечьего мяса в день своего принятия в секту так и не попробовал.
– Это было бы интересно, наверное, – задумчиво сказал он, поморщившись от сигаретного дыма, – так же, как…
– Слушай, а вот почему в комнате, где несколько, двое и больше, курят, чужой дым всегда очень неприятен, а свой, даже если в глаза попадает, воспринимается спокойно так, без напрягов? – я его перебил.
Нет, я не хотел менять тему, просто само так высказалось. Колоднов обиделся и хотел уйти обратно к телевизору, но всё-таки задержался и вскоре вернулся к мыслям, которые я сбил.
– Это как педерастия, наверное. Интересно так иногда прикинуть: а вот не трахнуть ли какого-нибудь паренька, с бабами-то я по-всякому пробовал, а тут что-то новое, неожиданное. Подумаешь так, но дальше мыслей ничего не идёт… То же и с людоедством. Тоже ведь новый опыт, что-то запредельное, но когда оно совсем рядом, вот бери, как-то не хочется…
В этом сравнении я почувствовал завуалированную не то насмешку, не то угрозу, но смолчал. И не испугался, и не обиделся. За последние дни я как-то разучился испытывать сильные эмоции по мелочам.
– А как же вам это с рук сошло?
– Да я взял тарелку, что-то там пожевал… Там же ещё старое здание было, не было всей этой роскоши, и мы ужинали человеком на открытом воздухе, кто-то вино пил, все ходили туда-сюда… Ну я взял и незаметно тарелку в кусты опорожнил.
– Ничего себе… То есть они даже не смотрели за тем, как новый адепт вкушает первое причастие? Это ведь такой важный момент должен быть, как конфирмация у католиков или бар-мицва…
– Да они все пьяные были в жопу. Ну, может, не в жопу, но в пол-жопы – это уж наверняка. Я и сам неплохо тогда с ними выпил. Ногин что-то базлал, смеялся и всем что-то рассказывал, потом они труп жечь пошли, я тоже не стал смотреть. Доволен был, точно помню. Как ребёнок, который выкинул манную кашу в мусоропровод и дёргает маму за юбку – дай конфет…
О съедобности людей мы больше не говорили. В итоге мне стало казаться, что мы оба чувствуем правоту друг друга и даже можем нащупать то место, где его правда накладывается на мою, можем схватить эту область взаимного пересечения правд и озвучить общее, устроившее бы обоих, мнение, но то ли не хотим этого делать, то ли просто ещё не время.
– Слышь, Колоднов, – я постучал по косяку двери, отвлекая его от ситкома про школьников и школьниц (он его очень любил, потому что считал себя знатоком школьных проблем, а в ситкоме происходила какая-то хуйня: никто не принимал наркотиков, никто не совращал одноклассниц, вообще не происходило почти ничего интересного, чуть ли не главной интригой было подбивание клиньев завучихой под физрука втайне от мужа – учителя истории, – «Как ты вообще смотришь эту хренотень?!» – вознегодовал я, когда посмотрел с ним одну серию, – «Во-первых, я смотрю строго через три серии, это добавляет в восприятие неожиданность», – ответствовал Колоднов, – «Во-вторых, это говно как раз и интересно своим жизненеподобием. То, как они говорят, то, чем они маются на переменах и после уроков – это общая социальная иллюзия, которой пытается жить население. В этой школе нет межэтнических конфликтов, в ней нет размежевания территорий по признаку пола, здесь не найти авторитарных лидеров с прихлебателями, которые подмяли под себя остальных. Точнее, они здесь есть, но в очень разбавленном, обезжиренном и обескровленном варианте. И вот тут самый смак. Все понимают, о чём это, догадываются, что что-то такое происходит с их собственными детьми, братьями, сёстрами, кузенами, внуками, кем угодно. Но предпочитают думать, что это всё так же мягко, легонько и слабенько, как здесь показано. Это как если бы сняли сериал про то, как Ногин людей ест, охотится на них, выслеживает, подманивает, но при этом жертвы идут под нож с прибаутками, хохмочками, не боясь. И он бы ел их так же – задорно, с аппетитом, мол, ничего не могу с собой поделать, такой уж я агностик-каннибал. Тогда всё съедобное население России смотрело бы на это дело, все жопой чуяли бы, что здесь – про серьёзное, но предпочитали бы думать, что оно – вот так, как на экране. Если накроет – не беда»). – Что делать-то будем? Скучно.
24
Вот это уже точно был четверг, это я помню. В среду, от утреннего отковывания от кровати до вечернего чая, когда я пришёл в себя, освоился с мои новым временным пристанищем и начал первое толковище с Колодновым, я почти ничего не делал, и даже старался не думать о своих проблемах, о том, что мне предпринять (считать ли мой уезд из Шапошникова побегом или похищением? скорее выходило так, что Колоднов меня похитил, как лесной царь сына запоздавшего путника (вот только прекрасных дочерей у царя не было и не предвиделось), но чем это посчитают каннибалы, учитывая их склонность к извращённой логике?) и чем вся эта поебень закончится. Кажется, я весь день курил сигареты, пил чай и ел яблоки (на обед Колоднов сварил пельмени, но я не мог их есть – не потому, что я хитровыебанный гурман и кулинарный сноб, а потому, что они напомнили мне уши; а если ободрать с пельменя тесто, то обнажившийся комок мяса был похож на фалангу покромсанного человеческого пальца). Вечером мы незаметно разговорились, и я оттаял. Мы проспорили до четырёх с половиной ночи (сколько ещё дней до того времени, когда в этот час начнёт светать, и доживу ли я до этого?) и разошлись спать.
В четверг мы снова много спорили, препирались, подкалывали друг друга (иногда переходя в глумление). Колоднов отмахивался, пытался уйти в сериал, но я упорно вытягивал его назад. Потому что и правда – скучно было. Мне хотелось домой, и я пытался углядеть, где Колоднов прячет деньги. Кроме того, я хотел определить наше местонахождение (никогда я не слышал про этих шапошниковых и зайцевых, да и мало ли их на километры от Москвы?), но в интернет Колоднов не пускал, всё время придумывая иезуитские отговорки.
– Что делать? – он задумчиво пожал плечами. – Ну можно в гости к кому-нибудь съездить, к друзьям моим…
– Какие ещё друзья? Мне домой надо.
– Да не надо тебе домой. Что там сейчас делать. Считай, что ты насыщенно и интересно проводишь зимние каникулы. Вот есть же нормальная молодёжь, которая интересным чем-нибудь занимается в свободное время… Бобслей там, виндсёрфинг, сноубординг ещё этот ёбаный… Считай, что ты – экстремал. Такой же, как эти, только социальный: не с парашютом прыгаешь, а погружаешься в бездны человеческого безумия.
– Я тогда не социальный экстремал, а онтологический. Или экзистенциальный. И я им быть ни хуя не хочу! Я вообще экстрим ненавижу, ни спортивный, ни социальный, ни какой ещё другой!
– Да ладно?! А кто феназепам жрал? И траву курил?
(Про феназепам я рассказывал ему вчера, да. Говорил, что хотел загнуться к ебеням, но видно, на самом деле не хотел как следует. Потому что сейчас, когда смерть караулит в соседнем посёлке, мне очень хочется жить, нестерпимо хочется засыпать каждую ночь, думая о бабах и просыпаться с утренним стояком, хочется снова ходить, есть, пить чай и вино, курить сигареты и болтать. Дальше разговор переметнулся на наркотики, и мы болтали о траве. Колоднов считал, что разрешать траву не надо, потому что после травы люди садятся на опиуху, а я отвечал, что тогда и алкоголь надо весь запретить, после него опиуха тоже находит себе верных рабов. Хмуро дербалызнув стопарь, Колоднов начал бурчать о национальных традициях и разговор забуксовал, пришлось менять тему. Судя по всему, он был из тех русских психоделических алканавтов, которых никакими доводами не убедишь в равноценности и равновредности этих увеселяющих веществ).
– Это всё хрень была собачья! Я верил в то, что не загнусь, точнее, организм мой в это верил. Или даже знал это. Что ничего от феназепама не будет. Это как дети, которые вены на руках поперёк режут – всё равно много крови не вытечет, а потом придёт мама и врача вызовет.
– Да успокойся ты, слышь! – Колоднов показал на диван – садись, мол, не волнуйся так. – А вот ответь-ка мне: а ты про меня подумал вообще?
– Про тебя?
– Ну да, про меня, – Колоднов внимательно посмотрел мне в глаза. – Что со мной будет? Вот представь: ну, я тебя сейчас отпускаю, показываю даже дорогу до шоссе или до электрички, так? Ты едешь домой. Говоришь там, что хочешь, да хоть что в голову первым придумается… все говоришь – родителям, друзьям, знакомым. Потом они приезжают ко мне…
– Кто – они?
– Ну, Ногин и прочие. Точнее, их ребята. А хоть бы и те же самые, что ко мне ходят. Приезжают ко мне. И что мне им говорить? Меня же тут же положат. Или не тут же, устроят какое-нибудь тайное судилище, местечковый фемгерихт, факелы там, колпаки, хуё-моё… И тогда уж точно положат. Кроме того, ты думаешь, они от тебя отъебутся вот просто так, за здорово живёшь?
– Я из города уеду.
– Куда?
– Куда-нибудь. В другой город.
– А родители?
– А что родители?
– Ну ты сам подумай. Вот ты съебал себе в какой-нибудь Зажопинск или Верний Мухосранск. Но ведь ты не забывай, что ты этим чертям зачем-то да нужен! Куда они первым делом пойдут?
– Они не знают, где я живу.
– Ой ли?
– У меня паспорт с собой.
– И чего? Ты думаешь, они с него копию не сняли?
– Ну, – я запнулся. Паспорт в рюкзаке лежал. Пока я был без сознания, можно было десять раз скопировать его и положить обратно. То-то они все – и Даня, и Ногин и прочие, – не интересовались моим именем, когда я представлялся Джоном и Джимом. Ногин мог и в самом деле не интересоваться, он ведь идеологический ебанат, а вот Даня или Макс… они ведь управленцы, ушлые парни, знающие своё дело. Макс умело похищает людей, Даня умело допрашивает…
– Ну? Чего замолчал? – Колоднов хитро прищурился. – А теперь давай дальше: вот нету тебя, ну, установили они слежку за твоим домом. Сидят, следят – тебя всё нет. Что они сделают, как ты думаешь?
– Отъебутся? – я сам в это не верил.
– Это если бы они нормальные люди были. Тогда – да, может, и отъебались бы. А поскольку они – это они, то всё будет не так. Скорее всего, они проверят по своим каналам, не подавали ли твои родители во всесоюзный розыск. И если не подавали, они решат, что твоим родителям известно твоё обиталище. И они попробуют поговорить с ними. Догадайся, каким образом они пригласят твоего папу, или твою маму или сестру к себе в гости. Догадайся также, каким будет разговор с ними. И напоследок догадайся, что их ждёт после разговора. Тебя-то они по каким-то причинам считают несъедобным человеком, почему, я не знаю, хотя я вообще, если честно, не догоняю их причинно-следственных связей, они у них какие-то особые… для несъедобных.
Я всё понял.
– Хуй с ним. Когда ты поговоришь о моём обмене на гарантии или чего тебе там нужно?
– Подождать надо, поторговаться, – Колоднов улыбнулся. – Не спеши так.
– Когда?
– Да ладно, ладно, не волнуйся. Я уже позвонил одному пареньку, он Ногину передаст, что ты у меня в плену, держу я тебя в погребе, прикованного за руки, за ноги к стене… Кстати, я попросил его и остальных не захаживать пока, но если что, если Ногин их пошлёт, инсценируем? – он лукаво подмигнул.
– Да пошёл ты…
– Не принимай так близко к сердцу! В общем, я предложу им… Ну, ещё точно не знаю, что, но что-нибудь предложу. Установить над тобой шефство или что-нибудь в этом роде. Может быть, оформим это как «взятие тебя на поруки», – Колоднов явно увязал в ностальгии по полит-юридическим штампам своего детства. – До понедельника или вторника что-нибудь сообразим. Во-первых, они обязательно со мной тем или иным образом свяжутся, и мы вместе обсудим изменения в моём статусе и положении. Возможно, это будет двойной титул Умыкателя Несъедобного Отрока и Спасителя Несъедобного его же в одном лице. Там по ходу базара станет ясно, ты же видел, они могут гнуться в любые стороны, надо только нужный угол выбрать. Во-вторых, я буду чётко лоббировать твои интересы. То есть, чтобы тебя отпустили и связь с тобой держали по минимуму. Я же не знаю, что им от тебя надо, что они о тебе вообразили…
– Я и сам этого не знаю.
– Да это понятно. Чтобы знать это, надо таким же быть, а ты – парень самый обычный, хоть и с припиздью, но – съедобнейший из съедобных… Мне говорили, что ты, – Колоднов величаво повращал рукой, вычерпывая из воздуха нужные слова, – что ты их придумал.
– Придумал?
– Да. Придумал, что бы это ни значило. Сперва они думали, что тебе кто-то, чуть ли не я, рассказал всё о них, а потом убедились, что никакого слива не было. И они поняли, что ты их придумал. Так мне сказали.
– Это на дне рождения было, – я облизал пересохшие от разговоров губы. – Я просто придумал пьесу. То есть сюжет для неё. Про секту агностиков-каннибалов, глава которой любит одноногую фотомодель… То есть просто уродливую, одноногая – это слишком жёстко, сказали. Да и действительно – как показать в театре одноногую девушку?
– И часто ты такие пьесы придумываешь? – Колоднов как-то недоверчиво на меня посмотрел.
– Ну это же просто развлечение такое! – наверное, на меня жалко было смотреть. Чувствовал я себя паршиво и говорил как обмаравшийся ребёнок. – Просто весёлая выдумка…
– Весёлая, да. Охуенно весело – есть людей, – колодновский сарказм сочился из каждой поры его лица, что уж говорить о глазах и губах. – Вот все вы такие… Ни хуя в вас серьёзности не осталось. Людей есть – весело, в жопу друг друга трахать – весело, героин ширять – тоже весело…
– Да это просто чёрный юмор, чёрт побери! Неужели у вас такого не было, чтобы такую хрень придумывать? Это же вы сочинили: «маленький мальчик нашёл пулемёт, больше в деревне никто не живёт!»
– Да, это мы придумали, – кивнул Колоднов. – Потому что имели право. У нас было чувство меры, в отличие от вас. Мы знали, что можно рассказать анекдот про Брежнева и ничего за это не будет. Но это если рассказать его соседу или корешу. А если это на сцене показать – как Брежнева едят людоеды, и у них в жопах медали застревают – это уже перебор будет. А для вас перебор – это одноногая фотомодель. И то – потому, что её на сцене показать невозможно. Вот мы понимали, что нельзя на сцене показывать, как дети в подвале играли в гестапо с сантехником Потаповым. А вы этого уже не понимаете…
– Ну да, ну да. Мы ведь показываем нацистов-серфингистов и их бои с гастарбайтерами-ассасинами, – я с нарочито понимающим видом покивал. – И поэтому неонаци убивают таджиков – конечно. Это всё мы виноваты, они у нас подсмотрели.
– Да не передёргивай ты! Просто есть какие-то меры в искусстве. Вот когда показывают голую бабу, все понимают, что это красиво, все мужики и лесбиянки. А когда показывают голого мужика, это понимают все бабы и пидоры. Вот и всё искусство. А вы показываете друг другу одноногих фотомоделей и отрезанные елдаки. И говорите, что нет, вот оно – настоящее искусство. Точнее, вы говорите, что это тоже искусство. Мол, и баба и отрезанный хуй одинаково красивы. А это не так. И вообще, нормальный мужик начинает думать об отрезанном хуе, только когда ему отрезают хуй. А до этого он думает о стоящем хуе.
– Или о нестоящем, – добавил я. – Мужик вообще думает только о стоящем хуе, а когда он у него не стоит, он начинает думать об искусстве.
Прищурившись, Колоднов внимательно изучал моё лицо. По-моему, он думал, куда бы мне въебать. Но не въебал и отвернулся.
– Дурак ты, – сказал он наконец. – И ты, и все остальные ваши – дураки.
Некоторое время он раскладывал на компе косынку, старательно не обращая внимания на все мои попытки вернуть его в разговор.
– И всё-таки, как я мог придумать этих мудаков, если они появились, когда я ещё не родился? А, нет, родился уже… Я же как раз в день путча родился, летом. Только за два года до него…
– Вот ты родился, и путч этот начался… А потом и они появились, – проворчал Колоднов.
– Ты думаешь, они серьёзно так думают? Они же агностики.
– Они такие же агностики, как ты – умный, – ответили мне из-за косынки. – Вот я агностик. Ты… Ты – агностик?
– Не знаю. Я сейчас уже вообще ничего не знаю. Наверное, я самый агностик на свете.
– В Бога ты веришь? – карты на экране уже летели лентами, и Колоднов снова повернулся ко мне.
– Не знаю.
– Что за дурацкий ответ! Ты либо в него веришь, либо нет. Либо тебе всё равно, но когда припекает по-настоящему, – вот как сейчас, кстати, – ты начинаешь за все свечи хвататься, всем угодникам в землю кланяться. Ты не пробовал ещё?
– Чего?
– Чего-чего! Молиться Господу, чтобы избавил тебя от бесовского обстояния, и чтобы враги твои в дыму сгорели.
– Нет, не пробовал.
– Ну и совсем дурак. Я бы на твоём месте давно попробовал.
– А ты пробовал?
– А мне зачем? Мне и так хорошо. К тому же я в Бога не верю. Кому же мне тогда молиться? – Колоднов развёл руками.
И действительно – кому? Давно я не задумывался о том, что вообще происходит и почему. Помнится, я думал что всё это кем-то или чем-то создано. Избранным поданы дурацкие знаки в виде смешных словосочетаний, анаграмм и палиндромов. Я даже что-то тёр на эту тему Арсеньеву, совсем недавно, в пивняке…
– Чёрт! Я только сейчас понял!..
– Что ты понял?
– Да, я верю в Бога, ну или не в Бога, а в демиурга или ещё что-нибудь вроде того… Но я никогда не задумывался, что ему можно молиться и просить его о чём-нибудь…
– Ну так попроси.
– Ну и попрошу. Великий Бог, или демиург или ещё что-нибудь вроде того, сделай так, чтобы вся эта поебень закончилась и агностики-каннибалы от меня отъебались, а Колоднову сделай, чтобы он отъебался от искусства и от моего поколения, потому что он – старый пердун…
Так я и сказал. Да. Одновременно я не говорил и не думал внутри, а как-то пел или плясал головой. Это не сознание, и не ум это был, но и не сердце, а что-то именно в голове находящееся – какое-то потрясающе родное. Больше всего это было похоже на тот случай, когда я тонул, только теперь этот Голос, который одновременно был чужеродным присутствием, безжалостным холодным глазом, смотрящим меня как киноленту, теперь он был непереносимо родным, своим в доску, запанибрата, плотью от плоти и нами-с-тобой-одной-крови (да да да если это приблизительно переводить с несуществующих наречий на которых не разговаривают а как-то что ли живут или даже любят может вовсе спят на них на этих небывалых диалектах то это будет звучать именно так: мы с тобой одной крови ты и я ну ты понял – или ты поняла если ты дивчина а не парниша – вот как-то так), да, словно бы этот Голос теперь был я, а настоящий, обычный я был только его придаток, речевой аппарат, голосовые связки, гортань, зубы, нёбо, язык и вся ротовая полость. И вот таким вот макаром я спел и сплясал внутри песню и танец. Одновременно я ещё и слова думал, но они были не так важны как песня и танец, они были короткие, некрасивые, культяпые: сделай так что угодно ну любое чтохочешь ну всё равно что только чтобы не в семье – никто из семьи чтобы – хоть я меня мне мной – только не в семье.
И вспомнил. Ну да, точно, было дело. Я ведь тоже когда-то Богу молился. Ну не так как обычно молятся Господу Саваофу Вседержителю или там Аллаху или YHVH. У нас в семье религиозности не было. Просто в какой-то период ребёнок (и я, и сестра) обнаруживал, что верит в Бога. А если точнее – не в Бога, а в то, что это всё создано, что это всё, которое вокруг, – неспроста. Природа Бога, его постижимость или недоступность, не то что не обсуждалась, – не обдумывалась. И родители тоже верили. Мы об этом не говорили, не совершали обрядов, не вели воскресных бесед, не становились на намаз и не вкушали субботней трапезы. Просто мы верили – каждый в своём уголку, всяк на свой манер, своими особыми словами и про своё особенное разговаривал с Господом. Нам не нужно было ощущать сопричастность, мы говорили с Богом наедине. И только наедине. Ну я так думаю про других, потому что как они говорили, я ведь не знаю. Мама, папа, сестра. Довольно быстро в детстве я уловил, что Господа можно о чём-нибудь просить, только не обо всём, я бы и не подумал просить у него книжку или плеер на день рожденья или новый год, об этом я просил родителей и деда-мороза, который тоже был родителями, и я об этом знал лет с пяти, но всё равно просил именно у него и наполовину верил, что он всё-таки есть, может быть, он летает по небу зимними вечерами, ранними зимними вечерами, декабрь – его вотчина, и на время вселяется в родителей, как демон, только он не злое страхолюдище, как тот вампир, которого по телику убили осиновым колом, или та страшная японская девочка в белом платье, вылезавшая из телевизора и, по-паучьи перебирая конечностями, ползшая прямо к тебе, так что потом целый год было страшно и ты боялся длинноволосых брюнеток, любого возраста, в том числе – ту жуткую носатую тётку на майке у старшего кузена, которую звали Диаманда Галас, и она у него в плеере пела песни мёртвых женщин, брат издевался над тобой, говорил: «А ну послушай!» – и насильно надевал тебе на голову наушники, схватив тебе руки за спиной, тебе оставалось только мотать головой, чтобы они скорее свалились, потому что песни мёртвых женщин были завораживающими и звали к себе, в специальную целую страну мёртвых женщин, где она была королевой, эта Диаманда, а зачем тебе туда, ты ведь живой и не женщина, так что только через год боязнь брюнеток прошла, а Диаманда Галас тебе очень понравилась, тем более что брат подарил целый её mp3-диск и сказал: «Иди, выпендривайся, такое ни один сопляк в твоём классе не слушает», – и верно, ты подходил ко всем знакомым, к мальчишкам, конечно, девочкам такое слушать нельзя, спрашивал: «Спорнём, что до конца песню не выдержишь?» – спорили на какую-то фигню, вроде жвачки или чирика на бутерброд в школьном буфете, и ты каждый раз проигрывал и отдавал, на что спорили, но зато какие лица были у выигравших, обычно они ничего не говорили, а если и говорили, то что-нибудь вроде: «Какой же ты, Леннон, мудак… и не лечишься», – по-моему, только Машуркину понравилось и Арсеньеву, даже лучший друг не въехал сперва, зато вся параллель смотрела на тебя как на отморозка и лишний раз старалась не наезжать, ведь это опасно – вредить пацану, который слушает песни мёртвых женщин, вдруг они за него вступятся и придётся отвечать перед мёртвыми женщинами за мелкую, быстропроходящую и забывающуюся обиду какого-то сопляка, их самих тысячу раз кормили «саечками за испуг» и дружескими поджопниками и они, конечно, сперва обижались, лезли на рожон, могли даже в приступе благородной ярости впаять пнувшему, тогда начиналась драка, и подравшиеся дня три, а то и всю неделю, не разговаривали, вендетты особой не было, просто не общались и всё, но долго такие ссоры не живут, а с отморозка что взять, он ведь может созвать мёртвых женщин, и те слетятся на зов что твои скандинавские тётки из музыки, у вас был обязательный урок музыкального образования, поэтому все знали про тёток, вот только не всегда помнили, как их звать, помнили только, что тёток придумал тот хрен, чью музыку не играют в Израиле, а брюнеток ты больше не боялся и даже первый раз полюбил брюнетку, только она была старше на два класса и к ней не подступись – отошьёт и ещё, наверное, назовёт «малявкой-козявкой», так однажды было с одноклассником на твоих глазах, и тебе очень не хотелось, чтобы так было с тобой, зато за ней можно было ходить хвостом, таким кошкиным хвостиком, кошка ведь тоже наверное не чувствует за собой хвоста, потому что он естественным образом вырастает из её позвоночника, просто она вертит им и колотит по полу и бокам, если погладить, когда ей не хочется, а сама хвоста даже не замечает! только если оглянется случайно и вдруг видит – хвост! надо же, у меня есть хвост, как у собаки или другой кошки, у них ведь есть сзади эти смешные вихлявые штуковины, которые я ловлю, потому что они живые и быстро двигаются, а всё, что живое и шибко быстро движется, надо поймать и попробовать на мой острый кошкин зуб, созданный, чтобы рвать живое, вдруг это быстрое непоймичто – это мышь или ещё что-то вкусное, птица-воробей или подземный шустрый крот, а тут такое же – шур-шур-шур в стороны – и у меня есть, вдруг из меня мышь растёт! – и кошка начинает ловить длинную толстую мышь, похожую на змею, крутясь по кругу как такой арабский или персидский или турецкий мужик, откуда-то оттуда, ты что-то где-то читал про арабских святых, которые не молятся, а пляшут, вертятся и что-то такое видят в танце, возможно, если крутиться на месте, увидишь, из чего на самом деле сделан этот мир, поэтому кошки на тебя так отмороженно смотрят и на всех остальных так же пронзительно пялятся своими огромными – во всё рыльце! – моргалками, это всё потому, что у них есть хвост, за которым они танцуют, вот ты и ходил таким хвостом за девчонкой старше тебя, надеясь, что однажды она обернётся и скажет: «Посмотрите-ка! оказывается, у меня есть хвост! такой же, как у Ритки и Маши, которым я завидую и охочусь за их хвостами, я не подаю вида, что я за ними охочусь, в конце концов, мы – лучшие подруги, а у лучших подруг нехорошо отбивать-откусывать хвосты, так порядочные кошки себя не ведут, но внутри я ведь знаю, что я им завидую, хотя наяву, днём, при свете я даже не догадываюсь, как мне хочется иметь такой же хвост, а мне очень хочется, и вот что же я вижу – хвост! хвост, который надо во что бы то ни стало поймать!» – и брюнетка начнёт ловить свой хвост, и в этом танце вы закружитесь и поймёте, из чего на самом деле сделан этот мир, тебе кажется, что это понимает не только кошка, но и хвост её, вот только этой кошке не повезло, а может и повезло, это как посмотреть, так ли уж приятно знать, из чего всё это изготовлено? кто-то говорит, что из букв, их за это называют «народами буквы» или как-то похоже, были ещё давным-давно такие, которые говорили, что всё это – огонь, и за это они сгорали, вот ты не знаешь только, на чём они сгорали – на погребальных кострах или их жгли перед публикой, раньше ведь можно было запросто сжечь парнишу или дивчину на глазах у всего народа, вот тебя, именно тебя, обязательно бы сожгли, слышь! а были другие, они говорили, что нету никакого огня, а есть только вода, и за это их всех утопили в большой воде, ещё поговаривали, что всё – воздух, и их сбросили с большой-большой скалы в самый низ, где было ущелье и серые камни, а между ними текла короткая вода, быстрая и очень журчит, их выбросили в это ущелье, чтобы они научились летать в воздухе, который сами себе понавыдумывали, но они обратно в самый верх оттуда не полетели, наверное, они там летают, в этом ущелье, в самом низу, потому что высоко летать умеют только птицы, а человеку долго учиться, однажды они ещё прилетят обратно и всех заклюют, все ждут этого возвращения и почти все боятся, а кто-то их ждёт, ведь есть такие, которые хотят быть склёванным зёрнышком, они наверное думают, что прорастут в животе птицы, так вот, я говорю тебе, этой кошке, повезло или не повезло – не важно, только она не заметила свой хвост, не поймала его и ничего не узнала, так и ходит незнайкой, неведой, неучем, заглядывается на чужие хвосты, может быть, она и поймала кого, откусила хвост у другой кошки, у не лучшей подруги или совсем не у подруги, почему бы и нет? ты давно уже потерял эту кошку из виду, это ведь очень давно было, когда ты за ней хвостом ходил, а потом ты первый раз поймал кого надо, и тоже это была брюнетка, вы танцевали с ней два года, но, к счастью, не узнали, из чего состоит этот мир, о, вспомнил! были ещё такие вот, говорили, что мир сделан из атомов, их за это разобрали на атомы, чтобы проверить, так ли это, тогда времена были суровые, нынешним-то не чета, если что сказал, то отвечай за свои слова, прямо как на зоне, тебе парень из подъезда рассказывал, когда первый раз пиво пили под грибом на детской площадке, парню было уже восемнадцать, и он собирался на армию, а на армии, он говорил, как на зоне, он был уже сильно гружёный, когда тебя встретил, ты шёл из гостей очень поздно, прошёл мимо гриба, а он – хвать тебя за плечо! – «Ты это», – говорит, – «в прошлый раз пивом обещал проставиться, а? а до сих пор не проставился ещё, а мне через неделю на армию уходить», – ещё там было много слов, которые ты раньше слышал только в анекдотах, и когда обзываешься, можно сказать, а он их так запросто говорил, ты ему ничего такого не обещал, но он упёрся, – «Ты что, жид, а? жидишься, падла, жлоб, ну и пошёл отсюда», – ты обиделся и проставился, не знаю уже теперь, почему, и вот он поучал тебя, пока вы пили, ты первый раз запоминал этот горький ядрёный вкус, поэтому и слова запомнились, о том, что на зоне и на армии так: сказал – за базар отвечай, а в древние времена так было везде, так что и выходит, что зона и армия – это последние места, в которых в нашем мире сохранился дух древности, короче, этих, придумавших атомы, на них и разобрали, смотрят – а иди ты! и действительно ведь – из атомов! весь мир – чёрт его знает, а эти, разобранные, действительно были из атомов, а не из чего другого, их назвали «покойные народы атомов», потому что обратно собирать не стали, а повторять их опыт и при всех говорить про «мир из атомов» больше никто не отважился – боязно, и мочевой пузырь сжимает, но говорят, что «атомных покойных» считали героями и втайне уважали, да и ты их уважал и уважаешь, ты бы и сам, пожалуй, сказал, что мир из атомов сделан, потому что это опасно, но ты бы, во-первых схоронился, а во-вторых, ну и чёрт с ними, с опасностями, а так как сейчас на атомы не разбирают, говори, что хочешь, любую пургу мети, то про атомы – неинтересно, героем уже точно не стать, поэтому вы со второй брюнеткой, или с третьей, если считать японскую девчонку из телевизора, или даже – четвёртой, это если учесть ещё и Диаманду Галас, но ведь они обе – придуманные, поэтому будем считать, что со второй, поэтому-то вы с ней и не узнали, из чего мир сделан, что она – вторая, это к кому хвост приделан, с тем зверем ему и быть, отдельный хвост не живёт, один, сам-по-себе, хвост, – это не человек и даже никакая не животина, это такой одинокий демон, ни туда ни сюда, ни земле, ни небу, ни подземью, отдельные хвосты живут тогда лишь, когда при кошке, и ещё особенно хорошо, когда они сами кошками вилять начинают, вот таким вот демоном тебе и представлялся дед-мороз, там ещё была снегурочка, но ты на неё внимания не обращал, её как бы и не было, потому что в Англии и Америке, вам учитель говорил, у ихнего деда не было никакой девчонки из снега, а был чёрный парень, его как-то звали, по-моему, Питер или Николас, да, кажется, Чёрный Питер, а как может существовать человек или демон, который одновременно чёрный парень и белая девочка? ты этого не мог постичь, поэтому ни в Чёрного Питера, ни в снегурочку не верил, нет, они всякие, конечно, бывают, эти демоны, могут с собой что хочешь сотворить, но вот дед-мороз был явно важнее, главнее и бородатее, чем кто другой, кого ему в сопровождающие придумали, он всегда был дедом «борода-из-ваты», он не был в то же время тёткой, поэтому нету никакой снегурочки, даже оленей нет, только в зоопарке и на северах, они там мох едят и их пасут маленькие смешные узкоглазые люди, живущие в домах из снега, обогревающиеся мехом и поющие горлом, они стучат в бубен и со всеми демонами на ты, кузен когда был младше, не слушал ещё Диаманду, зато про шаманов знал всё, он тебе рассказывал, что они по ночам летают, потому что едят грибы, которые растут в их краях, впрочем, сказал кузен, они не только у них посажены, они везде есть, даже в наших лесах найти можно, ты спросил, что это за грибы такие, а он ничего не ответил, сказал, чтобы ты никому об этом не рассказывал, а то грибы потеряют свою волшебную силу, и тогда весь мир разучится летать, даже птицы все с неба на землю попадают, и придёт множество кошек и они съедят всех птиц, а когда их не станет, кошки съедят друг друга, потому что они всё время хотят есть, ты же видел, как они еду выпрашивают со стола, жалостливо так мяукают, а когда не станет кошек, придут крысы и принесут с собой чуму, и тогда уже умрут все люди, и ты умрёшь, и кузен умрёт, и сестрёнка совсем маленькая умрёт, поэтому нельзя о грибах рассказывать, – «Особенно взрослым, скажешь им про грибы, я тебе в репу настучу», – кузен предупредил, – «А ты их пробовал?» – спросил ты у него, кузен помолчал, потом сказал, что пробовал, потому что к его другу-однокласснику приезжал опытный грибник, он раньше был геологом на севере, потом остался там жить, его бросили друзья-геологи, потому что он много пил, а когда был пьяный, то шумел, дрался, ломал палатки и кидался с ножом на начальника экспедиции, а один раз даже чуть не съел компас, – «Его много раз метелили ногами», – сказал кузен, ты тогда ещё не знал этого слова и представил, что пьяного бородатого мужика связали, положили на землю и стали ногами набрасывать на него снег, прямо на лицо, устроили ему «метель для одного человека», может быть, даже погребли под снегом, ты читал, что раньше была такая казнь, в другие годы и других местах, когда хоронили не мёртвого, а живого человека, ты подумал тогда, что возможно, это и есть живые-и-мёртвые, которые приходят упырями к живым-и-живым – пить кровь, а можно ведь хоронить живого и под снегом, это не по-настоящему, а в шутку, и когда вы со всеми друзьями поехали зимой в деревню – к другу в гости, пошли гулять в лес, но недалеко, чтобы не заблудиться и не замёрзнуть, так всехние родители вам сказали, потому что сначала дружили ваши родители, а потом вы подросли до одного детского сада и тоже стали дружить, ну не до одного, Митька старше всех был, а Вася и ты – средние, Мишка – самый мелкий, поэтому его берегли и когда забирались на очень высоко, то пенделями прогоняли его прочь, потому что он – мелочь пузатая, и ему нельзя, а то свалится и расшибётся, и Васе, его брату, достанется, Мишка плакал и обещал всё маме рассказать, но никогда не рассказывал, потому что знал, что тогда ему ото всех достанется, а Вася первый его жахнет и дома ещё добавит, и наверное, целую неделю будет добавлять и добавлять, каждый день, так уже было один раз, когда ему навешали пинков за то, что по глупости что-то проболтал, не специально вышло, но всё равно – ходишь с большими пацанами, будь тогда умным и звонилку не распускай по каждому поводу, в общем, первыми дружить придумали родители, а вы у них уже научились, вот так, и вот зимой в лесу, недалеко от дома вы друг друга похоронили в снег, только без головы, голова наружу торчала, по очереди, кстати, когда живых-и-мёртвых закапывали в землю, тоже часто оставляли голову торчать наружу, так живой-и-мёртвый, пока был ещё жив, дольше мучался, чем больше он плохел, тем больше и лютее он потом мстил людям, когда возвращался упырём, то есть так люди-копальщики изготовляли упырей, но ты никогда не понимал, зачем им это, ведь упыри их первыми съедят, как выйдут из земли наружу, ты ещё такое кино видел, мама с папой смотрели, там был бритый наголо упырь Ахмед или Саид или ещё какое-то у него было татарское имя, только из него упыря не приготовили, солдат его выкопал и сделал своим слугой и помощником, чтобы убить колдуна, который хотел превратить Саида в живого-и-мёртвого, у него тоже было восточное имя, ты уже не помнишь, какое, и ещё у него было много жён, и это было непонятно, впрочем, у колдунов всё непонятно, не как у людей, так вот, вы друг друга перехоронили в снегу и пришли домой мокрые с головы до ног, и все стали кричать, что вы заболеете, начали вас сушить, поить чаем, разным чаем, кто какой любил, с сахаром и без, и ещё с лимоном и малиной, потом мамы каждого из вас заставили пообещать больше в снегу не валяться, иначе вам ничего не будет, ни кино, ни телевизора, в цирк никого никогда не поведут, а в цирке медведи! и вы все пообещали, папы в это время курили во дворе и обсуждали какие-то свои дела и на вас почти не обращали внимания, потом вторая брюнетка рассказывала тебе, что когда она была маленькая и жила в Сибири, был один мужик, безответно любивший тётку из их дома, устав ждать ответа, он пришёл в этот дом и ночью выпрыгнул с самого высокого этажа и убился в мясо об козырёк подъезда, это он – чтобы уязвить свою недоступную возлюбленную, чтобы она утром высунулась в окно – посмотреть, какая температура, а там – её ухажёр на козырьке, наверное, он думал, что она в этот момент тоже поймёт, из чего сделан этот мир, когда увидит его не живым, а убитым в мясо, только в эту ночь шла метель и дядьку похоронило под снегом на козырьке, это оказалось, конечно, временное захоронение, а не как могила или урна в крематории, весной снег стаял и дядька заново появился на свет, но он всё равно был мёртвым-и-мёртвым, и его похоронили по-человечьи, семья второй брюнетки тогда возмутилась, что он пришёл самоубиваться в их подъезд, шёл бы в свой, который вообще был в другом доме, и там сколько угодно прыгал в мясо на козырёк, а он пошёл к ним, да ещё пролежал пять зимних месяцев в своём снежном гробу, вот-вот, и тебе тогда подумалось, что того геолога, пьянь запойную, товарищи ненадолго хоронили связанного под снегом, а снег набрасывали ногами в чёрных валенках, это и называлось у них – «метелить», – «Потом они просто оставили его, как Робинзона на острове», – рассказывал кузен, его напоили вусмерть, так что он дрых около суток, а сами в это время уехали на собаках, и когда геолог проснулся, то был совсем один, только запасы спичек, ружьё с патронами и еды ему тоже оставили на первое время, так он жил один около недели, потом начал охотиться, но у него ничего не получалось, потому что руки до сих пор тряслись, он чуть не умер с голоду, три дня не ел и даже хотел застрелиться, но тут его подобрали северяне, покормили олениной и оставили жить у себя, он там десять лет жил, а геологи в Москве сказали, что он потерялся в тайге во время разведки и его занесло метелью, но он теперь на них зла не держит, он многому научился у северян, в том числе он теперь грибник-мастер, лучше всех разбирается в грибах и конечно же он знает, от каких грибов летают, а от каких просто пердят по ночам, тут кузен сморщился и помахал рукой у носа, и смотрит на тебя выжидательно, это оттого, что он любил дразнить тебя и подначивать, когда он гостил у вас или ты у них, вы спали в одной комнате, и он каждый раз, когда хотел над тобой посмеяться или разозлить тебя и разобидеть, говорил, что не может заснуть, так ты всё провонял, вот и в этот раз он хотел тебя подначить, чтобы ты попытался двинуть его в лобешник, и он бы повалил тебя на пол и в шутку подушил или сам тебе в лобешник двинул, потому что он старше и сильнее, значит ему надо на родственной мелкоте тренировать свои борцовские способности, мелкота стерпит, не в серьёз же, но ты на эту подначку не повёлся и ждал продолжения рассказа, кузен рассказал, что геолог ходил по подмосковным лесам и грибничал, насобирал разного, специальные волшебные грибы он продаёт только надёжным парням, которые родителям и даже сестре и даже одноклассникам не расскажут, – «А как же ты? ты ведь мне рассказал», – кузен некоторое время помолчал, как будто думает, а потом сказал, что можно только через год и только одному человеку, день-в-день и час-в-час после того, как их попробуешь, эти грибы, а если перепутаешь время, то птицы, может, и не упадут, зато нос отвалится, – «Как отвалится? Сразу?» – «Нет, не сразу, сперва один кусок, потом второй, потом целиком, пока голая кость не останется, так от болезней бывает и от нарушения грибного заклятия, это шаманское волшебство такое, чтобы никто их тайны не узнал, как летать, так что ты не болтай», – ты спросил, как эти грибы выглядят и кузен ответил, что не знает, им продали их уже сушёными, чёрными, и чтобы ты вообще обо всём забыл, он рассказал тебе об этом только потому, что специально запомнил время и день, когда он эти грибы ел, чтобы кому-нибудь рассказать, хотел – порядочному взрослому человеку, а тут ты подвернулся, но ты тогда об этом не забыл, два года помнил, каждый раз, когда на даче ходили в лес по грибы, а потом варили грибной суп или жарили их в масле и подавали на ужин с гречневой кашей, ты замирал – вдруг это те самые, и ты полетишь, но ни разу не полетел, не те, а потом и правда всё забылось, так вот, дед-мороз без оленей, он просто знает про грибы и летает сам собой, и он может влезть в родительские головы и узнать, что же ты такое просишь в подарок на новый год, потом он летает за прошенным, достаёт его в магазине и приносит, и делает всё быстро-быстро, в магазине он, скорее всего, ворует, или просто берёт ночью и оставляет деньги, которые берёт ниоткуда, прямо из воздуха, ты никогда не думал, как дед-мороз всюду поспевает, а если бы подумал, то решил бы, наверное, что просто их несколько, может, целые тучи, что они вообще – особый класс, как есть живые-и-мёртвые, а есть эльфы и гномы из книжки и фильма, вот такие же есть и деды-морозы… у Господа же ничего не просил, как у деда-мороза, потому что то – демон, а то – Бог! Бога я просил только в самый нужный момент, когда иначе никак. Когда волнуешься за родителей или за сестру. Просто – когда волнуешься. Я просил так: пусть у них всё будет хорошо, пусть ничего не случится, если тебе нужна жизнь и развлечение, возьми мою и веселись мной, а не родителями и не сестрой. Нет, я тогда не думал, что вся жизненная суетня-мотня, все эти великие переселения народов и маленькие трагедии отдельных людей – всего лишь весёлое кино, в котором Бог сам себе режиссёр, монтажёр и благодарный зритель, просто вот так я молился. Так же молился и сейчас, только не словами, а внутренним содроганием. И вот я знал: сейчас я отомкну вежды и узрю Бога.
Отомкнув оные, узрел лишь Колоднова.
– Извини, конечно, парень, сказал он мне, – я тебе по рылу маленько врезал. Просто не надо меня старым пердуном называть. Не старый я ещё. А если старый, то старость надо уважать.
– То-то я чувствую, что ничего не чувствую. То есть – не чувствовал, а теперь всё как-то ноет, – язык ворочался во мне с трудом, но говорить надо. – Тогда ты это, старый испускатель амброзии вместо газов…
Колоднов покачал головой, словно сочувствуя моей непрошибаемой тупости, но говорить ничего не стал. Поднявшись с пола, я подвигал челюсть руками и пошёл на кухню – за чаем.
– Слышь, Колоднов, а я чего-то такое помню, когда лежал, – по возвращении было мной выговорено. С трудом, потихонечку-полегонечку, но я приходил в себя. – По-моему, со мной Бог разговаривал. Или демоны. Или я их о чём-то просил…
– Фигово ты просил, – перебил Колоднов. – Вредно и очень погано просил.
– Да нет, я внутри просил, когда лежал… Слушай, а ты меня точно ёбнул? Просто я не помню ничего. Раз – и нет. По-моему, я отключился ещё до удара…
– Не знаю, сам разбирайся.
Колоднов сел было к компьютеру, но мне это не понравилось. Ко мне постепенно возвращались дообморочные разговоры, но продолжать их не хотелось. Хотелось развеяться и отойти.
– Ты, кажется, о гостях что-то говорил, а, Колоднов?
– Говорил, – сумрачно подтвердил снова погрузившийся в пасьянс нестарый непердун.
– Так поехали уже, а то надоело. Ебло крошишь, к постели приковываешь…
– К постели не приковывать нельзя, – философски заметил ересиарх. – сбежишь к ебеням. Дурень потому что. А в гости – можно, конечно… Я и сам с тобой базарить заебался.
После недолгих телефонных переговоров Колоднов выдал мне пальто в клетку и чёрную лыжницкую шапочку. В гости мы пошли пешком, метели не было, только толстая луна и холод. Через километр, в крайнем ломе, двухэтажном и гораздо более ухоженном, чем колодновская недохалупа, играла громкая гитарная музыка и кто-то нечленораздельно выл из окна. Вой был не цыганский и не волчий, а аккуратно поставленный, надроченный до потенциальной радиоэфирности и любви школьниц. Так любили выть столпы ненавистного мне русского рока. Так воют многие современные зингеры, если они, конечно, не шепелявят и не поют по стандартам современных независимых групп. Главное, впрочем, было не это. Это был слишком знакомый мне вой, чтобы я его не узнал.
25
Много кого я мог бы вообразить колодновскими знакомцами, к которым он захаживает в гости. Юристов, мелких и средней руки бизнесменов, писателей-неудачников и таковых же пиитов, жалобящихся на рыночную конъюнктуру и невозможность творить нетленное в продажной Московии, устало молчащих врачей, свято блюдущих тайну пациентской исповеди и вдруг в одночасье, взрывом, рассказывающих пару тройку курьёзных историй, не называя, конечно имён, деловито бурчащих армейских, но не этих.
Когда Колоднов позвонил в звонок у забора, дверь никто открывать не поспешил. Минуты три не спешил.
– Оборвали, сукины дети, – пробормотал ересиарх сквозь зубы и стал шарить по земле. Найдя наконец мёрзлое полено, он заколотил им в двери с остервенением рок-барабанщика.
Тут же кто-то зашлёпал к забору и завозился с бренчащими ключами. Наконец, дверь открылась.
Передо мной стоял Митра, а выл, кстати, Пианист.
– Здорово, чувак! – я первым протянул руку.
– Здорово, – удивился он. – А ты здесь откуда?
– А я – с Колодновым, – я показал на отстучавшего.
– А! ни фига себе, вы знакомы?!
– Недавно познакомились, через родителей, – ляпнул я.
– Да, вместе старые дела делали, – поддакнул Колоднов, – торговали.
Здесь Колоднова знали как автора-исполнителя. Пианист и трое его знакомцев в складчину снимали деревенский дом у сколькитоюродной арсеньевской тётки, вели здесь разгульную жизнь в перерывах между фрилансом и поочерёдно устраивали вечеринки, на которые заглядывали и все остальные. Меня обычно не звали, зная как я недолюбливаю вечериночного хозяина и как он отвечает мне взаимностью.
Пианист был большим любителем песенников, от Леонарда Коэна и Ника Кэйва до всяких современных бардов; особенно он любил отыскивать нераскрученные дарования и восхищаться их серенадами и ламентациями (возможно, он втайне надеялся запомниться потомкам первооткрывателем Нового Великого Трубадура, но ему явно не везло; в первый раз он открыл какого-то небритого полубича из своего Красномухосранска, – я уже, кажется, забыл название пианистовой малой родины, – в последний – пожилую липецкую лесбиянку, исполнявшую классические русские романсы, меняя окончания глаголов так, чтобы получались баллады об отношениях, более популярных у задроченных мужиков, чем у непосредственных женолюбок; предпоследним его открытием был Колоднов, который, оказывается, ещё и пел – чуток своей высоцщины, а также казачьи песни и всё те же романсы; слава Богу, что он не менял женских окончаний на мужские!)…
Мы оба чувствовали себя не в своей тарелке. Сюрприз у Колоднова не получился – все эти рыла были мне знакомы, кроме некоторых. Я не знал пару девушек и пару актёров из новой арсеньевской тусовки (хорошо, хоть Ольги не было).
– Ты-то откуда их знаешь? – прошипел он мне, издали улыбаясь Арсеньеву и приветственно поднимая бокал с белым вином.
– Тот же вопрос к вам, – я ответил ему ещё тише. – Арсеньев и Машуркин вообще со мной в параллельном учились.
– Вот ведь деревня эта ваша Москва сраная, – москвичом Колоднов не был, нет. И никогда не позволит себе называться этим мерзким словом. – Значит, так, запомни. Здесь про агностиков не знают…
– Знают, – перебил я, – именно здесь я их и придумал. То есть, в этой же компании.
– Блядь, вот же ты мудачина, – Колоднов посмотрел на меня искоса. – Нашёл место, тоже мне…
– Так уж вышло.
У моих родителей и у Колоднова было небольшое дачное дельце, строительство, здесь особо выдумывать не пришлось. У Колоднова появилось желание познакомить сына своих хороших знакомых с прекрасной молодёжной компанией. Надо же такому случиться, что этой компанией оказались его же собственные старые друзья и полувраги! Оперетта и сраный бурлеск, водевили девятнадцатого века, ебучая соломенная шляпка, чтоб ей пусто было! чтоб не было в ней больше ни одной головы, чтоб все, носившие ей, начали щеголять в бейсболках и ушанках!.. но здесь это прокатит, здесь все любят такие совпадения, безоговорочно им верят и дружно смеются. Потому что на самом деле смешно.
– Да, – сказал не особо обрадованный моим приходом, но и не особо опечаленный Пианист, – идя к новому, возвращаешься к корням, везде встречаешь одних и тех же людей…
– Вроде того, – я вдумчиво (надеюсь, что так: «сложные щи» и пустой взгляд, отличающий всех «знающих») покивал. – А чего это ты улыбаешься?
– Подумал, что ты поможешь мне с одним чёртом справиться. Правда, последний раз, когда на него находило, он себя Богом объявлял…
– Я как раз в последнее время в чём-то таком нуждаюсь.
– В чём? – Пианист приподнял бровь. – В укрощении ябнутых?
– Нет, в беседе с Богом. Правда, я недавно беседовал, – я покосился на Колоднова. – Ну или так мне показалось, я без сознания был.
– Вот-вот, и я об этом, – Пианист одобрительно закивал. – Вы друг друга стоите. А клин, как известно, клином вышибают. Просто он у меня второй день гостит и весь мозг успел засрать, так что помогай. Будете друг другу мозги ебать всякими каннибалами, Ходорковскими, редрамами и танцами на столе. А мы дядю Мишу послушаем.
При упоминании каннибалов лицо у Колоднова было самое каменное, непроницаимейшее. Надеюсь, у меня тоже.
Пили в гостиной на первом этаже, иногда перемещаясь небольшими группками на кухню. Наверху кто-то дико смеялся.
– Это он, – поймав мой вопросительный взгляд, сказал Пианист. Кажется, я первый раз испытал к нему сочувствие. Смех был пронзительный, припадочный и клокочущий. И совершенно не мужской. Но и не женский. Скорее – русалочий. Он напоминал чем-то борюсиковский смех, только был гораздо чище, не светлее, а именно чище. Так мог бы смеяться человек, достигший сатори или как она называется, эта чёртова буддистская заморочка?
– Пианист, а Пианист?
– Да, рыба моя?
– Этот, – пальцем ткнуть в потолок, – наверху, он пидор? Или сатори достиг?
– Он? Он – мозгоёб, как и ты. Только грузит больше. Ты хотя бы не смеёшься так.
– А что, с его смехом ничего нельзя сделать?
– Нет, почему? Можно. Например, можно не смешить его. Только тогда он начнёт смешить сам себя, потому что скучать не любит. А это ещё хуже.
– Господу надо служить с радостью, – сказал вошедший Арсеньев, – воздев руки ввысь и блаженно смеясь.
– Только не так вот, как этот Васё, – Пианист не обладал арсеньевской непрошибаемостью.
– Васёк? – переспросил я.
– Ва-сё! Как японский поэт, только не «ба», а «ва».
– Он что, любит Японию?
– Нет, Японию он ненавидит. Придумал бы кто окончательное решение вопроса анимешников, он бы плясал от радости.
– Настолько ненавидит?
– Да нет, конечно, – Арсеньев пожал плечами, – просто выёбывается. Кто-то напоказ любит всё японское, кто-то напоказ его ненавидит. А изначально его действительно Васёк зовут. Погоняло такое, из школы, наверное. Когда пьесу сделаешь, начал уже?
– Начал, – я, насколько мог, дружелюбно улыбнулся, хотя по внутреннему ощущению, вышло кривовато. – Я тебя извещу, как дальше продвинется.
Колоднов тем временем начал что-то напевать. Играть на гитаре он, судя по всему, не умел, поэтому рядом тут же появился Пианист с несоответствующим фамилии инструментом и начал подъелдыкивать. Кажется, это было «Не искушай меня без нужды». Из кухни половина слов не слышалась, да и не хотелось мне в этот момент ничего слушать. Хотелось остаться в этом доме – остаться навсегда, убежать, спрятаться в подвале, вылезти оттуда через пару дней, потребовать у хозяев политического убежища, получить телохранителей и радиотрибуну, с которой можно было бы донести до масс всю правду об этих… ну хорошо, ну не навсегда, хотя бы на пару недель, дней, хотя бы сутки никуда не выходить, пить вино, болтать с этими обалдуями, которые не представляют, как может человеку не повезти, в какие глубины его может затянуть собственная необузданная фантазия и какое-то идиотское стечение обстоятельств. Господи, ну почему это всё со мной?! почему я должен идти обратно с Колодновым, засыпать с рукой в железе, с непонятным, унылым ожиданием неизвестно чего? за что мне всё это?! ну за что!
На кухне уже никого не было, и я заплакал. Я не плакал уже очень давно, не потому, что всегда сдерживался («мужики не плачут, не танцуют и не готовят», – кто мне говорил это в детстве, чуть ли не во время первой выпивки?) и не потому, что был неслезлив, а потому что не по чём было слёзы лить. Несчастной любви у меня не было (только безответная в детстве и ответная, но какая-то корявая – к Регине, но из-за них ведь не плакать), все мировые катастрофы, кризисы, погромы, апартеиды и холокосты проходили мимо. Я впервые понял, что я такой же как вы-мы-ты-он-она-оно, я так же, как все, хочу жить, хочу простого тепла под одеялом, своего или чужого или нашего общего, или хотя бы кошкиного, чтобы на одеяле лежал кот, урчал и грел мне живот и ноги, а я бы грел его, и мы засыпали, зная, что оба – живые и тёплые, в нас тёплая кровка бежит, через большое человеческое, похожее на свиное, и кошачье махонькое сердце, я бы, как все кошатники, наделял кота человечностью, а он, как все хозяйские коты, думал бы, что я кот – только слишком большой, не мурчу, даю еду и ещё от меня часто пахнет какой-то жжённой вонючей хернёй, особенно, когда я выхожу на балкон и возвращаюсь оттуда… Не хочу я быть проклятым поэтом, самопризванным пророком, извлекателем чудовищ из снов… Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу! Оставьте меня в покое!------
– Тебе плохо? – незнакомый голос участливым я бы не назвал. Я поднял голову от стола. Передо мной стояли те две незнакомые, мельком отмеченные девки. Только одна из них была не девкой, а блаженно улыбающимся упырём в зелёном платье и разноцветных чулках, чёрное каре и раскосые глаза болотного цвета, маленький нос, – андрогинный богемный обдолбыш. Его спутница, не обращая на меня внимания, налила себе вина и вышла было в гостиную, но тут же вернулась.
– Я не могу это слушать, – сказала она трансвеститу. – Там какой-то старый хрен поёт песню из «Неуловимых мстителей». Пианист когда-нибудь убьёт меня своими гостями.
– Софья, иди спать, лапочка, – Васё, конечно же, это был Васё, – допивай и отключайся.
– А ты? – она недовольно фыркнула.
– Ты же знаешь, я сегодня поздно встал, я ещё посижу, – Васё говорил очень мягко, чуть-чуть манерно. Ему это шло больше, чем Ногину. По-крайней мере, манерность мужчины в женской одежде не так убивает, как манерность огромнобородого убийцы. – Я обязательно приду, позже, – и он повернулся ко мне. Девушка снова недовольно фыркнула, но потом улыбнулась и поцеловала Васё в щёку.
– Вася, – он протянул мне руку.
– Джон Леннон, – я пожал его холодную влажную ладонь. – А я думал, что вы – Васё, – но он уже давно смеялся, так же, как раньше. Вживую это почему-то не так раздражало, как если слушать из-за стены. За стеной, где в этот момент происходила вакханалия русской песни, всё смялось и лопнуло. Колоднов на половине куплета бросил петь, а Пианист сбился и сломал мелодию. В тишине раздался спокойный ересиархов голос: «Петь? Кость? что это за уёбище?!» – дальше было не разобрать, видимо пошли извинительные объяснения.
– Пойдём-ка лучше наверх, – Васё взял меня за руку и провёл через толпу. Я успел заметить ухмылки гостей и возмущённо-убийственный взгляд Колоднова. Наверху было три спальни, в которых проводили ночи съёмщики. Сейчас половина из них разъехалась по малым родинам, остались только Пианист и Софья. Васё был скорее её гостем, чем Костиным. Мы зашли в маленькую комнатку с незаправленным неряшливым диванчиком, книжными полками и столиком.
– Извини, что всё так, – сказал Васё и принялся комкать бельё, освобождая мне место на диване. – А смеялся я потому, что много слышал о тебе. Арсеньев говорил, что ты такой же, как я. А Пианист, кажется, нас обоих терпеть не может. Так вот, он говорил, что ты чуть получше. Не ожидал познакомиться с тобой вот так, – он опять засмеялся, не так громко, как раньше, – когда ты плачешь. К тому же, – добавил он, – ты уже мёртвый. Причём довольно давно, – и он опять засмеялся, как-то по-птичьи склонив голову набок. – В тебя же стре-ля-ли, чуваак! Ты понимаешь, да? Ты – мёртвый…
Я мёртвый.
– Ох, прости, – он устало потёр горло и опустился на стул. – Просто я у Пианиста траву спиздил и хорошо удолбался. Он меня завтра убьёт.
– Да нет, бывает, – я вжался в диван.
– Вина хочешь? Тут где-то бутылка была, – Васё стал шарить под столом, шарил довольно долго и шумно, изредка подхихикивая чему-то своему, но всё-таки извлёк початый пузырь рислинга. – Угощайся.
Отпил. Щекочет. Нёбо поскребло и дальше – в горло. Я – мёртвый.
– Это вообще Сонькина трава была, но ей курить в последнее время надоело, она Пианисту продала. Я подумал, что это несправедливо… Надеюсь, они завтра разберутся. Или не завтра, – Васё пощёлкал суставами, такой неприятный хруст. Заметив, что мне не понравился этот звук, он хрустнул ещё пару раз, несколько громче.
– Зачем ты это делаешь? – спросил я наконец.
– Что делаю?
– Ну вот это, плечами. Мерзко же звучит.
– Спину разминаю. К тому же, я не понимаю, как мертвецы могут различать мерзкие и немерзкие звуки. Им уже всё равно должно быть.
– Я – живой, – мне самому было противно это произносить. Что этот хлыщ знает про смерть…
– Да, конечно, живой. Битломания и в наше время продолжается, что есть, то есть… Представляешь, я под Новый Год бухал в одном кабаке, и со мной разговорился один старый хрен. Он до сих пор считает, что «The Beatles» – лучшая группа всех времён и народов, и после неё музыка пришла в полный упадок, – его уже, кажется, помаленьку попускало, голова то и дело прислонялась к спинке стула, а глаза время от времени закрывались. – Так что Леннон умер, но он жив в сердцах миллионов… Маккартни жив, но дело его умерло…
Похоже, мне не придётся его «укрощать», как просил Пианист. Он и так скоро заснёт. Сонное бормотание его делалось всё тише. Я вышел и спустился на первый этаж, но в гостиную не пошёл. Из-за приоткрытой двери гремел колодновский баритон – он спорил с Пианистом о том, как надо пить водку. Вскоре вышел Арсеньев, которому нужны были какие-то книги в комнате Пианиста.
– А ты чего здесь скучаешь? – спросил он.
– Не знаю, – я пожал плечами. – Васё, кажется, уснул, а водку пить не хочу.
– Так пей чай. Или вино.
– Да, у нас же там вино было, – я пошёл с ним наверх. – Я сейчас спущусь к вам.
Васё не спал. Он полусидел, полулежал, верхней частью спины откинувшись на подушку, и читал Юкио Мисиму, что-то подчёркивая старым замусоленным школьным карандашом. Черкал он, очень твёрдо нажимая карандашом на бумагу, с лицом как в угаре, старательно, казалось, ещё чуть-чуть, и язык высунет. Книга была толстой, там явно не один роман уместился.
– Что читаешь?
– «Золотой храм». Тоже вот хочу один уничтожить, как в книге…
– Христа Спасителя?
Он помолчал, сделав недовольное лицо.
– Человеческое тело – это храм, – сказал он наконец. – Красивое тело – красивый храм. Некрасивое тело, соответственно, храм простой. Деревянный такой, деревенский…
Господи, ну почему все они так спокойно говорят о смерти, почему они её вышучивают, подсмеиваются, хохмят?! В чём здесь мудрость твоя, Господи?
– Ты не волнуйся, я не маньяк, – Васё отложил Мисиму, – и не самоубийца. Просто книгу пишу и там надо будет пару-тройку людей ухайдакать. Пока ещё не решил, сколько и кого, но точно знаю, что надо.
– А зачем?
– Законы жизни. Или, может быть, жанра, – он пожал плечами. – Жизни свойственно иметь криминальный модус, а книгам свойственно описывать то, чего не бывает и чего не хочешь, чтобы с тобой это было. Люди ведь знают, что кругом происходят убийства, войны, насилие… Внутри они быть не хотят, но к книгам об этом почему-то тянутся. Возможно, это нечто вроде комплекса вины по отношению к жертвам, особенно если они совсем случайные, – ведь могли тебя, а вот – не тебя. Потому что ты опоздал на «Титаник», не пошёл на «Норд-Ост», хотя все его тебе нахваливали… Или первого сентября заболел и не пошёл в школу… А был ещё такой крутой польский мужик, который в августе тридцать девятого в Аргентину уехал… В общем, они все хотят понять – как это. Побыть там и постоять вместе с ними у жертвенника, на котором произойдёт заклание.
Мне нечего было ответить на эти разглагольствования. Смогу ли я смотреть или читать что-нибудь такое, когда выберусь? Если выберусь, блядь! если выберусь… Смогу ли я вообще читать и смотреть?
– Ты же не любишь всё японское, – выдавил я наконец. Надо продолжать очередной разговор, такой же бессмысленный, как и тысячи других разговоров из моей жизни. – Мне говорили. А тут Мисима…
– Кто тебе говорил? Арсеньев или Пианист? Это они не любят всё японское. И ещё: объясни-ка мне, что японское, а что нет. Как мы можем их различать, нашим русским, широкоглазым взглядом? Арсеньев и Пианист не любят Мисиму и Рю Мураками, я не люблю аниме и попсовый дзэн, и я и они любим Харуки тоже Мураками, но за разное. Что мы любим и кого? Где здесь Япония? Есть ещё один парень, он любит самурайские загоны, особенно их особый взгляд на смерть и все эти суицидальные штучки с мечом в животе. Поскольку он считает это сутью японскости, он вдогонку к Мисиме и Хагакурэ любит тоже Мураками, Такэси Китано, всё подряд аниме и ещё много всякого. А были ещё такие анимешники, которых не вштырили ни Мураками, ни Китано, ни тем более Мисима, зато их накрыло сёгами… Сёги – знаешь такое? Такие как бы шахматы, только японские и на всю голову ебанутые, с мощной буддийской философией в основе… И вот скажи мне теперь, где здесь настоящая живая Япония, в которой живёт сотня с хреном лямов самых настоящих живых японцев, многие из которых наверняка не любят ничего из мною перечисленного? Что мы в данном случае любим и ненавидим? Мы совсем другое любим, мы в своих Япониях живём, каждый в персональной, которую он сам себе построил, из книг и фильмов, понимаешь?
Понимаю. Я вернулся.
– Ну и как называться будет?
– Что?
– То, где храмы разрушают.
– Ааа, ты про книгу, – он пожал плечами. – Не знаю ещё. Возможно, «Портрет Иеремии в юности». Если юный Иеремия сдюжит и не сбежит от возложенной на него миссии. Если сбежит, назову по-другому как-нибудь. Например, «Портрет юного мудака»…
– Понятно, – я вспомнил слова Пианиста. – Теперь я понимаю, почему ты назвал себя Богом. Все вы, писатели, – мрачные солипсисты и вообще самовлюблённое говно.
Васё снова захохотал.
– Нет, – он наконец отсмеялся, заплевав мне свитер и, конечно, не заметив этого. – Это совсем по-другому было. Ты ведь знаешь Машуркина?
– Мы в одной школе учились.
– Ну ты тогда помнишь, как он в армию собирался…
– Помню, конечно, они ещё проводы отметили.
– Вот-вот, я с ними как раз тогда тусовался. Там был парень, который называл себя Мировым Злом. А я назвал себя Мировым Добром, чтоб не отставать. Потом показал на Машуркина и сказал, что вот, в таком случае, Господь Бог Вседержитель, который настолько устал от своего неудавшегося творения, – Васё широко развёл руками, – от этого всего вокруг… И вот всё это так его задолбало, что он уходит на свой новый крест, чтобы в стройбате его распяли, приколотив к кирпичной стене шпателями и стамесками. И все вы остаётесь без надзора Творца, потому что надоели ему хуже горькой редьки, я тогда был человеконенавистником… Ну а раз он уходит, должен возникнуть вопрос о наследовании, я предложил свою кандидатуру и сам же её утвердил, – он опять дико захохотал. – Я говорил тогда, что васё вокруг – это я, васё – мои владения…
По-моему, он уже утопал в своём смехе, как в речном плёсе. И вовсе не стремился к тому, чтобы его вытаскивали, утонуть хотел. Но я всё равно протянул руку и вытащил его из смеха за шкирку.
– Глупый детский солипсизм, – сказал я.
Он ещё побултыхался в своих приступах и наконец вынырнул.
– Да, конечно, конечно. Но ведь это так весело!
– Тебя просто не накрывало по-настоящему. Если бы ты столкнулся с реальным, а не выдуманным ужасом! Попал бы в настоящий, а не книжный переплёт!.. – я задыхался. Очень хотелось добавить: «как я», и рассказать про агностиков-каннибалов, но я просто не имел права.
– То я бы спокойно умер, – ответил мне Васё. – Сказал бы себе: «Сейчас ты умрёшь, посмотри внимательно, это последняя часть твоей жизни». И умер. Так всё и было бы.
– Ты бы просто обосрался! – прошипел я ему. – Полные штаны говнища!..
– Да, несомненно, – невозмутимо отвечал Васё. – И обязательно бы отметил эту восхитительную реакцию организма на происходящее. Было бы даже странно, если бы я не обосрался. Нормальная вещь – расслабленный от страха сфинктер, опорожнение мочевого пузыря и кишечника…
Этого дурака не перешибить. Он стреляет в ответ словами, как шариками жёваной бумаги, что бы ты ему ни говорил, каким бы змеиным шипом не плевался в его лицо, даже от настоящего, слюнного, плевка он утрётся и улыбнётся в ответ, как будто ты просто брызнул морской водой, а не харкнул ему в рожу. Его можно, пожалуй, только съесть, перерезать его горло, вспороть живот и выпустить кишки, очистить от накопившегося в них говна и набить его же мясом, колбасой из его плоти, да, выпить его кровь жадным упырём и сожрать его тело жовиальным хищным мясоедом…
В ответ на мой мрачный взгляд всё шире расплывалась его улыбка. Глаза (блудливые, зелёные, изогнутые, жадные до смотрения) и губы (тонкие, порочные, жадные не до еды или срамных и обычных поцелуев, – это бы ещё ладно! – нет, они использовались им для выплёвывания той же самой мерзости, которую я и сам так самодовольно нёс ещё какую-то неделю назад, говорил её каждому встречному-поперечному-таракану-запечному, изрыгал, ежесекундно взрываясь от самодовольства и не замечая этих взрывов, нет, это ведь не я говорил дерзости и мерзости, а сама истина вещала через меня, выговаривала себя людям на посмех, укоризну и тяжёлую нутряную злость… и от моего лица тоже, наверное, оставалась одна эта бесчеловечная улыбка, парящая в недостижимой запредельной выси, куда подлым человекам, съедобным людишкам, скоту, созданному на поед, вовек не подняться)… Что ты можешь знать, сукин ты сын? Чему ты, ёбаный кусок говна, улыбаешься?!..
А он всё ухмылялся. Мне стало скучно. Я мог бы вцепиться в его горло руками и удушить, смотреть, как глаза вылезают из орбит, наливаясь кровью, а губы из улыбочной ниточки-дуги расширяются в петельку и жадно ловят перекрытый, недоступный больше кислород, потом я бы разбудил его мерзкую Софью, которая даже не заметила меня, растолкал бы её так грубо, как смогу, – чтобы она вызвала милицию или кого там, скоро они будут называться не так, а по-новому, по-хорошо-забытому-старому, как будто до революции, когда мы отрезали себя от Европы, понавыдумав небывалых слов и непереводимых понятий… сидел бы в кухне, спокойный и отрешённый, Пианист, возможно, скрутил бы мне руки, и кто-нибудь меня стукнул бы, а то вдруг я ещё кого попытаюсь задушить, потом – всё, что полагается: суд, каторга, отрезанность от каннибалов, аффект, опьянение – это смягчающее или отягчающее? – зона, выживание среди ублюдков, которые убивают, насилуют, проигрывают друг друга в карты, но хотя бы не едят… интересно, там можно было бы рассказать о том, что со мной на самом деле приключилось? что я спрятался сюда от поедания или ослепления и высылки слепым и беспалым в Сибирь? в Сибирь спрятаться от Сибири – смешно…
– Интересный бы вышел коленкор, – прервал меня Васё. Я что – вслух разговаривал?! Или это он говорил о чём-то, а я пропустил, уйдя в своё безумие? – Впрочем, почему бы и не так…
Он всё улыбался, только теперь хитро щурился, как довольный кот.
– Прости, я что-то пропустил? По-моему, я пьян…
– Нет-нет, я ничего не говорил. Просто у тебя во взгляде была такая ненависть, я подумал, как было бы весело, если бы ты меня убил, вот прямо сейчас, – он опять прищурился и подмигнул мне. – Хотя… У тебя ведь нет с собой ничего – ножа, пистолета, – да?.. Но ты бы мог убить меня как-нибудь трэшово, например, забить до смерти табуреткой, вон, видишь – в углу стоит? – я посмотрел в ту сторону, которую Васё указал мне поворотом головы. Действительно – там стоял белый табурет, заваленный каким-то хламом поверх стопки книг и тетрадей, его почти не было видно, только самый краешек, высовывавшийся из-под глянцевых журналов. – Ну или просто задушить, скажем. Шарфом или даже голыми руками… Впрочем, у тебя слабые руки, они негодные для душительства…
Откуда он знает, что я хотел задушить его? А, Господи, это всё простое развёртывание слов, бредовая фантазия.
– Нет, – продолжал Васё своё быстрое бормотание, – у тебя руки не душителя, к тому же я бы стал отбиваться. Точнее, моё тело отбивалось бы от тебя, от твоего тела, а сам я, – он выдержал паузу; такие раньше «мхатовскими» назывались, – сам я спокойно бы наблюдал за исходом борьбы этих двух тел. Смотрел бы, не становясь ни на чью сторону, настоящий взгляд стороннего наблюдателя…
Почесав веки, я устало опустился на диван рядом с ним. Он всё улыбался.
– Что же ты меня не душишь? Встретил Будду – убей Будду. Встретил Бога – задуши Бога…
– Бог умер, – сказал я.
– А ты ещё нет? – и он опять противно захохотал. – Впрочем, сейчас тебя занесло бы ещё дальше, потому что убив меня, ты убил бы васё окружающее.
– Господи, не смейся ты так, пожалуйста!
– Не могу! – властно отмахнулся он. – Смешно потому что. А я не могу не смеяться, когда смешно. Что тебе нужно от меня? – спросил он внезапно.
– Ничего, – я опешил. Эти вечные игры записных фриков («и тебя – и тебя!!» – добавлял внутри кто-то; кто это был? – я ни разу раньше не слышал его).
– А почему ты тогда плакал на кухне, когда мы с Софьей вошли? – улыбки больше не было. Спокойный заинтересованный взгляд, в котором даже появился намёк на осмысленность. – Ты ведь кого-то или что-то просил?
– Просил, – я пожал плечами. – Теперь уже не прошу.
– Прошло? – спросил он.
– Да, наверное, – разговор снова стал надоедать.
– Тогда твоё прошение отклоняется по твоему собственному желанию, – он карикатурно осерьёзил свой сальный лоб морщинами, сдвинул узкие брови и выпятил губы.
Скоро Колоднов наколдыряется, напоётся, научит юное поколение правильному потреблению водки внутрь живота и пойдёт домой. И я с ним пойду. И не будет больше этих дурацких разговоров, сегодня, завтра, в выходные, может быть, никогда уже не будет.
– Что тебя гнетёт? – на этот раз Васё не смеялся, не ёрничал и не паясничал, а говорил спокойно и чуть устало, хотя ему-то от чего уставать?
– Так, разное, – ответил я. – Общая усталость, дела, университет, любовь… Несчастная любовь, – добавил я и попытался улыбнуться. Боюсь, что не вышло.
– Любо-о-овь, – протянул Васё задумчиво. – Любо-овь. С любовью-то всё образуется, это как раз легко сделать… Только нужно ли тебе это?
Какая ещё любовь? что он несёт? что я несу? это к Регине что ли любовь с её Борюсиком и её бывшим Семёном и Сашей этим тоже бывшим?
А ведь и правда любовь. Но это же так…
Мы же все не умеем любить, внезапно я отчётливо это понимаю. Мы умеем влюбляться пить дуть траву отжигать попадать в неприятности откуда нас извлекают опытные руки пап и мам причём тут любить вообще любовь кровь морковь вновь и вся эта выспренняя лабуда! это не по нашей части. Ещё мы умеем трахаться и пиздострадать кто-то разводить всех подряд как вот этот мой который лучший друг детства а кто-то умеет вешать лапшу на уши самому себе и получать от этого извращённое удовольствие как вот лично ты. А любовь-то здесь где и что это вообще за слово глупое несуразное ни с чем не сообразное кто его вообще придумал наркоманы пидарасы алкашня из-под своего забора. Любовь это же другое совсем это ответственность семья дети работа простые человеческие вещи. Это как у мамы с папой или там у соседей каких.
– Я могу тебе погадать, – огорошил Васё. – По руке, по кофейной гуще или на таро, только таро у меня нет, а за кофе надо вниз идти, я не хочу. Так что давай руку, – он взял сам мою левую руку, не дожидаясь разрешения. Я выдернул её.
– Почему по левой? И зачем мне вообще гадание?
– По левой потому, что ты левый человек, на редкость левый, даже левее, чем я, что бы по этому поводу кто ни думал, – он внимательно посмотрел в мои глаза. – Гора-а-аздо левее, – и снова схватил мою руку, посмотрел на ладонь и вздохнул. – Ты ещё не дошёл.
– Куда не дошёл?
– До самого края не дошёл. Сейчас зима, сумерки, темень и сплошная ночь.
– Ты имеешь в виду рассвет?
– Не рассвет. Самый край ночи. Рассвет – это уже не ночь, это утро. Первый проблеск, первое светление неба, и всё – уже не ночь, уже спокойнее и мягче на душе, жить снова хочется. А край ночи – это вот тот самый момент, когда ещё темно-темно, последние пять минут сплошной тьмы. Лучше всего ловится в безлунную ночь и где-нибудь за городом, где нет фонарей. Это самый низ ночи, её дно, – вот эти пять минут. Потом уже будет рассвет и начинается утро, день, свобода, солнышко сияет, и так далее и так далее. Всё просто: надо по календарю посмотреть время рассвета и за пять минут или десять до него сосредоточиться на ночном. Вот это и есть достижение края.
– Господи, да зачем мне это?
– У тебя личная ночь, одна большая частная ночь, длинная, как Полярная. И никто не знает, когда ты дойдёшь до её дна и будешь в самом низу.
– А что тогда? Когда дна достигну?
– Рассветать начнёшь. Точнее, в тебе рассветёт – солнце подымется, всё осветится и зацветёт, что же ещё? – он пожал плечами. – И тогда с любовью у тебя тоже наладится, вы будете вместе, и никто вам не помешает, раз уж ты так этого хочешь…
– Не хочу я этого, – я облизнул губы. – Нет у меня никакой несчастной любви, я тебя обманул.
– А я тебя тоже, – он высунул язык. – Я вообще гадать не умею, ни на чём. Вот рука у тебя и рука, а где на ней что, – все эти линии, бугорки, узелки, – я не знаю даже, как они называются. Так что в расчёте.
– А не пошёл бы ты… А, да ну тебя! – я махнул рукой и хотел уже выйти, но он остановил.
– Куда ты? Они там ещё поют, а у нас вино недопитое.
Мы молча стали договаривать вино из горла, передавая бутылку. Вино уже не щекотало глотку, а просто и буднично вливалось в неё, чуть обжигая. Если это и была ласка, то какая-то садомазохистская. Тем не менее, я продолжал пить; глотке нравилось.
– А что ты вообще здесь делаешь? – спросил я его. – Ну, в смысле, у Пианиста?
– Я у Софьи в гостях. Вообще-то я сюда к ней часто наезжаю. А вот тебя здесь ни разу не видел, – он ответил как-то обиженно, словно я подвергал сомнению его состоятельность в качестве гостя.
– Я здесь не был ни разу, меня Пианист не зовёт. Мы же с ним особо не контачим…
– Я тоже с ним особенно не общаюсь, – он зевнул. – Скучный он… И песни все эти дурацкие, певцы… Гребенщиков… А с Софьей мы старые друзья.
Помяни чёрта, и он появится. В дверном проёме горела рыжим волосом пианистова соседка.
– Сколько вы ещё базарить будете? – она окинула меня недовольным взглядом. – Вино моё жрёте, этот ещё траву у Кости вынул… Вы себя вообще в зеркало видели, собеседники, блядь?!! – голос её набирал высоту. – Сборище уродов моральных…
Втиснувшись на диван между Васё и мной, она продолжила сыпать инвективами. Сама же при этом закрыла глаза и вцепилась руками в наши колени – правой в моё левое и левой в его правое.
– Сборище выродков, дегенератов, блядогусениц, – бормотала она с закрытыми глазами. – Вы все нелюди, только притворяетесь людьми… Один ревёт, как баба, другой вообще моё платье напялил… Чтоб вам всем повылазило…
Только сейчас я вновь обратил внимание на одеяния Васё.
– Ты зачем её платье напялил, – спросил я его шёпотом.
– Не знаю, – так же шёпотом ответил он. – По наитию. Она тогда против не была. Ты не обращай внимания, ей просто разговор перед сном нужен, а то не заснёт… Просто слушай и поддакивай.
Просто слушать у меня с горем пополам получилось, а вот поддакивать – нет, потому что Софья не давала ни слова вставить в свой страстный спич, который сводился к перечислению наших видимых и скрытых пороков и преступлений (о скрытых она, судя по всему, догадывалась, читая в наших сердцах как в книгах разверстых) и накликанию на наши головы множества небесных и земных кар. К счастью, среди них не было пожелания быть съеденным, иначе я бы, по меньшей мере, вздрогнул, а то и вскочил бы с места, скинув её руку. Она между тем затихала, проклятия становились всё легче и дурашливей, а голос – медленней, Софья явно засыпала. Когда голос её совсем стих, и только вяло шевелились губы, видимо, по инерции, она неожиданно резко открыла глаза. Глаза у неё были зелёные, как и у Васё, только у него было больше болотности, а у Софьи они были ярко-леденцовыми (в самом-самом детстве и ещё в конце оного меня кормили таким советским монпансье, до сих пор оно вкуснее всех новодельных конфет), пронзительными, вызывающими. Глаза Васё как бы вкрадчиво зазывали утонуть в трясине, а Софьины звали посметь переплыть через эту морскую зелень. Она ошарашенно посмотрела сперва в мою сторону, потом в сторону Васё.
– Что я здесь делаю? – спросила она наконец, продолжая вертеть головой вправо-влево. Делала она это на редкость плавно, очень отточенными движениями.
– Ты здесь спишь, – ответил ей Васё. – А должна спать у себя. В постели. Ещё ты успела высказать мне и моему новому мёртвому другу много неприятных вещей... Кстати, позволь мне вас познакомить. Джон, это Софья, Софья, это Джон.
– Джон? – она похлопала глазами. – Это Иван или Женя?
– Джон – это Леннон, – устало ответил я. – Это из-за очков в детстве…
– Ааа, – Софья понимающе кивнула. – Круглые, да? А почему тогда не Гарри Поттер?
– Не сложилось, – я развёл руками. – И слава Богу, мне кажется. Гарик, который курит гарик или даже ширяет гарик – это была бы ужасная безвкусица.
– Да, пожалуй, – она отпустила наконец наши колени и похрустела костями, так же, как Васё в начале нашего дурацкого разговора. Разве что у неё получалось чуть приятней.
- У меня брат младший как-то меня спародировал, – сказал Васё. – Набрал в рот сухариков, двигает руками и хрустит. Шесть ему тогда было.
– У тебя есть младший брат? – спросила Софья.
– Да, в Архангельске.
– Ар-хан-гельск. Почему у русских городов такие прекрасные названия, а живут в них убогие ебанаты? – Софья презрительно скривила губы. – У меня была девушка из Архангельска. Её там однажды бутылкой по голове хуякнули, а подруге сломали кость. Потому что они были лесбиянками. Представляешь? – она посмотрела на Васё и зрачки у неё хищно расширились. – Ты вообще понимаешь, что это значит – в России, испокон, блядь, веков лесбийской стране, где баб гораздо больше, чем мужиков и где бабы гораздо сильнее, где лесбиянство никогда не осуждалось, какая-то идейная гопота, какие-то ёбаные, надроченные ортодоксами малые избили девушек?!!
– Ты права, – меланхолично процедил Васё. – Но пидарасов там вообще убивают, так что грех жаловаться. Хотя ситуация действительно скандальная и невероятная.
– Помогите мне встать, – попросила Софья. – Я не умею ходить во сне.
Подняв за руки, мы провели её только полметра, потом ноги её подогнулись и она обвисла на наших руках.
– Поднимай её за талию, – велел мне Васё. – А я за ноги возьму.
И в горизонтальном положении, у нас на руках, Софья не закрывала глаз. И даже продолжила вещать. Из неё снова посыпались инвективы и проклятия, на этот раз полностью адресованные городу Архангелов и всем его жителям, – малолетней гопоте, православным упырям, воспитывающим малолетнюю гопоту в ненависти и во злобе, обывателям, не остановившим, не отловившим и не наказавшим примерным наказанием преступников, лесбиянкам и пидарасам, бессильно дающим себя в заклание, тогда как следовало бы им вычислить мерзавцев, поймать и тихой безлунной ночью оскопить на лесной поляне, после чего засунуть во рты свежих кастратов их кровавые тестикулы и заставить как следует прожевать, затем выплюнуть кровавую кашу с непременно должной появиться блевотой и осколками зубов (надо же ведь как-то доходчиво объяснить им, что они должны, обязаны прожевать свои яйца!), из каши этой надо приготовить тюрю и оставить её на пеньке – на ужин дедушке-лешему (вернее, бабушке-лешей, лесной Диане Подархангелья, богине будущих победительниц).
– Ты потише, потише, Софья, – заметил Васё. – Там вообще-то родители мои живут. И брат.
Софья угомонилась. Тем более, мы уже донесли её до лежбища в её комнате. Там было гораздо аккуратнее, чем в комнате Васё: ровные стопки книг и дисков на деревянных полках, письменный стол, накрытый скатертью, на котором лежали только ноутбук и айпод (причём в какой-то невозможно идеальной симметрии по отношению друг к другу и к столу), стопка верхней одежды, казавшаяся только что принесённой из магазина и уже вытащенной из упаковки, но до сих пор не развёрнутой, даже диван, на котором Софья пыталась уснуть, был аккуратно заправлен, и постельное бельё лежало в правой его части горкой, увидав которую, вожатые пионерлагерей былых, неведомых мне времён, или дежурные по части, проверяющие новобранцев, пришли бы в восторг и объявили благодарность перед строем, пионерским или солдатским соответственно. На этот диван мы и сбросили нашу ношу (Васё как-то по-фиглярски хотел ещё и раскачать её перед броском). Софья упала в свой диван как в болото и обмякла, но глаз не закрыла.
– Ну, раз уж я сплю, веселите меня, – повелела она. – Я бы спустилась вниз, но там до сих пор сон про то, как пьют водку и поют песни. И это очень плохой сон, мне кажется, я не хочу его видеть. Он предвещает страшные потрясения, мор, трус и глад и великое переселение народов.
– Дура ты, – сказал Васё, – а не предсказатель. Сон этот предвещает всего лишь то, что который его видит, утром будет ощупывать голову – не болит ли она? И откашливаться, как будто горло устало петь.
– В любом случае, видеть этот сон я не хочу.
– Кто же его тогда видит? – спросил я. – Если я здесь, ты здесь, этот – тоже здесь, а все остальные снятся.
– А никто его не видит, – вывернулась спящая. – Он сам по себе. Сны не обязательно снятся кому-то. Очень часто бывает так, что они снят сами себя, просто так. А те, кто должен бы видеть их, видят совсем другие сны. Вот как я сейчас ваши рыла вижу, и они мне очень не нравятся. Вы ничего интересного не делаете, чего во снах полагается. Говорите что-нибудь дурацкое, прыгайте из окна, на худой конец, потрахайте друг друга. А то что за радость – видеть во сне, как меня носят по этому скучному дому?!
Васё посмотрел на меня, я – на него.
– Нет, трахаться мы не будем, – сказал он наконец. – В конце концов, мы не пидоры грёбаные.
– Это вы у себя там, в ваших комнатах, – не пидоры, – сопротивлялась Софья, – а у меня во сне вы кто угодно можете быть, хоть кто. Можете, например, достать из моего ящика стек и отстегать друг друга, а я буду смеяться и хлопать в ладоши и при этом ещё думать, что это всё какой-нибудь хитрый обряд, например, таким образом вы накликиваете на Пианиста увольнение, чтобы он отсюда уже съехал и перестал водить чёрте кого…
Здесь она наконец захлебнулась своими фантазиями и можно было встрять.
– Всё так. Но с таким же успехом мы можем достать этот стек и отстегать тебя…
Васё неодобрительно зыркнул на меня, но потом кивнул.
– Да, в общем и целом, раз мы в твоём сне, мы можем поступить и так. Он прав.
Софья, похоже, не обиделась.
– Ну да, да, – она оживлённо закивала нам обоим. – Это было бы что-то, почему нет… Что хотите, только делайте… Давайте веселите меня, а не стойте здесь с постными рожами!.. Только вот что, если будете трахать меня, давайте не вживую, а то я проснусь. Там в шкафу дилдо есть.
Мы продолжали стоять с постными рожами, хотя у меня неожиданно встал. И на душе почему-то потеплело. Кажется, я уже дня четыре не думал о сексе (а так ли часто я думал о нём вообще?), как-то мимоходом пропуская утренние стояки, не удивляясь им как обычно (раньше в просыпном набухании детородного мяса мне всегда чувствовалось что-то родное и тёплое, словно Тот, кто меня создал, посылает мне свой привет или просто напоминает, что помнит не только об остальных биллионах тварей своих, но и обо мне лично, вот об этом опухшем раздолбае, который только что вынырнул из сновидений и шарит рукой очки на столе). Тем не менее трахать Софью дилдом не хотелось. Не хотелось вынимать и стек. Лучше всего моё состояние описывала народная прибаутка: член действительно стоял – так, на всякий случай. Впрочем, все члены мира так и стоят, мне кажется. В половине случаев стоят не зря, а в половине – так.
Постная рожа Васё опустилась до уровня моей груди – её хозяин сел. А моя постная рожа зацепилась взглядом (нельзя же так откровенно пялиться на Софью) за белый листок, висящий над диваном:
к и т а й
щас вскочу! и подрочу:
мама! я в Китай очень хочу!
моя попа –
как постсоветская Европа:
во ло са та я
каждый волос словно голос
словно колос рвётся ввысь
каждый велес словно пенис:
за ши бись!
– Что это за хрень? – я указал на стих.
– А пошли вы оба в жопу, долбоёбы! – сказала Софья. – Ни разу ещё не видела сна, в котором два долбоёба тупо пялятся, ноют и не обращают внимания, – она отвернулась от нас и залезла под одеяло.
– Тут, Соня, есть одна проблема, – мягко возразил Васё. – Ты всё ещё уверена, что это твой сон. Тогда как он может быть и совсем другого человека. Ему предназначались мы, а тебе – пьяные песни внизу. Но ты всё резко изменила, махнулась с ним снами не глядя, а теперь ещё и недовольна. Он, может быть, тоже недоволен. Ему хотелось бы посмотреть, как хипстеры-уебаны пьют водку со старпёром, и он поёт им песни вековой древности. А вместо этого приходится не смотреть вообще ничего!
– Почему? Он ведь смотрит как раз их, ведь я с ним махнулась.
– Ни хрена. Потому что там его нет. Там никто не спит, поэтому никто не видит этого шабаша.
– Может, мы просто его не видим, – не сдавалась Софья.
– Тогда мы не должны были видеть и тебя! А видим! Вон твоя рыжая хитрая морда из-под одеяла! – Васё торжествующе-обвиняюще указал названное перстом. Софья забралась под одеяло с носом, только глаза было видно. Глаза теперь и впрямь были какие-то плутоватые.
– Нет-нет-нет, – она протестующе замахала руками, выбравшись из-под одеяла наполовину, до пупка. Во время нашего тупого перетаптывания она незаметно успела раздеться. – Вы меня видите только потому, что я вас вижу. Потому что вы мне снитесь. А то, что этажом ниже, – это вообще не моё и не ваше, это чьё-то. Нам оно недоступно, то есть мне недоступно, а вам вообще ничего не доступно, кроме меня. Вот! Если я сейчас проснусь или провалюсь в чёрный сон, без историй, вы вообще исчезнете!
Софьины солипсические игры меня не жалили и не бесили, как те, что вёл Васё. Я даже улыбнулся. Раньше бы захохотал и включился, но не тот сейчас был случай.
– А если мы повернём дело так? – Васё явно продолжал старый спор. – Что если это ты мне снишься? Но при этом и я тебе тоже снюсь, что тогда? Если ты проснёшься, то меня не станет, факт, но тогда и тебя тоже не будет, потому что ты исчезнешь вместе со мной.
– Да не может такого быть! Либо я тебе снюсь, либо ты мне.
– А ты попробуй представить мою схему. В неё трудно врубиться, но можно.
Присел на корточки. Что-то в их разговорах было очень приятное. Наблюдать бы, сидя у камелька. Словно чёрных котят, оставивших кошку лежать в корзине и убежавших играть в свою вечную игру «догони чужой хвостик» или «повали брата лапками и покусай ещё не острыми зубками за ухо».
– Нет, но это просто бред какой-то.
– Зато, если так, то мы с тобой обречены на существование бок о бок. Даже можно не это… Как это называется у приличных людей? – Васё обернулся ко мне. – Ну когда двое вместе связались? Жениться? Брачеваться? Да, можно вообще не идти в ЗАГС и не делать всей этой чепухи под идиотскую музыку. Даже никаких колец не надо. Это только нас двоих касается.
– Ммм, – Софья задумчиво уставилась в потолок. – То есть, получается, что нас связывает не Гименей, а Гипнос? или этот, как его, Морфей? Узы Морфея… Да, что-то в этом определённо есть… Подожди-ка! – она снова приподнялась; на этот раз её лицо было очень хмурым. – Я так понимаю, что это была очередная попытка наебать бедную девицу, которую ты, сукин сын, поёбываешь, а жениться не хочешь!
– Ну вот, – Васё пожал плечами. – Опять не прокатило. На фига тебе вообще этот брак?
– Нет, это великолепно, – Софья хлопнула в ладоши. – Я этого пидараса содержу, привечаю его, отдаюсь, на кинопремьеры вожу, а ему ещё и непонятно, на фига мне этот брак?!! Это тебе он нужен, идиота кусок!
Комические куплеты. Да. Я неожиданно почувствовал совершенную теплоту. Возможно, вино наконец-то вштырило и окончательно прибило.
– Я люблю вас, – сказал я. – Обоих. Обеих. Не важно.
– Нас не надо любить, – агрессивно отрезала Софья. – Нам тут нужно окончательно разобраться друг с другом. И чужой взгляд тут не поможет.
– Чужой взгляд никогда не помогает, – поправил Васё. – Он не для этого нужен.
– А для чего?
– Для того, чтобы прояснить свой взгляд. И иногда бывает так, что свой взгляд отказывается вылазить и реагирует только на чужое присутствие… Точнее, на иллюзию чужого присутствия. Потому что этот самый чужой, чей взгляд, он просто стоит и ничего не делает. С таким же успехом можно поставить полено или статую и считать, что это полено на тебя смотрит.
– Это всё ваш психоаналитический бред.
– Ты не путай. Психоанализ – это совсем другое. Там цель не в том, чтобы вылез свой взгляд под глазами доброго доктора. Нет, там фишка примерно такая: свой взгляд совсем уж глубоко зарылся и вылезать отказывается напрочь. Вообще, чтобы любой свой взгляд отрыть, нужно очень постараться, даже в самой благоприятной ситуации, а тут он уже на уровне Трои, или там, не знаю… Вавилона!.. И люди приходят к простой идее, которая к ним всегда обычно приходит в тяжёлой ситуации. Если нам лень делать самим, мы это просто купим. Покупается взгляд дяди-доктора, красится в индивидуальную расцветку и всё в порядке. В принципе, раньше всё было точно так же, только называлось – исповедь, и на тот момент это уже было очень аут-фэшн. Тогда старина Зигги и нарисовался со своей новой фигнёй на рынке.
– Ну, возводить психоанализ к исповеди, – это банально…
– Все настоящие вещи – банальны, – Васё пожал плечами. – Банальность зла, банальность добра. Банальность любви, опять же… Банальность брака. Это я к тому, что наше извечное перетягивание каната, в котором не менее, чем мой принципиальный отказ от брака, работает твоё неостановимое желание меня к нему принудить… Короче, эта тягомотина хотя бы веселит.
– Мдааа, – полуголая Софья мрачно задумалась. – Что-то в этом есть, конечно… С другой стороны, это всё – софистика, как и обычно.
– Понимаешь, – чуть мягче продолжил Васё, – если мы с тобой заключим брак, то сразу же начнётся полная фиготень. Мы с тобой пропадём в материи, обрастём миром мебели, посуды и техники и постепенно в нём утонем. С головами.
– Почему с головами?
– Потому что с головой мы с тобой тонем сейчас. Непонятно, в чём, но тонем. Самое главное, что – с одной головой. Сейчас мы, как ни странно, один человек. А в браке мы превратимся в мужа и жену и будем разведены по своим специальным стойлам.
– Непонятно, – пробормотала Софья и снова зарылась под одеяло.
– Ну что, ты уже засыпаешь?
– Не знаю… Я и так спала. Может, всё-таки потрахаете меня дилдой? – она заискивающе-обиженно посмотрела на меня.
– Мне кажется, не стоит, – я виновато посмотрел на Васё. – Тем более, при нём.
– Это не страшно, – Васё махнул рукой. – Это ведь ещё Ахматова написала: «Все мы бляди тут, пидарасы»… Вот и мы тут такие же, так что не волнуйся.
– Мне кажется, я не смогу. К тому же мне скоро уходить…
– Да ничего, подождёт твой старый хрен!
Васё уже вынимал из шкафа красную гуттаперчевую елду.
– Смотри какая, – он шутливо хлопнул меня хуем по лбу.
Я взял елдак в руку и взвесил. Тяжёлый, собака. И ведь нельзя сравнить с весом живого члена – стоячий член не отрежешь. Мне вспомнились два немецких идиота, одному из которых отрезали член, а потом они его вдвоём съели, предварительно пожарив с чесночком и перчиком. Мне стало плохо. Не так, чтоб сблевать, а просто как-то муторно.
– Я, наверное, не смогу, – я сглотнул. – не сдюжу.
– Ты сперва его смажь как следует, – Васё достал из шкафа тюбик, выдавил прозрачного червячка и старательно, со знанием дела навазелинил дилдо. – А ты смажь себя, – сказал он Софье.
Та быстро сплюнула и убрала ладонь под одеяло.
– Вот теперь сон мне нравится, – довольно сказала она. И подняла одеяло.
Так нас Колоднов и застал: поднявшая одело Софья, Васё со стеком в руке (зачем он ещё и его достал?), я с искусственным членом в руке. Софья смотрит в мою сторону, но скорее на член, чем на меня, Васё косится в сторону двери, но смотрит скорее на меня, я почти целиком смотрю на Колоднова и только краешком глаза вижу что-то белое, полноногое, настолько краешком, что даже не рассмотреть наличия или отсутствия волос.
– Кажется, я помешал, – скептически заметил ересиарх.
Когда я повернулся к Софье, она уже снова была под одеялом.
– Да, – обречённо заметила она. – Пока вы не вошли, здесь было интересно.
– Ну, я могу выйти, – сказал он.
– Да нет, не стоит. Поздно уже. Я уже окончательно проснулась, – с этими словами она окончательно спряталась под одеяло с головой. Васё выключил верхний свет, оставив своей подруге слабое мерцание ночника.
– Пойдёмте, – сказал он нам. – Мы ей больше не нужны.
Когда мы вышли, он пробормотал мне что-то вроде: «Соответствуй, парень, у тебя есть все шансы», – махнул рукой (как-то неопределённо, то ли нам обоим, то ли только мне) и быстро скрылся в своём занорке.
– Извини, что всё вам обломал, – Колоднов впервые говорил смущённо, и это мне очень понравилось. – Выглядели вы хорошо, со стороны, я имею в виду.
– Да фигня всё, – я тоже был смущён. – Не жалко. То есть, может, уже и жалко… Ну да ладно.
Обмениваясь рукопожатиями и обычными прощальными фразами, мы добрались до ворот. Последнее «удачи тебе, парень» было произнесено уже почти у выхода и было адресовано неизвестному мне арсеньевскому актёру, мучительно блюющему в сугроб. Может, мне показалось, но он дружески махнул рукой, не отрываясь от своих скорбных трудов и не выходя из раскоряченного положения.
– Эк его, – добродушно заметил Колоднов. Он вообще заметно потеплел. У него дома мы довольно быстро обрубились по своим лежакам. То ли по пьяной рассеянности, то ли от избытка теплоты и доверия, но Колоднов в эту ночь не приковал меня к кровати (и в следующие несколько ночей, что я у него провёл, тоже не приковывал).
26
какой-то подъезд обычный подъезд
ну как во всех домах бывает только никто не выходит покурить не выносит мусор не ссыт в мусоропровод как это заведено
даже кошки нет никакой
они ведь часто в подъездах живут такие рыжие серые черепаховые в основном очень странные сочетания цветов попадаются
либо прячутся ото всех чтобы погреть своё кошачье тельце либо кто-то им уже выставил миску с молоком и с перловой кашей иногда там даже рыбы есть куски
мяса обычно не дают мясо только для домашних
мясо сами поймайте это кошкам как бы так намекают
всё равно везде есть мыши и крысы а на улице живут шустрые воробьи вот их кошкам и положено ловить
а кошкам неохота они уже привыкли чтобы миска стояла
и брать их к себе никто не берёт
кошек вообще брать не спешат их только выкидывают быстро
когда ребёнок появился или когда хозяин кошки помер старик обычно или ещё чаще старуха эти дольше чем старики живут потому что не пили не курили а старики обычно всю юность и зрелые годы сосали сигареты и ухали водяру в лужёные желудки мало того они ещё и в старости бывает беломорины посасывают и попивают а потом ходят пошатываясь и пытаются чужих старух кадрить но это больше юмор и весёлые шутки сограждан такие потому что чему уж там стоять после беломора и водки
вот от этого всего и помирают раньше
а старухи нет те дольше могут до лавочки добрести и посмотреть на солнышко
и вот если такая старуха умирает то кошка её как правило никому не нужна даже если она чуть не такая же старая как мёртвая хозяйка
иди скажут шевели в лес копытами ты же это европейская лесная кошка вот и пиздуй себе в европейский лес
а мы городские квартирные люди будем вместо тебя в городской квартире жить
ты ведь сама кошка подумай если бы так не полагалось всё бы по-другому называлось совсем
слова-то они от Бога человеку дадены а Бог он врать не будет
и тогда кошку упаковывают в мешок и отвозят но почему-то не в европейский лес а в городской лесопарк высаживают там под деревом дрожащую от страшных запахов и звуков и всё
бывает кошка умная она под машину сама бросается лучше так чем от голода или если тебя собака есть будет
чтобы тебя собаки ели это последнее дело знает кошка мы их не едим и они нас не должны
а я однажды видел как кошку переехала машина не в городе а в дачной полулесной местности
я сперва даже не понял что случилось
кошка так билась в судорогах как будто к ней из-под земли подкопалось какое-то животное подземное невидимое какой-нибудь неведомый науке ядовитый крот-мясоед вот он к ней подкопался и впрыснул в кошку смертельный яд и она бьётся в пляске несвятого Витта как будто специально так танцует как хлыст или суфий или хасид только не для того чтобы Бога увидеть а наоборот Бога она уже видит и теперь хочет скорее вытряхнуть из себя все свои девять душ чтобы они скорее к Богу попали может быть там они встретят всех-всех котят которых у этой кошки утопили за её недолгую жизнь
или как будто её просто кто-то невидимый соткавшийся из воздуха душит трясёт как плюшевую игрушку
может быть эта кошка тоже сама под машину бросилась хотя с чего бы ей спрашивается?
короче в этом подъезде никого нет и по-моему здесь вообще никто уже не живёт и не то что он заброшенный паутиной обросший нет тут не так
тут словно бы пять минут назад все были старушки старики-алкаши домохозяйки со спиногрызами которые ещё не ходят в детсад потому что совсем маленькие и беспомощные как котята и такие трогательные всё время всего боятся пищат тянутся к огню и свету и надо их от всего оберегать укачивать успокаивать
это я помню потому что сестру мелкую совсем видел я и сам тогда не очень большой был но всё равно помню а меня мелкого совсем только очень взрослые видели
и вот все пять минут назад тут были а теперь нет их уже исчезли в одну секунду вещи их всякие остались телевизоры в пол-стены стиральные машины холодильник под потолок всё это осталось а хозяева пропали как и не было
лет в четырнадцать я зимним вечером гулял по Новому Арбату и думал а вот если бы все люди исчезли все разом оставили бы только припаркованные машины и те которые на ходу тоже внезапно замерли бы ну то есть как будто кто-нибудь остановил время быстренько удалил всех людей погасил всё движение а потом снова запустил время и чтобы человек десять-двадцать осталось в Москве и во всех больших городах также человек по двадцать не больше какой бы это был невероятный экспириенс ночевать в чужих холодных и тёмных квартирах днём брать из супермаркетов консервы потому что всё остальное испортилось к чёрту и постепенно искать друг друга находить воевать найденными пистолетами лучше сразу договориться по-человечески потом научиться запустить электростанцию на один небольшой участок
и так бы во всём мире такая серьёзная перезагрузка всей земли а потом бы началось новое размножение путешествия в бывшие центры цивилизации за нужными вещами полезными книгами прежде всего учебниками необходимых умений и книгами по основам мира за инструментами презервативами акушерским инвентарём непросроченными лекарствами горячительными напитками со сроком выдержки и успокаивающими и веселящими наркотиками
только не за опиатами конечно
хотя и опиаты хороши если человеку больно очень но там трудно удержаться врачу и самому не заширяться так что опиаты лучше не надо
лучше что послабей но только не такое коварное и злодейское как опиуха
я так живо это себе представил тогда ну может быть про наркотики я не думал но в общем так вот это представил полное исчезновение людей что даже сам остановился внутри толпы которая весело ходит туда-сюда и пьяно и сыто ржёт потому что новый год наступает и можно не работать а вместо этого синячить смотреть шутки Петросяна по телевизору и ходить в кино на новые весёлые фильмы
меня отмело к какому-то бутику или кабаку не помню уже и я целых десять минут вверх смотрел всерьёз ожидая что сейчас всё остановится и люди начнут исчезать может все сразу а может пачками небольшими группами или даже хитро как-нибудь сперва женщины потом мужчины потом дети
я даже не задумался тогда что может сам замру и вполне возможно исчезну в одной такой группе людей
и в общем я стою и не знаю что дальше делать в этом подъезде потом кто-то спускается два мужика каких-то они несут холодильник и что-то друг другу говорят на матерном мужском языке
я понимаю что у одного из них прошлым холодильником отдавило член и он его отрезал и выкинул бродячим собакам а вместо него припаял искусственный и теперь хвастает что если раньше ещё надо было помацать или голое представить чтобы встал то теперь он сам всегда его может поставить
рукой поднял и как влитой он говорит
тогда ты мне тоже отдави холодильником второй ему отвечает я себе длинный и чёрный поставлю как у полицейских
я вжимаюсь в стену чтобы они мне чего-нибудь не отдавили они проходят продолжая материться как сапожники
может они напрямую и не говорят матерных слов но я хорошо и отчётливо понимаю что они именно что матерятся
потом думаю мало ли вдруг ещё кто-нибудь что понесёт подымаюсь на пару этажей сажусь на подоконник а сверху спускается девчонка в одном классе со мной училась тысячу лет её не видел
привет говорит что это ты тут расселся
не знаю говорю наверное чтобы холодильником меня не повредили
а это она понимающе кивает это ты не бойся они уже ушли они только по средам раз в неделю ходят холодильники выносить теперь их неделю не будет так что всё нормально
понятно говорю а ты здесь какими судьбами
она присаживается рядом со мной на подоконник и обнимает за плечи
я сюда в театр пришла месяц назад да так и осталась здесь театр есть глубоко внизу в пятом подвале
а что в театре показывают
да разное всякое я почти не знаю как всё это называется вчера вот показывали смешное два мужика сидят нигде ничего не делают просто сидят и ждут чего-то а два других мужика мимо ходят туда-сюда и все четверо иногда ржать начинают а иногда ужинают и так всё время ничего не меняется
я понимаю что она рассказывает это комедия которую написал этот как его короче тот сумасшедший француз который писал только по-ирландски
может вместе сходим как-нибудь она спрашивает мне понравилось а тебе тем более это всегда нравилось
давай говорю пойдём
и мы сперва спускаемся этажей на десять ниже но это ещё не подвалы потому что за окнами лестничных пятачков улица и тусклое зимнее солнце
потом спустившись мы начинаем целоваться и мять друг другу обратные стороны тела вот такой вот театр
а спускаться всё равно надо мы оба это знаем потому что там внизу настоящий театр там всё-всё-всё но это ведь будет как конец всему поэтому надо переждать и подольше друг друга лапать в театре не полапаешь там все тихо сидят как мыши а если кто зашуршит то со сцены спрыгнет актёр и как кот схватит шумного зрителя за шиворот и унесёт своему хозяину показать предварительно выпустив зрительские кишочки
и ещё я очень остро понимаю что теперь эта одноклассница будет принадлежать только мне и что у нас есть ещё время до театра чтобы лапать друг друга целую вечность
27
Колоднов ещё похрапывал. Я поднялся и протёр глаза.
Какие-то мне не те бабы снятся. Я уже даже забыл, как эту девчонку звали. Нет, как звали, смутно помню, – кажется, Варя. А вот фамилию уже как отрезало.
Вернувшись из кухни в спальню с кружкой горячего чая, я потряс Колоднова за плечо. Он что-то промычал и с трудом расчехлил один глаз.
– Чего тебе?
– Слышь, Колоднов, дай-ка мне в интернет залезть.
– Ну так залезай, хули будить!
– А у тебя там паролей не стоит?
– Нет там никаких паролей, иди к чёрту! – и отвернулся от меня.
Бывшую одноклассницу я довольно быстро нашёл в социальной сети. Она училась на психологическом факультете неизвестного мне университета, а свободное от заочной учёбы время посвящала хитрым акробатическим танцам, во время которых попеременно опираются на стопы, кисти рук, колени, локти, судя по фотографиям, также на голову и седалище.
Вот интересно, современная Саломея, если бы она танцевала перед Путиным или там Сурковым или ещё каким пидарасом из властного кооператива, выпрашивая себе в подарок голову Лимонова или этого Навального, она бы танцевала танец семи покрывал, будоража стареющую мужскую плоть? или всё-таки что-то в этом духе, в коротких шортиках и маечке, открывающей обозрению живот, но при этом с потрясающим воображение руко-и-ноговерчением? Будь я стареющим сластолюбивым деспотом, я бы предпочёл всё-таки второй вариант. Ну, а Путину с Сурковым виднее. Тем более, что перед ними вроде никто пока не танцует, по крайней мере, слухов таких не было…
Вскоре к моему разглядыванию всплесков яростной плоти присоединился сумрачный с похмела Колоднов. Он внимательно и вдумчиво рассмотрел все фотографии.
– Ебаться вот так надо, а не акробатничать, – выдал он наконец своё веское мнение. – Все вы какой-то фигнёй страдаете вместо старой доброй ебли. Эта телесами на сцене вертит… Лучше бы с мужем так вертела! Ты вон бабу резиновым членом оприходовать собирался. У тебя что, своего нет? Поколение долбоёбов, блядь! – и он ушёл поправляться на кухню.
В середине дня к нам пожаловал Ногин. Приехал он неожиданно, без звонков, просто нарисовался за дверью и позвонил. В руках он держал потрёпанную спортивную сумку. Рядом с ним стояли какой-то молодой гвардеец и скучающий Даня.
– Я войду? – спросил Роман Фёдорович. – Поговорить надо.
– Входи, – сказал поправившийся пивом и заметно подобревший ересиарх.
– Подождите меня в машине, будьте любезны, – обернулся Ногин к спутникам. Те кивнули и отошли к лендроверу, припаркованному неподалёку.
Колоднов проводил спутника на кухню и налил две чашки чая.
– Михаил Васильевич, – серьёзно начал Ногин. – Вы зачем нашего человека украли?
– Во-первых, я его не крал, – покачал головой Колоднов. – Я его позаимствовал. Так же как вы позаимствовали его у обычной человеческой жизни, если я правильно истолковал ситуацию. Во-вторых, кто это вам сказал, что он – ваш человек?
– Мы тоже сперва думали, что он не наш человек, – кивнул Ногин. – Однако довольно быстро мы убедились, что он всё же такой же, как мы. Точнее, не такой, но он – очень важное для нас существо.
– Если он так для вас важен, то почему же он не хочет быть с вами? – Колоднов показал в мою сторону рукой. – Почему этот бедный паренёк не хочет быть одним из ногин-югенда? – при этих словах роман Фёдорович заметно скривился, но тут же вновь попытался придать лицу нейтральное выражение. – Он домой хочет, этот пацан, а вы говорите, что он – ваш…
– Но вам-то он зачем?
– Мне? А мне он нужен, чтобы стал первым моим учеником. У вас-то вон их сколько, – Колоднов широко развёл руками. – А у меня – ни одного. Вот я и подумал, что этот, – кивок в мою сторону, – подойдёт.
– Вы, кажется, перешли уже границу нашего терпения. Мы долго терпели ваши еретические измышления, – Ногин начинал заводиться.
– Подожди, подожди, Роман, – Колоднов примирительно пододвинул Ногину одну из чашек. – Ты чаёк пей кипячёный, а сам давай не кипятись. Давай посмотрим на ситуацию адекватно. Я имею на этого парня ровно столько же прав, сколько и вы. Я так же вынул его из мира съедобных людей, как и вы. Тоже думал сделать его человекоедом, только на мой, а не на ваш лад, чтобы мы с ним ели мёртвую человечину. Думал даже подзудить его в морг устроиться или корешей там завести. Но вижу, что ничего из этого не выйдет. Тут ты приходишь, говоришь, чтобы я его вам вернул…
– Я такого не говорил, – отрезал Ногин. – Я пришёл сюда не требовать незаконно изъятое…
– Законно, Роман, законно. Не более незаконно, чем вы. А ты, кстати, не хочешь ли подискутировать со мной о природе законов, о том, как к ним следует относиться и каким из них следовать, а каким – нет?
– Нет, – дискутировать с вами об этом я не хочу, – ответил Ногин. – Я сюда пришёл не дискутировать, а договариваться.
– Ну давай договоримся.
– В общем, – Ногин неожиданно замялся. Для него, всегда уверенного в изрекаемых им истинах, это было очень нехарактерно. – Мы ожидаем от молодого человека деяния. Деяния, которое он, скорее всего совершит неосознанно, так же, как он, – Ногин опять помялся, подыскивая приемлемое слово, – вынул нас из небытия и во всеуслышание заявил о нашем существовании. Вот так же будет совершено то, что необходимо совершить.
– И в течение какого времени вы собираетесь этого ожидать? – прищурился Колоднов.
– Не большего, чем мы положили в самом начале, – серьёзно ответил Ногин. – Если во вторник днём ничего не будет, то он нам не нужен.
– Что же мне тогда с ним делать? – почесал в голове Колоднов. – Убить его и съесть… Хоть я об этом и подумывал… Всё равно – это поступиться моими убеждениями, а я так не могу.
– Ни в коем случае не надо его убивать, – прервал Ногин. – мы обещали молодому человеку свободу и выход обратно, с естественным требованием соблюсти молчание, – тут он впервые посмотрел на меня, цепко и внимательно. – В противном случае, сколь это ни прискорбно, нам пришлось бы повторно извлечь его из обычной жизни и подвергнуть соответствующему наказанию…
– А зачем бы это? – спросил Колоднов. – Не проще ли сразу обезопасить и себя и меня от угрозы огласки?
– Ни в коем случае. Молодой человек нащупал нас, кем бы мы ни были, в хаосе и безднах окружающего нас мира, нащупал наугад, вслепую. Уже это одно делает его неприкасаемым и несъедобным.
– Вот так значит, – протянул Колоднов. – Ну что ж… Договорились.
– Вот, - Ногин протянул ересиарху сумку, – те его вещи, что у нас остались. И одежда. И вот ещё, - он открыл барсетку и вынул мой мобильник. – Если до середины вторника я не позвоню вам, Михаил Васильевич, отдайте ему всё и довезите до города. Или хотя бы до станции.
– Молодой ещё, – Колоднов зевнул во всю пасть. – Пешком дошлёпает, чай, ноги не отвалятся.
– Нет, нет, – покачал головой Ногин. – Довезите его, будьте добры. Уже за один этот свой взгляд молодой человек достоин уважения, – он второй раз посмотрел на меня и впервые обратился ко мне напрямую. – В том случае, если мы в вас ошиблись, молодой человек… Джим, да, я, кажется, звал вас Джим… Мы навсегда сохраним о вас память, Джим. Я надеюсь, что нам не придётся извлекать вас обратно и применять к вам те меры, о кторых говорил Макс. Он ведь говорил вам, что с вами сделают, чтобы избежать разглашения сведений?
– Говорил.
– Если вы не оправдаете наших надежд, я искренне надеюсь, что нам не придётся встречаться с вами ещё раз. А вообще-то, я надеюсь, что мы с вами увидимся до конца вторника, – он встал и церемонно кивнул нам головой. – А теперь позвольте мне с вами попрощаться, у меня очень много дел.
– До свидания, Роман, до свидания, – Колоднов приподнялся. – Заходи ещё, если что.
– Я надеюсь, что мы больше не увидимся, Михаил Васильевич. После этого инцидента, – Ногин поморщился, – мы больше бы не хотели видеть вас на своих собраниях. Я искренне надеюсь, что вы останетесь наедине со своим учением и не будете нас больше беспокоить.
– Хорошо, как скажешь. Надеюсь, что и с вашей стороны…
– Не беспокойтесь. К вам мы точно не собираемся применять никаких мер. Живите и не волнуйтесь. В конце концов, мы, пусть и не близкие, но всё же соседи. Поэтому нам следует жить в добрососедстве, – эти слова Ногин произнёс уже на пороге. Он ещё раз кивнул головой хозяину и мне, выглядывающему из кухни в прихожую, и ушёл.
– Ну вот и чудненько, – заключил Колоднов, заперев за ним дверь. – С глаз долой, из сердца вон, как говорится.
– Какого чёрта ты предлагал меня убить?!! – сказал я ему, оторвавшись от ногинской кружки, к которой тот даже не притронулся.
– Слышь, молодой, ты тоже давай не горячись, – Колоднов страдальчески обхватил виски руками и грузно опустился на стул. – Что вы все такие шебутные и громкие, а? Опять голова заболела, – он порылся в шкафчике, в котором держал нехитрую аптечку и вынул оттуда упаковку цитрамона. – Я не предлагал тебя убивать. Я просто понял, что они к тебе неровно дышат и решил проверить степень этой любви. А заодно и укрепить её прямо противоположной позицией. Они же меня терпеть не могут и буквально каждое моё предложение встречают не то что в штыки, в танковый огонь! Чем больше они меня ненавидят, тем больше они полюбят тебя, потому что я тебя не люблю, не ценю, разочаровался в тебе, как в ученике и всё в этом духе…
В сумке обнаружилось акуратно сложенное в четыре раза пальто, ботинки, упакованные в коробку, рюкзак с Грином и остальным понедельничным содержимым.
Зазвонил колодновский мобильник.
– Да? – спросил он. – Что? Ааа, понимаю, понимаю. Нет, Роман, так не пойдёт. Но я могу тебе гарантировать другую вещь. Каждого из тех, кто придёт, я пошлю на хуй. Да, именно в такой форме. И не открою дверь. Угу. А может ещё и в бубен засвечу. Что? Ну, в таком случае, я этого делать не буду. Именно по той же причине, что и первую твою просьбу выполнять не буду. Угу. Но то, что все твои теперь для меня неприкасаемые, с этим я целиком согласен, так будет честно. Да, договорились. Бывай. Да, прощай, если тебе так приятнее.
– Этот перезванивал, – ответил Колоднов на мой вопросительный взгляд и закурил. – Забыл мне сказать, что не хочет, чтобы кто-нибудь из его учеников продолжал меня посещать. Я, правда, думаю, что все они, молодые долбоёбы, которые заходили… Что все они агенты были ногинские и стукачи. Но Ногин, похоже, перессал, что кто-то из них и впрямь в ту лабуду, что я им нёс, поверил. Просил, чтобы я ему о каждом посещении сообщал, кто без их ведома придёт. Ну уж это ему хрен! Чтобы они этого идиота из-за моего стука съели, ага! Я даже при советской власти ни на кого не стучал…
– Кстати, а как насчёт моего мобильника?
– А зачем он тебе? – ухмыльнулся Колоднов. – У нас ещё примерно четыре дня в запасе. Вдруг ты да сподобишься на это де-я-ни-е, – он саркастически фыркнул. – Каких только идиотов земля носит… Впрочем, ладно, бери, – он протянул мне звонилку. – Но ты её лучше не включай. Положи к себе и всё, от греха подальше. Во вторник включишь и домой поедешь.
Я с сомнением посмотрел на телефон, но всё же решил послушаться ересиарха.
28
В пятницу вечером нас осчастливила своим визитом Алсуфьева, от которой я узнал про Зайцева, Шапошникова и Соню. Мы пили, смеялись, потом я заснул. Сквозь первую дрёму я слышал какие-то подозрительные звуки. По-моему, они начали трахаться прямо в той комнате, где я спал. У меня возникло острое желание вынырнуть из забытья и подсмотреть, но то ли сон, то ли что-то другое меня сдержало. Так что я довольно быстро заснул, под уханье и кряканье, ну и под пружины, конечно.
В субботу мы снова пили и ничего не делали.
В воскресенье мы снова пили и ничего не делали.
В понедельник утром я проверил свою электронную почту.
29
Впрочем, утверждать, что с вечера пятницы по утро понедельника мы только пили и ничего не делали, не совсем корректно. Мы много, весело и плодотворно работали языками, переругивались, вышучивали друг друга, поддерживали и опровергали наши химерические, возникающие из продымлённого воздуха и растворяющиеся в нём же идеи и опровергали их.
Это началось даже не в пятницу. Скорее, сразу в среду что-то уже было произнесено. В четверг было сказано больше, но тогда мы не обратили на это внимание, занятые более насущными проблемами. В пятницу уже было гораздо больше, особенно когда мы с Колодновым уже отбоярились от ногинцев, каждый на свой лад, один – со статусом отверженного ересиарха, второй – почётного неприкасаемого мальчика-фетиша. Но в пятницу все карты спутала краеведица, на которую переключился Колоднов. В субботу и воскресенье мы говорили больше всего.
Колодновских идей я уже почти и не помню. Они были на свой манер очень красивы и, конечно, неадекватны, как у всех шестидесятников. Если он найдёт способ их поведать, то у него лучше получится (впрочем, я думаю, что прежде всего ему помешала бы это сделать та самая лень, которую он так часто упоминал, – нет, он не жаловался, просто спокойно ссылался на неё, как бывает, ссылаются на язву желудка, отказываясь от алкогольного угощения).
Мои идеи тоже были на редкость неадекватны. Так считал Колоднов, который вообще ко всему не укладывающемуся в его шестидесятнические каноны, относился крайне подозрительно.
Началось всё, кажется, с того, что я рассказал Колоднову о том, как чуть не задушил Васё, думая таким образом спастись в тюрьме от «соответствующих санкций» Ногина. Во-первых, они бы до тебя и в тюрьме добрались, заметил Колоднов. Во-вторых, вот бы ты там насосался. Как же так, не понял я. Я же человека убил, а не изнасиловал кого, тем более ребёнка. Какие же вы идиоты, начал в своей обычной манере крыть моё поколение Колоднов, вы даже детей не насилуете не потому, что это аморально, а потому, что за это в зоне опускают. Нет-нет-нет, не согласился я, это ведь с вашим поколением всю Россию захватило преклонение перед блатными и их понятиями. У нас уже всего лишь мифы, слухи, отголоски, шёпотки. Мы слышали анекдот, в котором парню объясняют, что два самых страшных оскорбления на зоне – петух и козёл. Мы слышали шутки на эту тему и разговоры парней со двора про то, что на зоне и в армии за свой базар отвечают. Мы видели куски каких-то телесериалов, в которых происходит чёрте что. Но у нас нет друзей, которые туда спустились. Нет, в каждом дворе есть семья, в которой парня приняли, повязали и закрыли. И мы им сочувствуем, если это, конечно, не изнасилование или убийство. Даже если он просто отжал айпод или айфон у хипстера с другого района, мы, точно такие же хипстеры, сочувствуем. Не парню, конечно, а матери. Все видят её лицо, как она крепится и старается не показывать свою боль, как иногда стыдливо опускает глаза, не смея взглянуть в лицо соседкам, таким же домохозяйкам, как и она. Видно, что ей больно и горько. А уж если повязали травяного, спидового или ешечного барыгу, мы с ним целиком солидарны. Во-первых, теперь надо искать нового барыгу, во-вторых, он пострадал в некотором роде из-за нас, ведь он на нас работал, в-третьих, всем понятно, что его взяли не за то, что барыжил, а потому, что мусорам в их мусарню пришла разнарядка на барыг, и они взяли ту мелкоту, которая до этого ходила в их районе, большие же боссы откупились большими деньгами. Раньше мелкий барыга мог откупиться от тормознувшего его мента небольшими деньгами, но на этот раз его взяли сразу несколько, а с ними ещё и капитан, а таких денег, чтобы сразу – всем, да ещё и капитану – капитанскую сумму, столько у барыги с собой уже нет, так что там надо нести серьёзные суммы: прокурору и следакам, да ещё и адвокату поверх легальных, чтобы тот по своим каналам занёс всем этим судейским. Если у барыги есть папа с мамой, если им жалко своё детище, тогда да, может выгореть. А если нет, или если им сына не жалко, то всё.
Нет, мы перед блатными не преклонялись, подумав, отвечает Колоднов. Не было такого. Его поколение во всём уважало меру, оно и было Поколением Меры и Гармонии. Они уважали нормы нашего, советского мира, то, что можно было через жопу работать, зато тобой за это чрез жопу управляли, через жопу распределяли нефтедоллары на душу населения, посылали людей в Афган и закрывали или высылали несогласных. Уважали и ковбойские нормы врага, который, судя по доступным фильмам, рассматривал нас в качестве очередных бизонов или индейцев. Это были нормы воинов, хищных, смелых, ловких и коварных. Такого врага можно было уважать. Ну и конечно уважали нормы ада, внутренней подземной страны, в которую пидарасов ссылали за их пидарасничество, чтобы те, очутившись в аду, вдоволь получили своих запретных удовольствий, пусть и в предельно жёсткой и принудительной форме. При этом к вольным пидарасам, некоторые из которых были соседями, а то и, не дай Бог, друзьями, а там и вовсе – всесоюзными артистами (ну или хотя бы заслуженными артистами республики), никакой ненависти и даже презрения не было. Это как в Спарте – уважали тех, кто втихую и тайком, били только тех, кто попадался. Понятия тоже были нормами. Пусть их и не существовало в чистом виде, пусть опускали далеко не только за голубую статью, но и за слабость, за красивые глаза, по просьбе начальника, чтобы сломать бунтаря-антисоветчика, это всё равно. Главное, что они были как миф о них, и этот миф нельзя не уважать.
Ну уж нет, говорю я. Вот вы все и погорели на том, что уважали иллюзорные ценности, весь этот ваш космос и коммунизм. А которые были с другой стороны, те погорели на своём, неважно, что они там выбирали себе в качестве фетиша, ленинские нормы социализма, протестантскую этику и дух капитализма или русскую национальную идею с православием, дворянством и чтобы можно было в школах розгами по жопе пороть. Всё это – мерцание, пустота, чистый вакуум, там ничего нет. Потому и просрали страну, что все блажили невесть чем, каждый на свой вкус, а делом занимались единицы, да и то – какие там дела были…
Нет, мы не так разговаривали, но очень похоже. Мне уже не вспомнить порядок разговоров. Они вспыхивали то тут, то там.
Хорошо, говорит Колоднов. Я тоже не против гомосеков, я тоже в понятия не верю, но что с того?
А вот что, говорю. Давай в глубины залезем и посмотрим, что там есть.
Давай, Колоднов говорит, посмотрим, что же ты там нашёл?
Я залез в глубины отрывочных знаний и сведений и вернулся обратно с ворохом засохших фактов и покрытых плесенью и паутиной историй. На этот раз я не боялся, что вытащу каких-нибудь новых каннибалов и те съедят меня. Теперь я умел управлять своей фантазией, подкручивать шарики и ролики интерпретационной машины и смазывать маслом шестерёнки домыслов.
Давным-давно, целый век с небольшим охвостьем назад, в Европе тоже жили гомосексуалисты. То есть, они там вообще всегда жили, да и не только там, но это не важно. В те времена гомосексуалисты почти во всей Европе были под запретом, их могли посадить в тюрягу, отправить на каторгу, или, если гомосексуалист был богатым и родовитым или занимал важный пост, его могли опозорить, разрушить ему всю жизнь и карьеру. Однако обычно их никто не трогал, главное, чтобы они не высовывались. Когда богачи-гомосексуалисты фланировали по улицам больших городов, они были одеты очень респектабельно, чисто, опрятно, от лучших мужских портных. В общем, они почти не отличались от богачей-гетеросексуалов, которые тоже фланировали по улицам больших городов, вот только носили красные галстуки. До сих пор никто не знает, когда и где возникла эта мода, но она была повсеместной. Настолько, что даже в американских медвежьих уголках и в Бразилии местные щёголи, желая подцепить в баре паренька и провести с ним горячую латиноамериканскую или скупую колорадскую ночь, надевали красный галстук и шли в салун или бар искать миловидного огольца с дырявыми карманами.
В России жил самый раскрепощённый пидор того времени, поэт и прозаик Михаил Алексеевич Кузмин. В то время как его английские и французские коллеги страдали втихомолку, а если и писали про столь знакомые им увлечения, то расцвечивали их порочными оттенками, топили в модной «нервной усталости» fin-de-ciecle и обязательно добавляли трагичности ближе к концу, чтобы показать добрым читателям, что ничем хорошим такие связи не заканчиваются, Кузмин написал уникальную книгу, полную намёков на самый посконный быт (в частности, там изображены бани, в которых он и другие состоятельные пидоры покупали любовь добротных банщиков из деревенских) и одновременно превозносящую эту свою страсть, ничем не отличающуюся от всех остальных страстей и, лично для него, самую воздушную. Так тогда не писали даже ловкие на все руки французы, у которых не существовало уголовного наказания за добровольный секс между мужчинами (впрочем, у них был великий маркиз де Сад, написавший о содомии немало проникновенных строк, так что им не стоило и трудиться; а где-то в утробе уже дожидался своего выхода в мир маленький бульдоголицый Жан Жене)... Так вот этот самый Кузмин, позируя для портрета своему хорошему другу Сомову, тоже надел красный галстук, вылезающий из-под острой, но крепкой бородки, над которой блестят его оливковые глаза.
В это же самое время в Европе жило великое, смешное, неунывающее, всклокоченное племя мечтателей, которые считали, что надо всех освободить и тогда настанет Последняя Пасха, Второе Пришествие Христа или Всемирный Коммунизм, совершенно не важно, как всё это назовут люди, главное, что всем станет хорошо, надо только всем всё разрешить: женщинам – делать аборты, мужьям и жёнам – разводиться по обоюдному желанию, да и по желанию одного супруга – тоже, всем людям – не верить в Бога, точнее, говорить об этом вслух, потому что в Бога можно не верить и так, но когда при этом надо идти в воскресенье в церковь или покупать только кошерные продукты, это как-то глупо. Ну и конечно надо разрешить парням в красных галстуках любить в своё удовольствие, без опасения, что их могут шантажировать, а то и вовсе засадить. Это было хорошее племя, хоть и непутёвое. Когда в России была первая революция, многое сразу же разрешили. Когда случилась революция вторая, то запретили первоочередные опасные вещи – свободу печати, свободу слова, свободу собраний, все чужие газеты и партии. К тому же, среди вторых революционеров было немало представителей этого интернационального племени. Они думали, что благодаря диктатуре лысого стратега они смогут выплеснуть завоёванную свободу и в другие страны. Кроме того, среди них было немало практикующих доморощенных оккультистов. Они считали, что мало того, что они многое разрешили (аборты, однополую любовь, свободу не верить в Бога, – вот с последней не заладилось, её пришлось уравновесить несвободой верить в Бога), надо как следует закрепить эти свободы магическими операциями. В то время многие антропологи и этнографы с увлечением и энтузиазмом исследовали обряды примитивных племён, живших в Африке, Азии, Южной Америке и Австралии. Похожие обряды всплывали в истории «цивилизованных» стран и даже в современности. Среди них особый интерес вызывал обряд инициации, посвящение во взрослые члены племени. Этим интересовались военные, которые хотели ещё больше сплотить в единый монолит подотчётные им армии. Этим интересовались мистики, которые втайне дрочили на военных и мечтали, как со временем те помогут мистикам стать хозяевами государств, тогда-то мистики плечом к плечу с военными покажут этому жалкому современному человечеству, как надо жить по правде, а не по лжи, с этими мерзкими торгашескими «не обманешь – не продашь» (на самом деле мистики просто не умели торговать, да и работать особо не любили). Думали об инициациях и главы больших фирм. Им казалось, что превратив сотрудников, от жалкого курьера до самого главного босса, в одну большую семью, племя, торгующее машинами или швейными машинками, они смогут потеснить на рынке вражеские племена. В этом они были похожи на военных, только считали, что будущие войны будут вестись с помощью объёма продаж. Военные отдавали предпочтение пушкам, захвату ресурсов, земель, колоний, рабов. Много кто интересовался инициациями. Доморощенные оккультисты предложили партии и правительству колоссальную идею: превратить всю огромную страну завоёванной свободы (несмотря на многочисленные запреты, свобода в той стране действительно пока ещё была) в одно большое сверхплемя. Вдруг будущие поколения, нажученные недобитыми реакционерами, откажутся от нашей свободы, говорили они. Им наплетут сказок о том, как раньше де было лучше, о том, что вся наша свобода ни к чему не привела, что мы всё запустили и разрушили, разбазарили государственные территории, отпустив Польшу, Прибалтику и Финляндию. Тогда молодёжь вышвырнет нас из дворцов, повесит нас за ноги на памятниках тем из нас, кто умрёт до этого печального дня. Надо отнять детей у старых и навсегда сделать их нашими. Что же вы предлагаете, недоумённо вопрошали Ленин, Троцкий и прочие. А мы будем с детства посвящать их в люди, отвечали им. Сперва они будут детьми своих родителей, лет до восьми-девяти, потом мы отберём их и пустим их по первой тропе к нашему великому знанию, посвятим в первую ступень. У греков, говорили они, молодых ребят, до появления у них бороды, старшие их бородатые товарищи, могли причащать своей мужской охотничьей силе. А как же это происходило, спросил заинтересованный Ленин. А таким образом, ответствовали ему, что бородатый друг, сильный охотник и смелый воин, мог поиметь мальчишку в заднепроходное отверстие, или же возя своим мужским членом у него между бёдер, предварительно натёртых скользким маслом или хорошо смоченных слюной, или ещё одним способом. Вот как, изумился Ленин, скажите на милость! Какой интересный обряд, батенька. А есть и ещё интереснее, говорили оккультисты, вот у новогвинейского племени баруя считалось, что ребёнка целиком формирует мужское детородное семя, поэтому им кормили матерей, чтобы в грудях у них образовывалось молоко, да и детей до взрослого состояния тоже «доделывали» таким же способом, передавая от мужчин необходимые качества. Ох, ответил Ленин, ещё того забавней. Но не считаете же вы всерьёз, что наша будущая смена, наша юность и молодость тоже должны быть… уж и слова не подберу, батенька! Нет-нет, Владимир Ильич, успокоили его оккультисты, ничего подобного. Просто мы в знак этого их подчинённого возраста, в который они вступили, отметим их специальным знаком. Мы повесим им на шеи красные галсуки, которые носят взрослые любители тех же опытов, что и в греческих и новогвинейских обрядах. Они, правда, не придают им такого сакрального значения, а только лишь получают удовольствие, но это не так уж и важно. Потом, когда мальчики и девочки достигнут половой зрелости, мы посвятим их во вторую ступень иерархии, которая для большинства из них останется и последней. В этом возрасте, Владимир Ильич, во множестве племён молодым мальчикам делали обрезание полового члена, а в некоторых племенах обрезали и девочек. Это как, удивился вождь, как же это возможно? Им делали операцию клиторидектомии, Владимир Ильич, удаляли небольшой кусочек внешних половых органов. В этих племенах считали, что половое чувство должно быть доступно только мужчине. Эту же операцию, только в совершенно иных медицинских условиях, до недавнего времени проводили и в Европе, когда считалось, что женщина уж слишком сильно одержима половой любовью. Да ведь это прямо классовое угнетение женщин мужчинами, пошутил Ленин, впрочем, мы с Надеждой Константиновной в этих делах не очень разбираемся. В любом случае, говорили оккультисты, обрезанием полового члена мальчиков посвящали во взрослые юноши, их уже можно было учить охотничьим и военным делам, а девочек готовили к браку и рождению новых детей, мы же станем готовить подростков к жизни коммунистов. Все они будут достойными представителями советского народа, но лишь лучшие из лучших потом поднимутся на третью ступень посвящения. Этих лучших будут принимать в Российскую Коммунистическую Партию Большевиков.
Стоит ли говорить, что хозяева страны одобрили этот план трёхчастного ордена, в котором будет состоять вся страна, от мала до велика. Низшей ступенью поручили заниматься Надежде Константиновне. Долго думали, как назвать весь орден целиком и отдельные градусы. Кто-то предложил назвать низшую ступень «Золотой Зарёй», но его вовремя поправили, сказав, что, во-первых, золото – это главная ценность буржуазии и поэтому не может присутствовать в названии, а во-вторых, так уже назывался один орден, он обслуживал интеллектуальные и магические нужды британского империализма. В итоге, вспомнив о том, что низшая ступень – это первый шаг на пути ко второй ступени, предложили назвать детей первопроходцами – пионерами.
Всё в те же неспокойные времена жили в России маргиналы, которые зарабатывали себе на жизнь воровством, грабежами, убийствами и шулерством. Из-за своей асоциальности эти люди часто оказывались за решёткой, где нередко проводили долгие годы. Некоторых из них даже вешали. Впрочем, в эти годы (несколько десятилетий до первой революции) правительство чаще вешало более серьёзных преступников – тех, кто бросал бомбы в царей и стрелял в министров. А те маргиналы, жестокое отребье, выросшее в суровой патриархальной деревне, бежавшее в леса и города от отсутствия пахотной земли, все эти душегубы и кровопускатели превращались на каторге в особый народ. Больше всего они ненавидели тюремное начальство, встречавшее арестантские этапы, отмахавшие в кандалах тысячи вёрст, а позже «столыпинские вагоны», набитые под завязку, всё теми же привычными с детства розгами и рвущим звериное мясо кнутом. Начальство не достать, оно высоко-высоко, а отплатить за побои кому-то нужно. Так рождалась новая вера, с новыми обычаями, правами и законами. В полуязыческой-полухристианской стране эта вера ушла глубоко под землю, в ту страну, где вскоре извлекут из-под земли нефть и природный газ. Сибирских арестантов окружали льды, тундра и чужие кочевые народы. Стоит также упомянуть, что эта секта была строго разделена по половому признаку. Её первых иерархов выхватили из жизни и заточили в чёрный монастырь, где они долгие годы должны были провести не видя женщины. Это было частью наказания. Впрочем, женщины и на воле были для этих людей не больше, чем игрушкой, внезапным недолгим счастьем. Ещё совсем недавно их предки женились по велению помещика и по его же выбору, а в их дни близкие их родичи часто сочетались с жёнами по воле патриарха семейства, иногда в самом нежном возрасте, чтобы снохой сперва вдосталь наудоволился отец мужа. В чёрных монастырях Сибири иерархи новой веры постановили, что будут жить вовсе без баб, что бабы будут при них только для достижения их целей, для того, чтобы продавать их любовь иноверцам и чтобы рождать потомство. Слово бабы ломаного гроша не стоит, говорили они. Баба – это полчеловека, подхватывал кто-то. Мой сосед-старовер, сразу вспоминал третий, говорил из старых книг по памяти, что жена – сеть сотворена, прельщающи человеки в сластех светлым лицем, высокою выею, очами назирающи, ланитами склабящися, языком поющим, гласом скверняющим, словесы чарующи, ризы повлачающи, ночами играющи. Поэтому не станем же обольщаться, братие, пусть враги падут от наших жён, которых мы нашколим, как охотник школит своих ловчих сук. А я сидел в остроге под Казанью с учёными горцами, бунтовавшими с их царём Шамилем, вспоминал четвёртый. Они хотели обратить меня в своё магометанство, потому что я скалил зубы и не волчился на них, я же хотел лишь обуть их в карты. Так вот они говорили мне, что по их закону, что говорит один мужик, могут оспорить только две бабы. А их учитель Махмет говорил, что у бабы двадцать четыре ребра, а у мужика двадцать три, но все двадцать четыре бабьих ребра одного мужского не стоят. Верно, орали все, когда будем их школить, ломай им рёбра, не боись – зарастут, зато будет сильнее к врагам, нам покорнее. Иерархи гуторили, сходились, расходились, пили крепкий сибирский чай, поигрывали в карты. Тогда во всём мире пришло время новых мессианских религий. Сумрачный лондонский изгнанник учил, что будущее наследуют рабочие люди, бесправные и униженные. Они поднимутся, писал он, и поставят царство всеобщего равенства и долга. Многие другие учили, что править будут их нации. Соплеменник лондонца, не оставивший своего отечества, говорил, что править будут просто сильнейшие. У него не было своих учеников, да он бы и не взял никого, потому что не нужны ему были ученики, он ненавидел смотрящих на учителя и раззявивших рты в ожидании плевков им в глотки. Был ещё француз, утверждавший, что будущее должно принадлежать потомкам самых первых индоевропейцев. Французу казалось, что эти потомки в наилучшем виде, без чужих примесей, сохранились только в скандинавских странах, Англии, Ирландии и в северных областях Германии и Франции. А ещё один англичанин, соглашаясь с французом по вопросу превосходства последних индоевропейцев, был более категоричен в их локализации. Он был пламенным поклонником одного талантливого немецкого композитора, который уже успел разорить маленькое Баварское королевство, платонически любил его жену, а когда его немецкая жена одряхлела, он развёлся с ней и женился на композиторской дочери. К этому времени он уже окончательно перешёл с английского на немецкий, говорил, писал и думал только на нём. Бывший англичанин верил в то, что будущее принадлежит только самым-самым чистым индоевропейцам, а такие остались только в Германии, те же, о которых писал француз, не так чисты, как им должно быть. Наши маргиналы из чёрных монастырей тоже решили поделить мир на чистых и нечистых. Чистыми стали они – вынужденные монахи Сибири, да и то не все, а только наиболее ревностные в доблестях победы над ближним. Многие становились вынужденными монахами по глупости, из-за пьяного куража или жизненной злобы, однажды выплеснувшейся из них и унесшей с собой некстати подвернувшихся. По природе своей такие не были ревностны в подвигах, они довольно быстро раскаивались в содеянном и терпеливо несли монастырские повинности, ожидая возвращения в мир после очищения их духа через страдания плоти. Такие не были чистыми, но и вовсе грязными их не назовёшь, они были – серединка на половинке, ни рыба ни мясо. Совсем грязными, ненашими, другими стали считать свободных мирян, которых Пастырь создал не на что иное, как на прокорм чистым. Грязных надо было победить и чистые занимались этим сколько могли, пока очередной побеждённый грязный не приводил их в чёрный монастырь. Не то что бы чистые в открытую стремились оказаться там, вовсе нет, тем не менее, монастырь они больше любили, чем мир грязных. Его ласково называли домом, устанавливали свои законы проживания, обязывали молодых нечистых получить вид на жительство (этот ритуал в каждом доме был свой), выбирали собственных игумнов, которые разбирали дела нечистых, келарей, следивших за тем, чтобы продукты, присланные из мира, распределялись среди чистых и не совсем чистых в зависимости от их статуса, экономов, содержавших и оберегавших общемонастырскую казну. Всё это, конечно, не в один год так получилось, и даже не в десятилетие. Секта и её быт оттачивались пропавшим временем, в котором все жили в этих монастырях, восставшие против мира и отвергнутые им. Окончательно всё отлилось в устав только после второй революции. В первые десять лет новой жизни власть так активно боролась со всевозможными крестьянскими сектами, уничтожала бегунов, духоборов и молокан, особенно жёстко взялись за хлыстов и скопцов, которые вообще ни одной власти не нравились, особенно последние, тремя печатями отсекавшие мужское хотение. Только секту чёрных монастырей советская власть прохлопала. А ещё до советской власти было совещание первых иерархов, тайный собор, на котором была высказана следующая идея: нашей внутренней жизни необходимы внутренние миряне, которые будут обслуживать нас, обстирывать и за всё отвечать. Таких возьмём из тех, что ни рыба ни мясо, решили все. А что делать с ними, чтобы лучше слушались? А для этого надо создать совсем чужих, сказал кто-то. Я, говорит, слышал про индийские страны, что там всё тоже строго и правильно. Там есть такие люди, которых нельзя трогать и вещей их нельзя касаться, и еды их есть тоже. Где же мы таких возьмём, спрашивают? Жалко всё же, что у нас тут баб нет, пожалобился ещё какой-то, они бы и обстирывали и ботинки чистили, да и оттараканить их можно. А вот пусть у нас такими будут те, кого мы оттараканим, нашёл решение самый мудрый. Это будут как бабы, вот только мужики. Тогда обслуга, да и те, что ни рыба ни мясо, бояться страх как будут. И вот скопом обходили новоприбывший молодняк, убояривали играть в карты, а шулеры среди чистых были знатные и заводить игрой умели. Молодёжь, проигравшись в пух и прах, лезла отыгрываться, должала, а потом уже целой толпой принуждалась расплачиваться по долгу задницей. По большей части из деревни, пареньки знали, что богатые люди иногда чудят и на этом можно хорошо заработать, многие даже устраивались в большие города банщиками, там за это приплачивали самые большие чаевые, поэтому молодёжь и не подозревала, что за этим воспоследует. После покрытия долга неудачливых картёжников пинками и ссаными тряпками прогоняли с их нар в грязные вонючие углы, велели лежать там до скончания срока и никого не трогать. Так и появились новые грязные внутри чёрного монастыря.
В те же годы в России, на юго-западной окраине жил неудачливый нищеброд Иосиф Джугашвили, которого судьба и безвольный характер швыряли из одной крайности в другую. Он то поступал в семинарию, чтобы стать священником, то начинал верить в новое учение, созданное лондонским изгнанником, то грабил инкассаторов и отдавал полученные деньги в кассу новой церкви, то поступал на работу в полицию секретным осведомителем, доносившим о своей секте. Среди прочих его недолгих увлечений было послушничество у хулигана, мошенника и просто весёлого человека Георгия Гурджиева, который увлёк юношу магическими операциями, а заодно переделал его гороскоп, сказав, что теперь его ждёт судьба великого властителя, а не мелкого бандита, как звёзды сулили ему раньше. Кроме того, Гурджиев во время совместных променадов и поздних завтраков объяснил молодому ещё Иосифу, что никакого Иосифа не существует, что есть сотни и даже тысячи Иосифов Джугашвили, каждый из которых не равен другому; все эти Иосифы мимолётны и быстротечны, они сменяют друг друга в двадцатипятилетнем теле, сидящем напротив него в уютной беседке, быстрее теней листвы; пока я сижу и говорю тебе это, ма-ла-дой, через тебя проносятся десятки тебя, а всё потому, что каждый из них – это никакой не ты, это всего лишь порождение моих слов, тот Иосиф, который выслушал мои первые слова уже вовсе не тот, что сейчас дослушивает; здесь Гурджиев закурил папиросу с турецким табаком, молниеносно вынув её и тут же спрятав красный портсигар с серебряной гравировкой, – что-то по-арабски, – в карман пиджака; молодой с завистью и презрением посмотрел на умного и пообещал себе никогда не курить папирос; ты – кукла, всего лишь механическая кукла, внезапно сказал Гурджиев, ты и все остальные люди; Сталин начал было вставать с грязными словами, но Гурджиев пристально взглянул ему в глаза и неудачливый нищеброд сел обратно; Гурджиев удовлетворённо кивнул и выпустил ему в лицо дым, продолжая буравить взглядом; я – тоже кукла, доверительно сообщил Гурджиев, но я это знаю и потому уже это преодолел, а ты ещё нет, а теперь расплатись за нас обоих и убирайся отсюда; по щелчку узловатых, похожих на деревянные, пальцев Гурджиева, появился безусый мальчик и назвал точную сумму; Сталин вынул портмоне из брюк, выгреб оттуда мелочь, достал две купюры и положил на стол; постой, сказал Гурджиев, оставь парню на чай; Сталин вновь выгреб мелочь и аккуратно придавил купюры столбиком из монет, затем ушёл, не попрощавшись; Гурджиев остался допивать мукузани. Они встречались ещё несколько раз – Сталина взволновала идея о том, что никакого Сталина на самом деле нет; она очень хорошо объясняла, почему Сталин занимается чёрте чем и бросается из одной крайности в другую. Господа Бога душу мать, сказал Гурджиев и в сердцах хлопнул себя рукой по лбу, когда Сталин грубовато, но в то же время заискивающе стал расспрашивать его о подробностях сталинской размноженности. Господа Бога душу мать, повторил Гурджиев, ты просто баран, дурной баран! Сталин стерпел эти слова и за это узнал, что человеческих личностей и вовсе не существует, что все они не больше, чем трепыхания опавших листьев, перегоняемых ветром, всего лишь механические реакции на внешние раздражители. Кроме того, Сталин вновь заплатил в кабачке. В следующую встречу Гурджиев был устал и хмур и почти ничего не рассказывал, только мрачно ругался. Потом Сталина поймали полицейские и посадили, дальше были побеги, новые посадки, Туруханский край, где он чуть не замёрз, а Гурджиев за это же время поставил мистический балет на ориентальной подкладке, очаровал юного депрессивного мудака Успенского и уехал с ним на Кавказ, а оттуда – в Европу. Сталину было не до него, он искренне радовался и первой революции и второй, пил вино во время сухого закона, мрачно оправдываемый перед остальными товарищами Лениным («он же – грузин, им без этого никак»), командовал фронтом; и как-то незаметно гороскоп, переделанный Гурджиевым, начинал исполянться.
К этому времени Сталин уже смирился со своей непостоянностью и раскоординацией мышления, более того, он пришёл к выводу, что это вовсе не недостаток для великого властителя, которым он ещё не стал, но станет, теперь-то уж обязательно станет, наоборот, это выигрышная особенность. Он начал изучать эзотерические тексты, беседовал с мистиками, командировал Блюмкина в Тибет искать Шамбалу. К слову сказать, «Книга Закона», отправленная Алистером Кроули ему, Гитлеру и Муссолини, вовсе не была перехвачена хитрожопым Хрущёвым через своего агента товарища Товстуху, как утверждают некоторые мутные источники. Нет, Сталин прочёл её самолично, сразу после перевода приказав расстрелять исполнителя оного. «Книга Закона» ему очень понравилась, хотя многих слов в ней он не понял, особенно тех, что начинались с большой буквы. Окончательно он перестал ей доверять в сорок первом году; кто-то из мемуаристов вспоминает, что в Кунцево на столе перед Сталиным возвышалась большая горка пепла; этот очевидец ошибочно приписывает этот пепел непрерывному нервному курению вождя; на самом деле, это был тот самый перевод злополучной английской поэмы; Сталин в бешенстве сжёг её, а потом долго и опустошённо смотрел в никуда; во всём была виновата цитата, стих двадцать четвёртый второй главы, которому он почему-то последовал, доверившись, как последний семинарист: «Остерегайтесь, дабы не обратить силу друг против друга, Царь против Царя! Любите друг друга с пылающими сердцами, попирайте низших в неистовой страсти гордости вашей, в день гнева вашего». Сталину казалось, что и Адольф думает так же, но тот как раз и не читал «Книгу Закона», во-первых, он не доверял любым англоязычным мудрилам, даже тот мерзавец, укоренившийся в Германии после женитьбы на дочери любимого композитора Адольфа, не добился бы от него признания, не перейди он в своё время на немецкий; всех английских и американских интеллектуалов Адольф считал «вырожденцами и плутократами, продавшимися жидам»; во-вторых, «Книгу Закона» перехватил и прочёл Гесс. Какое влияние она на него оказала, в точности неизвестно, однако он пережил всех своих товарищей, хоть и прожил последние сорок лет в одиночной камере в Шпандау; есть авторитетное мнение ряда оккультных деятелей, что настоящей целью его полёта было не столько сближение Гитлера с Черчиллем, сколько личная встреча с Кроули, чтобы тот подробнее рассказал ему о Каирском Делании, во время которого Кроули явился демон Айвасс, напевший текст «Книги Закона»; эти же деятели утверждают, что в 1987 году, семнадцатого августа, Айвасс таки явился ему самолично, устав от назойливых гессовых медитаций, заклинающих его «прийти и всё рассказать, как оно есть»; как известно, в этот же день Гесс был найден повесившимся. Впрочем, всё это прямого отношения к делу не имеет.
Итак, Сталин любомудрствовал и пил из разных источников Знания. Он восхищался сочетанием несоединимого, перепадами настроения и резкой сменой курса. Ему понравилось смешивать противоборствующие стихии настолько, что даже оппозицию он решил сделать достойной противницей своего синкретического характера и мягко, но настойчиво попросил НКВД объединить «левых» и «правых» бунтарей в единый, «троцкистко-бухаринский блок», куда вошли «ультралевые» и «ультраправые». В эти же годы он вновь стал, теперь уже издали, наблюдать за деятельностью Гурджиева, который тогда жил в Фонтенбло, в Шато де Приёрэ, большом замковом поместье, там Гурджиев основал свой Институт Гармоничного Развития Человека. Чтобы избавить своих учеников от ложных «Я», навязанных им извне, помочь им проснуться от глубокой спячки и ощутить искру Божественного присутствия, скрытую в каждом индивидууме, Георгий Иванович заставлял их долго и нудно работать, вскапывать грядки, мостить дороги, рыть каналы. Стоит полюбить любой труд, в особенности – грязный и тяжёлый, учил Гурджиев, стоит отдаться ему целиком и полностью, забыв о своём существовании, и в человеке проснётся невероятная ясность сознания, непрекращающееся и необратимое видение вещей и себя истинного. Кроме того, в качестве психологического тренинга, Гурджиевым постоянно практиковалось стравливание учеников друг с другом, ссоры и свары, которые он провоцировал, периодически доходили до рукоприкладства, в общем, жилось в Приёрэ сложно, но весело, европейским и американским интеллектуалам очень нравилось. Верхом же «институтской» практики было упражнение ист, во время которого ученики, по сигналу учителя, должны были замереть в тех позициях, в которых сигнал их застал, полуприсевшими, занесшими ногу для ходьбы и т. д. Все эти развлечения Сталину очень понравились, он задумчиво поскрёб бритый подбородок, прочтя сообщения агентов из Парижа и подумал, что надо бы и ему разбудить коммунистов от человеческой спячки, хотя одних коммунистов будить – это как-то мелко, будить, – так уж весь советский народ сразу, целиком и без остатка, ведь нашей важнейшей задачей, первоочередной целью, к которой ведёт народ партия, является построение социалистического общества в одной, отдельно взятой стране. Для того, чтобы в более сжатые сроки провести форсированную индустриализацию нашей страны, необходимо своевременное обеспечение города продуктами деревни, прежде всего зерновыми и мясо-молочными. Однако товарищи крестьяне, помимо выполнения своих природных трудовых обязанностей, должны не забывать, что в нашей стране они должны быть, так сказать, авангардом общества, его локомотивом, тянущим весь Советский Союз вперёд. Таким образом, следует прежде всего поставить крестьянское население в такие социально-экономические условия, которые, помимо непосредственно производственной части, будут носить ярко выраженный научно-педагогический характер. Аграрный авангард должен быть первообучен отсутствию в социалистическом индивидууме иллюзорного личностного начала, крестьянские массы должны первыми из нашего народа постичь свою подлинную коммунистическую природу, кропал Сталин в своём секретном докладе ближнему кругу. Одновременно с крестьянами Сталин принялся будить технических специалистов, потом представителей национальных меньшинств, потом военных, потом самих энкавэдэшников, которым идеи вождя настолько понравились, что в процессе массового избавления народа от ложных личностей они достигли каких-то невероятных показателей. Огромные толпы должны были работать, проникаясь любовью к рытью каналов, добыче золота и рубке леса; это было подлинно общенародное дело, в процессе созидания должен был выкристаллизоваться тот новый человек, который будет освобождён от всех последних иллюзий, за которые так цепляются жители бездуховного Запада, грешники в топках буржуазно-империалистического ада; этот новый человек будет лишь капелькой в океане, клеточкой огромного организма.
Чтобы плодотворнее работать и обучаться, людей пачками отправляли в те самые чёрные монастыри, уже давно обжитые сектой. Сектанты в этих местностях были чем-то вроде коренного населения, занимали все главенствующие посты и, в отличие от новопоселенцев, были хорошо организованы, к тому же их, как трудно обучаемых элементов, решили особо не трогать и не прижимать (ведь и в каждом классе есть своя пара имбецилов, от которых учителям в жизни не добиться и проблеска разума в глазах; на них все машут рукой и засыпают тройками, переводящими из класса в класс). Более того, Сталин дал личный приказ «не браться за этих» и даже не пытаться их переучивать и отбивать от их исконной веры, а наоборот, использовать их как важный фактор для создания необходимой атмосферы обучения. Этот урок он тоже почерпнул у старшего товарища: Гурджиев особенно ценил таких учеников, которые создавали конфликты, мучая других и себя своим тяжёлым характером. Известно даже, что однажды один такой «взрывной» ученик, некто Рахмилевич, в очередной раз вспылил и объявил, что он уходит из этого идиотского вертепа; Гурджиев тогда всплеснул руками и тут же нанял крестьянина с телегой – догнать и вернуть столь полезного парня; крестьянин нашёл несносного Рахмилевича сидящим на чужой яблоне и яростно уничтожающим яблоки, громко чавкая и плюясь. Он дал себя уговорить и вернулся, – «Не знаю, что бы я без него делал», – вздохнул Гурджиев, отсчитывая крестьянину деньги. Начальникам многочисленных «институтов гармоничного развития советского человека» было приказано дать чёрным монахам полную волю, не гонять их на работы сильнее учеников, вообще особо не гонять на работы и не вмешиваться в их уклад. Чёрные монахи, в свою очередь, определяли новоприбывших в почти грязные, выделяя из них лишь рапсодов, умевших занимать их досуг долгими рассказами о небывалом, и музыкантов с певцами. Иногда они, впрочем, делали кого-нибудь грязным, не от похоти, а из шутки или злости. Кроме того, грязными автоматически становились те, кто осуждался за принадлежность к братству красных галстуков; эта свобода, принесённая первой революцией, была Сталиным отобрана назад, причём никто в точности не знает, по какой причине. Есть предположение, что в это время в кругах армейского командования, а также среди простых офицеров, была популярна полуоккультная-полудекадентская теория «укрепления боевого духа красноармейцев взаимной страстью»; офицеры цитировали «Пир» Платона и протежировали подпольные клубы красноармейцев-красногалстучников, предполагая вырастить первые советские фиванские легионы. Сталину эту идея очень не понравилась; во-первых, он на дух не переносил декаданс (по своей привычке к противоположным тенденциям, впрочем, сделав исключение для блестящих погон, которые по сравнению с красноармейскими кубиками и ромбами выглядели очень вычурно и изящно); а во-вторых, теория фиванских легионов целиком была основана на иллюзорной индивидуальной половой страсти, что полностью противоречило его собственной концепции. Красногалстучники были запрещены как представители буржуазного вырождения; и теперь ряды грязных пополнялись не только грубым насилием и обманом, но и специальной статьёй.
Тем временем совершенствовался и сакральный язык чёрных монахов; он вообще ежегодно обогащался, мутировал и обрастал словами. Иерархи стали именоваться законниками, обычные люди стали презрительно называться свободными или фраерами, заключённые другой, не чёрной, веры, звались мужиками. Должно было найтись и словечко для низшей касты. Нашлось, и не одно. Сперва их просто называли погруженными в бездну или опущенными, затем афедронами или дырявыми, ещё лишёнными милостей, ещё проклятыми, ещё недостойными, также и мужеложцами-позорниками, а кроме того – бабами, нелюдьми и содомлянами. Всё же должно было найтись слово более весомое, магическое и убивающее навсегда. На очередном соборе кто-то (чёрные монахи принципиально не вели летописей, предпочитая изустно запоминать Закон, а всё остальное, – имена, национальности, подвиги, – превратить в ворох преданий, украшаемых, перевираемых и в итоге подлежащих забвению) нашёл.
Они живут во тьме, похваляясь своим солнцем, они поклоняются ложному светилу, молятся ему, верят в то, что оно греет их, в то, что всё взрастает в его лучах, скот их тучнеет и злаки их цветут пышным колосом, поля их зеленеют скотьим кормом, а нивы желтеют человеческим кормом, деревья их дают им плод, а виноградная лоза даёт им зелье забвенья. Это не то солнце. Настоящее солнце, чёрное солнце, восходит в глубине, оно велит свободным выращивать плоды и забивать скот, печь хлеб и варить мясо, продавать и богатеть. Чёрное солнце велит свободному солнцу управлять теми, кто кичится своей свободой, тогда как на деле они – рабы наши, наш корм и стадо наше. Унизим же их солнце, распнём его нашими детородными удами, оскверним их солнце нашим семенем, семенем бесплодия и силы, утопим их солнце в дерьме.
Этот безвестный законник, довольно искусный маг, предложил называть грязных именем солнечной птицы всех народов, птицы, возвещающей отделение дня от ночи, предупреждающей о приходе тьмы и обнадёживающей возвращением света.
Он же, если верить легендам, предложил звать ещё одну презираемую и третируемую касту, – тех, кто вступил со стражами чёрных монахов в сговор, согласился помогать им, работать на какой-то должности в монастыре вне братии, – именем рогатого животного, издавна бывшего символом мужского неистовства и половой мощи.
Грязные стали петухами, а те, что были на полступени выше грязных, – козлами.
Иерархи осознано распинали, запрещали, унижали и уничтожали активную волю, гордость, рвение, оплодотворяющую светлую похоть, зачинающее, семеносное, солнечное начало мира, мужское начало, двигающее, взрывающее, продолжающее жизнь; причём делалось это вовсе не в пользу женского, лунного, охраняющего, стерегущего и плодоносящего начала. Это было сатанинское превращение воли в безволие, света во тьму, порождения в бесплодие, победы в поражение, буйного цветения в трупное гниение.
Сталин был остроумнейшим человеком, прекрасным энтузиастом своих довольно нелепых и эклектичных убеждений. Но в глубине души он так и не перестал быть тем, кем был до встречи с Гурджиевым, – неудачником и мудаком.
Советский народ в массе так и не постиг иллюзорности личностного начала. Зато он прекрасно усвоил язык, обычаи, закон, а самое главное, – веру своих чёрных соседей-мучителей. Эта вера расползлась по стране, после того, как наследники Сталина объявили амнистию, решив не продолжать эксперимент учителя. Она захлёстывала ментов и интелей, рабочих и крестьян, космонавтов и военных, торговцев и чиновников, школьников и пенсионеров. Довольно быстро вера обрела добровольных апостолов-рапсодов, сочинявших псалмы и гимны, распеваемые под музыку струнных и клавишных инструментов; псалмы эти пелись во дворах и на дачах, они постоянно звучали в автомобилях таксистов и частных бомбил, а позже и на радиостанциях и в огромных концертных залах. В начале девяностых вера эта проникла и на телевидение. Теперь каждый канал почитал своим долгом снимать фильмы, прямо проповедующие эту веру или хотя бы описывающие быт сектантов изнутри.
Поскольку и при Сталине и долго после него, несмотря на то, что идеи нового общества и коммунизма поблекли и обветшали, детей продолжали монотонно, выхолостив ритуальную суть, посвящать сперва в первую ступень посвящения, а потом во вторую, принцип гомеопатической магии срабатывал и здесь. Дети, обряженные в галстуки запрещённых, униженных, изнасилованных людей, вырастали бесплодными, бессмысленными и никчёмными. Они в основном пили водку и ни черта не работали. Они перестали выращивать злаки и скот, и их стали покупать за границей. Они разучились изобретать и изготовлять нормальные вещи, поэтому, мебель, одежду и многие предметы быта приходилось ввозить из оккупированных Советским Союзом европейских стран. Те, кто умели делать что-то как следует, оказались не нужны своей стране, они уезжали и высылались, либо уходили в теневое предпринимательство. Симптоматично, что главный, если не единственный успех СССР целиком принадлежит совершенно бесплодному и ничего не дающему людям освоению космоса.
Чем дальше, тем больше у меня складывалось ощущение, что когда-то над моей Родиной светило огромное, непомерное, радостное и злое мужское солнце, солнце литераторов и коммерсантов, солнце военных и хлебопашцев, аристократов и плебса, солнце русских и евреев, армян и азербайджанцев, сибиряков и черноморцев. Его, правда, не было до революции, вернее, оно уже долгое время было затянуто тучами, тем не менее, то тут, то там образовывался просвет, из которого тут же высовывался наглый и бесцеремонный лучик, маленький, но очень задиристый. Целиком солнце показалось всего на восемь месяцев, даже года не просияло. Потом его затянули новые тучи, а потом мерзавцы и вовсе оборзели и, уцепив солнце верёвками, сперва стащили его на землю, а потом и вовсе бросили в тёмный, глубокий и омерзительно склизкий колодец. Вместо этого гордого светила страна действительно своевременно решила засветить глубинное чёрное солнце. В шестидесятых или семидесятых СССР начал экспортировать нефть и газ, получать нефтедоллары и обменивать их на лимузины для дряхлеющих косноязычных партбоссов, стране же предоставили корячиться в очередях на убогие, коряво собранные разучившимися трудиться руками машины, ловчить в крестовых походах за туалетной бумагой и тихо спиваться.
Воинственное, солнечное мужское начало было грубо попрано и запрещено. Полной самовластной свободы мужчин не осталось. Мужчин заставили жить в постоянной боязливой оглядке на суму и тюрьму. Вместо того, чтобы привольно трахаться на любой лад, мужчины учились пить и истерично, визгливо буянить, после чего самые чувствующие обязательно нечленораздельно выли.
30
– Вот это уж и вовсе херня какая-то, – Колоднов мрачно набычился. – Бред сумасшедшего.
– Да, конечно, бред, – отозвался я. – А ты чего ожидал от человека, придумавшего агностиков-каннибалов? Экономических выкладок, что ли? Или классового анализа?
– Главное, что на самом деле это ничего не объясняет, это просто смесь ерунды, которую ты вычитал в еботне грошовой, наверняка, в учебнике магии для юных долбоёбов, и народной трагедии. А са-а-амое главное, что этот твой бред, – он совершенно безысходный. Он ничего не даёт, никакого плана выхода, или побега из того говна, в котором всё, по твоему мнению, находится. Тогда как на самом деле, – он наставительно потряс в воздухе жёлтым от табака пальцем, – всё действительно находится в говне, но в совершенно другом. Твоё говно и моё говно – это совершенно разные говны.
Колодновское говно действительно было совершенно другим. Во-первых, оно было достаточно размытым и бесформенным (и уж если продолжать метафору, то являлось скорее не говном, а каким-то поносом, лужицей дрисни). Единственное твёрдое основание, которое можно было разобрать в нём, – это контуры вольной и суровой Сибири, которая когда-нибудь плюнет на вороватых и зажравшихся москалей, оградится от них по Уралу, вот тогда-то все остальные попляшут без нефти, газа и вечной мерзлоты, станут тогда чесать плеши и дёргать себя за чубы. Всё остальное расплывалось в сиреневом тумане шестидесятничества. Во-вторых, повторюсь, что я уже плохо помню его рассуждения и что Колоднов, если поборет свою лень, растолкует свои бредни гораздо лучше. Впрочем, сомневаюсь, что сейчас он стал активнее.
Колоднов вылез из кресла и чуть не пошатнулся – мы пили какое-то среднее вино из неподалёкого супермаркета и, хоть и решили детоксицироваться чаем и выпили уже по две кружки, покачивало и меня и его ещё неслабо. Ересиарх опёрся на письменный стол, следующим движением чуть не смахнул с книжной полки чучело ворона, навеки угнездившегося там мрачным вестником бурь и бед.
– Ещё чаю надо, – сочувственно сказал я ему. Самому мне вставать почему-то не хотелось.
– Надо, – согласился он.
Постепенно преодолев кресельное притяжение, словно бы прижимавшее мой затылок к спинке, я тоже встал и поплёлся на кухню. Продолжало развозить. В этот вечер (суббота? воскресенье?) время словно бы застыло, остановившись на пяти – времени, когда стемнело окончательно.
– Ну слушай, – предложил я ересиарху. – Вот ты говорил, что нужно что-то определённое, какой-то план…
– Да, да, – Колоднов устало кивнул. Видно было, что ему уже до жопы все возможные планы, которые я могу придумать. – Что-то, во что можно было бы поверить, чтобы придавало сил, а не раздражало… Просто от слов «всё хуёво» сил не прибавляется.
31
Сил вообще никогда не прибавляется от чего-то. Дополнительные силы есть всегда, просто нужно найти способ их разбудить, открыть тот внутренний шкафчик, в котором они бесцельно и бесценно отлёживаются, а ещё лучше, если это будет бутылка, старомодная бутылка тускло-зелёного цвета в металлической оплётке, и силы вылетят из неё, как джинн, добрый или злой – не важно. Идея – точно такой же джинн, она зарождается в тебе под воздействием всевозможной ерунды, которую ты где-то прочёл, услышал по радио, подсмотрел во время бездумного телевизионного заппинга, подслушал у соседей по маршрутке или трамваю.
Нет, говорит Колоднов, здравые идеи должны порождаться сознательно, либо пророческим озарением, свыше или сниже, – не так уж и важно, ибо нет выси окромя космоса и нет низа и глуби окромя ядра земного. А это твоё самопорождение идеи – лишь отроческий грех мысленный, сиречь мозговитое рукоблудие, и не более этого.
Говоришь так только лишь из природной склонности к противоречию, возразил я. Тем паче, что не так это различие меж генезисом твоих и моих идей важно.
Мне совсем не безразлично, будет ли моя страна руководиться дымом, чёрт знает с каких пепелищ подымающимся, или твёрдо обдуманной мыслью.
Она и так уже лет сто пятьдесят, а то и двести дымом управляется, остынь. Я вот что подумал – особенная ли у нас страна? Частенько и заморские гости и мы сами, всяк на свой лад, мыслим её особою, нарочитою и небывалою, страной чудес, потусторонности, зазеркальем, облыжно претворяющим леворуких выблядков природы, коим самое место бы на костре или хоть в самом низу лествицы общественной, в достопочтенных праворуков, полноценных граждан (лишь ещё более диковинные амбидекструсы своей обоерукости не теряют ни в настоящем, ни в оборотном мирах), иномирьем, а то и вовсе – загробьем, пеклом и гадесом, населённым лишь чертями да грешниками, которые друг от друга лишь силой и властью отличны.
Это всё, которое про гадес, оттого, что завидки берут, пробурчал Колоднов. На нефть и газ наш рот разинули. А страна и правда особая – нет у нас порядка и не будет, одно от века разорение либо смертоубийство.
Зачем же так печально глядеть? Порядок есть, говорю, только неправый. Разорение же – путь того порядка.
Это всё потому, что царя-батюшки нет, вздохнул Колоднов. Пусть хотя бы как в Англии, только для видимости и новостей, а всё равно нужен царь.
Ну, положим, при царе порядок был не лучше. А ты лучше скажи мне, особенный ли у нас народ?
Что есть, то есть, кивает еретик, самый особый. У нас если праведник, то по колено в крови стоит, а грешник великий обязательно при себе котейку малого имеет за пазухой, греет его и курлычет над ним, как над ребятёнком кровным. Без этого не можем, не стоим. Или, скажем, умных с дураками взять: распоследний на голову Богом обиженный иной раз такое скажет, что неделю потом ходишь, репу чешешь – как, мол, сам до этого не дотумкал? Всё ведь на виду, вроде, а только ему в голову пришло, полудурку… А иной премудрости сосуд тоже бывает как ляпнет такую хуеботину или косоёбину, так опять же неделю смеяться можно.
Вот! оно самое и есть, радостно говорю ему. И кого ни спроси, все скажут, что наш народ особый. Кто скажет, что лучший он и самый богоносный и богооткровенный, а кто и богооставленным его назовёт, самым-распросамым позабытым на небесах.
Это кто же такое думает?
Да это уж всегда так, если один народ лучшим считают, то его же другие самым сорным и худым назовут. Ну, как думаешь, к чему клоню? Понял, нет?
А бес тебя знает, к чему клонишь.
У нас ведь народ самый что ни на есть мессианский!
Какой-какой, ёба?!
Мес-си-ан-ский, избранный. Невесть на что незнамо кем неведомо за какие заслуги и грехи. Особый. Специальный.
И что же тогда?
Все народы себя любят, все втайне свой язык, свои обычаи, своих тараканов в своих головах самыми лучшими считают, без этого ни одного народа нет. И все живут при этом спокойно, в мире и согласии, все стоят на своей земле, обеими ногами в неё вросли. Лишь мы по своей земле ходим как по чужой.
Кто же её захватил? (Ересиарх морщится). И ты туда же? Планы масонов и заговоры даллесов? Это как-то ---
Нет, перебиваю, мы же сами её у себя и захватили. В этом вся и штука. Мы сами себе богоизбранный народ, ожидающий Машиаха на белом коне, и сами же саддукеи, обслуживающие имперское правительство, и сами эти римляне-оккупанты – это всё тоже мы, потому и путаемся, потому и в глазах двоится, потому что везде одни и те же люди, все на одном языке говорят, одни передачи смотрят, одну водку пьют и поют одни и те же песни. Мудрено ли тут запутаться? Оттого и ищем всю дорогу врагов, что сами себе – главные враги, своя же рука горло душит.
Слишком это как-то душевно-болезненно…
А так и есть. И если так уж складывается, что мы очередной богоизбранный народ, то вглядись в эту картину: вот потные цдуким и их хозяева, попули романи, легионеры и прокураторы. Они собирают налоги для кесаря и получают деньги на всевозможные мероприятия, и каждый берёт себе из казны. Вот бешеные и упрямые зелоты, готовые понять восстание, готовые резать тех из цдуким и романусов, которые попадутся под руку, юные остолопы с бешеной, но благородной кровью, ученики Эдуарда, сына Вениамина, из рода Лимонов , а ещё более бешеные до времени не на виду, упражняются в стрельбе и боевых искусствах, наращивают мускулы, присматриваются к завтрашним жертвам, прислушиваются к вождям. Вот ессеи, укрывшиеся в пустынях, в изолированных деревнях, в башнях из слоновой кости, в броне отрешения от всего земного, в коконе безразличия, из которого никогда не вылетит бабочка. Кого не хватает? Правильно, не хватает фарисеев, прушим, не хватает тех, кто сумеет вывести народ и сохранить его, тысячу, две тысячи, четыре тысячи лет.
Сто лет назад царство Российское было полно и обильно, но не было в нём порядка, ибо вершило оно мерзости над народом своим и подвластными народами, верхи блудодействовали над любой статьёй бюджета, в любом министерстве, ибо верили, что Господь пронесёт, всё устаканится, как было, так и будет, и роды вырастут и пройдут, а на их век хватит, а Господь отвечает им:
Нет, противны мне мерзости твои, народ Мой, и отвернул Я лице Свое от деяний ваших и помыслов.
И была война, и были возмущения, и было сокрушено царство Российское, и разорены его житницы, которыми оно кормилось.
И не повернулись властители ваши на путь Господень, а лишь сказали, что поворачиваются, а сами под каждым деревом и на каждой высоте вершили блуд, и вместо хлебных житниц нашли скважины и месторождения и присосались к ним, и говорили всем: «Лета ещё и лета не иссякнут подземные реки, будем торговать с другими народами, и будут терпеть нас за петролеум и метан, и будут уважать нас и поклонятся нам, и преисполнятся зависти и пришлют полки своих войск, чтобы обратить вас в свою веру, и будут говорить с вами на чужом языке, который вы так хорошо знаете, и забудете свой язык и от веры своей отречётесь, потому дайте нам жезл – пасти вас, и дайте нам пить подземную кровь и богатеть и прирастать силой и мощью костей, и защитим вас, и дадим каждому по крохе от яств наших, и по капле от возлияний, и будете сыты, и опьянеете и возвеселитесь», – так говорили властители ваши, и вы слушали их, и доверяли им, и боялись амалекитян и филистимлян, а также моавитов, и народов степей боялись вы, и народов пустынь, и людей гор, жёлтых людей и белых, а больше всего боялись вы заморский народ египетский, с пирамидой на деньгах. И поклонились вы своим развратным царям и присным их, поклонились их мерзости, и отправили детей своих на блудные игрища, и наряжали их в свиные хари с фартуками, и дозволяли им бросаться калом и грязью во врагов. И воздвигли себе лысеющего кумира со щёками, залитыми скверной, которую Я, Господь ваш, не заповедовал заливать в щёки, и дочери ваши обнажали тела свои перед ним, и блудодействовали во имя его, и пели псалмы, восхваляющие его, а всех племён ваших священники кадили фимиам ему, и не Меня, а его восхваляли, – так говорит Господь.
И ходят по стопам Вавилонским все властители, говорит Господь, и вы дозволяете им это, и отправляют они детей в ассирийские и вавилонские и египетские училища, и готовят их жить там, и переправляют туда деньги, а вас питают маковым зельем, которое объявляют целебным, и ваши дети берут это зелье и вливают в свою кровь, чего Я вам не заповедовал, и кровь ваших детей да будет отравлена, а тела их пойдут язвами и проказой и будут словно крокодилья чешуя, и станут ваши дети крокодилами за то, что отцы их пресмыкались перед своим кумиром и славословили его, и будут мучить вас собственные дети, три года дам Я им мучить вас, пока не умрут.
И военачальники ваши ходят по путям беззакония, говорит Господь, и исполнилось сердце Моё горечью и злобой, и отвернулся Я от вас, и расторгну своё обручение с тобой, народ Мой. Ибо военачальники поставили ваших детей себе рабами, и заставляют возводить себе дома, и вместо того, чтобы учить их военным путям, учат их унижать своих братьев, учат повелевать и пресмыкаться, и пить хмель учат их, и обнажать свои тела, и омываться из фонтанов перед людьми, учат их ненависти и злобе и безумием питают их жилы.
И другие ваши вожди делают мерзость, говорят, что противятся лысеющему кумиру, говорят, что хотят с ним бороться, а на деле – лицемеры они и клятвопреступники пред лицем Моим, так же ходят во дворцы его, кадят ему и славословят, и вдыхают гнилостное дыхание его, целуя устами уста его, и вдыхают мерзостные ветры его из дурного отверстия, и называют их фимиамом, и торгуют своими местами в Синедрионе, тогда как обещают бороться за вас и служить вам, и посылаете вы стариков своих на их сборища, и ходите с их знамёнами, и внимаете словам их, и верите их лжи.
И другие ваши люди, что ненавидят кумира, противны они лицу Моему, и отвернусь Я от путей их, ибо когда придёт их время или время их учеников, возьмут они складные пики и автоматические пращи и будут нести с собой уничтожение, и когда разберут они ваши дома по камню, то некому будет собирать эти камни, потому что и вас не будет больше, так говорю Я, Господь твой. Они поднимут племя на племя, и будете вы стёрты в муку между племенами, как между жерновами мельничными, и псы будут есть тела ваши и тела детей ваших, и не увидите вы внуков, и семя ваше Я изыму из жизни, и не будет оно посеяно, и не взойдёт пшеница, и не будет яства на пустом столе вашем, и будете вы яством для псов и червей, и огня.
И будет день, говорит Господь, и взойдёт солнце, и посмотрите на воды текущие, и будут красными они от крови вашей и крови ваших детей, и пойдут тогда зелоты, и запрутся в Масаде, а другие зелоты обстанут её кольцом, и пошлют они с неба огонь, и подвергнут они города ваши ковровому огнеметанию, и будете искать спасения от огня с небес и не найдёте его, будете бежать от падающих стен домов ваших и не избежите участи своей, так говорю Я, Господь, ибо Мне мщение, и Аз воздам, оторву вам руки за то, что они ничего не делали, отсеку вам ноги, ибо не можете твёрдо стоять на них, вырву вам языки, ибо дал вам слова, а вы не говорили, возьму жизни первенцев ваших, ибо ваши братья зачинали детей своих в блуде, в пьянстве и в дурмане, а вы видели то и не трезвили их и не выгоняли из блуда в порядок, братья ваши отдавали детей своих торговцам мясом, а вы дозволяли им, мерзость это, и за то отвращу Моё лице от вашего семени и разорю его, и всё потомство ваше канет, как зерно, опустившееся на камень.
И всю землю, которую Я вам дал, обращу в Масаду, обстанете дома друг друга и будете резать, а когда одолеете, то засеете те земли солью, а побеждённых продадите в рабство, но и сами после будете проданы, и ваши земли засеют солью.
Дал обширную землю вам, но не умели ей пользоваться, тогда отнял у вас земли по окружности и отдал ваших братьев в поругание чужим племенам, а вы ничего не делали, только ждали от властителей ваших, что они будут говорить об их судьбе, и успокоились, за то отниму у вас и все прочие земли, одну полосу вам оставлю, на которой будете ютиться в тесноте и голоде и без крыши над головой, но и та полоса будет землёй войны, и будете убивать друг друга за струю воды и горсть муки, и никого не останется.
И тем из вас, кто уедет в другие земли, дам особое проклятие, и будут они без своего языка, без своих обычаев и без своей веры, и растворятся среди чужих народов, как капля воды в море, и не останется ни следа от них, так говорит Господь ваш.
Властители ваши брали ваших братьев и бросали их в узилища, на гноище, и пытали их, умерщвляли, чтобы забрать золото их, и серебро их и чёрную кровь земли, а вы лишь радовались этому и ничего не делали, потому что не любите вы работы и тех, что работают, дела ваши делаете с леностью и богохульством вместо молитвы, и любите лишь ту работу, где можно мздоимствовать и казнокрадствовать, вы пели и плясали, когда убивали честного законника, вступившегося за отнятое добро чужестранного торговца, и радовались, когда другой законник умирал от дурной болезни, и поёте и пляшете непотребные танцы, когда ещё один узник вновь ввержен в узилище, вы не заступились за них, не исторгли неправедных судей с их торжищ и не сбросили их со скалы на камни, за это пошлю вам ещё судей, и будут они судить вас вовсе без закона, только лишь по желанию, и будут они пасти вас жезлами железными, и бить бичами.
И дал вам под начало южные народы, а вы не умели править ими, дали им денег, и золота, и колесниц, и восхваляли лысеющего кумира, который так решил, и не научили их вашему языку и вашим обычаям, и по эту пору не умеете с ними жить, боитесь их и хотите их прирезать, чего Я не заповедовал, не пошли в деревни их, не стали учить их вашим наукам и теперь они танцуют на ваших площадях танцы, которые Я не заповедовал там танцевать, за это дам им ещё автоматических пращей, и будете метать друг в друга снаряды, и убьёте много детей ваших и детей южных народов, и будете воевать, пока не погибнут ваши дети и их дети, и будете ходить по улицам, подбирая своих сыновей, и отниму у вас даже слёзы, и не будет силы у вас, и слова у вас заберу, оставлю только вой звериный.
Первосвященники ваши не Мне кадят, а лысеющему кумиру, берут мзду и вместо слов правды о мерзости его, говорят слова масляные и елеем его покрывают, и помазают его мирром, и курят ему благовония, и жгут ладан, берут у него длинные колесницы и говорят во всеуслышание слова лжи и слова глупости, меряют длину женских одеяний и призывают бить торговцев вещами для постельных утех, чего Я не заповедовал, за то будут осквернены все ваши храмы, ибо скверной они переполнены, и злобой, и лукавством, и мздоимством, и берутся толковать святые тексты, а говорят лишь слова злобы и слова мерзости, посланы были учить народ Мой в его неразумии, но ввергают его в ещё большее неразумие, оставляют дочерей ваших в нищете и убожестве выблёвывать нерождённых чад, и не велят учить неразумных дочерей ваших, как не зачинать, когда того не желаешь, сами же торговали зельем, отравляющим дыхание чад ваших, и за то пошлю им разорение, и будут гонимы, и вовсе уничтожены.
Охранники ваши не охраняют вас, должны были быть верными псами, но обратились в волков, алкающих среди вас поживы себе, мучают и пытают вас и бьют жезлами, за то, что не воспротивились вы и не возмутились, уберу их и пошлю тех, что будут закапывать вас живыми в землю, и ходить по вашим телам, и вешать вас по деревьям, и бросать вас в ямы выгребные, и разрывать ваши внутренности стеклянными сосудами.
Боитесь вы самих себя и ненавидите, но не решаетесь сами себе это рассказать, а лишь только смеётесь и ненавидите других, за это отниму у вас последний ум, и будете ходить на четырёх ногах и есть траву, как волы, и будете без смысла смотреть в чёрные квадраты на стене, и чёрные квадраты на столах ваших, и чёрные квадраты в руках ваших, и будете смеяться, пока смех не раздерёт вам глотку, и лёгкие, и внутренности ваши, и будете блевать кровью, но и капли ума лишу вас, и умирая, будете лакать кровь свою с жадностью пьющего зверя, так говорю Я, Господь ваш, Бог силы и ревности.
Тому, кто живёт не по заповеданному, лучше бы и на свет не рождаться, поэтому заберу у вас рождающих, и будут дочери ваши блудить без зачатия всю жизнь, а не только в молодости, будут они жить со многими мужьями без брака освящённого, и будут мужья жить со многими жёнами без зачатия, и угаснут до срока, и умрут от болезней.
Так говорит Господь своему народу, который был Мной избран, и потом Я отверг его за множество мерзостей творимых, и прежде всего за мерзость недеяния в дни, когда надо делать, а не в дни, заповеданные Мной для отдыха от дел. Разорены ваши поля и мастерские ваши разрушены, и все дела ваши Я отверг, ибо блудили вы и жили как звери, и живёте хуже зверей.
Пойди и скажи народу Моему, что нет на нём больше милости Моей, и благословения Моего нет, и заботы Моей нет, и глаза Моего на нём нет, есть лишь проклятие Моё, и месть Моя, и горечь Моя.
Куда пойти мне, Господи?
Пойди в училища ваши, и в дома еды и разговоров пойди, и в дома хмельного веселья, разговоров и весёлого рукоприкладства пойди, и в дома своих учёных друзей поди, и в дома бедных друзей, и в дома богатых друзей, и пойди в паучью сеть чёрных квадратов, через которую вы смеётесь, и смотрите картинки, ублажающие плотское хотение, и похищаете чужие псалмы и гимны, и похищаете движущиеся истории, а также ссоритесь друг с другом с помощью слов и картинок. Всем друзьям своим скажи о проклятии, а те пусть расскажут своим друзьям, через паучью сеть чёрных квадратов расскажи об этом. И горе тебе, если ослушаешься воли Моей.
Почему Ты избрал меня, Господи?!! Я не достоин, не смогу…
Прежде нежели образовал тебя во чреве, Я познал тебя; и прежде, нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народа поставил тебя.
О Господи! я не умею говорить, ибо я ещё молод.
Не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому Я пошлю тебя, пойдёшь, и всё, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобой, чтобы избавлять тебя.
Разделю царство ваше надвое, и натрое разделю его, и начетверо, и напятеро, и нашестеро, и насемеро, и до сорока четырёх раз рассеку его мечом гнева Моего, и изыму вас из уст Моих, как нет вас больше в сердце Моём. Смотри же.
И вижу: огонь и нож, вставленный рукой человека в живот человека; гроздья людей, повешенных на столбе, бесплодное семя висельников на пыльной дороге; снег, Господи, я вижу снег и кровь на снегу! она чёрная и вовсе не так красива, как когда она в человеке!.. я вижу мясо, разверстое мясо, Господи!.. я вижу людей, которые говорят и не слышат друг друга, одни пытаются выжить, а другие хотят убить их и находят для этого тысячи причин!.. я вижу гной и язвы больных, я вижу струйку крови в инструменте для отравления крови по доброй воле!.. я вижу здание, которое рассыпается в пыль и осколки от упавшего снаряда!.. я вижу руку, оторванную плитой!.. я вижу вывернутую шею!.. я вижу вспученное брюхо голодающего… я вижу разлетающиеся слюни нищего безумца… я вижу насилие над женщинами и мужчинами, совершаемое не из похоти, а вместо казни… вижу отрезанные мужские члены, с крайней плотью и без крайней плоти… вижу залитые кровью промежности, с которых их отсекли… вижу глаз, выткнутый ножом, слизистый студень из чёрной крови, залившей половину лица… вижу последние, предсмертные судороги похоти, сводящие взрослых и детей на руинах в ожидании голодной или насильственной смерти… вижу конечности, ампутированные после боёв, кисти рук и стопы ног, вижу их хозяев, оставшихся без военного дела, без еды и без права на жизнь… вижу пытки, производимые не из-за желания отнять добро, или сведения или облыжные признания, а всего лишь из страсти быть на время властителем чужих людей…
Господи, неужели не найдётся праведника в народе, предстательствующего за всех людей, чтобы пощадить их?!!
Скажи народу Моему то, что хотел сказать старому человеку, надзирающему, чтобы тебя не съели.
Я пытаюсь вспомнить, что такое я начинал говорить Колоднову и слышу слово «фарисеи», снова глаза мои закрываются, но я продолжаю видеть как будто через тусклое и пыльное стекло: контуры, абрисы предметов, голова спящего ересиарха, придавившая левую часть подушки, недопитый чай, или это было последнее вино? или и то и другое? какой же сегодня день, я уже могу ехать домой или надо чего-то ждать, чего я там должен был дождаться, или кто-то другой меня ждал, хорошо бы, если б меня ждала Регина, но нет, меня ждут какие-то нелюди, сейчас мне почему-то кажется, что они совершенно безвредные и даже в чём-то приятные люди, хотя скорее, они мне просто безразличны, что есть они, что нет их, я вновь вспоминаю Господа, какой-то совершенно невероятный, громовой голос, звенящий и скрежещущий и бьющий в тарелки одновременно, больше всего он был похож на выступление психоделической, но при этом достаточно тяжёлой группы, вот вроде «Motherfathers», хотя вряд ли этих ушлёпков кто-нибудь знает, у них и альбом-то всего один, хотя и забойный невероятно, как-то он так по-дурацки назывался, в честь какого-то народного фильма или корабля, нет, точно не в честь фильма, потому что их главный кина не смотрит, говорит, что впечатлительный слишком, не помню уже, я его ставил Регине, но ей не понравилось, сказала, что слишком тяжело, она больше любит что-то такое медленное тяжелоё, как «Sunn-O» или «Bohren Und Der Club Of Gore», нет, да нет же! это всё мне сейчас заново кажется, это я припоминаю и сам себя путаю, на самом деле этот Голос был внутри, ну да, просто он изнутри шёл, и как-то пульсировал, как будто со мной внезапно заговорило всё моё тело, сам этот бесперебойный кровоток, который постоянно во мне двигается и куда-то двигает меня, что-то мной думает, видит мной какие-то сны, один человек когда-то сморозил циничный парадокс, что когда ты говоришь с Богом – это молитва, а когда Бог с тобой говорит, то это уже шизофрения, я, наверное, сейчас усмехаюсь, когда вспоминаю эти слова, ну точно, ухмыляюсь во весь рот и продолжаю рассматривать нашу с Колодновым келью, или нашу яму, почему я сейчас подумал про яму? или, может, это была камера? повращаю-ка головой… шея почему-то не поворачивается дальше, чем на пару сантиметров, как будто что-то давит на неё, что-то на неё надето, и даже вроде бы я ощущаю тяжесть и холодное дерево, ну, как будто оно есть, но когда я трогаю руками, то там только пустота, воздух, и в нём моя шея, а из неё торчит моя глупая усталая голова, в итоге приходится вращать всем телом, а вместе с ним двигается и голова, на шее становится тяжелее и холоднее, теперь вместо гладкого дерева словно ледяное железо, как-то всё это не так происходит, как надо, и почему спит Колоднов, а я не сплю? может, он или я, кто-то из нас, умер во сне? вообще, я уже десять раз должен был умереть, вот хотя бы от этого разговора с Богом, от этой мерной, но очень резкой пульсации, я хватаюсь за сердце, оно бьётся вроде бы ровно, но готов поспорить, пару минут назад в груди так кололо, что я боялся, как бы оно не разорвалось, вообще, если Господь каждый раз говорит так гневно и напористо, оно однажды не выдержит и остановится, и я тихо сойду с рельс, начну ловить руками воздух и опаду, интересно, а как я умру? почему Господь не говорит своим пророкам самого важного? только про других, про большие скопления людей и человеческие общности, интересно ещё, как Он всё время с народом «на ты», как будто Адам и Ева не размножились, как песок морской, не породили народы и веры и языки, Он как будто до сих пор сидит и смотрит на Своё творение, и для Него все люди на земле – не больше, чем один человек, или, может, все они, сколько есть их и сколько было и будет, составляют одного большого голого Адама, даже без Евы, потому что она в нём внутри спрятана, и это не сексизм, как говорят на западе, и у нас тоже говорят, только реже, просто этот Адам – он ещё не мужчина, он просто человек, а мужчиной он станет, только когда Бог из него Еву вынет, вот бы посмотреть, как вообще это было, или будет снова или происходит прямо сейчас, – как Бог вынает из Адама Еву, Адам, наверное, спит, как бревно или как под феназепамом, и он пребывает в полнейшей пустоте, там только Ночь Ничто вокруг и нет времени, кстати, может, Бог действительно всё это проделал, когда не было времени, а только пустота и покой, а все эти «и был вечер, и было утро, день такой-то» потом раввины приписали, чтобы не смущать простой народ почём зря?.. так вот, Бог до сих пор говорит с Адамом, потому что все люди для него – одни большие человеки, или наоборот, они – мельчайшие частички человека, Адама, но при этом такие частички, каждую из которых можно услышать, как если б я не то, что капельку крови, – каждую клеточку свою, живую или отмирающую, слышал, или там атом, а то даже кварк, а вот ещё интересно: Бог действительно так недоволен людьми и их ушлёпистостью, как Он говорит, или, может, Он просто устал от всего этого, ведь Он был до времени, а потом запустил время и Сам в нём пребывает, будь я Богом, хотя так, конечно, лучше не говорить и вообще не думать, я бы предпочёл, чтобы без времени совсем и вообще ничего бы не создавал, один покойный сон без снов, как под феназепамом, когда открываешь глаза, опа! шесть часов прошло, как и не было их, всего один хлопок ресниц, это, пожалуй, ещё круче, чем хлопок одной ладонью, так вот, а если совсем без времени, то это даже вообще глаз раскрывать не надо, просто нет тебя, и вообще ничего нет, так здорово, а Бог зачем-то всё это затеял – твердь небесная, хляби земные, – а потом подустал самому жить во времени и начал придираться к своему творению, то ему не так, это не эдак, то потоп нашлёт, то опять передумает, потом город-другой серой спалит, и то вроде захочет спасти человечество, а то решит всех по-другому спасать, то пошлёт Своего Сына на Крестные Муки, а потом скажет Магомету, что это был не Сын, а пророк Иса, словно он то загорается любовью к людям, то потом опять устанет и махнёт рукой, спать пойдёт, а мы тут живём, маемся, хотя я, в общем-то, не жалуюсь, хоть и хотел с собой покончить, на самом деле, не так всё и плохо, просто непонятно ничего… по-моему, меня как-то шатает, я снова пытаюсь осмотреться с закрытыми глазами, тусклое стекло не проясняется, никто не подходит и не протирает его тряпкой, всё так же мутно, тогда я дотягиваюсь до своего стакана, надо же узнать, вино там или чай, вблизи так же мутно и кажется, что это гуашь, разведённая в воде, когда кисточку споласкиваешь, я-то сам лет с десяти не рисовал, да и до этого – только в детском саду и в школе, а дома я только чертил узоры, какая-то дурацкая абстрактная живопись получалась, сначала квадрат или ромб, потом достраиваешь к нему грани, или завитушки, которые превращаются в монотонный узор во весь тетрадный лист, впрочем, я не помню, доводил ли когда-нибудь такие рисунки до целого листа, сплошь зазавитушенного, или, как всегда, загорался: вот, сегодня точно целый лист зазавитушу, а потом выставлю в рамке на столе и назову как-нибудь позаковыристей, ну там – «Чилийский узор крестьян-партизан» или «Татуировка самого главного вождя племени навахо, которого даже черепашки-ниндзя и все спецназы всего мира всех стран сразу не заборют», – и буду всем говорить, что я – современный художник, они все так делают, это мне тоже старший кузен рассказывал, он говорит, что все художники сейчас не умеют рисовать, но всё равно получают бешеные бабки, даже больше, чем те, которые в давние времена нормально рисовали, на такие деньги можно машину купить и даже целую отдельную от родителей квартиру, чтобы там громко слушать музыку какую хочешь и танцевать, даже ночью, а если соседи придут, как они к нам уже приходили однажды, когда кузен слушал немецкую дрыч-дыч-дыч группу, тогда родителей не было, а он у нас ночевал, и вот включил эту группу в наши колонки, я аж офигел!.. я тогда такой музыки, нет, не боялся, но как-то не верил, что это вообще – музыка, а не специально, как будто музыка, а на самом деле просто, чтобы все остальные в обморок упали, а ты – самый крутой парень, а остальные – слабаки и лоховня, только при девочках такую музыку ставить не надо, если тихонько только, чтобы они поняли, что ты – крутой, но в обморок чтобы не падали, я тогда думал, что девочки только классику слушают и такие специальные девчоночьи группы, где тупая девчонка поёт и пляшет, кузен мне сказал, что я дурак и что такие девчонки поют для парней, чтобы парни в них влюблялись и перед сном мечтали, что она выбрала только их, и они там поженились и в одной постели лежат, целуются, но я ему не поверил и сказал, что только идиоты могут влюбиться в девчонку из телевизора или на плакате, её же даже потрогать нельзя, а как же любить девчонку, если её нельзя потрогать, нельзя ей цветы подарить, поцеловать, или по попе в шутку хлопнуть, или дёрнуть за косичку, а которые в телевизоре поют и пляшут, они же ещё и страшные как чувырлы, нет, это для девчонок, чтобы они видели, какими быть не надо, как напоминание или наглядный урок, только многие девчонки почему-то всё совсем наоборот понимают и одеваются, как эти, телевизорные, кузен сказал, что я ещё мелкий, что у меня даже волосы, наверное, ещё расти не начали, а я не понял, как это не начали, они ведь с рождения на голове растут, только что родители перед каждым летом подстригают их коротко, вот их как будто и нет, а на самом деле вот же они, кузен сказал, что девчонки из телевизора ему тоже не нравятся, потому что это – попса тупая, и делают её только одни засранцы и засранки, что девчонки все эти – конченые прошмандовки, а пареньки, которые тоже для девчонок такую же лабуду поют, – все как один педики, мне таких слов говорить тогда ещё нельзя было, по-крайней мере, при родителях, и я только, кто такие засранцы знал, а остальное мне было непонятно, хотя и ясно, что ничего хорошего, мы это говно слушать не будем, кузен говорит, послушаем лучше реальный хардкор, для настоящих парней, и поставил этот дрыч-дыч-дыч сумасшедший, начал под него выплясывать, как будто дерётся с кем-то, прыгать на диване и бить воздух, а потом всё повышал и повышал громкость, так что я на кухню ушёл и сел что-то читать, а из-за стены только бухало что-то, тут соседи и припёрлись, прямо под нами такая бабка вредная живёт, вернее, она через три года умрёт, но я тогда не знаю, что это будет так скоро, а в то время она ещё очень живая, шебутная, подвижная, постоянно выбегает во двор и всех гоняет, и мелких, как я, и постарше ребят, говорит, что все они – ёбаные наркоманы и надо, чтобы они все подохли поскорее, я знаю, что слово ёбаные – очень страшное слово, что его не то, что говорить, даже думать такое слово нельзя, иначе будет какое-то несчастье, беда, может, смерть, даже если не твоя, то кого-то из близких, а это ещё страшнее, чем самому умирать, а что это слово значит – не знаю, про наркоманов я вроде бы знаю из телевизора, что это такие дядьки и тётки, которые очень странно себя ведут, непонятно почему, мы с кузеном, когда слушаем чего-нибудь крутое, тоже ведём себя странно, так что наверное и мы – наркоманы, и милиция когда-нибудь нами займётся, она наркоманов не любит, тоже из телека узнал, так вот эта бабка всех гоняет, ругается страшными словами, а может и кирпичом запустить, её постарше ребята называют Бабка Тамарка – в жопе скороварка, и если они это крикнут, то она тут же покажется из окна или даже выбежит с палкой или веником или шваброй и всех разгонит, я смотрю из окна и хохочу, я же ведь не знаю, что ей скоро умирать, поэтому в том времени мне можно смеяться, а сейчас вроде тоже смешно, но надо себя сдерживать, она ведь мёртвая уже, вся истлевшая, наверное, всегда я боялся, что когда умрёшь, тебя начинают есть черви, растаскивать по кусочку, пока одни только голые косточки не останутся, я видел в каком-то фильме, даже сразу в нескольких, как вскрывали чьи-то могилы, а там только скелеты, а целого человека нет, поэтому я маму с папой доставал, что если я погибну, ну там утону на море, как один раз уже чуть не утонул, или кирпич упадёт или ещё чего, то чтобы они меня не хоронили, а обязательно сожгли, чтобы я не лежал и не гнил и чтобы черви меня не ели, а не то, говорю, превращусь в живого-и-мёртвого и приду вам с того света мстить, что мою волю последнюю не выполнили, так-то, родители почему-то всё время смеялись, а потом мама однажды со мной серьёзно поговорила, сказала, что не надо так часто про смерть думать, а то можно сойти с ума и меня тогда придётся держать в специальной больнице, и не неделю, как когда у меня воспаление было, а всю жизнь! я пообещал больше не думать про смерть и на самом деле почти перестал, короче, когда в дверь позвонили, я услышал, пошёл посмотреть, встал на цыпочки и на маленькую скамейку, чтобы до глазка дотянуться, а там эта бабка, и злющая-злющая, она всё звонит и звонит, потом просто стала дубасить в дверь руками и кричать чёрными словами, я понял, что она обещает нам руки повыдергать, в жопу засунуть (а кстати мне часто говорили, что именно оттуда у меня руки и растут, так что я подумал, что ей этого можно и не делать, они уже там, и чуть со смеху не подавился, но постарался смолчать, чтобы она меня не услышала), а потом вынуть их оттуда через рот, как-то так, ещё у неё была с собой швабра, и она пообещала засунуть её нам (откуда она знает, что нас тут двое, а не я один?) в разные места, по-моему, она все возможные варианты перечислила, один другого страшнее, потом ей надоело, и она ушла, а я чего-то испугался, даже не её угроз, потому что это глупо и так не бывает, чтобы в людей засовывали швабры, это только пугают так, а на самом деле могут только ударить или побить, просто стало страшно отчего-то, я тогда вернулся в комнату, толкнул кузена и сказал, чтобы он тише сделал, по-настоящему тише, потому что соседка приходила, она родителям всё расскажет, кузен поворчал, что я ссыкло и салабон, но всё равно убавил звук, а потом и совсем выключил, мы стали телек смотреть, соседка в итоге так и не нажаловалась родителям, забыла, наверное… вот кузен и говорит, что на отдельной от родителей квартире у него танцы и музыка будут день и ночь напролёт, и что даже соседи у него будут отпадные парни и девчонки, что там будут сплошные гулянки из квартиры в квартиру, и будем пить шампанское и есть бутерброды с икрой или арбузы, или даже мороженую клубнику, чего захотим, и никто ничего не скажет, надо только побольше нарисовать таких картин, вот как ты калякаешь, и вставить в рамки обязательно, а самое главное – дурацкое название дать, так вот, я всё равно ни одной целой картины не нарисовал, то уроки, то по телеку мультики показывают, то в бадминтон парень с пятого этажа позовёт порубиться, то вообще ничего не интересно, в общем, я не нарисовал ни одного ни дурацкого, ни нормального рисунка, нормального – это когда похоже на что-нибудь, нас учили на рисовании в младших классах, как по очереди одну линию краской провести, потом другую, как тень делать, и вроде бы всё как надо делаешь, а получается в итоге ерунда – не то что бы непохоже, похоже, просто как-то противно похоже и жалко, так я и не выучился на художника, ни на современного, ни на отсталого, я таких отсталых, кстати, целые стаи видел, на улице Арбат и ещё в Крыму, они рисуют либо похоже, либо похоже-смешно, хотя ни черта ведь не смешно, ну такую большую тебе харю нарисуют и обязательно – ухмылку, чтобы ты, даже если не нравится, подумал – ну, тут я вроде как бы довольно смеюсь, на этой дебильной картинке, так что и ладно, не буду возникать и огорчаться… не вышел из меня художник, как будто я такой старорежимный очень сильно верующий в то, что Бог запретил рисовать живое, как еврей или мусульманин, а если христианин, то такой очень древний, греческий, там были такие чудаки, очень не любили художников и все картины позакрасили, то есть иконы, а не картины, тогда просто картин нельзя было рисовать, только чтобы для церкви или в летописи картинку про историю, – «как наши Кале берут, а ненаши сверху их говном поливают», – я помню, видел такие в учебнике, там тоже как-то не очень похоже было, так и я бы нарисовал, пожалуй, ну, если бы постарался, в цвете-то, конечно, не смог бы, но я так тоже не рисовал, какой из меня художник, вот если бы завитушки удалось продать, но это у меня наглости бы не хватило, и вот я смотрю на стакан с гуашевой водой, а потом отхлёбываю, и вот же чёрт! совершенно непонятно, что это!.. не то что бы у меня горло и нёбо онемели, а все вкусовые рецепторы исчезли из полости рта, скорее, похоже на то, как если бы я забыл названия вкусов, нужные слова, то есть, языком и глоткой я различаю, как этот напиток на вкус, но вот слова и ощущения подзабыл, что чему соответствует, терпко это или кисло, или горчит, или сладко-кисло, как чай с лимоном и сахаром, я пытаюсь разглядеть в стакане с чем-то ломтик лимона, но всё ужасно тускло и ничего не видно, тогда я пробую залезть в стакан пальцем, чтобы нащупать лимон, но ничего не нащупывается, нет там лимона, а я даже не подумал, вдруг у меня пальцы грязные, а! да всё равно уже! вытираю пальцы о лоб, и одна капелька напитка скатывается сбоку от глаза по щеке, как слезинка, а другая прокатывается по носу и срывается с кончика, как сопелька поздней осенью, словно я почему-то плачу и шмыгаю носом, а вот кого или что я оплакиваю? может, это реквием по судьбе, уготованной Богом для русского народа и страны? но это ведь очень мало слёз для такой большой страны, она заслуживает большего, а вот что это большее, я и не знаю, может, покончить с собой, но это я пробовал уже, правда, от нехрен делать, а не потому, что всё вскоре кончится и уничтожится так плохо, я ведь тогда ещё и не знал, как это всё будет, тогда Бог со мной ещё не разговаривал и планами своими не делился, да и вообще – покончить с собой из-за того, что будет полный швах и капут всей стране, – это несколько не то, на что она вправе рассчитывать, большее должно быть по-настоящему большим, например, вспомнить, о чём я болтал с Колодновым, пока Бог не начал говорить через меня мне же, можно, конечно, лечь спать и попытаться всё вспомнить по проснутию, но это заведомо безнадёжное дело, я ведь всё почти забываю, никаких снов не помню, только если какая-то знакомая девушка там появится и будет что-то как секс, только не секс, а как будто это намёк или предупреждение, или, может быть, этой девушке кажется, что её все забыли, и вот она начинает сниться всем подряд, всякой седьмой воде на киселе, мохнатым родственникам, которых она раз в пятилетку обычно видит, на свадьбах и похоронах, да и то далеко не на всех, ну и всяким таким, которые были с ней бок о бок в детсаде, школе, в универе, а потом рассыпались, разлетелись, как пух, и вот она как будто просит, чтобы ты её вспомнил, а то она скоро умрёт или выйдет замуж, растолстеет, разбрюхатеет, и вот этот её ранний, «девушкин», образ растворится в новой ипостаси законной жены, потом, может, матери, а там и бабушки, и не то что это плохо, это очень даже хорошо, но это матери и бабушке и законной жене хорошо, а девушке этого совсем ведь не хочется, она, наверное, не просто так растворяется, а прямо умирает, или её погребают внутри матери и бабушки, и там целая погребальная процессия стоит, с факелами все и в чёрном, жених, понятное дело, на коне, скорее всего, на белом, а вот почему жених обязательно на белом коне должен быть? вот если он к девушке конный приедет, только конь будет не белый, а вороной или гнедой, а то и соловый, или, убереги Господь, мышастый, то что, жених для неё будет уже не принц, а говно недоделанное?!.. и вот они все стоят вокруг юной девушки, возможно, она не в гробу, как у нас делают, а просто на кучке поленьев, обложенной валежником, её сожгут, словно она – ведьма или еретичка, или индуска, вдова индуса, и её надо спалить вместе с его телом, хотя я никогда не понимал, зачем мёртвые индусы сжигали своих жён, они же верят в реинкарнацию, в то, что посидят в аду, в котле поварятся, а потом их обратно вернут на землю, может, прямо в соседнюю деревню или даже в хижину соседа по улице, впрочем, это, кажется, только богачи горели вместе с жёнами, а жёны бедняков, наверное, продавались в рабство или заново выходили замуж, а детей тоже куда-нибудь в непотребное место отсылали, короче, эту девушку, которой уже пора исчезнуть из жизни, её кладут на разложенные поленья, наверняка приковывают цепями, чтобы не рыпалась и с костра не слиняла, а может и не приковывают, а просто хорошо удалбывают опием или транками, в любом случае, она помещается на жертвенник, и кто-нибудь подпаливает со всех сторон валежник, а можно ещё полить бензином, чтобы она мгновенно вспыхнула как факел и всё осветила, короче, она загорается, машет руками, кричит что-то, мечется, да, цепи всё-таки нужны, а то она может соскочить с костра, несмотря на весь опий в крови, и кого-нибудь ещё поджечь, даже жениха запалить может, а он-то как раз главный сжигатель, его жечь никак нельзя, потом, покричав и позвенев цепями, она отойдёт, её сердце лопнет, и дальше уже пойдёт обугливание, почернение, обжаривание, и тут уже надо подкладывать дров или бензин подливать, чтобы всё прогорело в золу и пепел, чтобы только прах-порошок остался, никаких костей и зубов, – это не потому, что жених на коне и все его помощники делают что-то предосудительное и даже преступное, что-то, требующее тщательного заметания следов, сокрытия улик, – нет, просто это девичье «я», эта молодая, мятущаяся, веселящаяся, местами безбашенная, местами развязная фигурка должна совсем раствориться, уйти из жизни, чтобы не мешать той матери и той бабушке, что уже нетерпеливо ждут у своих дверей, не беспокоить их и не путаться у них под ногами… я пытаюсь встать с постели, чтобы разбудить Колоднова, но ноги меня почему-то не слушаются, я пытаюсь позвать его на помощь, но из горла, несмотря на только что выпитую жидкость, вырывается лишь хрип и какое-то пощёлкивание, я пытаюсь прочистить горло, мотаю головой, но вновь натыкаюсь на что-то невидимое, нахлобученное на шею и не дающее голове вращаться в полную силу, допиваю гуашевую воду, пытаюсь крикнуть или прохрипеть, или даже просипеть, хотя бы прошептать: «Колоднов!» – но опять выходят какие-то щелчки и присвисты, постепенно я понимаю, что я, кажется, разучился говорить, то есть в голове моей проносятся нормальные человеческие слова, вот только ртом я их выговорить не могу, словно мне подменили речевой аппарат чьим-то другим, животным или птичьим, а то и вовсе земноводным или пресмыкающимся, а может, память подменили, в общем, теперь я могу только пощёлкивать, присвистывать и попёрдывать, и это вся речь, которую оставили мне в этом тусклом мире, больше никаких связных звуков, представляю, как Колоднов проснётся, и как мы с ним теперь будем разговаривать, он будет болботать что-нибудь шестидесятническое, а я в ответ глубокомысленно трещать и свистеть, пожалуй, я буду напоминать ему лесные походы и речные сплавы из его юности, и он, наверное, даже попробует пригласить какую-нибудь из своих баб и включить меня в качестве звуков природы, чтобы они могли почувствовать себя в лесу, у костра с котелком ароматного чая, и притвориться, что они любят друг друга не на пропотелом и промятом диване, а прямо на траве, я был бы закадровым голосом этого самого лона природы, только меня надо бы заныкать в шкаф или дать мне микрофон и посадить в другой комнате, а то не всякий человек будет трахаться в присутствии непонятного хмыря, я ещё раз пробую сказать что-нибудь осмысленное, вновь ничего не выходит, Колоднов от моих щелчков не то что не просыпается, он даже не шевелится, а может, он и правда умер?! или нет – это я сам умер, у меня всё-таки разорвалось сердце, и вот теперь я навечно осуждён сидеть в комнате со спящим Колодновым, с жопой, намертво приклеенной к дивану, и никуда мне с него не слезь, не деться, вот такая вот хреновая вечность, ещё хуже, чем банька с пауками, которую кто-то когда-то придумал, как самое страшное, что может случиться с мертвецом… а щелчки и посвистывания – это, наверное, специальный язык мёртвых, на котором они разговаривают… может быть, моё одиночество на краю дивана наконец-то кто-нибудь прервёт, чёрт какой-нибудь появится, или демон, или даже ангел вдруг прилетит, ну такой, вроде следователя, который должен навести порядок… в общем, кто-нибудь появится и тоже мне что-нибудь насвистит, только так, чтобы я всё понял… ох ты Господи, а вдруг слова уйдут у меня не только изо рта, но и из головы тоже, и я ещё и думать начну, как сейчас говорю?!.. вот это было бы вовсе хреново… а может быть, это что-то такое, через что нужно пройти, переступить, перескочить… кто-то совсем недавно мне говорил, что надо достичь какого-то дурацкого предела, после чего можно ничего уже не делать, потому что за этим пределом взойдёт солнце, и всё вроде бы устаканится… нет, там как-то по-другому было, но всё равно, может, я сейчас как раз на этом пределе, и надо что-то вынуть или наоборот что-то положить, ведь это очень важный предел… чёрт! у меня все мысли разбегаются, то всплывает что-то из раннего детства, то я не могу вспомнить, что было час или два назад, надо попробовать сосредоточить себя на чём-нибудь, ну, например, на Регине, на её пшеничных волосах, или на серых глазах, похожих на карельские озёра, может, на оттопыренной в усмешке губе, нос вздёрнут… что там ещё… нет, глаза – это не то, выше носа глядеть не хочется, полубоязно, полузападло, потому что с таким положением губы взгляд должен быть особо убийственным, лучше наоборот, – спускаться от губы к подбородку… что же всё-таки я должен был узнать или вынуть, что-то такое мне обещали или требовали от меня или просили, куда это всё ушло, ещё какое-то время назад я всё помнил, а сейчас уже почти ничего осмысленного нет, я словно в чём-то растворяюсь и исчезаю большими кусками, все мысли путаются, факты, слова, запахи, вкусы пропадают, я уже не помню, что за старый хрен лежит на соседней кровати, что это за диван и где я вообще нахожусь… да и зачем?!!.. когда всё это началось и когда закончится?.. я снова возвращаюсь к Регине, ей имя я по-прежнему помню, так, надо теперь попытаться всё же поднять взгляд к её глазам, не прятаться от них, уставившись в подбородок… ох, да ни хрена же себе! у неё теперь почему-то нет глаз! самым натуральным образом нет!!! там – пустое плоское место, совершенно плоское, как будто вылепили такую древнюю статую, а глаза забыли налепить, и потом покрасили её под свежую живую человечину, так что вроде бы всё как положено – рот, нос, лоб, брови, вот только вместо глаз – ровное место, плоскость… ну вот же чёрт! надо было на неё раньше смотреть, когда глаза ещё были, я точно помню, это ведь всего полминуты назад я о ней думал, и всё было как надо, глаза смотрели, не помню – как, но ведь смотрели! и – прямо на меня!.. а теперь – всё, приехали!.. на Регине уже не сосредоточишься, всё оплывёт, смешается, и ничего больше никогда не будет… меня вдруг как волной захлёстывает уныние и отчаяние, это какие-то очень приятные волны, они несут с собой отдохновение от трудов, почивание в бозе, можно больше ничего не делать, раз у Регины нет глаз, а у меня – памяти, слов и прочего… между тем Регина подносит руки к лицу и трёт пустое вместоглазие, как будто в эту плоскость попала соринка или у неё безглазый конъюнктивит… затем она вытягивает руку в мою сторону и как-то очень жёстко тыкает пальцем мне в грудь, то есть это не по-настоящему, я ведь её только воображаю, пытаясь на ней сосредоточиться, но ощущение такое, словно меня действительно ткнули в грудь, даже не пальцем, а каким-то металлическим набалдашником… затем Регина жмёт пальцем мне в лоб… я боюсь, что вне зависимости от того, бред это, сон или что-то посмертное, во лбу у меня или моего трупа появится вмятина… сердце и место во лбу начинают вибрировать, сперва такая мелкая дрожь, а потом как раскочегарились!.. меня взбалтывает со всех сторон сразу, я захлёбываюсь в уныниях и отчаяниях, в которых только что пребывал, а потом выныриваю, уже со свежей головой, почти ничего не помню, но теперь меня это не волнует… нечего беспокоиться, память плавно опускается мне на лоб обжигающими кусочками льда, такой специальный огонь холода… и вот я вспоминаю, что мне на какой-то даче совершенно недавно выедали мозг рассказом о крае ночи… вот именно на нём я только что и побывал и чуть в этой самой ночи не растворился, впрочем, возможно, главная опасность не в том, что можно раствориться, а в переходе за этот самый край ночи, ведь там, за ним, вовсе не обязательно рассвет и утро, но в эти мысли я сейчас не хочу углубляться… затем возникает память о пульсировавшем внутри меня разговоре с Богом, причём я очень хорошо помню все слова сразу, каждое по отдельности и их сумму, эти слова целиком мне не нравятся, но мне не остаётся ничего, кроме покорности, ибо кто я, чтобы перечить Богу… по-прежнему я сижу, не открывая глаз, когда я их только закрыл, за веками всё было таким же, как и с открытыми глазами, только тусклым, сейчас же я знаю, что открыв их, увижу всё ещё боле поблекшим, Бог говорил мне, чтобы я передал народу всё, что собирался сказать одному только Колоднову, во! точно! мы же говорили о мессианском русском народе и о том, что сейчас наш народ разделён на римлян и иудеев, а последние, в свою очередь, на зелотов и продажных садуккеев, и ещё попадаются отстранившиеся от всего земного ессеи, для полной красоты лишь фарисеев не хватает… о! тут меня окончательно накрывает каким-то пустынным ветром, задувающим непонятно откуда, из каких щелей… я опускаюсь на диван, закрывая голову рукой, её бы ещё под подушку спрятать, но я не решаюсь… в глазах нестерпимо рябит и пестрит, это смесь картинок и слов, картинки похожи то на миниатюры каких-то восточноазиатских народов, то на кинохронику, снятую рапидом, которую сделали в чёрно-белом цвете и ещё положили на неё эффект старой, поцарапанной плёнки… слова, непрерывно звучащие у меня где-то за ухом, похожи на закадровый голос телекомментатора, британского учёного, снявшего историческую передачу, но я понимаю только половину его слов, потому что голос звучит как оригинальная звуковая дорожка, приглушённая, чтобы не мешать переводу, а перевода и нет!.. я вдруг понимаю, что переводить должен я сам, то ли для себя, то ли для Бога, то ли для безглазой Регины, а может и просто так, для красоты…
Я вижу: малые миллионы нашего народа, укрывшиеся в благодатной диаспоре, разобщённые и говорящие по-русски только дома, в камерных кафе и маленьких магазинах; их дети уже не видят снов на русском языке; их внуки и вовсе не знают русского языка, хотя и слышат его в детстве, довольно часто: на русский переходят их дедушки и бабушки, когда хотят обсудить что-то, чего внукам знать не положено.
Я вижу: большие миллионы нашего народа, огромный чугунный котёл, взрывающийся кипением; массу воды я вижу, покрытую коркой русского жира; она взрывается клокочущими пузырями; единство этого бульона, растопленного и размороженного, пропадает в одночасье; под жиром обнаруживаются ломти ашхаруа, маарулал, таулу, адыгэ, хай, алтай-кижи, баряат, урбуган, кумуков, казанлы и башкортов; суп кипит и кипит, и небесный половник перемешивает взвесь из кабган и суссе кум, коми войтыр и кубанды, ирон адаэм и ногай-карагаш, карьяла и изьватас, нохчи и дарган.
Я вижу: сам русский жир распадается на одноязычные островки обоюдной ненависти; вижу тундряков, ненавидящих москалей, которые для них почти все жиды, и москалей, презирающих зауральцев; вижу растворившихся в народах поволжан; вижу, как этот суп выкипает десятилетия и столетия.
И вот вижу новую диаспору, явившуюся с пожарища, большую, голодную, с мёртвыми глазами; вижу её учителей и наставников, собирающихся в молитвенных домах и много, без сна и еды, говорящих, цитирующих, спорящих; вот они составляют свод правил повседневной жизни, включающий детальную регламентацию ничтожнейших национальных обрядов; вымерено и высчитано практически всё, вплоть до той рюмки водки, после которой дозволяется, а в некоторых случаях и непременно обязывается заняться устным богоискательством, а также – тех ритуальных вопросов, которыми следует предварять символическую битву во опьянении, обряд, исполняемый двумя и более участниками; учителям ведомо, что окружающий римско-эллинистический мир смотрит на эти обычаи с отвращением, непониманием и презрением, так же, как их далёкие пращуры морщились от обрезания детородного уда и диетарных законов иудеев; вот вижу записанной русскую галаху, вижу составленными и напечатанными тома двух русских Талмудов, Монреальского и Канберрского; вижу, как пожухлые старцы, после долгих дебатов, объявляют русский литературный язык священным и запрещённым к будничному использованию; «Не умели мы им пользоваться», – говорит один из учителей, – «и за это Господь забирает от нас наш язык до блаженных времён возвращения»; отныне жители диаспоры говорят между собой исключительно на просторечии, полном сленга, непристойностей и бормотания, а затем, укрепившись в странах русского галута и обособившись среди местных жителей, начинают болтать сперва с аборигенами, а потом и друг с другом на простом английском, который вскоре превращается, благодаря упрощённой грамматике, особому русскому произношению и обилию русских слов, в отдельный язык рушн; аборигены, ухмыляясь и сплёвывая с презрением, называют его жаргоном; полувек за полувеком страны Европы и Северной Америки бороздят довольные собой и Богом люди, одетые в ушанкас, пидоркес, телогрейкес и ватникес; более южные страны видят пляж-майкес и семейкес до колен; и так роды и роды идут, проходят через цепь общественных коллапсов, через образование новых стран и наречий, через лояльность и подозрительность коренного населения стран галута, через выселения и погромы, через принудительные ассимиляции и вымаривание в резервациях, через попытку окончательного решения русского вопроса, через визгливые речи и шипящие статьи, через сотни публикаций на сайтах о «русских, этих прирождённых фашистах! только себя эти выродки считают людьми, всех остальных они презрительно называют нерусями и открыто приравнивают к животным»… этим теоретикам в рабочих спецовках, а порой и в университетских мантиях невдомёк, что нерусь – слово скорее ласкательное, это всего лишь человек, неспособный проникнуть в суть многовековой давности обрядов; впрочем, стать русским – задача действительно сложная, практически невыносимая для нерусского плеча, поэтому прозелитизм русскому образу жизни практически несвойственен, энтузиаста-неофита очень долго, подробно и тщательно отговаривают от его безумной затеи, неоднократно предупреждают о всех тех тяготах, что сразу лягут на него, тогда как оставайся он нерусью, то чтобы быть хорошим человеком, угодным Богу, от него требуется лишь самая малость… и вот вижу наконец долгожданное, веками вымаливаемое, приближаемое мистическими обрядами совместных раздавливаний на троих (сопровождаемых чтением Пушкина, вызывающим слёзы экстатической грусти), время возвращения на Родину… я вижу возникшее уже в каком-то неведомом мне мире, с совершенно перекроенной картой и невообразимыми границами, движение китежизма, миллионы пионеров, садящихся в самолёты и поезда до Святой Земли, находящейся под чьей-то совершенно несусветной властью; там уже будут ссоры с местным евразийским населением, недовольным распространением русских деревень и заводов, грядёт партизанщина и локальные войны… здесь мои глаза заволакивает туманом, ничего я больше не вижу, да и вообще глаза мои наконец раскрываются, и вокруг меня не колодновская пещера в тусклых цветах, а только тьма, мрак, и свету не объять той тьмы, и тишина гроба, которую нарушает лишь моё дыхание, почему-то с присвистом.
Да, похоже, что это мне тоже надо передать народу через паучью сеть чёрных квадратов, через которую мы смеёмся, смотрим картинки, ублажающие плоть и как там дальше Бог говорил. Ссоримся друг с другом. И воруем что-то. Пожалуй, можно ещё добавить деталей из той круговерти, мелькавшей перед моими закрытыми глазами в виде старой хроники. В Монреальском Талмуде, например, были во множестве представлены полярные мнения русских Шаммая и Гиллеля, Достоевского и Толстого. Помню, что к основному корпусу священных текстов прилагался целый блок апокрифов, в основном это были пророки и учителя так называемого скорбного века, предшествовавшего началу галута. А ещё были сектанты-раскольники, при виде которых каждый порядочный и богобоязненный русский должен был сплюнуть и про себя пожелать им бедности, угасания и отсутствия наследников. Эти выродки заменили святые тексты богомерзкими писаниями ересиархов, от двух из которых остались лишь акронимы ПВО и ВГС, а третьим был Эдуард, сын Венеамина, из рода Лимонов, глава и духовный наставник зелотов, в молодости сочинявший сатанинские стихи и дьявольские летописи своей жизни в странах галута и в Святой Земле. Ещё сектанты с горечью оплакивали множество исчезнувших учителей, чьи тексты пропали в годы Изгнания, были изъяты из библиотек и сожжены составителями Талмудов, и удалены из частных компьютеров по их приказу. Каждый случайно найденный текст (они встречались у барахольщиков, покупавших их у внуков первых диаспорных русских, распродававших ненужные дедовские библиотеки) был поводом для праздника с обильной едой и возлияниями.
Глаза мои закрывались и открывались. Теперь и за веками и поверх была только мягкая бархатная темнота. Край ночи молчал. Постепенно и голоса в моей голове замолкали.
32
Из окна нестерпимо сияло солнце; видимо, мы забыли зашторить окна, увлекшись вином и полемикой. На кухне журчала вода; Колоднов гремел посудой. В голове было ясно и спокойно, несмотря на прокуренный воздух.
– Проснулся? – встретил меня сердитый взгляд хозяина. – Хоть бы раз посуду вымыл, тунеядец.
– Тунеядец – это Бродский, – ответил я, наливая свежего чаю. – А я – твой гость. Гостям посуду мыть не полагается, деньги тебе из хаты вымоем. Ну или что-то в этом роде.
– Вот это всё тунеядцы придумали, все эти приметы, – ответил мне ересиарх. – Которые только по гостям ходили.
– Ну, ты не забывай, что я гость – вынужденный, сам к тебе не напрашивался… Слушай, а о чём мы с тобой вчера вечером говорили, перед тем, как уснуть?
– А это не мы говорили, а ты говорил. Мы сперва пили вино и болтали про эту твою ерунду – про красные галстуки, и про то, как Гурджиев Сталина гомосеком сделал, – Колоднов явно дразнил меня, перевирая старательно продуманные выкладки; я ведь отлично помню, что он участвовал в беседе, качал головой, язвил и вставлял к месту и не к месту злые подковырки. – Потом меня срубать стало, ну я и лёг… А ты внезапно стал куда-то в сторону говорить… На диван сел и так нарочно в стенку отвернулся, что-то бубнишь как скажённый мудак... Ну я подумал, что всё, допился ты, а может глумишься, как раньше. Думал встать и ещё раз тебе впаять по морде, да лень стало. Уснул. Так что ты там у себя самого спрашивай, о чём ты вчера говорил, – и Колоднов вернулся к посуде.
О чём я сам с собой говорил, я помнил. Мне ещё об этом надо через интернет рассказать. Или сперва через друзей?
Открыв интернет, я впервые за неделю проверил почту. Там было семнадцать непрочитанных сообщений: шесть комментариев к политическому срачу об оранжевой революции в чужом блоге, три спам-послания (предлагали, среди прочего, «раствориться в своём сексуальном партнёре без остатка») и восемь писем с неизвестного мне ящика queen-jezabel@ gmail.com; первое из них начиналось со слов «знаешь, Джим».
«знаешь, Джим, в пнд вечером мы сидели с Борюсиком в его хате в Ново-Ебенёво, пили вино (кстати, это было то самое вино, которое ты выжрал в одно своё наглое рыло, когда мы шли к моей даче) и курили его босяцкую траву из Калмыкии. Борюсик очень трогательно рассказывал, как встретил тебя в 8-ой столовой, помятого и несчастного. по его словам, у тебя был вид, «как у солдата, отъёбанного всей ротой» :). кроме того, он, конечно, не преминул рассказать тебе, как ты со мной спал, то есть о том, что ты в курсе.
самое забавное случилось сегодня, когда я тебе позвонила, чтобы извиниться за этот прогон (на самом деле, это прежде всего для тебя, потому что Борюсик очень ревнует, а когда он ревнует, то ему хочется не набить морду моему ухажёру или там, не знаю, не пускать его на порог, ему хочется обнять его, посидеть-потрындеть, может, даже поцеловать на прощание, он уже с этим занудством приставал к моему одногруппнику, подрался с ним из-за этого, представляешь? в общем, я подумала, что лучше сказать ему, что мы пару раз спали и мне не понравилось, чтобы тебя, так сказать, «обезопасить» :) ). так вот, твой мобильник не отвечал, а твоя мама сказала мне, что ты уехал в Ульяновск с некоей Региной. ход очень понравился, правда, здорово получилось. удачи тебе в Ульяновске, не забудь зайти к соседу Саши по лестничной клетке, он очень крутой художник, меломан и у него почти всегда есть :)
Целую, Регина»
«Привет ещё раз, Джим.
знаешь, сегодня я представляла, как ты действительно сейчас ходишь по Ульяновску, базаришь с Мишей и Арсеном, это нарколыги местные, работают один фармацевтом, другой аудитором, а в свободное время рубят очень грязный гаражный рок, по-моему, совершенно упоротый, а тексты берут тупо из газет или теленовостей.
ещё я думаю, что тебя обязательно должна отпиздить гопота с Киндяковки, а потом ты будешь ховаться на чьей-нибудь даче. ну и конечно, ты много пьёшь со всякими музыкантами и художниками, такие дела :)
попробуй и ты представить, что спишь со мной в одной кровати, у меня дома, только по-настоящему спишь, а не как полено в объебосе :). а самое главное, представь, что мне не нравится, ну, не в том смысле, что ты меня насилуешь, а я не хочу, а как будто мы трахаемся, а я никакого особого удовольствия не получаю. но стараюсь этого не показывать!
я тебе ещё звонила, но ты по-прежнему недоступен. если увидишь это письмо до возвращения, скинь свой ульяновский номер :)»
«слушай, куда ты уже пропал, а?!
сегодня вернулись родители, и Марга сказала мне, что в её комнате кто-то был, кто-то помял её кровать и съел её жевательных медведей. а самое главное – кто-то надевал её банный халат, она это почувствовала, представляешь?! я сказала, что это моя подруга, очень небольшого роста, она попала в снежную бурю, провалилась в сугроб, вся вымокла, ей была необходима горячая ванна и много-много тёплого чаю с малиной и вкусными медведями. а своего банного халата у неё не было, и моего тоже под рукой не оказалось, потому что мои вещи у меня в Москве, вот и пришлось дать ей Маргин. вроде бы Марга мне поверила. но она с очень важным видом сказала, что если моя подруга, – то есть ты, – плохая девочка, то Маргины медведи съедят тебя изнутри, а банный халат прилетит к тебе ночью и убьёт, когда ты пойдёшь мыться, потому что плохим девочкам халаты и медведи не полагаются. так что, если что, не пугайся, это всё потому, что ты у нас – плохая девочка :)
кстати о девочках. Борюсик меня ужасно достал. он постоянно ноет о терзаниях своей утончённой души и при этом слушает что-то невообразимо отвратное, какие-то дурацкие тяжёлые группы с криками, шёпотом и воем. не знаю вообще, зачем я так быстро променяла Семёна на это уёбище.
если уж совсем начистоту, то следующим должен был быть ты, но ты, во-первых, был всё время в этом ужасном объебосе и обрубался в самое невовремя, а во-вторых, ты слишком беспределил и у всех вызывал негатив. то с бутылкой, то с Маргиным халатом.
мой молодой человек не должен быть объёбан снотворным, понимаешь? только если вместе со мной :)»
«в общем, Борюсика я «рассчитала». он и сам сказал, что с женщинами ему сложно, они постоянно от него что-то хотят, не понимают его ранимую и чувствительную душу, не идут на полный душевный контакт и готовят они тоже плохо.
так что он хотел бы уединиться. с мальчиками ему не нравится жить, к тому же, их никогда не поженят, и у них никогда не будет детей. а с девочками он не может душой.
это всё он говорил, делая для меня исключение. потому что меня почти не слышно, я не прошу сделать потише его ужасную музыку и не мешаю ему смотреть старые «X-Files». да, кстати, ты прикинь, он ещё говорил, что хочет, чтобы мы с ним были как Фокс Малдер и Дана Скалли, чтобы у нас была любовь как расследование тайн :) вот такой вот пиздец.
короче, я сегодня его послала и выкинула на мороз вместе с его дурацкими дисками и вампирскими плакатами (этот поганец успел за 5 дней завешать мне кухню и комнату попсовыми пидарастическими бледными мальчиками, только что не дрочил при мне на них!)
и вот он сейчас звонит мне, оставляет на автоответчике свои жалобы и просьбы поговорить и вернуться, сетует, что в родном Ново-Ебенёво ему жуть как тесно с родителями, а его батя дразнит его педиком и с ним не разговаривает, а я печатаю это дурацкое письмо. и мне кажется, что оно отправится в никуда, потому что ты по-прежнему не включил мобильник и на письма тоже не отвечаешь. где ты вообще? я так скоро беспокоиться начну :) в общем, давай, материализуйся. тебя даже Саша вспоминал недавно. где, говорит, этот мудак шляется, давно его не видно, не слышно. я ему сказала, что ты в Ульяновске. удивился, но поверил :)
целую, ненавижу, убью, сволочь :)»
«слушай меня, молодёжь покорённой Гитлером Европы!
ты меня уже активно бесишь. кроме того, я всегда ненавидела вести одностороннюю переписку. по-моему, это верх идиотизма и мне вообще не следовало её начинать. но раз уж 4 письма позади, ничего не остаётся, кроме как продолжить, а то я выглядеть глупо буду. к тому же, у меня, кроме как писать тебе и волноваться из-за твоего отсутствия, действительно особых дел нет.
сходила тут на днях на какое-то дурацкое кино с Николасом Кейджем и таким стрёмным парнем с львиной рожей, ты всё время говорил, что он на обезьяну похож, а на самом деле, на льва. это всё потому что ты смотреть как следует не умеешь :) он ещё Хеллбоя играл и в «Городе потерянных детей» тоже. в общем, там такая история, как будто средневековая европейская чума была не из-за того, что всех кошек вместе с их колдуньями сожгли, а потому, что её сам Дiаволъ наслал, чтобы выморить всех монахов и добраться до единственного монастыря, в котором хранился Соломонов Ключ, книга, чтобы его изгнать. в жизни более упоротого фильма не видела. зато Дiаволъ там был красивый, точнее, он в виде девушки там был. ты бы наверное приторчал, скотина пропащая! но всё равно – по трезвяку такое лучше не смотреть, так что теперь мне очень хочется выпить. или дунуть. или поочерёдно :)
да, а ещё я всё-таки начала читать Джойса. очень медленно идёт, прямо абзацами, если не строчками. думаю, что он, в общем, довольно наглый пацан. прямо-таки дерзкий :) заставил комментаторов и учёных бегать вокруг своей писанины, читать дублинские газеты, опрашивать всех его собутыльников и врагов и всё в таком духе. думаю, что подобные фокусы только тогда прокатывали. сейчас бы такого Джойса во всех издательствах к ёбаной матери направили. но в целом – очень вкусно. так что ты – лох голимый, что не читал до сих пор. я вот уже целых 30 страниц сделала! :)
возвращайся
пищи
звони»
«блять я тебя ненавижу уёбок! понял?!!! НЕ БЛЯТЬ НА ВИ ЖУ
ПОТОМУ ЧТО ТЫ ЁБАНЫЙ МУДАК ПИДАР ГОЛИМЫЙ И ШТОБ ТЕБЯ ПОЙМАЛ БОРЮСИК И ОТЪЕБАЛ В ТВОЮ ВОНЮЧУЮ ЭГОИСТИЧЕСКУЮ ЖОПУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
«слушай, извини меня за вчерашнее письмо
просто очень хотелось тебя видеть, вот и всё
так задостало
я вчера всех звала на выходные, а больше уже и нет никого. все слились куда-то. и Саша, и Семён. а Борюсика я уже видеть не могу. вообще, наверное, общаться с ним не смогу больше, так он меня затрахал за эту неделю.
в общем, видимо, я вчера очень сильно напилась.
но и ты, блять, хорош. уже и писать тебе про тебя нечего, всё и так сам знаешь.
позвони, когда сможешь, а?»
«я теперь уже не знаю, что писать, что не писать. и почему – именно тебе, а не кому другому. и почему вообще – писать, а не забывать.
наверное, ты превратился в мой дневничок :)
знаешь, раньше все продвинутые девчонки, в смысле, просто грамотные, из семей с определённым достатком, вели такие дневнички на замочке: «ля-ля-тополя, мой милый дневничок, сегодня днём ходила в гости к Мари, играли в любовь цветов». или там «гадали на жениха». наверное, ещё писали что-нибудь в духе: «прочла «Санина», вступила в лигу свободной любви», там были такие перед самой революцией. если это, конечно, не фэйк журналистский, чтобы папы-мамы за сердце схватились.
(а ещё кто-нибудь, возможно писал: «начала читать «Капитал», сложно, но товарищи говорят, что надо» :)).
потом, конечно, папы-мамы вскрывали замочки, читали, хватались за голову и бежали в рощу за розгами :)
в общем, ты у меня теперь такой вот дневничок будешь.
выходные в итоге с Ольгой провела. она мне сказала, что ты мудак, потому что показал мне римэйк «Плетённого человека» с Николасом Кэйджем. просила при случае передать. передаю. хотела заставить меня посмотреть оригинал лохматого года, но я отказалась, слава Богу, не хватало мне ещё этой ритуальной жути. вместо этого посмотрели кинцо с Гордон-Левиттом, это смешно. там такой типичный нуар со всеми делами – кокаин, героин, золотая молодёжь, роковая красавица, крутые парни с пушками. только происходит всё в старших классах, и все эти крутые пацаны заморачиваются, кто с кем обедает в столовой, ведь это, блять, серьёзно! :) а ещё главный героиновый барыга – по меркам пацанов, он старый уже, ему 26 – и он хромающий гот с тростью. там классный момент есть, где он Гордон-Левитта спрашивает – «ты, мол, читал Толкина? он так здорово пишет, прям жить там хочется» :)
ну ладно, все главные фишки я тебе заспойлила, считай, что это месть такая, не знаю, правда, за что – за «Плетённого человека» или за то, что ты меня игнорируешь. буду считать, что за всё сразу. хотя ты, конечно, большего заслуживаешь. более суровой и злой мести, то есть.
ещё мы с Ольгой напились и уснули в обнимку. то есть, я не помню, как мы засыпали. по-моему, я, так же, как и ты, отрубилась, а проснулась уже с её головой на плече. может, мы и трахались, но я ничего такого не помню. ну, зная эти Олькины штучки, я просто уверена, что она всех, и в первую очередь, меня будет убеждать, что трахались. так что возможно я некоторое время буду с ней. а ты вытягивай себе член и, когда он будет до жопы доставать… ну, ты понял :) знаешь такую русскую народную сказку? там дурак хотел жениться, и вот отец ему и посоветовал.
не знаю.
какое-то длинное письмо получилось.
и невесёлое.
злое какое-то.
по всем статьям ты мудак выходишь и конченый арафат, а мне всё равно тоскливо.
даже не знаю, о чём тебя просить теперь. всё уже в предыдущих письмах было.
в общем, даже если ты помер, подымайся.
а то плакать буду»
Такие дела. Плакать будет. Может, уже плакала.
Подзарядник отыскался на дне рюкзака. Непонятно, зачем я его всегда с собой таскаю. Возможно, потому, что, когда из дома выхожу, никогда точно не знаю, где буду ночевать, и сколько моё внедомное существование продлится. Включившийся телефон недовольно зажужжал и через некоторое время выдал количество пропущенных звонков. Теперь почти все были от Регины, от мамы ни одного уже. Ещё звонили Арсеньев и Машуркин, лучший друг и младший кузен. Последний, наверное, хотел позвать дунуть. Были ещё и sms-сообщения, эти – все от Регины, судя по тону, времён ранних писем, потом она полностью переключилась на электронные эпистолы.
Я некоторое время посидел на корточках, переводя взгляд с монитора, на котором была открыта моя почта, на мобильник в руке. Прямо Буриданов осёл. Но тут чёрный квадрат в моей руке завибрировал, а потом выдал звуки El Bimbo (в моём детстве под эту мелодию в телесериале «Полицейская Академия» танцевали кожаные пидоры в баре «Голубая устрица»; один раз меня за эту мелодию даже хотели отметелить, но не догнали).
– Сука, ёбаная ты сука, – сказала Регина. – Я тебя ненавижу, ты в курсе?
– В курсе, – я не знал, что отвечать. – А как ты так быстро позвонила? Я телефон в подзарядник только включил.
– Сообщение пришло, что ты снова в сети. Что ты, ёбаная сука, в сети!
– Круто. Извини, что… Ну… В общем, извини меня. Я правда не хотел. Просто тут…
– Знаешь, как ты у меня в записной книжке теперь называешься? – перебила меня Регина. – Ё – ба – на – я су – ка! С тобой всё в порядке? Где ты?
– Кгхм, – я пожал плечами. Не знаю, почему, но разговаривая по телефону, я продолжаю жестикулировать и даже строю рожи и гримасничаю, как будто собеседник может меня увидеть. – Если честно, то я и сам не знаю, где я. Но где-то под Москвой, и завтра вроде как приеду.
– Что значит – «не знаю»? Как ты там вообще очутился?
– Ну, тут долгая история… И, если честно, мне её нельзя рассказывать. Реально, не могу.
– Что значит – «нельзя»? Подписку, что ли, дал о неразглашении? – Регина явно смягчилась и даже, кажется, заинтересовалась.
– Да нет, тут устная договорённость. И даже не договорённость, а как бы… Чёрт, даже не знаю, как тебе объяснить. В общем до завтра, до полудня или до утра, не помню уже, я буду здесь, а потом приеду. А все обстоятельства, как это вышло, почему, зачем… В общем, если расскажу, то у меня будут серьёзные неприятности. Серьёзнее отчисления. И даже, наверное, серьёзнее… чем смерть. А если не расскажу, то всё будет нормально. Как обычно.
– Слушай, ты чем там на этот раз обдолбался? А? Джим! – Регина засмеялась. Скорее всего, она ещё покачала головой, так поводила из стороны в сторону. Она, когда смеётся над идиотами, часто так делает.
– Да ничем. Только вино пил. Я, конечно, понимаю, что со стороны это всё смешно звучит, – Джеймс Бонд, майор Пронин, тайны мадридского двора такие… Но мне тут, на самом деле, ни хрена не смешно. Спасибо, кстати, что от Борюсика меня оградила, – зачем я это ляпнул? И тут же полез объяснять, то ли ей, то ли ещё и себе самому. – Если бы ещё и он ко мне полез сейчас со своей ревностью, я бы окончательно съехал.
– Джим, с тобой всё в порядке? – она уже стала совсем серьёзной. – Тебе помочь как-то не нужно?
– Да нет, вроде бы. Я тут прекрасно провожу время с одним, – я оглянулся; Колоднова поблизости не было, – старпёром-шестидесятником. Трём за всякое, бухаем. А ещё у меня тут что-то было такое, – я подумал, как лучше описать свой разговор с Богом, и в итоге решил, что сейчас эта информация неуместна, – в общем, нечто вроде озарения… Глобальное такое озарение. Про страну и народ.
– Это шестидесятники так на тебя действуют?
– Ну, не знаю. Нет, скорее, это что-то, что просто в воздухе летает, а я рукой поймал. А шестидесятник если и участвовал, то только в качестве катализатора. Он, кстати, об этом озарении вообще ничего не знает. И я не уверен, что ему стоит рассказывать.
– Слушай, а к тебе можно приехать или там всё опасно?
– Не знаю даже. Вроде как не опасно уже, но всё равно не стоит… Я уже завтра вернусь и сразу к тебе. Ну то есть, сперва к родителям, а потом сразу к тебе.
– Да иди ты в пень, Джим! Ты опять завтра упрёшь к своим друзьям районным, и снова на две недели, – в её голосе прорезалось что-то истерическое, похожее на отчаянно перекрываемые слёзы. – Дурак ты и сволочь поганая! – и она бросила трубку.
Выключив почту, я пошёл на кухню. Колоднов потягивал чаёк, благодушно прищурившись.
– Ты это, – сказал он, – я ведь в отличие от вас плееров не слушаю. Так что и со слухом у меня полный порядок. Опять тебе за «старпёра» впаять, а?
– Не, не надо. К тому же, пора бы уже и привыкнуть к «старому пердуну» в таком возрасте. Сейчас, бывает, и двадцатишестилетние старпёры случаются. И ничего, спокойно живут и не обижаются.
– А может, оно и так, – Колоднов задумчиво хмыкнул. – По сути, так оно всё и есть. Только всё равно как-то неприятно звучит, – он допил чай и увесисто вжал кружку в стол. – А ты с кем это разговаривал? С бабой?
– Ну, в некотором смысле.
– Нет, ну вот что вы за ебалаи такие, – Колоднов прикурил и тут же выпустил струю дыма через ноздри. – Бабы у вас «в некотором смысле», парни на девок похожи, юмор про одноногих моделей… Ты мне нормально объясни: баба это твоя или нет?
– Ну, в общем, да…
– Блядь, «в общем да»! А у вас без «в общем» бывает или нет? «Как бы», «в некотором смысле», «похоже на то»… Вы вообще можете как-то определиться, а?! Да – нет, ёбтыть! И всё! – он опять завёлся. – Что за пиздец вы творите?! Ну вот всё у вас какое-то, – он с шипом и яростными искорками в глазах покрутил безсигаретной рукой в воздухе, – размытое! Ни мужского, ни женского, ни чёрного, ни белого… Вчера левый, сегодня правый, завтра правительству хуй сосёт!.. Атеист, верующий, всё похуй!..
– Дядь Миш, там всё реально сложно, – я вздохнул. – Вот ты не поверишь, а действительно так.
– А ты вот объясни попробуй, может, поверю!
– Короче, мы и должны были стать… Ну, как это…
– Ёбарями, мальчик! Ёбарями! Или любовниками.
– Любовниками. Во вторник, но скорее, в среду… Ну уж к четвергу-то точно стали бы. А тут как раз меня в понедельник и обширяли. И увезли. Макс этот.
– Ооо, – Колоднов вновь стал благодушен. – Интересно. Интересно, факт. Ну а сейчас как?
– Сейчас она завтра ждать не хочет. Сегодня хочет приехать, такие дела.
– Так и пусть приезжает! Завтра вместе поедете на уроки свои. А лучше в шалман, чтобы воскресение твоё отметить. Ты только ей за всю эту хуету не болтай, понял?
– Да ты что?! Я вообще постараюсь всё это забыть, как страшный сон, чтобы не мучиться. «У царя Мидаса ослиные уши»…
– А вот это ты зря, – Колоднов наставительно потряс пальцем. – Чем больше ты это на край чердака будешь загонять, тем чаще оно и вылазить будет. В самых неподходящих местах причём. Ты лучше это всё запиши и на самое дно сундука запихай. Есть у тебя сундук такой железный, с замком пудовым? – он усмехнулся. – Вот надыбай такой и спрячь. Изредка доставай и перечитывай, раз в год так, не чаще. Я так и делаю, – ухмылка растеклась в широкую улыбку. – И до сих пор ни с кем не проболтался, даром, что со всеми подряд бухаю… Ни с одной бабой, ни с одним умником не проговорился, так-то!
– Это интересный подход, – я сразу понял, что вот тут он целиком и безоговорочно прав, и тут же пообещал себе записать весь этот бардак, записать, напечатать и запаролить в компе, подальше от всех. А рукопись, видимо, сжечь. – Так и сделаю.
– Во! Правильно! А представь, как ты в сороковник всё это перечитывать будешь. Или вообще в пятьдесят. Тогда, правда, этих олухов уже не будет… Надеюсь… Впрочем, новые появятся обязательно. Свято место пусто не бывает…
Телефон опять выдал легкомысленный танец.
– О! – одобрил мой рингтон Колоднов. – Уважаю. Отличная песня была.
– А у неё ещё и слова были?
– А то! Ты звонок-то прими.
Хотел нажать на «сброс», но инстинктивно нажал «приём».
– С тобой точно всё в порядке? – спросила Регина. – Точно приедешь завтра?
– Приеду. Если банный халат твоей сестры не прилетит.
– Слышь! – вклинился Колоднов. – Да пускай приезжает! Я вам койку свою уступлю, что я, зверь, что ли…
– Там говорят, чтобы я приезжала, – сказала Регина. – Или это у меня уже галлюцинации? Выдавание желаемого за действительное?
– Ну, в общем, да. Говорят, чтобы приезжала. Но я всё равно…
– Да чего ты ломаешься, как целка перед солдатом?! – почти проорал Колоднов. – Баба тебя любит, дурень, а ты строишь из себя невесть что!..
– Ты чего ломаешься, как целка перед солдатом? – спросила Регина.
– Девственность боюсь потерять, – ответил я. – Знаешь: и хочется, и страшно.
– Старой девой останешься, – ответила Регина. – Куда ехать?
– Куда ехать? – я посмотрел на Колоднова.
– Зайцево, дом шесть. Юго-Западное направление. Добраться можно…
– Зайцево, дом шесть, это по Юго-Западу…
– Ладно, сейчас на карте найду и поеду. Машину возьму, – и она бросила трубку.
– Вон какие у вас бабы крутые, – уважительно кивнул Колоднов. – Всё чётко, по-деловому. Как солдаты прямо. А вы… – он снова махнул рукой.
– Так это ж я тебе объяснял, почему. Это потому, что в России мужское половое солнце под арестом, на зоне чалится и во самый во ад низвергнуто.
– Это всё такие умники, как ты, придумывают, чтобы не делать ни хрена. Оправдания это всё, уловки, отговорки…
– Ну как же так! Нет, здесь всё верно и чётко. Вот ты думаешь, почему англо-американская культура весь мир под себя подмяла? Потому что у них по уму всё сделано в языке. У них cock, – петух, – это мужской член. Вот им солнце и помогает во всём – и в бизнесе, и в кино, и в литературе, да в чём угодно! А у нас петух…
– Наглость им помогает, а не солнце, – отрезал Колоднов. – И ещё – что не воевали и коммунизма не строили.
– Ну нет, ни хрена! – я возмутился. – У русской культуры член как раз в двадцатые-тридцатые отрезали. Медленно так пилили все эти годы, – целой культуре член ведь за полминуты не отхватишь… Пилили-пилили и наконец отчекрыжили. Вот смотри: после революции у нас и наука, и кино, и театр, и живопись самые крутые были. Эйзенштейн, Бахтин, Мейерхольд, все эти Родченко, Маяковские, Татлины… А потом их всех запретили, кого расстреляли, кого просто до сумы и туберкулёза довели, как Платонова… И ещё круче: печатать не печатали и убивать не убивали, ну человек и загнулся. А через сорок-пятьдесят лет он уже и не нужен никому, кроме десятка эстетов. Вообще, вся русская культурная история двадцатого века – это история одного большого проёба! К нам люди рвались в двадцатые, говорили, что тут чудеса, победа революционного искусства… А мы, как пол-Европы отжали после войны у Запада, мы ведь могли их просто очаровать и этим искусством навечно загрузить, ну не простой народ, может быть, но молодёжь и интелей – стопудово!.. А мы их этим мерзким соцреализмом ебали сорок лет! Это ведь как вместо хуя бутылкой импотент трахает… Как в фильме этом… Смотрел?
– Смотрел, смотрел, – кивнул Колоднов. – Там, конечно, не всё правильно…
– Нет, ты про фильм забудь… Вот ведь понятно, почему чехи бунтовали, молодёжь, они же реальную музыку слушали, Вацлав Гавел вообще от Velvet Underground тащился, а остальные от роллингов, от психоделии… Да просто сравни: Англия-Америка рок выдают, а мы эти ВИА козлиные, уёбищные… Вот стоит перед тобой молодёжь стран Варшавского договора. У них есть выбор – что слушать: рок-н-ролл и какая-нибудь Зыкина упоротая, «издалека долго течёт река Волга»… Или Шульженко, или Кобзоны все эти мерзкие с бородами под Фиделя… Вот кого молодым слушать, а?! Rock – это ведь практически cock и есть, один звук в слове другой, чистая животная страсть и энергия. Можно было бы весь Варшавский договор под себя подмять, если бы это мы рок придумали, а не американцы. И все бы там русский язык знали и любили, а не как сейчас! А у нас как отрезали член в тридцатые, так и всё, нового не надо… Оттого и рождаемость в шестидесятые падать начала.
– А вот лично мне Зыкина нравится, – обиженно сказал Колоднов. – Великая женщина, между прочим. И не вам, долбоёбам, её судить. Битлс-Хуитлс – это всё по молодости с девчонками под портвейн поплясать. С возрастом всё по-другому воспринимать начинаешь… И, кстати, в Америке твоей в тюрьмах петушат не меньше нашего, а то и больше. Вон кино посмотри любое. «Американская история X», «Побег из Шоушенка», – везде!
– Петушат, может, и больше. Смотрел, не тундра. И про Чарли Мэнсона читал, как его всю молодость по малолеткам и взрослым тюрьмам нагибали. Только там этих бедолаг называют по-другому – панками. Это изначально такие доходяги и упоротыши, которые за сигарету отсосут. А солнечными словами там называют то, что и положено.
– Ну, ладно, – задумчиво протянул Колоднов. – Вот ты говоришь – Англия, Америка… А с Францией как быть? Они весь этот ваш Голливуд в рот ебали, и ни фига он у них не победил. И вообще они по-своему наглее и упоротее всех ваших америкосов будут. В каких-то вещах.
– Ну тут всё ещё понятнее. У них же петух вообще символ страны. Галльский петушок. Поэтому они ещё круче англо-американцев, в разы круче! Те их только разве что в музыке обошли. Они – смотри: кино крутейшее – раз, литература самая крутая и отмороженная – два, философы их вообще весь мир поимели и прогнули – три, и это при том, что пургу прогоняли просто убийственную. Я так думаю, что они нарочно придумывали самые безумные вещи: что автор произведения ничего не значит, важно, как его читать будут, что никакой нормы нет и психических болезней тоже не существует, всё это общество придумало, чтобы людей под контролем держать, а психиатры – это такая тайная полиция, фашисты и провокаторы, что сперва был письменный язык, а потом уже устный… Ну ещё бы с такими идеями остальных философов не забороть! Да даже в обычных военных делах у французов пиписьки сильнее были! Англия уже давно свои колонии сдала – Индию, Афган и Палестину, сразу после войны, а французы за каждую дрались как черти и партизан местных только так мудохали… Индокитай, Алжир, Марокко…
– Так ведь всё равно всё сдали!
– А все сдавали – и англичане, и голландцы… Это тогда трэнд такой был – колонии сдавать. Если колоний не сдаёшь, то на тебя все пальцем кажут, говорят, что ты лох голимый, а может и вообще, поганый фашист, империалист и угнетатель. Вот эту фишку, кстати, частично мы левым подкинули, по-моему… Про империалистов и угнетателей, я имею в виду. А против трэндов даже мужская солнечная сила не работает, это во все времена так. А тут америкосы словчили и освободившиеся от французов места заняли. Вьетнам просрали, а пол-Кореи отстояли всё же.
– Да-а, с Кореей у нас и у Китая хуйня какая-то получилась, – признал Колоднов. – Ким Чен Ир, блядь, рис по карточкам… И ядерное оружие таким мудакам… Послушай, – внезапно оживился он. – А с немцами тогда как быть?
– А с немцами как обычно. Член у них был и есть. И не девался никуда. Просто они сумасшедшие люди. Когда у них член на войну направлен, всё живое убивают и весёлое. Потому что садомазохисты все как один, дас ист фантастиш! У них как война, так обязательно чтобы геноцид, рабы, строгая классификация по кастам. Это же ведь они первый геноцид в двадцатом устроили, племя такое было южно-африканское, гереро. Большое вроде племя было. А сейчас его почти и нет уже. Как вырезали и по концлагерям в начале века поморили, так и всё… Так что немцам лучше не воевать, их тут же все остальные мочить начинают, потому что таким беспредельщикам на карте не место. А как их окоротят и мордой ткнут в то, что они натворили, они тут же с ума сходят и каяться начинают. Не сразу, но начинают. А от покаяния до глубин нового беспредела – один короткий и быстрый рывок. В принципе, я думаю, что Фёдор Михалыч Достоевский – это настоящий немецкий писатель, а в России он случайно появился… А может, даже и нарочно, может, это его немцы заслали, чтобы все думали, что это русские такие, а на немцев внимания не обращали. Точно-точно!.. Я давно подозревал, сейчас вот только понял – Достоевский их засланец! Он ведь что сделал? Взял все эти фирменные немецкие штучки, добавил твоей любимой русской лени и бесхребетности, и нате – вот вам русский человек en masse! Широкая душа: либо тварь дрожащая, либо на всё право имеет! Либо Бог есть, либо всё дозволено и мне чаю не пить, ага… И никакой я уже не штабс-капитан. А мы, русские, мы ведь что – мы всё новое любим. А особенно любим, чтобы нас за нас придумывали!.. При Лермонтове все были Печорины, при Гончарове – Обломовы, а тут – воте-нате, хрен в томате! – столько героев, и все ёбнутые напрочь, выбирай любого!.. Ну, все и повелись: мальчики пошли с бабушками в Раскольникова играть, девочки в Сонь Мармеладовых подались, все семьи тут же в Карамазовых превратились… Вот оно, диверсионное оружие врага в действии! И ведь этот гад чего ещё сделал: он специально ездил в Баден-Баден и там на глазах у мировой общественности все свои гонорары в рулетку спускал, чтобы, значит, все видели: вот русский нервный гений Достоевский у бездуховных немцев в гостях со всей широтой русской души мечет деньги направо и налево, а бездуховные немцы русского нервного гения со всей узостью своей души откровенно наёбывают и чуть не догола раздевают. Потому что, мол, этим немцам, только дай кого раздеть и обуть. Это ж такая двойная игра была на весь мир: русские – однозначные отморозки и эпилептики, а немцы – непременные добродушные бизнесмены-бюргеры, не хуже англичан и американцев. Так что всего Достоевского, может, надо исключить из русского Талмуда…
– Откуда исключить? – не понял Колоднов.
– Да так, это ещё дольше рассказывать, да и не готов я сейчас. Это то, что мне… снилось, когда ты отрубился.
– Ну ладно, это хрен с ним. Достоевского я тоже, в общем-то, не люблю. Да и никогда не любил и пиетета к нему не испытывал. Мутный он какой-то. И припадочный. До сих пор – раскроешь книгу, а оттуда пена кружевом ползёт… Но с немцами ты, по-моему, перебарщиваешь всё же. У них же это, как его… Орднунг! И работа. Которая свободной делает, – он криво усмехнулся. – К тому же садомазохизма у нас не меньше.
– Так у нас садомазохизм нормальный был когда-то, правильный. А благодаря Достоевскому стал немецкий, неправильный.
– То есть?
– Ну как же, есть ведь два садомазохизма, по маркизу де Саду и по Захер-Мазоху. По де Саду – это когда собирается компания любителей этого дела, или там кто денег девкам платит, собираются, хлещут друг друга по жопе, или даже один человек другого по жопе бьёт, потом вставляет… Короче, люди просто любят других людей телами, потом, когда уже все обкончались, учтиво друг другу кланяются, дамам обязательно ручку поцеловать и аля-улю, до следующей встречи. А у Захер-Мазоха не то: у него главное – не тело, а юридический документ. У захер-мазохистов член встаёт и лоно женское увлажняется не от боли и не от того, что ты эту боль причиняешь, а потому, что вот ты раб, а он – господин. Дальше, в общем-то, уже можно ничего и не делать, так, вяло постегать и ножками осторожно походить по животу. Тут главный кайф от подчинённости и власти. Ведь этот самый Мазох специально всех своих баб заставлял договоры подписывать, что он – раб бесправный, и они его даже убить могут за что-нибудь не то, если он им как-то накосячит, шубу не вычистит или меха не занафталинит, и моль их сожрёт… Кстати, и меха эти самые, да и плётки – это не главное… Вот у нас до Достоевского был нормальный такой садомазохизм, а после него – нет, главным стало, чтобы место своё в структуре власти определить, чтобы точно было понятно, кого можешь ты, а кто – тебя…
– Подожди, подожди, это когда это у нас нормальный, как ты говоришь… садомазохизм был? – а мы всё курили, подливали друг другу чай, давили лимонные ломти ложками и втягивали в желудки кислые жидкости.
– Как когда? Да с самого начала, с самых этих временных лет! Вот ты в баню ходишь…
– Сейчас редко, но вообще бывало.
– А любишь такую русскую баню, настоящую?
– Люблю… Кто же её не любит?
– Ну, я, например, не люблю, но не суть. Я её из-за жары не люблю. Ненавижу жару, прохлада и тень – дело другое… Но это тоже не суть. Вот когда тебя там веником по жопе хлещут, ты же ведь не воспринимаешь это как наказание, правильно? Ты это как удовольствие воспринимаешь. Удовольствие от того, что в жару мокрый веник в твоей жопе кровь гоняет. Правильно?
– Эхм, – Колоднов почесал бороду. – Вообще-то, это не главное в бане. Не единственное главное, скажем так…
– Вот, – перебил я. – А бани эти у нас с самых древних, тьмутараканских времён были. Ещё древнее, по-моему. Точно, ещё греков эти веники в ступор приводили, так что письменности у нас не было, государства не было, христианства не было, а бани уже были с вениками. И никакого рабства и власти с этими вениками никто не связывал, одно сплошное удовольствие только. Ладно, вернёмся к нашим маркизам и не-маркизам. У де Сада в личной жизни всё по-человечески было, всё решали спрос и предложение, есть маркиз, есть деньги и есть его желание. Есть работник и работница секс-торговли, которые ему предоставляют свои услуги. Или кто без денег всё это делает, по своему желанию с маркизом идёт. В романах-то он всё по-другому описал, только писал он совсем не про секс, а про то, что его ни за что ни про что в Бастилию упекли на всю жизнь, это он власть так описывал, а не свои человеческие желания… Ну и издевался, конечно, над всеми подряд, над философами, священниками, чиновниками… Хотя, возможно, он в чём-то этого самого Мазоха предвидел, что вот появится такой австрийский полудурок, у которого вставать будет не на чужое тело, а на своё и чужое место в общественной иерархии. А через Достоевского, значит, все эти австрийские заморочки в Россию попали. Причём, к этой, как её… Ко всей этой интеллигенции вашей как раз. Маркиз ведь писал трудно, его только отдельные места читали раньше, где про сунь-вынь написано, чтобы подрочить… А целиком его читать всем было западло, потому что французских писателей вообще всем западло читать, настолько они пишут отмороженно. А Захер-Мазох писал, чтобы читали, чтобы гонорары ему большие отстёгивали, поэтому у него там всё чисто-ровно, красивенько и гладенько, причёсано и подкрашено, как у Тургенева прямо!.. Вот его и читали все – и в Германии и в России… Как раз перед революцией. А когда интеллигенция такой хуйнёй про подчинение заражена, её можно голыми руками брать и раком ставить, дальше сама пойдёт. Вот кто, кроме Гумилёва, против власти по-настоящему возбух, с оружием в руках? Никто. Все либо лапки опускали, либо сваливали. Ну это те, кто по подчинению пёрся… А те, у кого вставало на то, чтобы господами быть, те во власть рвались, чтобы самим всех раком ставить, запрягать и погонять. И в Германии ровно такая же картина, если подгитлеровские времена брать. А вот во Франции с её де Садом половина интеллектуалов на Сопротивление работала. Несмотря на гестапо, пытки, смерть. Да все почти против немцев и собственных вишистских предателей работали – Беккет, Камю, Сартр… Разве что Жан Жене там не было, в тюрьме потому что сидел за воровство. Да ещё Селин – коллаборационист, но это он по-своему ещё круче сделал. Ему вся политика до жопы была, он нарочно вёл себя как мудак, чтобы все вокруг говорили: «А вот идёт Луи-Фердинанд Селин, наш выдающийся мудак. Смотрите на него, дети, и запоминайте, потому что французский писатель-мудак – это огромная редкость со времён классицистов». Он у них в некотором роде был республиканским достоянием.
– Ну хорошо, – допустил Колоднов. – Это до войны и во время войны. А вот после войны был у немцев член или нет?
– Был, конечно. У них же его никто не отрезал. Вернее, всю гитлеровскую двенадцатилетку им его пилили-резали, да не смогли до конца отпилить, сил не хватило. После войны немцы опомнились и поняли, что на войне их член лучше не использовать, а то перед всем миром потом стыдно. И направили этот член в другие дела – в торговлю, в музыку, в порно… Ну, в порно у них, положим, всё по-прежнему осталось, не без Мазоха, а в торговле и музыке они невероятно оттянулись и поднялись. Немецкая же музыка шестидесятых-девяностых – это самая круть, это настолько впереди, что англичанам и американцам даже не снилось. От психоделического рока до техно и Раммштайна!.. Настолько немцы музыкальные крутые были, что даже Джонни Роттен, когда «Sex Pistols» развалил, специально в одну немецкую группу вокалистом набивался, да не взяли его. Понимаешь, да? Хотя кому я это говорю, вы же все под «Верасов» и «Песняров» плясали… Короче, во второй половине семидесятых группы круче, чем «Sex Pistols» во всём мире нету, у них полный угар и кураж, поклонницы всё вокруг кипятком обоссали, а Джонни себе говорит: нет, всё не то, говно мы какое-то делаем, а вот парни в Европе, в ФРГ, делают что-то настоящее, пойду к ним проситься, все пороги обобью, все ноги им расцелую, они это любят, судя по специальным книгам и фильмам. И вот, значит, пришёл, всё, как полагается сделал, а они ещё нос воротят: нет, Джонни, не годишься ты для нас, слишком ты непередовой, музыка твоя говно, имидж твой говно, да и голос, откровенно говоря, говёный, на Гитлера слишком похож, а мы этого здесь, в Германии, не приветствуем…
– Гонишь ты всё, – Колоднов отмахнулся и пошёл за чаем.
Гоню? Наверное. В любом случае, это я точно не буду распространять через чёрноэкранную паучью сеть.
Дальше потянулись часы ожидания. Делать было абсолютно нечего, и я просто валялся, глядя в потолок. Почему, интересно, Колоднов так активно поддержал порыв Регины приехать? Может, он догадался о том, что я слышал, как он трахается с краеведицей, и теперь пытается взять реванш, подслушав, а то и подсмотрев, как этим займёмся мы с Региной? А займёмся ли мы этим вообще? Может, лучше, как и тогда, совсем недавно, пару недель назад, лежать рядом и ничего не делать? Хотя в том, чтобы первый раз переспать в чужой (и довольно стрёмной) хате, под пристальным взглядом бывшего ересиарха секты агностиков-каннибалов (ну, или не прямо под взглядом, но с неизбывным ощущением того, что этот взгляд может появиться в любой момент), в том, чтобы первый раз познать друг друга, опасаясь тех, кто отрицает возможность любого познания, – во всём этом, конечно, есть что-то ублюдочно-романтичное.
Потом я подумал, что Регина ведь ничего не знает про Ногина и его безумную команду. И сказать ей об этом я ничего не могу, просто не имею права, но она всё равно будет ощущать какую-то наползающую опасность, невидимого и бесформенного врага, сотканного из тьмы. Вот что в таком случае лучше – знать всю подноготную, всю сумасшедшую правду, или не знать ничего, но понимать, что нечто надвигается, нечто может быть, нечто скоро воплотится? Бояться тьмы как таковой, полной потенциальных убийц, чудовищного насилия, чьи формы создаёт твоя собственная фантазия, или ожидать внезапного прихода вполне конкретных людей?.. Мы с Региной были бы не просто частями зверя о двух спинах, мы были бы половинками страха его, этого извечного и безымянного существа… Регина будет первобытным страхом всего непонятного, а я – страхом конкретной опасности…
Время прыгало песчинка за песчинкой – из пока ещё относительно полной чашечки в пока ещё относительно пустую… Регина отзвонилась, сказала, что уже выходит ловить тачку, если не поймает, то поедет на электричке и автобусе. Я повторил, что на самом деле можно и до завтра потерпеть (почему я так люблю всё обламывать и откладывать?), Регина в ответ послала меня в жопу и сказала, что отложит нашу встречу, только если встретит по дороге Борюсика с какой-нибудь девкой, тогда она обязательно напросится в гости, напоит обоих водкой до потери личностных и социальных идентичностей и обязательно поприсутствует при их совокуплении, чтобы замучить Борюсика советами. От себя я попросил передать потенциально встреченному Региной Борюсику побольше смеяться во время секса и восторженно хлопать себя по ляжкам. – «Я сам только так и поступаю», – доверительно добавил я. Регина ответила, что это, скорее всего, потрясающая техника, но вот лично она предпочитает в самый неожиданный момент дуть партнёру в ухо или ноздри. – «Я догадываюсь, что вы, мужики, ну, не все, но многие из вас, во время секса думаете про что-то постороннее, про другую девицу, или вообще про мальчика, а то и про боевых трансформеров или вампиров каких-нибудь. Такие мысли необходимо резко и бескомпромиссно выдувать из головы», – объяснила она.
Через три часа после этого звонка я спросил Колоднова, сколько от Москвы ехать до Зайцево. Часа два, может, два с половиной, ответил ересиарх.
Регина не появилась ни через два, ни через три, ни через пять часов после последнего звонка. Телефон её молчал.
– Надинамила тебя девка, – сказал Колоднов. – И правильно: так с вами, ебалаями, и поступать.
– Слушай, Колоднов, а тебе во время секса дули когда-нибудь в ноздри?
– А то! Мне, милый мой, и не такое делали… У меня баб было в разы больше, чем тебе лет!
Часов до двух ночи я пил чай, каждые пять-десять минут набирая Регинин номер. Когда количество этих бесплодных звонков дошло до девяноста трёх, я забросил мобильник в недра заваленного одеждой кресла и лёг спать. Думалось противное: борюсики, саши и семёны ходили непристойными фаллическими шествиями вокруг Регины, увешанной драгоценностями и мишурой, как новогодняя ёлка. Глаза сами собой открывались и закрывались, мне было больно и спокойно. Завтра, думал я, завтра. Завтра я спрошу её, почему она назвала свой ящик queen-jezabel, queen – это понятно, это регинино имя в переводе с латыни на заморское островное наречие, но вот почему именно Иезавель, а не какая-нибудь Гиневра, Семирамида или даже Иродиада? Завтра я скажу ей так: то, что было со мной на самом деле, я тебе рассказать не могу, просто не могу, и всё; расскажу я это только бумаге, которая одна всё терпит, спрячу эту бумагу в какой-нибудь подпол, может, даже куплю для неё специальный сейф, и лет до сорока-пятидесяти она будет там храниться, выдерживаться, бродить, набирать вкус и букет; и если ты хочешь узнать, что со мной было взаправду, тебе нужно выйти за меня замуж и ждать того момента, когда эти мои записки, репортажи с вилкой и ножом у горла, можно будет читать; не исключено, что это будет раньше, тем более, что мне ещё надо будет проповедовать русский галут, и меня либо выживут из страны, либо упрячут в тюрягу; а пока мы с тобой договоримся, что я просто загулял с районными друзьями, уехал на каникулы в это пиздоглушье, тем более, что тут действительно, как оказалось, Пианист живёт; и я, значит, провёл всю неделю у него, несмотря на то, что мы оба друг друга терпеть не можем; мы много пили и каждый день не по разу пытались начистить друг другу рыло; каждое утро или днём, если за вином мы засиживались до утра, я будил его, включив в проигрывателе «The Golden Age Of Grotesque» Мэрилина Мэнсона, но мы так ни разу и не дослушали до конца первую песню после вступления, потому что Пианист сразу вскакивал, выключал музыку, гонялся за мной по всему дому с махровым полотенцем, пытаясь отфигачить, а затем весь день пытал меня творчеством Бориса Гребенщикова и Леонарда Коэна, и я мог считать себя на верху блаженства, если он умилостивлялся и включал вместо них Девендру Бэнхарта или Ника Кэйва; вот так я и прожил всю каникулярную неделю, представляешь?!.. самое же смешное будет, если мы с тобой побрачуемся, родим детей, вырастим их, состаримся, сморщимся, у тебя наступит менопауза, а уд мой детородный обессеменеет и обвиснет, и вот однажды я открою сейф, выну заветную рукопись, сдую с неё пыль, вручу тебе, а там будет описана, честно и без прикрас, неделя запоев и ежедневных злых споров о Мэнсоне и Гребенщикове… Вот что я ей завтра скажу, и не помеха мне все эти гипнагогические гоблины, все эти бывшие, фантомно кривляющиеся под моими веками, предуготовляя очередное падение в пустоту.
33
из пустоты вырастают храмы проспекты и площади
даже думать не хочу где это всё что это вообще и что здесь откуда из каких настоящих городов украдено
здесь можно просто сидеть и пить пиво потому что нет милиционеров и злых старух тоже нет
и вообще без чтения морали
не то что её никто никому не читает её просто вообще нет
только не потому что все здесь такие имморалисты либертены и декаденты а просто незачем раз нет того что во всех моралях обычно есть
здесь просто можно не убивать и не красть и не желать жену ближнего своего и осла и рабов тоже от ближнего своего никто не желает
рабов и осла кстати тоже нет потому что тут не работают ходят все пешком а животные за пределами города живут своей травоядной и охотничьей жизнью вдали от людей
здесь даже мяса не едят во как!
по-настоящему я бы так не смог ведь я не ем многих овощей а если есть только фрукты мучное и сладости то я быстро распухну как колобок мне бы трудно было ходить а ездить здесь не на ком пришлось бы на одном месте сиднем сидеть
хотя я вроде и так на одном месте сижу на скамеечке на какой-то площади пиво вот пью так что может я уже как колобок только не вижу этого или не хочу себе в этом признаваться
не вижу потому что туман вокруг ну такой белый как вата или дым только лёгким не так больно как от дыма
весенний такой туман
а может что и не весенний тут вообще хрен проссышь жарко или холодно
парень ко мне подходит я его когда-то давно видел последний раз потом он то ли умер то ли в Индию уехал
здорово говорит
ну привет отвечаю
хочешь в кино съездим фильм посмотрим посмеёмся или испугаемся
а что тут разве тоже кино есть
нет тут конечно нету никакого кина а вот рядом есть неподалёку а то чем нам в тумане без толку сидеть пить скучно а тут как раз кино
ну поехали
и тут раз и всё словно выключили ни тумана ни города этого я его даже толком и не запомнил ни площадей ни храмов я кстати так и не понял кому там молятся Богу или Небогу или может там вообще не молятся а только собираются по выходным ну вроде это как клуб любителей чего-то бильярда или скажем быстрой смены сексуальных партнёров уже не помню как учёные этот разврат окрестили что-то по латыни или по-французски они ведь французы эти во всех таких делах толк знают потому что все атомы расщепляли и пенициллин придумывали а французы в это время вон чем занимались
ну или может на этом языке всемирном который теперь все люди с детства знают не хуже родного а в Японии и Индии уже целиком на него переходят этот как же его эсперанто вот!
быстрая смена сексуальных партнёров это я не пробовал это когда ты вроде как присунул куда полагается свой хобот или куда не полагается но всё равно все ведь присовывают ну не все конечно но многие присунул значит поелозил а тут тебя вежливо по плечу или по жопе хлоп! мол освободи место брат меняемся местами
и надо уже другому человеку другой девице заново присовывать
а может это ещё и под музыку делают как в детстве всё самое быстрое и приятное делали так обязательно музон врубали
включают музыку самой сексуальной группы у молодых это конечно Мэрилин Мэнсон или Леди Гага а у старпёров что позамшелей Iron Maiden или Sex Pistols ну может у кого-то ещё Depeche Mode
я кстати Depeche Mode до сих пор обожаю и слушаю только это ещё не значит что я старпёр я Depeche Mode просто так люблю
хотя в наше время старпёрами быстро становятся не помню уже кто это кому говорил и по какому поводу
а у Sex Pistols даже название такое чтобы все сразу поняли для чего музыку использовать и во время чего включать быстрая такая и заводная чтобы все быстрей кончили это потому что в их годы до разгула феминизма девчонки любили чтобы парень быстренько кончил и ушёл к чёртовой матери спать или пивом нарезываться
просто тогда все были хиппаны и только шабили траву и жрали ЛСД а хороший секс это так дело пятое-десятое их в католической церкви учили что это нужно не для удовольствия а чтобы новых хиппи нарожать
вон в Китае и Индии до сих пор весь народ хиппует остановиться не может вон сколько хиппарей уже настрогали
это их западные чуваки научили всему они ведь тогда все в Индию ломанулись в шестидесятые вон битлы оттуда ситар украли и в Англию привезли а все остальные там позависали в Гоа и в других местах
поэтому Джон Лайдон и Сид Вишес и играли так быстро что для хиппарей свою музыку делали да и сами они были хиппари упоротые
и вот значится так включается музыка и пока одна песня или там инструментал стучит бренчит и барабанит каждый пилит свою партнёршу а потом песня заканчивается или ведущий массовик-затейник её на середине останавливает и все меняются справа налево или слева направо это как кто кому симпатизирует левые идут налево правые направо
секс ведь с политикой ого-го как связан! Красные Бригады и Баадер-Майнхоф ну и эта Японская Фракция Красной Армии я думаю на своих сексуальных вечеринках только налево партнёрш меняли а все неофашисты куклуксклановцы и фундаменталисты только направо
у них у политических с этим строго что ты! такие серьёзные ребята на политике задвинуты крепче чем чернушники на опиатах
там только попробуй не туда пойти рискни здоровьем тут же к самому фюреру или секретарю партячейки отведут он себе навазелинит и загонит такому предателю идей по самые помидоры чтоб не позорил движение
вообще наверное у наших молодёжных политиков то же самое
только у них ну у тех которые правительство поддерживают всё хитрей сделано у них несколько кругов друг в друге из сексуальных пар чем ближе к центру тем пар в круге меньше
и там все проходят испытание во время секса а трахаются они только под гимн России закольцованный до бесконечности или может немного замиксованный там под дабстеп или этот мразотный R’n’B
и вот значит там девки постоянно проверяют парней на политическую подкованность то есть пилишь-пилишь герлу куда надо или в шоколад главное чтобы только не в лицо потому что ей же нужно говорить пилишь-пилишь и тут она тебе вопрос а кто у нас губернатор такой-то области имя-фамилия-отчество образование любимый сорт водки и самый любимый русский народный писатель у него какой тоже ответь
тут надо притормознуться слегонца постепенно вообще обездвижиться и быстренько всё ответить как есть только после этого можно обратно ускориться
а если ещё и не ответишь то тут же вынимай и иди на скамейку позорников учить факты
и чем меньше круг тем вопросы сложнее становятся если хорошо отвечаешь без ошибок и запинок то когда место освободится то тебя повыше подымут в другой круг переведут
а в самом последнем круге надо наизусть все речи президента и премьера знать и ещё обязательно все диалоги в фильмах этого усатого как его зовут не помню но у него ещё голос такой противный и ещё все указы знать и поимённо всех депутатов их партии и ещё много чего
там в этом последнем круге вообще наверное только монстры с невероятной памятью трахаются и там риск больше потому что если на вопрос внезапно не ответил то тебя все помоями обливают обмазывают смолой и катают потом в распоротой перине а может ещё и кнутом бьют как в царские времена а скорее всего что и не так а просто парень из предпоследнего круга который должен его место занять ритуально убивает облажавшегося неуча отрубает ему голову и вынимает сердце и ест его перед тем как на новое место подняться
это в древнем Риме такое было я в точности не помню но какие-то жрецы так смещали предыдущих жрецов чтобы самим на дежурство заступить они там постоянно вахту несли какой-то лес охраняли или только одно дерево волшебное я уже не помню я ведь это в школе читал когда в библиотеке физкультуру прогуливал
в общем не хотел бы я состоять в таких организациях больно уж опасно до самых верхов добираться
и вот значит больше ничего нет ни храма в котором чёрте кто собирается а не верующие тумана нет площадей скамеечки на которой я сидел и пил пиво всё в одночасье исчезло пропало и уже не утренний туман вокруг весенний или там летний а самая настоящая мрачная зима
вот я не помню уже но по-моему в том странном месте откуда я прихожу сюда в нормальный мир там всё и время и пространство по-другому устроено как-то через жопу и неправильно там всё подряд идёт времена года день и ночь а чтобы из одного места в другое попасть надо идти или ехать
короче как-то не по-людски
а тут в настоящем мире всё чётко и здорово куда захотел или куда тебе нужно туда сразу и попал
не знаю правда по моей или по чьей чужой воле это всё происходит да и как-то не хочу об этом думать а то это будет наверное философия а я её тоже прогуливал и в ней не особо шарю я больше простые прагматичные вещи люблю вроде как поцеловать кого-нибудь или по рылу съездить
короче тут сейчас зима вечер мрак и метель и мы едем в кино не потому едем что не можем сразу там оказаться а потому что зачем-то надо сперва ехать туда на автобусе как во снах в том неправильном мире в который я отсюда исчезаю в самые неподходящие моменты
в автобусе темно тусклые такие лампочки накурено играет какой-то блатняк сидят мальчики и девочки в кепарях и вязаных шапочках пьют ягу вода такая говёная химическая и лузгают семечки сплёвывают кто в кулак а кто прямо на пол
водитель вроде всё видит как его автобус заплёвывают в своё зеркало которое специально чтобы видеть что в салоне происходит вдруг там убивают кого или трахаться начнут
хотя если кого убивать станут водитель ведь спасать не полезет им же оружия не положено а может и полезет но это не всякий водитель а только настоящее храброе сердце такой кто в армии служил раньше или был главным хулиганом района а потом бросил хулиганить и стал водить полезные автобусы согражданам своим помогать
вот такой водитель может и выскочит в салон не даст убить человека схватит негодяя и хорошенько его отделает а потом отдаст на растерзание полицейским чтобы его потом отправили в Сибирь на покаяние как Достоевского который царя убил а потом в Сибири раскаялся отрастил густую бороду и принял христианское православное крещение чтобы стать писателем и всю правду-матку как она есть народу рубануть
тогда потому что надо было креститься чтобы получить право писать романы причём не просто так креститься а по-настоящему всеми внутренностями уверовать
это сразу было видно кто верует кто нет у тех кто сердцем не верит у тех борода не растёт это так с сотворения мира Бог устроил чтобы люди не могли соседей обмануть а то так в церковь по воскресеньям каждый ходить может и крестик тоже никому грудь не жжёт а тут по бороде сразу видно кто ты таков и как веруешь
только с женщинами такого не придумано но это всё потому что им верить не надо их вера семья и дети это потом всякие сатанисты и безбожники специально феминизм выдумали чтобы баб всех совратить и во грех ввести
а атеистов безбожников тогда в литературу не пускали только православных а евреи и мусульмане могли только по-своему писать на арабском и на иврите
это уж наверху испокон веков так придумано
Достоевский все свои книги писал только как верить как нравственность и девственность от нечистоты уберечь и как все заповеди евангельские соблюсти у него в романах всегда про хороших и плохих мальчиков было один молился постился и катехизис читал а второй пил курил ругался матом ходил по плохим девочкам а потом ещё начинал грабить и убивать колоться наркотиками и нюхать амфетамины а если богатый мальчик был то ещё он обязательно кокос нюхал а плохие девочки сыздетства тусили с плохими мальчиками помогали им грабить и убивать вместе нюхали кокос и ширялись потом ещё они начинали верить но только не в Бога а в сатану рогатого ходили на кладбища разрывали могилы и глумились над трупами
в конце каждого романа их всех обязательно сажали во ад в самый большой котёл или на самую крупную сковородку и им всем крепко доставалось от чертей и от этого самого рогатого сатаны за порочную разгульную и крамольную жизнь
хорошие девочки и мальчики в конце концов обязательно все женились или уходили в монастырь и все вокруг говорили вот молодцы какие! все бы так себя вели
такими своими книгами Достоевский приближал второе пришествие и наступление царства Божьего на земле даже сам новый царь сын того которого Достоевский в молодости убил говорил писателю за чаем вот ты молодец какой Фёдор Михалыч я тебе за твою веру и за твой каторжный труд в Сибири а особливо за твои чудесные книги благодарен и даже прощаю тебя что ты папу моего убил к тому же я и сам хотел от него избавиться чтобы поскорее занять его трон и заступить на царский пост хочу всю Россию изменить чтобы она весь мир удивила
а то папа мой царь говорит был ретроград и реакционер расплодил казнокрадов и все войны проиграл а я все войны выиграю то-то весь мир удивится
после чего Достоевский и новый царь допили чай и попрощались трижды поцеловав друг друга по славному русскому обычаю
а вообще убивать отцов и детей в царских семьях это тоже славная привычка но это не только в России это у царей королей и императоров всех народов так полагается что пока ты отца не убьёшь то ты считай что и не король а лошара голимый и фуфел
если король отца не убьёт а просто у него отец умрёт своей смертью от старости в своей постели или с лошади упадёт или медведь его на охоте на части разделает и новый король просто трон и страну по наследству получит то остальные короли его за ровню не держат такому бедолаге остальные монархи писем не писали не брали его дочерей в жёны и не играли с ним в шахматы только через министров и послов с этим государством общались а если случайно нормальный король такого ненастоящего короля встретит то обязательно даст ему щелбан или отвесит поджопник а тот и сделать ничего не может если на дуэль попытается вызвать то никто с ним дуэлиться не пойдёт а если просто от обиды драться полезет то тут же остальные налетят и так ненастоящему королю накостыляют что себе дороже драться лезть
но Достоевский тоже не в обиде он же знает что королям такое можно что они специальные хорошие мальчики и им всё прощается что бы они ни сотворили а книги он вообще для народа писал он ведь всего больше русский народ любил он даже царю на прощание сказал что папу его убил для того чтобы царь сам рук своих не марал а лучше это сам Достоевский всё устроит к тому же так он больше в грехах замарается и потом в Сибири лучше очистится ведь не согрешишь не очистишься это все знают
только сейчас вот молодёжь такая поганая пошла нигилисты французские смутьяны они чего гады выдумали они грешат не чтобы потом раскаяться а просто потому что им так нравится
за это Достоевский и решил их в своих романах приструнить показать что таких после смерти ожидает
а самый любимый писатель у поганой молодёжи это конечно граф Толстой богатый барин сам то есть из этой золотой молодёжи вышел он постоянно пил водку нюхал по клубам кокос и воспевал измену жёнам и мужьям пропагандировал свободную любовь наркотики и рок-н-ролл а когда царь разрешил играть электронную музыку Толстой стал первым русским диджеем
а чтобы притвориться верующим без веры ведь хоть он и граф книг ему писать нельзя потому что у нас не блядская Европа и сатанинская Америка где за деньги можно хоть двенадцатилетних сирот трахать в общем Толстой купил себе фальшивую бороду на чёрном рынке и ещё специально самую большую выбрал чтобы была больше чем у Достоевского это так он его за веру хотел уесть у самого-то у него настоящая борода не росла потому что был Толстой безбожник сатанист и хулиган
а дёрнуть его за бороду никто не решался потому что он был граф даже Достоевский не решился хотя он очень хотел он-то знал что борода у графа фальшивая Достоевский все его романы прочёл и насквозь знал всю гнилую сущность Толстого
а простой народ графских романов не читал тогда вся Россия кроме чиновников священников военных и золотой молодёжи была неграмотная а купцы только считать умели и цифры знали а буквы им не давались в науке да им так и лучше они ведь в своей бухгалтерии все товары своими цифрами называли и никто со стороны в этой цифири и не поймёт ничего ни налоговики ни конкуренты ни грабители ни жёны с детьми
роман Достоевского народу специальные чиновники по выходным дням и большим праздникам читали
военные бывало читали Толстого и тоже про него всё сразу понимали но в полицию никто не жаловался потому что граф раньше сам был офицером даже боевым а военные и полицейские в России своих не сдают
Достоевский-то хотел на Толстого царю пожаловаться но тот ему пригрозил что если Достоевский только осмелится на него стучать и ябедничать то Толстой всю золотую молодёжь подымет и они ему таких навешают что он до смерти будет в больничке кровью харкать и все деньги от будущих романов у Достоевского будут уходить не на жену-красавицу и не на православную рулетку в Баден-Бадене а на костыли протезы и лекарства
Достоевский хоть и отчаянный парень вон даже царя убил когда ещё был великим грешником а всё же он не дурак отступился
уже потом когда ещё одного царя убили и у того наследников не осталось поэтому нового стали искать из народа и в глухой сибирской деревне отыскали Ленина выбрали его и он велел всех учить грамоте тогда люди поумнели прочли романы Толстого про измену кокаин и как парень на войне обдолбался и вместо того чтобы воевать прилёг на солнцепёке и в небо пялится потому что так вот его вставило прочёл значит народ всё это паскудство и пошёл с Толстым разбираться
перво-наперво конечно всё его имение спалили к чёртовой матери и выгнали его из дому на мороз но Толстой ведь граф и у него несколько счетов в зарубежных банках было он быстро снял себе квартиру в Ленинграде на Невском и вновь принялся за свой порочный образ жизни в клубы ходил нюхать и танцевать и отчаянно флиртовал с барышнями
тогда народ отправил к Ленину ходоков с жалобой это всё стало достоянием общественности Толстого отлучили от церкви отобрали у него фальшивую бороду и специальным указом запретили писать романы пьесы и афоризмы пока сердцем не уверует и у него настоящая борода не отрастёт
а самое главное запретили электронную музыку да и рок-н-ролл поприжали к ногтю разрешили только танцы малых народностей и русские народные колыбельные потом изъяли из всех аптек кокаин и вообще все наркотики запретили под страхом кнутобойного наказания на площади тогда Толстой потерял работу диджея разорился на барыг потому что раньше кокаин был дешёвый а теперь стал очень дорогой и короче его ещё из дома выгнали раньше-то он кое-как но содержал жену и детей а теперь стал безработным нищебродом а не графом-плейбоем как в юности и уже даже не старым эстетом-греховодником как совсем недавно
Толстой решил свалить за границу где его продолжали любить и обожать денег у него не было и он поехал зайцем на пригородных электричках а контролёры его поймали побили и высадили в Остапово там он и умер ночью насмерть замёрз
Достоевский до этого не дожил но он всё равно радовался и даже послал в «Литературную газету» телеграмму из православного рая в котором обретался
собаке собачья смерь тчк ваш ФМД тчк
такая вот была телеграмма
я думаю обо всём этом вспоминаю всю эту невесёлую историю русской литературы нам на лекциях когда рассказывали так грустно всё это было слушать Толстого жалко Достоевского тоже жалко царей жалко а главное литературу очень жалко и так обидно что талантливые люди друг друга вечно ненавидят грызутся между собой как собаки каждый норовит другому накозлить поднасрать
так грустно что вот даже сейчас в автобусе вспоминаю это всё и чуть не плачу
и постепенно эта грусть за русских писателей неграмотный народ который первое что сделал после ликвидации безграмотности сжёг дом главного наркомана и развратника а его самого довёл до нищеты и убогой смерти переходит на окружающее меня автобус водителя которому нужно будет выметать семечную шелуху мальчиков и девочек в кепарях и вязаных шапочках
водитель хоть и видит что его автобус заплевали очистками семечек подсолнуха но всё равно не говорит ничего может он боится этих парней и девушек а может он мазохист помешанный на грязной работе ведёт автобус а сам думает как бы скорей приехать в депо взять шваберку и начать с наслаждением драить салон
парень в ядовито-синих адидасовских штанах внезапно обращается ко мне
ты говорит с какого района будешь
с Речника говорю а что
ааа он отвечает ну тогда значит ты не панк
а что
а то мы хиппаны с панками воюем мы их по роже мутузим и ногами ещё по почкам
и он мне ноги показывает в кедах тоже адидасовские
да и куртка у него тоже адидасовская такая же ядовито-синяя как штаны а кеды белые
а ведь панки не одни говорю с ними ещё готы и риветхэды и некоторые металлисты они же все гриндера говнодавы носят они же вас замесят и уметелят
а это ты не смотри что у меня простые кеды парень в адидасах улыбается задирает подошву поближе к свету и я вижу что там железо набито
ну вы круто подготовились говорю а где меситься-то будете
а возле кино
тут мне становится страшно и неприятно это же ведь я попаду между молотом и наковальней между хиппанами и панками они же меня затопчут и убьют
но тут хиппаны выходят и я вспоминаю что здесь тоже есть киношка а мы в другую едем и вообще нас там дружбаны ждут и пока мы дальше едем а мимо в окне проносятся фонари какие-то парки и озёра я думаю почему у нас всё время все воюют хиппаны и панки Толстой и Достоевский правые левые и никакие наверное это такой русский образ жизни братоубийство и взаимная ненависть как у Тайра и Минамото или Монтекки и Капулетти
тут мы наконец-то высаживаемся и быстро подходим к кино а там висят афиши и я вижу что все фильмы здесь крутят только про союзы людей по профессии увлечениям и национальности видимо новый тренд такой сегодняшним вечером в четырёх залах идут только четыре фильма «Стритрейсеры» «Дальнобойщики» «Портные» и «Армяне»
друг которого я плохо помню где я его видел говорит что наши уже внутри и что кино уже началось тянет меня за руку и мы заходим в зал никто билетов не проверяет и я даже не знаю что за фильм мы сейчас будем смотреть думаю только хоть бы не «Дальнобойщики» в России роуд-муви делать не умеют
наши и правда там Арсеньев Машуркин Ромыч и даже Лёва кажется ещё есть две Ани француженка и бухгалтерша Герберт с Полиной Огород и Саша с Семёном только Регины нет мы очень быстро со всеми здороваемся и садимся
а внутри зала уже темно и на экране идут трейлеры скоро грядущих фильмов там такие окопы и танки я понимаю что это американское кино про вторую войну причём про нашу войну про восточный фронт
в одном из окопов сидит Элайджа Вуд в немецкой каске со стальными серыми глазами он смотрит перед собой на железнодорожное полотно играет тревожная музыка едет советский поезд и вот он раз! и взрывается падает под откос разваливаясь на части это такое кино как будто партизанили немцы а не мы
потом появляется машина с энкаведешниками и контрразведчиками они с матом и песнями начинают выяснять кто же это тут пускает под откос поезда какая предательская партизанская сволочь там среди них явно русские актёры вроде бы Чурсин Писарев из МХАТа Виторган-младший а ещё Делиев Комаров и Барский из «Масок-шоу» и Чулпан Хаматова в роли полевой медсестры а между ними затесался Джонни Депп в роли такого самого крутого и обаятельного контрразведчика он носит вместо фуражки шляпу в стиле нуар и плащ но под плащом у него всё равно советская форма
ого ничего же себе думаю совместный фильм наших с американцами про войну уже хочу это посмотреть тем более что Джонни в каком попало говне не снимается даже в «Пиратах Карибского моря» он один всё вытягивает
и тут внезапно появляется какое-то внеземное уёбище такой слоник зелёного цвета с тремя глазами и рядом с ним что-то вроде попугая только весь серый как голубь и невзрачный
слоник хлопает Элайджу в нацистской форме хоботом по плечу и говорит слышь братан а где на вашей планете можно вечером как следует оттянуться
тут возникает титр «Вечерняя планета» это название фильма и дальше уже всё вперемешку слоник и попугай в баре под техно бухают то с немецкими то с советскими офицерами какой-то барыга в эсесовском мундире показывает слонику чемодан с кокаином и слоник тут же внюхивает всё своим хоботом как огромный пылесос а потом тем же самым хоботом сворачивает барыге шею и окружающие советские солдаты радостно аплодируют мол ещё одной эсесовской сволочью меньше на свете попугай с Джонни Деппом отстреливаются в баре от гестаповской засады появляются ещё всякие разные инопланетяне потом убивают Гитлера и Сталина и выбирают президентом маршала Жукова а Берия успевает убежать вместе с Хрущёвым в автобусе с двойным дном для провозки контрабанды и нелегальных имммигрантов через границу они похоже окопались в Вевельсберге с уцелевшим Гиммлером там теперь главное и единственное логово чёрного ордена SS и это явно намёк на то что если фильм «Вечерняя планета» будет успешным то потом снимут продолжение в котором слоник вместе с попугаем и Джонни Деппом будет штурмовать Вевельсберг а потом может и целая франшиза образуется и они будут воевать с латиноамериканскими и африканскими диктаторами а после с Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром Хуссейном и Ахмадинежадом Кадаффи и Башаром Аседом скорее всего последующие фильмы будут хуже первого как это всегда и бывает но я уже влюбился в эту историю и жду когда снимут продолжения
а пока должно начаться кино которое мы собрались смотреть и вот внезапно раздаются три звонка как в театре и я не удивляюсь ведь кинотеатр тоже театр
а потом ещё три звонка и ещё три звонка
часть третья
ТАМ, ВНИЗУ
Сегодня же я сам себе отвратителен:
я переварил и сделал частью себя
проглоченного заживо единственного
возлюбленного, который меня любил,
я – его могила. Земля – ничто. Погибель.
Жан Жене
34
А потом ещё один долгий, злой и противный звонок, въедливая трель, пила, вгрызающаяся в черепную коробку.
Я сразу понял: это – Регина, добралась наконец-то и приехала. Включил подсветку на мобильном: шесть-сорок две. Протёр глаза и побежал к двери. Колоднов что-то бормотал во сне, я не стал его будить, просто подошёл к двери и повернул круглую ручку замка. Меня тут же нежно и властно втолкнула внутрь чья-то рука, словно пружина, потом прикреплённое к руке тело вжалось в моё, пропуская кого-то в коридор, трёх человек, они побежали к Колоднову, он что-то замычал и тут же стих. Тело отжалось от меня, и я, сквозь непротёртые очки, узнал Даню. Он отошёл ещё дальше, осторожно, словно тщательно отмеривая необходимое расстояние, а затем неожиданно присел, опустился на колени и низко склонился, прижав левую руку к груди, а правую вытянув по полу в мою сторону.
– Я приветствую Юного Магистра… Положа левую длань на сердце, я отсекаю тайные помыслы и опустошаю его от прежних чувств к Юному Магистру. Протянув ему правую длань, я прошу взять её, принять меня в помыслы, впустить меня в сердце и очистить чувства по отношению ко мне, – Даня мерно и монотонно выпевал все эти выспренности; я далеко не сразу понял, что Юный Магистр, к которому он обращается, – это, видимо, я сам.
Залягвин, допев приветствие, быстро и гибко вскочил.
– У вас могут возникнуть вопросы, родной… вы мой, – добавил он после паузы и как-то странно дёрнул головой, словно к чему-то привыкая. – Я бы посоветовал пока что оставить их при себе. Все ответы вы получите довольно скоро. А пока – собирайтесь.
– Куда собираться?
– Домой, куда же ещё, – Залягвин очаровательно улыбнулся. Злого следователя, каким он был в мою первую ночь у агностиков-каннибалов, словно и не существовало никогда.
Из колодновской комнаты вышли трое молодых в чёрных беретах. Они несли обмякшего и, похоже, так и не проснувшегося ересиарха. Я понял: они его так же обширяли, как и Макс меня перед доставкой в каннибальское логово. Руки и ноги Колоднова были скованы наручниками, а рот заклеен чёрной изолентой. Что-то в этом было не так, я всё пытался понять, что именно, а потом внезапно рассмеялся. Как-то не по-настоящему рассмеялся, так судорожно и недолго я первый раз в жизни ржал. Наручники были обиты белым искусственным мехом, явно из ближайшего секс-шопа.
Даня перехватил мой взгляд, посмотрел на оковы и понимающе улыбнулся.
– Это юноша у нас один покупать ездил. Мы ему эти наручники потом полгода припоминали… Собирайтесь быстрее, пожалуйста.
Вещей у меня за неделю гощения не прибавилось. Собрав сумку и одевшись, я вышел на крыльцо и увидел, как молодые упаковывают Колоднова в багажник чёрного джипа, я его видел в ногинском дворе, точно. Даня вышел последним и запер дверь колодновскими ключами.
– Быстрее, быстрее, – рявкнул он своим подручным и сел на водительское сиденье. Один из молодых подошёл ко мне, поклонился в пояс и, ничего не говоря, приглашающим жестом поманил к машине, открыл передо мной переднюю дверцу и столь же почтительно захлопнул её, когда я сел рядом с Даней. Молодые по очереди уселись сзади, и машина тронулась.
– Что происходит, Даня? – я посмотрел на него с какой-то смесью ужаса и ненависти, и тут только окончательно понял, что проснулся, и что-то вокруг меня завертелось, разворачиваясь как-то совсем не так, как должно было.
– Всё в полном порядке, не беспокойтесь, – Даня вёл машину умело, уверенно и с заметным удовольствием. – На самом деле вы сами уже всё поняли, внутри себя, – внезапно добавил он. – Просто вы ещё не умеете о таких вещах говорить и думать. Понимать умеете, а думать нет. Это же ведь совершенно разные вещи.
От этих слов мне ощутимо поплохело, внутри себя. Ничего хорошего в данную минуту не происходит, понял я. Понял, а подумать об этом и как-то проговорить не сумел. Действительно ведь разные вещи: понимать и думать.
– Зачем вы Колоднова… Что с ним будет? – мой голос дрожал. Не то что бы мне его было жалко, хотя жалко, конечно. Просто я ощущал себя мерзкой слабой тварью, на глазах которой можно делать всё, что угодно, и она будет молчать, это ведь чужой человек, это не я. Пока не я, внезапно что-то пронеслось по самой околице сознания. – Вы же с ним договорились… Вы должны его в покое оставить…
– Это были тактические переговоры, временное перемирие, – Даня пожал плечами и свернул. Машину затрясло, а я стал узнавать дорогу. Мы ехали к дому Ногина. А куда же ещё мы могли ехать?
– Высадите меня здесь, – я попробовал дать уверенный голос, но у меня опять не получилось. – Я хочу выйти.
– Я не думаю, что вам стоит выходить здесь, – Даня покачал головой. – Мы ведь уже почти приехали.
Я рванулся к дверце, успел её открыть, но Даня меня тщательно пас. И реакция у него в этот раз была лучше. К тому же, мой рывок был гораздо более предсказуемой штукой, чем метание ноутбука в злых следователей. Он скомандовал: «Митяй!» – и в мой затылок упёрлось что-то круглое и холодное.
– Я не думаю, что вам стоит выходить здесь, – повторил Даня. Медленней и чётче. Через моё сиденье протянулась рука (Митяя?) и захлопнула дверцу. Через которую можно было уйти, стоило лишь быть чуть быстрей, стремительней, неожиданней.
– Митяй! – вновь скомандовал Даня, уже спокойным голосом, и круглое холодное от затылка ушло. – Вам не стоит так волноваться, тем более из-за какого-то старого баламута.
Машина наконец въехала во двор. Первыми вышли молодые, двое из них открыли нам дверцы. Видимо, это входило в местный корпоративный этикет. Даня обошёл машину спереди и взял меня под локоть, затем внимательно посмотрел мне в глаза.
– Ты входишь в Дом Знания и Силы, Юный Магистр, – этот преход на «ты» явно был частью ритуала, – в Дом Знания, которое дремлет в тебе, в Дом Силы, спрятанной в тебе. Освободи своё сердце от лишних людей и вещей, тебя ждут Знание и Сила, они должны поселиться в твоём сердце.
– Даня, я устал. На хрена вы Колоднова привезли? Мне не нужны ни знание, ни сила, я – агностик, чёрт бы вас побрал, – я был жалок, я знал это, но что ещё делать, что говорить?!! – Вы же тоже агностики, так какого чёрта, а?! Какие ещё знания, какая сила?
Даня молчал и загадочно улыбался. Он мягко потянул меня к дому, но я вырвал локоть.
– Я не пойду.
Даня печально вздохнул.
– Оставьте Колоднова. Отвезите его обратно и положите, где лежал. Он же вас даже не видел, наверное. Да он вообще безвреден!.. Он даже человечины с вами не ел, просто притворялся!
– Нам надо идти, – пару раз губы у Дани дёрнулись, и я догадался, что он жалеет. Жалеет о том, что по каким-то непонятным мне причинам не может въебать мне по роже. Вместо этого действенного средства ему приходится изо всех сил сдерживаться и всеми лицевыми мышцами удерживать непробиваемое «покер-фэйс».
– Я никуда не пойду, пока вы не отвезёте его обратно, – во мне что-то полыхало, я понял: они ничего мне не сделают. В крайнем случае, вырубят, но убивать, запугивать, калечить не будут.
Даня засопел, посмотрел на землю под ногами, потом смерил меня взглядом. Потом перевёл его на машину. На багажник. Трое молодых внимательно следили за выражением его лица. Они безмолвно внимали нашим препирательствам и не вмешивались. Пока.
– Парни, выньте пассажира, – скомандовал наконец Даня. Негромко, но чётко. – Выньте и положите.
Троица бросилась выполнять приказание. Вскоре отсутствующий Колоднов продолжил свой сон на снегу.
– Скатерть, – велел Даня. Один из молодых рванулся в дом.
– Что вы творите, выродки?!! – я уже понял, что сейчас будет, но всё равно зачем-то спросил. На хрена я всё время задаю эти дурацкие вопросы вместо того, чтобы что-нибудь делать.
– Я собираюсь отпустить нашего пассажира, – Даня теперь говорил бесцветно и на меня не смотрел. – И тебя тоже отпустить. Я гляжу, пассажир тебя держит и не пускает. Цепкой хваткой… Непонятно только, почему, – он посмотрел на оставшихся двоих парней. – Идите-ка сюда, – команда прозвучала как приглашение на пикник. Когда они подошли, Даня быстро кивнул в мою сторону.
– Держите магистра, – слова прозвучали, когда меня уже держали; один подошёл сзади, заломил руки, а второй засунул мне в рот что-то вроде носового платка.
Из дома вышел третий, с брезентовым полотнищем. Тот, что заткнул мне рот платком, подошёл к нему, помог перетащить Колоднова на скатерть, потом они стали оборачивать и навёртывать её вокруг спящего тела узлом. Даня терпеливо ждал, когда они всё сделают как надо, потом снова посмотрел на меня.
– Глядите, магистр? – он улыбнулся мне хищно и презрительно. Словно старый, тот, что в первый день, Даня, высунулся из-за спины нового, сегодняшнего. – Держи его так, чтобы видел.
А если я зажмурюсь? Распялят мне глаза, как Макдауэллу в «Заводном апельсине»? Но я не стал жмуриться. С завёрнутыми руками я стоял и смотрел, как Даня достал из-за пазухи небольшой серпик, поднял колодновскую голову, а потом быстро провёл серпом по горлу, это всё было словно в чёрно-белом кино, таком очень быстром, где все бегают и суетятся, немом кино; Колоднов несколько раз конвульсивно вздрогнул, он же даже не пришёл в сознание, а может, наоборот, пришёл и прожил целую мучительную вечность; его тут же засунули в брезент, завязали и потащили в дом.
– Видишь, – сказал Даня. – Нет больше пассажира. – Он перехватил у молодого мою левую руку, и вдвоём они потянули меня к дому. В прихожей меня ловко переобули в домашние тапки и переобулись сами. Даня втащил меня в гостиную и усадил на диван, сел рядом, а молодого послал сообщить об удачном прибытии.
У меня в голове была пустота. Слова все куда-то словно разбежались и попрятались, только одна фраза тупо стучала в оба виска: так не должно быть так не должно быть так не должно быть
– Ты не волнуйся, не волнуйся, – Даня похлопал меня по локтю. – Рано или поздно надо увидеть. Сегодня, завтра… какая разница.
Какое-то время я сидел, откинувшись на спинку, но меня словно и не было. Десять минут, пятнадцать, полчаса, время тоже пропало вместе со словами.
Наконец в гостиную вошёл, по-моему, на цыпочках Ногин. Он весь лучился каким-то непонятным счастьем, ухмылялся и сиял. Даня хотел встать, но Ногин его остановил.
– Сидите, сидите, – он примостился справа от меня и участливо мне кивнул. – Пока ещё все проснутся, соберутся…
Я молчал. Меня не было. Я не тут. Не здесь. Ничего этого нету и не было.
– А вы, однако, большой оригинал, Джим, – Ногин добродушно улыбнулся. Интересно. Я и не думал, что он умеет улыбаться, тем более так душевно и даже открыто. – Мы в вас всё-таки не ошиблись…
Даже если бы и ошиблись, вы бы всё равно приехали утром, понимаю я. И привезли бы вместе с Колодновым меня, тоже обширянного, без сознания, без памяти, без ощущений, без жизни. И вынесли бы ещё один брезент – для меня. Хотя скорее никто никаких брезентов бы не выносил, нас бы оттащили в подвал и по очереди полоснули серпом по горлу. Может, так было бы лучше.
Такие вот были первые вернувшиеся ко мне слова. Но в разговор я вступать не стал, что, впрочем, Ногина не смутило.
– Даниил, – Ногин обратился через мою голову к Залягвину. – С ключами и прочим всё в порядке?
– Да, вечером съезжу.
Дальше они обсуждали дела земные, грешные. Даня собирался вернуться, обшмонать дом Колоднова, привезти компьютер и телевизор и отогнать его жигуль; других материальных ценностей найти в осиротелом доме они не рассчитывали; зато собирались раздобыть образцы колодновской подписи, чтобы через свои ментовские каналы продать дом; а что, действительно, не пропадать же добру.
Потом снова посидели молча. Роман Фёдорович задумчиво насвистывал какое-то танго и фальшиво напевал, не то по-немецки, не то по-французски.
– И всё-таки мы очень хорошо танцевали перед нашим молодым человеком, – игриво сказал он, обращаясь явно к Дане, но и меня пытаясь вытащить из анэстетической отмороженности.
– Танцевали? – Даня вопросительно взглянул на Ногина.
– Ну как же. Все эти наши разговоры, рассказы, тары-бары, эта смесь угроз и просьб… Что это, как не Саломеин танец перед Иродом… Помнишь такую историю?
– Ааа… Вон вы к чему. Ну да, есть что-то общее, конечно, – Залягвин устало потёр лоб. – А кстати, как там стекольщики? Когда они приедут? – спохватился он. – Опять моё упущение…
– Стекольщики будут во второй половине дня, после двух. Мы, пожалуй, всё успеем до их прихода… Сейчас Саша встанет и придёт. – Ногин лучился. – Мне передали, что с нашим Мишей пришлось всё во дворе устроить…
– Это всё наш молодой человек, – Даня виновато улыбнулся сперва Роману Фёдоровичу, затем мне. – Упорствовал наш юноша. Отказывался.
– Ооо, – Ногин хохотнул. – Это бывает, бывает. Старик тоже перед своим Деянием долго колебался, он мне сам рассказывал.
Старик? Старше Ногина были только Еловин (по-моему, именно он – этот самый Саша, и он как раз безвыездно жил в загородном доме, видимо, ждут именно его) и Барханов. И ещё был какой-то ничейный дедушка в очках, я его видел во вторник вечером, перед самым отъездом. А Колоднова уже нет серпом по горлу и нету его блядь они его убили прямо у меня на глазах и я ничего не сделал это же пиздец прямо во сне блядь
В груди что-то вспорхнуло с какой-то кости, ёкнуло и взорвалось всхлипом, который я сумел укротить, задушить, растворить. Ногин удивлённо посмотрел на меня и хмыкнул.
– Вам что, жалко его, что ли? – спросил он.
Не буду с ним разговаривать. Пошёл он на хуй, урод.
– В любом случае, он уже несколько преобразился, Джим, – ласково продолжил главканнибал. – Он уже не человек, а чистое знание. Каждый двуногий индивидуум, – продолжил Ногин, повысив голос, – есть чистое знание, но лишь в потенции. Актуальным это беспримесное знание может стать только в одном случае. Если появится субъект чистого знания и подвергнет объект необходимым трансмутациям. Чистое знание, содержащееся в человеческой оболочке, – примордиально, первично, исконно, если хотите. Пожалуй, можно утверждать с достаточной степенью достоверности, что совершенно чистым и примордиальным в человеческих индивидуумах является лишь оно… Сама же эта оболочка, человеческое тело, форма – это всего лишь необходимое материальное воплощение, без которого эманация Духа была бы невозможна…
В комнату шумно ввалился одышливый Барханов.
– Прибыл, – коротко резюмировал он. – Ну что: уже?
– С нашим заблудшим – да, уже, – кротко улыбнулся Ногин. – Вот – Жданный Первенец скорбит об этом утлом челне.
– Утлый чёлн, утлый чёлн, – пробормотал Барханов, словно пробуя на вкус очередное пышнословие. – Это ты очень хорошо сказал…
Я вновь словно бы отсутствовал. И здесь и не здесь. Это была такая же пустота, как когда я тонул. Только никто с пляжа не заметит и не подплывёт, не вытащит, не откачает, не успокоит.
Барханов тем временем подтащил стул и грузно водрузился на нём. Он внимательно осмотрел моё лицо, видимо, не нашёл на нём ничего предосудительного и вновь обратился к Ногину.
– Я рад, – сказал он. – Каждый раз, когда исчезает человек, оставляя лишь свой Дух, я радуюсь. И словно ангелы поют, вот так. Когда же исчезает не просто человек, а враг, я радуюсь вдвойне.
– Мы все радуемся, Леонид, – серьёзно кивнул Ногин. – Это общая радость.
Когда же наконец исчезну я? Что ещё должно произойти, чтобы всё это закончилось?
И вот наконец в комнату проковылял Еловин.
– Простите, господа, – вяло произнёс он. – Холодно слишком, вставать было тяжело. Всё-таки с этим стеклом надо что-то делать.
– Сегодня, Саша, сегодня, – улыбнулся ему Ногин. – Ты грейся пока тут, не обращай внимания.
– Но ведь всё равно тянуло всю ночь, – жалобно поморщился Еловин. Без улыбки он больше напоминал писателя-деревенщика, чем доктора Менгеле. Интересно, почему Менгеле так прожорливо и плотоядно ухмылялся на всех своих фотографиях? – Даже с обогревателем тяжело было спать, у меня все кости ноют. Я не молод уже, – он чуть не плакал.
– Ничего, ничего. Это одна ночь всего. Сегодня в тепле будешь спать. К тому же со стеклом очень увеселительно получилось… Эй, человек! – крикнул Ногин в коридор. – Расшторить!
Появился молодой и раздёрнул шторы, затем поднял жалюзи. За окном уже встало мрачное молодое солнце, солнце бессильное и злое. Несмотря на включённый свет, всё казалось каким-то сумеречным, недоделанным. Другой молодой разносил чай. Когда он подошёл ко мне, то посмотрел как-то с опаской.
– Вам какой заварить? – спросил он, и я его узнал. Это при нём я мастурбировал после отходняка. Лица я его, понятно, не запомнил, я его даже и не видел из-за снятых линз, но голос был точно его. – Чёрный? – я не хотел отвечать, но он не уходил. – Так я заварю чёрный, хорошо? – видимо, он ждал хотя бы малейшего намёка на общение, и я нехотя кивнул. Но он не спешил отходить. – С сахаром? – я помотал головой, и в затылке что-то противно заныло. Видимо, эта боль не самым лучшим образом отразилась на лице – гарсон поспешно отошёл. Вскоре он уже снова стоял рядом, с кружкой, над которой курился пар. – Вот, держите.
Чай был вкусный и мягкий. Он очень хорошо омывал дёсны и поднимался волнами к нёбу. И ещё он напомнил о том, что во рту ночевали кошки.
– Зубы, – сказал я Ногину. Он меня не расслышал, потому что втолковывал что-то очередному молодому, явившемуся откуда-то из подвала. Тогда я подёргал его за рукав, и он удивлённо обернулся. – Зубы, – повторил я.
– Что? – Ногин впервые при мне удивился по-настоящему. По-моему, он вообще не привык к нормальному человеческому общению.
– Зубы мне надо, – сказал я. – Почистить.
– Ааа, да, конечно. Простите, что сразу не догадался, – Ногин, кажется, был выбит из колеи низменностью повода, по которому его побеспокоили. – Сейчас мы что-нибудь…
– Хотя лучше нет, – прервал я его. – Сперва покурить. Да, я же ещё не курил с утра…
Ногин опять недовольно поморщился.
– Конечно, конечно, – сказал он. – Несмотря на ваше новое положение в наших глазах, – он вновь игриво улыбнулся, – курить здесь по-прежнему нельзя. Да и вообще мы этого не одобряем. – Он повернулся к молодому. – Проводите, – он замялся, выбирая, как бы получше меня аттестовать, в соответствии с моим новым статусом, – Воплощённую Первопричину на улицу.
Молодой, ничего не говоря, проводил меня к выходу. Зачем? Дорогу я и сам знал.
– Отойдите хотя бы на несколько метров, пожалуйста, – попросил он и вернулся к Ногину.
Я переобулся и вышел наружу. Летел мелкий снег. Было очень холодно. Пришлось вернуться и одеться. Я закурил и попытался отыскать место, на котором убили Колоднова. Его не было видно, ни капли крови. Я обошёл дом и тут же увидел коричневые пятна, больше похожие на квас, чем на кровь. Они уже явно были старые, такие обычно во множестве украшают городской снег после двадцать третьего февраля и восьмого марта, когда солдаты выясняют между собой, кто из них больше достоин дня вооружённых сил, а женщины мрачно созерцают нажравшихся и бьющихся в честь их дня мужчин. Переведя взгляд наверх, я увидел разбитое окно на третьем этаже, там, где я жил неделю назад. Сигарета горчила и вправляла мозги. Гностики, думал я, ну конечно. Они сраные гностики. Сперва отрицание познания, потом его противоположность. Как же я ненавижу этих уёбищ. Интересно, кто это ёбнулся из окна. Или скинули? Может быть, это у них ритуальное наказание такое. Там же был ещё ересиарх, внезапно вспомнилось мне. Какой-то мудак, который решил добавить к каннибализму политической ненависти и варил борщ из гастарбайтеров. Вот и нет теперь ни одного ересиарха, инквизиция не дремлет, разом избавились от обоих. Теперь будут ритуальные пляски и поедание. Сигарета закончилась, а вместе с ней пеплом разлетелись и мысли. Или не вместе с ней, а просто так, сами по себе. Единственное, что пришло на смену – желание жить. Даже не жить в смысле существовать любой ценой, а именно что-то делать. С максимальной пользой, но без потери достоинства.
Когда я возвращался к крыльцу, оттуда уже спускался молодой, видимо, искать меня.
– Вот вы где. Скорее идёмте, – он соблюдал по отношению ко мне какой-то странный этикет, понукал и торопил, но явно опасался ко мне прикасаться, чем я и воспользовался, разуваясь и раздеваясь гораздо медленнее, чем мог бы.
В гостиной уже был выдвинут на середину комнаты большой стол, к одной его стороне был придвинут диван. Места на нём уже были заняты троицей иерархов, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как сесть напротив Ногина на стул с жёсткой деревянной спинкой, покрытой чёрным лаком. Прямо между нами стояло огромное блюдо, накрытое стальной полусферой с ручкой. Я сразу понял, что там внутри, на блюде. Колодновская голова. Крышка на блюде была как раз такого размера и формы, чтобы накрыть среднюю человеческую голову полностью.
– Здесь голова, – сказал я иерархам. – Человеческая башка. Да?
– Похоже, вы намереваетесь внести в наш повседневный быт новую лексику, – сказал Ногин. – Мы как-то по-другому были воспитаны. Видимо, на других книгах, другие фильмы смотрели… Но в целом вы правы. Именно голова.
– Без тела, – добавил я.
Ногин непонимающе улыбнулся, переглянулся с товарищами. Еловина, похоже, волновали только свои замёрзшие кости (кто-то выпрыгнул разбив окно и он в результате плохо спал ночью). Барханов посмотрел на меня как на умственно отсталого.
– Конечно, без тела, – сказал он. – Тело в подвале.
– И вы её сейчас будете есть, – подхватил я. – Голову. Очевидно, мозги. Как в американских фильмах. Знаете, там целый жанр есть специальный, про зомби, которые питаются мозгами живых людей.
Все трое уже морщились от моих слов.
– Во-первых, настоящие зомби, молодой человек, не питаются человеческими мозгами, – наставительно произнёс Ногин. – Они едят то, что им дадут. А во-вторых, есть мы сейчас ничего не будем. Потому что блюдо ещё не готово к употреблению. И мы ещё к употреблению не готовы. Сейчас, молодой человек, вы нам его просто вручите. Как дар.
– Как дар? – я скептически ухмыльнулся. – А почему это я вам должен что-то дарить? К тому же, как я вам могу дарить чужую голову? Я могу только свою подарить. Да и её дарить не собираюсь. Вы мне сейчас очень напоминаете вампиров, товарищи каннибалы. Тех тоже надо сперва впустить, а вам вот головы раздаривай… Я вам эту голову не дарил, – почти прошипел я и поперхнулся. Откашлявшись, я отодвинул блюдо в сторону теперь уже не улыбающегося Ногина. Ногин вновь был суров и даже, кажется, зол.
– Ошибаетесь, молодой человек, ошибаетесь, – процедил он в ответ. – Вы нам эту голову именно что подарили, выбрав среди остальных. Это ваш личный дар, и нам абсолютно не важно, в каком состоянии сознания вы находились, когда его делали. Я прекрасно понимаю, что подарили вы нам его совершенно бессознательно. Когда вашими действиями руководило не жалкое рацио, а Промысл, веяние Абсолюта.
– Провидение, – поддакнул Барханов. – Тот невидимый стержень, который соединяет вас с горними высотами.
Я устало вздохнул.
– Не приплетайте сюда мистику. Вы эту голову взяли бы и без моей помощи. Да и не было никакой моей помощи. Единственное, что я сделал, дурак, это дверь вам открыл. Надо было разбудить Колоднова и попытаться вломить вашим костоломам пизды. Вот и всё.
Лица всех троих испохабились возникшим внутри удивлением. У Еловина удивление было самое вялое, пресыщенное. У Барханова – беспокойное, чего-то испугавшееся. Один Ногин удивлялся довольно добродушно, как-то отечески.
– Вы о Колоднове, что ли? – спросил он и рассмеялся. – Да, колодновскую голову мы взяли сами. И взяли бы её без вашей помощи. Да и действительно, какая от вас там помощь…
Что-то словно ёбнуло меня кулаком в грудь, только изнутри, с той стороны, где сердце. И тут я увидел – волос. Он был почти неразличим, невидим на столе, потому что был светло-бесцветным. Длинный волос. Не колодновский.
– Вручайте, молодой человек, вручайте, – Ногин произнёс это с каким-то сочувствием. Но мне было всё равно. Меня снова не было и теперь уже точно никогда не будет. Почему? почему почему почему
Так, сгорбившись и исчезнув, я сидел какое-то время, а эти сидели напротив, так же молча.
В голове всё плясало и булькало. Почему, как, зачем, за что и где завели свой дурацкий хоровод. Вопросы, глупые бесполезные орудия человеческого познания. Она ведь не сюда должна была приехать. Вот кто прыгнул из окна.
– Адрес, – я просипел, прочистил горло и сплюнул прямо на пол. – Адрес ваш какой?
Ногин приподнял одну бровь.
– Не понимаю, почему вас интересует… Зайцево, дом шестой.
– А он где жил? – руки у меня висели плетьми, глаза смотрели в никуда. Я ответил сам себе. – Шапошниково, дом шестой. Так ведь?
– Так – подтвердил простую догадку Ногин. – Тем не менее, я не понимаю… – но это уже можно было и не слушать. Старый мудак, ну ёбаный же ты старый мудак. Он ведь сам часто говорил мне, когда я ловил его на какой-то неточности – мол, старый я уже, пенсия, склероз, все дела… Вещи, факты, имена путаются, танцуют в голове, меняются местами, вот и краеведица его поправляла… И никакой ненависти к нему, только боль. Такая разрывающая, всё насквозь пронзающая, такая, что вроде нигде не болит, а на самом деле болит везде. Это ведь я, я её не уговорил подождать до завтра, хуй с ним, что никакого завтра не было бы, приехали бы эти и обездвижили обоих идиотов, старого и малого, дал себя уломать, повёлся на радушного Колоднова…
– Ну так, – нерешительно начал наконец Ногин. Он давно уже перестал вещать, видя мой транс. Но всему ведь есть пределы, да и стекольщики должны появиться, а бедолага Еловин мёрзнет, Барханов нервничает. – Я так понимаю, вы всё уже осознали, пусть вы и не в себе пока. Это всё рацио, его бесполезная отрыжка, перед тем, как оно навсегда умрёт в вашей голове. Точнее, не умрёт, а займёт своё положенное место – в лакейской комнате сознания… На его трон, вернее, не на его, а на свой собственный, который рацио бесстыдно узурпировало, воссядет подлинное божество черепной коробки, интеллектуальная интуиция…
Эта черепная коробка окончательно вправила мой мозг. Он что-то такое ещё трещал, я снова не слушал, про дар, наверное, я медленно встал, искривил губы в улыбке, кивал ему, не глядя в глаза, затем пододвинул блюдо в его сторону, снова улыбнулся, показав зубы, что-то прощебетал на автомате, стараясь попадать в такт и в тон его речи, волевым усилием заставил наконец посмотреть ему в глаза, кажется, получилось, обошёл стол, чтобы открыть блюдо, даже наклонился над ним, затем покачал головой и отодвинул его на край стола.
– Подойди ближе, наставник, – говорил я и улыбался, – чтобы принять мой дар всей вашей общине. Дабы внять мудрости, выдумал я вас, на радость чистому познанию, святой интеллектуальной любви и обожествлению Духом… – и где это я научился такую хуйню молоть, без запинки, без пауз и затыков? Неужели пара разговоров с Ногиным научила меня его копировать? Главное, всё делать на автомате, ощутить своё тело, как игрушку, заводную машинку с ключиком, отделиться от неё, встать рядом и только нажимать на кнопочки, это как компьютерная игра на видео-приставке, щёлк-щёлк-щёлк джойстиком, и тело двигается в нужную сторону, только там всегда важна быстрота, а здесь пока что, наоборот, неспешность; Ногин, похоже, купился, и рожа его всё больше лучилась, и сам он был – сплошной восторг; и даже смурные, смутно видимые боковым зрением Барханов и Еловин облегчённо улыбались; больше всего они сейчас были похожи на престарелых, уже бесполых дедушку и бабушку, счастливо и беззубо радующихся сынку или внучку, обретшему семейное счастье; Ногин чуть вылез из-за стола, чуть отодвинул его, чтобы не оттоптать Еловину ноги, я специально выбрал левый край стола, где сидел Еловин, Барханов пусть и с пивным брюхом, но он всё же жовиальный живчик, а Еловин – хмурый хлюпик, вымотанный плохим морозным сном, сукин ты сын, Еловин!.. это ведь из-за Регины тебе было холодно… Ногин попытался осерьёзить своё мерзкое ебало, придать ему необходимую для получения подарка торжественность, а я всё продолжал улыбаться, протянул руку к крышке, постоял, перекачиваясь с мыска на пятку, словно вдувая в своё тело энергию невидимым насосом, а затем:
– резко схватил Ногина за кисти, посмотрев в его лицо влюблёнными, обожающими глазами; убедился в том, что тот опешил, но не испугался;
– приподнялся на цыпочки (он повыше меня), сморгнул, ещё раз впился в его глаза своими и быстрым движением приблизил свои губы к его носу, -
продолжая вышёптывать что-то о причастности божественному Духу, воплотившемуся в Учителе (читай-понимай: Ногине), -
но не поцеловал, а жадно вцепился в кончик его носа зубами, не злобно, а очень расчётливо, как тигр душит козла, а кошка – мышь, только у них цель, генетически заложенная в каждую особь – максимально быстро обездвижить предназначенную ей Богом ли, Природой ли пищу, а моей целью было:
– причинить боль Ногину;
– вызвать страх Ногина;
– насладиться безумием Ногина;
что и было в полной мере удовлетворено, сопровождаясь при этом следующими, приносящими дополнительное удовольствие, особенностями:
– Ногин завизжал, неожиданно очень тонко, как свинья, высоким нечеловеческим голоском (что доставило удовольствие, поскольку внешне имеющий человеческое обличье Ногин был поставлен в нечеловеческие экзистенциальные условия);
– Ногин замотал седовласой головой, с которой на меня и на него сыпалась старческая густая перхоть;
– Ногин обмочился;
каковое моё удовольствие было усугублено лицезрением ряда не менее приятных явлений, как то:
– боязливая дрожь, похожая на утренний похмельный тремор, охватившая всю верхнюю часть Еловина;
– сперва осторожное, потом резкое вскидывание со своего места Барханова, ломанувшегося в коридор и столкнувшегося в дверях с Даней, не присутствовавшего при не удавшемся обряде вручения Регининой головы иерархам секты (а)гностиков-каннибалов;
данное моё удовольствие было помрачено и прервано следующими фактами:
– мотая руками, в которые я вцепился, Ногин столкнул со стола блюдо, оно с жутким звоном покатилось по полу, и боковым зрением я успел уловить прокатившуюся голову с длинными волосами, собранными на затылке в пучок, укреплённый вроде бы карандашом;
– Ногин довольно-таки больно пинал меня ногами, в том числе и в паховую область;
– серия ударов в области моих почек была довольно-таки неприятна – это Даня меня пиздил; затем он и Макс сорвали мои руки с ногинских, Даня ударил меня в зубы, кажется сломав один из них, и бросил на пол;
последующие факты, которые уже не воспринимались мной как однозначно приносящие удовольствие или оное омрачающие, суть таковы:
– Даня и Макс пиздили меня ногами, стараясь что-нибудь во мне поломать или хотя бы временно вывести из строя;
– я инстинктивно прикрывал то гениталии, то живот, то лицо руками, которые от непрерывных ударов перестали чувствовать боль;
– Ногин издал ряд протяжных взвизгов, перешедших в рыдания;
– краем глаза, когда моя голова поворачивалась от ударов в определённую сторону, я видел отрезанную голову Регины и тут же старательно жмурился, как Сим и Яфет перед лицом наготы отца своего, Ноя; я понимал, что это не тот последний взгляд на неё, который я должен сохранить в памяти, тем более, что жить носителю этой памяти, судя по всему, оставалось не так уж и долго; к счастью, вскоре с меня сбили очки, и голова навечно расплылась в пятно;
– Ногин гундосо прокричал Дане и Максу что-то вроде: «Не калечить выблядка!»;
– на время удары прекратились, и между ними завязался ожесточённый спор о моей персоне, её дальнейших жизненных перспективах и надлежащих по отношению к ней действиях;
– закрывая глаза, я почувствовал соль на губах, облизал их и выше; всё надгубье и подбородок также были солоны; «Это ногинская кровь», – подумал я, – «это счастье моё, слизывать его кровь со своего лица»;
– удары возобновились;
на сём перечень фактов следует прекратить, поскольку:
– я потерял сознание.
35
Очнулся я в совершенно другом мире – это был мир тьмы и боли. Сперва я подумал об ослеплении и попытался рукой достать до глаз, но рука была в наручнике, прикована к кровати, – мне сразу вспомнились первые ночи у Колоднова, и я хмыкнул, а потом внезапно расплакался; слёзы и сопли текли горными потоками, а я всё не утирал их, пока не ощутил второй руки; та была неприкованной, свободной, но очень болела, да впрочем, всё болело, за что ни возьмись; один из пальцев обраслеченной руки особенно ныл и почти не двигался, точнее, ныл он как раз когда не двигался, а если им пошевелить, то сразу как нарыв взрывается, или сломанный, развороченный зуб, когда в него попадает что-нибудь твёрдое, куриная кость или кусочек ореха; второй рукой я первым делом бросился не к соплям, а к глазам, ощупал их, нажал, – уй, блядь, зачем я туда нажал! – нет, конечно, никто меня не ослеплял, хотя с этих уёбищ станется, просто опять заперли в подвале, только ещё и в коридоре свет выключили, – вот теперь уже можно и сопли вытереть, собрать их простынёй вместо носового платка, – мягкая, иди ты! не грубая дерюга, как в самом начале, – устроиться поудобнее, подремать, что ли; да тут, блядь, подремлешь, с такой болью повсюду…
Очень не думалось первое время. Очень есть хотелось. Ну вот засосало под ложечкой, и слюны полный рот, периодически то сглатывал, то сплёвывал за пределы кровати. И времени негде посмотреть, да и нечем, по сути дела, я ведь слепошарый, а очки куда-то свалились, разбились, наверное… Нет ни одной драки, в которой очки бы не сваливались, и тогда перед тобой возникает контурная пустота, наносить удары помогает уже не зрение, а инстинкт, с линзами в этом смысле попроще. Интересно, как идёт время… Так очень погано оно идёт, когда лежишь в большой полой утробе и ничего не можешь сделать. Наверное, младенцам получше, у них ещё сознания нет, один сплошной сон, и питание, регулярно поступающее внутрь, сплошной покой… Если конечно, в самом начале не будет сделан аборт. С другой стороны, аборт – это те же роды, только не в тот срок… Рождаться, наверное, ещё страшнее, чем абортироваться, весь этот свет, холод вместо утробного тепла, врачи, которые заставляют тебя кричать… Зато жизнь, конечно. В которой есть не только (а)гностики-каннибалы, но и ещё что-то забавное…
Регина… Регинушка… Тут я почему-то уже не плачу. Может, потому, что по этому старому поганцу уже все слёзы выплакал. А может, потому, что не на моих глазах, а голову я только краем глаза видел… Нет, не верю я во все эти фрейдовские басни про первичные сцены, – сам-то я родителей ни разу не видел, но зато однажды зашёл в незапертый туалет, когда там сестра была, – сперва, конечно, отворачиваешься, как от вспышки молнии, потом думаешь, ну так, чуть погодя, когда все уже от смущения оправились и «забыли», – а что, собственно говоря, я только что видел, вернее, помнишь, но только абрис, контурную карту вместо живой физиологической страны, и понимаешь, что выходит, и не было ничего… Вот и сейчас я пытаюсь припомнить голову, но никакой головы не вспоминается, только карандаш в волосах –
ах же блядь было было ёбаный ты в рот было –
отвисшие губы и – самое главное: открытые мёртвые глаза, остекленевшие, не двигающиеся, и ещё этот зеленоватый цвет кожи, и бордово-коричневая, местами почти чёрная, бахрома запекшейся крови вместо шеи… и запах…
Нет, я этого не вынесу, так нельзя…
Они её только из холодильника принесли, но запах…
Как же я их ненавижу…
36
Два раза в сутки свет в коридоре включался, затем ко мне приходил кто-нибудь из молодых; если я спал, меня бесцеремонно трясли за плечо и били по щекам; я тут же просыпался, стараясь не издавать лишних стонов, меня так бабушка в детстве учила, поменьше жаловаться и стонать, когда больно, у самой у неё ноги безостановочно болели, а она почти не жаловалась, и не ворчала даже, вообще, редкой силы у меня бабушка была человек, среди старух такие редко встречаются; почему-то с детства и до сей поры я очень любил совсем старых людей, в отличие от взрослых, они мне казались гораздо ближе и понятливей, возможно, всё оттого, что они вскоре уйдут в ту тьму, из которой совсем недавно вылез я, но это тоже всё домыслы и символическое хулиганство; поначалу, первые два-три дня, я, конечно, постанывал, не такой я крепкий был, как бабушка; со мной не разговаривали; эти расплывчатые пятна под беретами приносили мне еду и чай; если я видел, что блюдо мясное, тут же опрокидывал тарелку на пол, а первые два раза я вообще затаился, сосредоточился над рассматриванием еды, исподлобья оценил, где находится принесший мне еду молодой, и запустил тарелку ему в рожу; за это я, конечно, оба раза получил кулаком в ебало, но мне было не жаль лица, ему жить не долго, а тут такое удовольствие! жалко, что часть этого развлечения приходилось достраивать самому, например, фантазировать и представлять, какая у моего тюремщика рожа в этот момент, обычно она искривлялась в маску уныния и бессильной злобы, такую, немного мультяшную, таких понурых, совершенно не вызывающих жалости, негодяев часто рисовали в диснеевских и советских мультфильмах, ну, конечно, такие рожи у них ближе к финалу образовывались, когда все их грязные аферы заканчивались крахом и их забирали полицейские или адвокаты; советские сценаристы вчистую убирали западных по уровню неадекватности, до сих пор помню первую версию «Золотого ключика», которую ещё при жизни автора сняли, в 1939 году, там всё закончилось тем, что к Буратино на помощь прилетели полярники-папанинцы, при всём честном народе навешали Карабасу-Барабасу пиздюлей и забрали кукольных людей в СССР; потом с моим вынужденным вегетарианством смирились; если были овощи, я, пожевав и скривившись, выплёвывал их себе под ноги; за это тоже получил по ебалу, но уже только один раз; к моему рациону приноровились, несмотря на то, что разговоров ни об этом, ни о чём ещё мы не вели, и теперь я получал только хлебные изделия, фрукты и сладости, иногда рыбу и яйца; два раза в день меня водили оправляться в самый нижний сральник в этом доме, там же можно было прополоскать рот водой из-под крана, – зубной пасты мне не полагалось, – и протереть этой же водой лицо; первое время я тупо лежал и сочинял стихи, километровые, как прежде, у меня не выходили, а если и получались, то после сна я их забывал напрочь и сочинял новые; когда я хотел поскорей уснуть, я начинал мастурбировать; сперва я очень напрягся, когда первый раз решил вздрочнуть, потому что подумал о Регине, но потом меня выручила Софья с пианистового дома; она была рыжая и зеленоглазая, никакого намёка на регинину соломенность и озёрноглазость, к тому же она была словно не отсюда, в её сумасшедшем мире не было никаких (а)гностиков и никаких каннибалов, и Васё там тоже не было и в помине, там можно было что угодно и как угодно, можно было трахать её дилдой, и самому при этом гонять член, у тебя словно бы появилось два хобота – один женский, для того чтобы партнёрше доставить удовольствие, а второй – специально для тебя, я даже фантазировал, что это дилдо на самом деле растёт из моей ладони, скажем из запястья вырастает, а когда Софья наудовольствуется, оно прячется обратно, не обвисает болтунчиком, как мужской член, а именно въезжает обратно внутрь, чтобы спокойно спать там и дальше, до нового постельного приключения, ну как в трансформерах, – чёрт, это ведь Регина говорила мне, что мальчики во время секса, бывает, думают, о боевых трансформерах! – и мой единственный член тут же опадал, когда я вспоминал её слова, мнения, видел из темноты её глаза; а можно было стегать Софья стеком, оставляя на веснушчатой белой коже пунцовые полосы, можно было самому быть ею стегаемым и холодеть от боли где-то внутри и теплеть снаружи; можно было осторожно входить в её узкие внутренности, которые облепляли член, как второй презерватив поверх первого, это если я представлял, что я в презервативе, конечно; глупо; интересно, я единственный идиот на этом свете, который во время дрочки может представить себя в гандоне? не удивлюсь, если да; иногда, и чем дальше, тем чаще, мы просто вели с Софьей задушевные разговоры о жизни, смерти и прочем, щупали при этом друг друга, конечно, но кто же с милой девушкой разговаривает, не щупая, ну разве что педики, но их ведь мало; воображаемая Софья обычно говорила о том, как она всех ненавидит и подробно рассказывала о каждой категории – кого и за что, и что с ними нужно сделать за то, что они вызывают у неё ненависть; кого-то она этой манерой речи – подробно расписывать мерзость, ничтожество и греховность каждого людского племени и сословия, – напоминала, но я уже не мог вспомнить, кого; наверное, какого-нибудь писателя, вроде Луи-Фердинанда Селина или Чарльза Буковски, а может, и кинорежиссёра, хотя режиссёры ведь не говорят, за них это делают персонажи, а за персонажей сценаристы, то есть в итоге мы опять упираемся в писателей; наверное, какой-нибудь авангардный писатель, они это любят, уёбки, суд над людьми вершить и в грязи их обмазывать; ещё Софья иногда начинала петь что-то несуразное, тоскливое и обнимающее, обволакивающее, как масло; по-моему, когда-то был обычай у ближневосточных племён – погружать избранного человека в сосуд с маслом и держать его там около года, потом, если верить арабским путешественникам, головы таких святых людей легко отделялись от тела, без всякого разреза, одним умелым рывком, высушивались и становились идолами, которые сообщали своим хозяевам правду о коварных замыслах ближних и дальних, а также погоду на завтра, сведения о надвигающихся с разных концов света эпидемиях, иноземных нашествиях и обвале хлопка, шёлка, золота, шерсти и прочего на евразийских биржах, от Дамаска до Китая, Европа не в счёт, потому что тогда она ещё была дикая, немытая, никаких бирж не знала, и умела только сжигать ведьм и хулиганить, такие идолы назывались терафимами, вернее, терафами, терафим – это множественное число; скажи мне, Софья, не поместят ли меня в масло, чтобы моя оторванная голова помогла Ногину сколотить состояние, подсказывая, в какую недвижимость вкладывать средства и какие фьючерсы заключать?.. не даёт ответа; кстати, она рассказала, что ненавидит, когда её называют Соня, Сонечка или Софочка, но Васё лучше не поправлять, потому что он очень любит назло ближнему всё делать наоборот, и если его поправлять, он с большей частотностью станет ошибаться, извиняться, блудливо ухмыляясь, в общем, лучше вообще не обращать на него внимания и не показывать, что ты чем-то недовольна; Софья также сообщала мне о том, что происходит снаружи, какой снег лежит за её окнами, как он лепится в снежки, они с Пианистом очень любят играть во дворе, да там все это дело обожают, а ещё они вылепили снеговика с сиськами и членом, мы тоже такого в школе лепили, зимой все бегали на лыжах на уроках физкультуры, а у нас, у меня, у лучшего друга и ещё у пары девчонок были освобождения от физры по состоянию здоровья, бегать на лыжах нам было нельзя, но присутствовать на занятиях мы были обязаны, поэтому мы вместо лыж лепили снеговиков, швырялись в лыжников снежками, причём в лыжников из чужой, соседней школы тоже швырялись, и вот однажды было просто потрясающе: все лыжники как один останавливаются, не обращая внимания на матюки физрука, как-то неестественно быстро и ловко снимают лыжи, все как один, как в синхронном плавании, и бегут в нашу сторону, это было какое-то прямо завораживающее зрелище, девчонки наши, те сразу всё поняли и снялись со своих снайперских позиций, лихо метнулись в разные стороны и пропали между деревьев, а мы стормозили, потому что такое ощущение было, ну у меня, по крайней мере, у друга, может быть, тоже, но наверняка не знаю, что ты вот только что стоял посреди обычной жизни и вдруг неведомым образом попал в какое-то очень красивое авторское кино; в общем, убежать мы тогда так и не сумели, нас быстро повалили на снег и стали очень злобно мудохать ногами, пока физрук наконец не примчался, он расшвырял задних, а передних, которые нас пинали, начал мудохать лыжными палками по загривкам, причём матерился он теперь просто как-то страшно, я тогда впервые увидел человека, который нецензурные слова использует не для того, чтобы речь была веселее и задорнее, а чтобы выплеснуть весь ужас, который в нём клокочет, где-то глубоко внутри; малолетние лыжники стали жалобно и даже плаксиво отбрёхиваться, мол, а чё они кидаются, они же первые эту войну начали, и тут друг встаёт и говорит: «Мы не будем больше кидаться», – отряхивается и уходит, и я тоже встаю, отряхиваюсь и ухожу, и слышу, как за спиной уже всё успокоилось, устаканилось, физрук уже не матерится, лыжники вновь надевают свои снегоскользилища и едут вперёд по бесконечному кругу; лепить снеговиков было безопаснее и проще, и вот однажды мы вылепили снежную бабу, и раз она баба, то у неё должны были быть и сиськи, решил я, ну и налепил две очень характерные выпуклости, а мой друг в это время, ухмыляясь, лепил снежной бабе длинный и толстый хер с огромными яйцами, он прилепил его к самому низу, так что было похоже, что снеговик наполовину зарыт в землю, а наполовину из неё высунулся, такое страшное зимнее божество; девчонки в это время слепили нормального человеческого снеговика, и когда подошли взглянуть на наше творение, были возмущены и то стыдливо хихикали, то говорили, что мы пидоры ёбнутые; мы назвали наше детище пидоровиком, и оно ещё две недели встречало проезжающих лыжников, которые покатывались со смеху и ломали стройные ряды; через две недели его заметил наш физрук, спросил, кто эту еботу слепил, покачал головой, глядя в наши честные открытые лица, обозвал дегенератами и велел сломать, а когда мы отказались, тактично заметив, что ничего он в современном искусстве не рубит, он сломал его сам и с чувством выполненного долга поехал вперёд по бесконечному кругу; Софья говорит, что такого снеговика захотел слепить Пианист, и они вдвоём с Арсеньевым долго-долго делали тело, она вылепила им груди-шары, а член сделали Васё и Машуркин, причём Васё, как всегда, дико смеялся и долго капал на мозги своему партнёру по членолеплению, чтобы он как можно рельефнее вылепил головку и устье уретры, Машуркин потому что рукастый, а Васё – жопорукий, в конце концов Машуркин сдался и сделал всё, как тот хотел, а Васё сбегал в дом за краской и выкрасил навершие члена в болезненно-багровый цвет, он сперва хотел убедить Машуркина, чтобы тот ещё налепил по краям навершия закатанную крайнюю плоть, но в итоге плюнул, и решил, что снеговик будет обрезанным; Софья, посмотрев на этот символический натурализм, прилепила к снежным сиськам маленькие сосочки; они ещё хотели устроить торжественный обряд поклонения снеговику-андрогину, с поцелуями члена и грудей, и все вроде бы загорелись энтузиазмом, но Машуркин и остальные дачные насельники воспротивились; у нас всё холодней и холодней становится, говорит Софья, это уже дня через три после снеговика, а может и через неделю, пребывая в разговорах с ней и мастурбации, перемежаемых только скудной кормёжкой и походами в сортир, я совсем потерял счёт дням, сперва мне было не до того, а потом уже и вовсе показалось бессмысленным жить в определённом времени; так вот, говорит Софья, у нас очень холодно, мы одеваем под джинсы подштанники и постоянно пьём виски, когда не на работе, конечно, по вечерам нажираемся вискарём, отрубаемся спать, а утром приходим на свои рабочие места бодунные, невесёлые, злые; причём никто вечером особо пить не хочет, но находится обязательно кто-нибудь, кто предложит выпить, и все сразу соглашаются, у нас тут всё как в Телемском аббатстве у Рабле или как в Чефалу у Кроули: один предложил что-нибудь, все сразу поддерживают; я думаю, добавляет она, что когда-нибудь Васё или Пианист обязательно предложат заняться групповым сексом, просто ради глума над всем этим нашим коллективным хозяйством и ведь обязательно займёмся!.. я бы не стал, говорю я ей, а она отвечает, что они поэтому и не взяли бы меня к себе жить, потому что я слишком индивидуалист; где-то в промежутках между этими разговорами я мастурбирую, представляя обычный человеческий секс с ней, и вскоре засыпаю, уткнувшись лицом в подушку.
И так день за днём, пока однажды в комнату не зашли два человека, а не один молодой, как обычно. Два человекообразных пятна. Второй человек очень медленно и степенно продвигался по направлению к моей кровати, а молодой держал его за руку, очевидно, страхуя от усталого падения. Да это тот самый дедушка из библиотеки, понял я, даже без очков ясно.
Молодой подтянул к моей кровати единственный стул во всей комнате. Я, по понятным причинам, ни разу им не пользовался. Кстати, стоит отметить, что каждый раз после еды и прогулки до ветру меня наново пристёгивали за другую руку. В первые дни, когда палец был сломан, я настолько обнаглел, что просил перед сном пристёгивать именно за ту руку, на которой он ныл и периодически взрывался, вскоре мне его заботливо загипсовали.
Дедушка грузно уселся на стул и посопел для начала, а молодой ушёл, не заперев дверь и оставив свет включённым. Так мы и сидели некоторой время, вернее, я лежал, а он сидел и посапывал носом. Неужели эта пескоструйная машина явилась, чтобы меня убить? Это было настолько нелепо, что я рассмеялся.
– Парнишка, парнишка, – внезапно зашелестело внутри старика. – Не спи давай! Я твои очки принёс… – после чего он опять засопел и скис.
– Я не сплю, дед, – ответил я. – Очки давай.
Старик тут же, неожиданно проворно, каким-то суетливым движением нырнул рукой себе в грудь, видимо, в карман рубашки, и вытащил оттуда мои окуляры. Мои. Действительно. Только теперь они были замотаны посередине синей изолентой. Да и похуй. Я нацепил увеличители окружающего на нос, моргнул от чёткого зрения, отвык уже от него. Изолента необычно, но очень уютно холодила переносицу.
В свете нового зрения старик оказался похотливо облизывающимся и причмокивающим. Глаза у него были цепкие и не то что бы умные, а какие-то вглядчивые. В прошлый раз он выглядел отсутствующим, а теперь оказался очень юрким и живым. Живее всех живых.
– Спасибо, – я пожал одним плечом, тем, из которого росла неприкованная рука.
– Так вот ты какой, – снова зашелестел старик, как будто это он меня наконец увидел не пятном, а цельным человеком, а не я его. Он говорил не быстро, но очень бойко, без пауз и затыков. – А я думал, что ты вовсе не такой, другой совсем, думал. А ты смешной, вон, губки дуешь, это хорошо, правильно очень.
Что делал избитый молодой человек, наблюдая безумного старика, в один из тех дней, когда он лежал в доме (а)гностиков-каннибалов, прикованный за руку к кровати, коротая свой досуг за бредом и мастурбацией?
Прихуевал.
А старик всё шелестел и шелестел, осыпая слова как осенние листья, перемежая их совершенно немотивированным потиранием ручек (потные пухлые ладошки), протиранием своих незапотевших очков, ковырянием в носу и поглаживанием брюшка (у него было именно что брюшко; у Барханова было в лучшем случае брюхо, хотя на самом дел – брюшище, а у этого – брюшко). Старику было очень интересно увидеть меня, удивиться мне, улыбнуться своему удивлению, ущипнуть меня за подбородок, чтобы заметить, что кожа у меня уж слишком нежная. Видимо, меня готовились вкусить.
– Вы кто, – я наконец-то разорвал шелест раскатом грома.
– Я? Кто я? – старик словно бы испугался вопроса. – Ты спрашиваешь, кто я?! А ты? Ты-то сам кто такой?!.. Нет, ты мне ответь давай, – он напирал с каким-то омерзительным возбуждением. – Вот кто ты такой, скажи на милость?.. Лежит тут, тоже мне… Разлёгся, скотина!..
– А я уже сам не знаю, кто я, – опять я пожал одним плечом.
– Вот и дурак, что не знаешь, – обрадовался старик. – Я вот тоже не знаю, тоже дурак. И мне хорошо… Радоваться можно.
И опять. Шелест, скрежет, шёпот. Потом старик внезапно умолк и захихикал. Некоторое время мы оба молчали. Я отвернулся к стене в надежде, что он вскоре уйдёт, но старик не уходил. Когда я уже начал задрёмывать, он внезапно толкнул меня в бок острым кулаком.
– Чего вам? – я повернулся к нему и обомлел: он смотрел на меня тоскливым собачьим взглядом. Старик ничего не ответил, просто смотрел и смотрел. – Что с вами такое?
Вместо старика мне ответил приведший его молодой, он как раз вошёл с двумя чашками чая.
– С вами необходимо поговорить, – сообщил он и тут же оставил нас.
Чай дедушка пил, прихлёбывая и по-старчески чмокая. Выпив полчашки, он отставил её в сторону от стула и шумно поднялся, распрямив спину и сделав руками нечто вроде гимнастики. Затем начал говорить. Это вновь было всё то же шелестение, только теперь оно стало более осмысленным и логически последовательным, как будто деревца в парке, в котором ты гулял каждый вечер с собакой, внезапно начали призывать Сатану или петь человеконенавистнические литании.
Звали старика Сомлеев. Он был захолустным преподавателем каких-то уже лет двадцать как позабытых им дисциплин в рабочих школах, но это всё было не важно, поскольку в свободное время он занимался куда как более серьёзными вещами – он очень много думал о первопричинах, о тайном устройстве нашего мира и всего космоса (в то, что мир можно объяснить с помощью явных сил, исследуемых наукой, он не верил, да и как в это вообще можно поверить, с удивлением вопросил он самого себя, поймав мой взгляд), думал о том, как это всё работает. В процессе своих исследований он обратился к религиозным текстам, сперва к наиболее доступным и очеловеченным, которые во множестве ходили в годы его молодости в самиздате, потом – к более древним и кровожадным. Кровожадные понравились ему больше: они лучше пахли и были гораздо твёрже на зуб, чем весь этот буржуазный нью-эйдж, подогнанный под мелкие масштабы среднего класса, американского ли, советского, – разницы там почти нет. Огромного человекообразного бога по имени Пуруша другие боги расчленили, разделали и освежевали, после чего из него было сотворено множество вещей, зверей и людей (особенно хорошо, что каждый человек знал то место, из которого его сделали, и не совался куда не положено), которые и стали нашим миром. О том же самом знали и древние скандинавы, только их расчленённого бога звали Имиром, а у китайцев он носил имя Паньгу. А больше всего возбудил Сомлеева манихейский миф об оплодотворении Тьмы: когда Тьма и Свет занимали равные по величине земли, разделённые извилистой границей, Властитель Света послал на кордон своего сына Ормизда и пятерых его сыновей; с противоположной стороны на границу смотрит сам Властитель Тьмы, его привела туда жажда расширения земель, он хочет покуситься на равнины Света и поселиться также и там, изгнав Властителя Света неведомо куда; прислуживают ему верные архонты, они вступают в бой с Ормиздом, одолевают его вместе с сыновьями и поедают всех шестерых, кого в сыром, кого в варёном виде, после чего радостно празднуют нечто вроде дня советского пограничника, только на манихейский лад; Властитель Тьмы радуется победе слуг и самолично отбивает ритм на бубне, когда съевшие мясо врагов своего господина архонты пляшут танцы победы и поют эпические песни об отгремевшем сражении; но они и не подозревают, что в их победе скрыта их же смерть, ибо в их телах теперь содержится тот Свет, что пронизывал тела Ормизда и пяти его сыновей; Властитель Света убивает несколько архонтов и из тел сотворяет нашу землю, после чего отделяет от себя Посланца, прекрасного ликом и телом, демонам он кажется прекрасной девушкой, а демоницам – безбородым юношей, тогда как по правде нет в нём ничего, кроме Света; всех по очереди обходит Посланец, зазывая в свой шатёр усладить тело; вместе с эякуляцией архонты извергают тот Свет, что бродил в их организмах после поедания врагов, зато архонтессы, кое-что сообразив, вбирают в себя световое семя Посланца и рожают первых людей, обучив их в утробе делам Тьмы: совокуплению, любви, ненависти, жажде и поеданию животной пищи; первые люди Тьмы набрасываются на тех бесплотных людей, которых создал Властитель Света (он, говорят предания, создал их за несколько минут, силой мысли и поцелуем Света, в то время как архонтессы честно вынашивали свою альтернативу бесплотности девять месяцев), соблазняют их, после чего те становятся тоже плотными, затем люди Тьмы убивают творения своего врага, съедают их, получив в нагрузку к Свету Посланца Свет первых людей Света, – примерно так, по манихеям, начался тот мир, в персидском куске которого они объединились вокруг пророка Мани. Несмотря на то, что и сам по себе этот миф был довольно мрачен и аморален, у него существовала ещё и более редкая версия, бытовавшая среди людей не то одного племени, не то одной секты; она гласила о том, что Свет был изгнан за свои естественные границы, Властитель его был торжественно умерщвлён, с него сорвали кожу и прибили её на воротах бывшей столицы Света, ставшей теперь второй сатрапией Тьмы; первых людей Света никогда не было, как и детей архонтесс; дальше предание умолкало, но Сомлеев, много над ним медитировавший, всё в итоге понял. У него самого было двое детей от умершей жены; была у него и дача, оставшаяся после её смерти. Девятнадцатилетний сын и восемнадцатилетняя дочь собирались летом отправиться в туристическую поездку на Байкал; за день до их предполагаемого отъезда Сомлеев накормил детей ужином, добавив в пиво сыну и в чай дочери сильное снотворное; после того, как его чада заснули, он вынул из их рюкзаков припасы и отнёс их в погреб, а документы, билеты на поезд, рюкзаки, набор одежды и палатку сжёг на костре; после этого оставалось только по очереди отнести детей в ванную, перерезать обоим глотки и разделать трупы. Три последующие недели Сомлеев питался их мясом. По натуре он был добродушным, вечно улыбающимся отшельником, домоседом, редко принимающим гостей, поэтому никто ничего не заподозрил. Каждые две недели Сомлеев переводил на сберегательную книжку сына небольшое количество денег, как он и обещал ему перед несостоявшимся отъездом. Через полтора месяца он пошёл в милицию и подал детей в розыск. Туристическая группа, с которой они должны были отправиться, сказали, что брат и сестра Сомлеевы не прибыли на место сбора, а от проводника их поезда милиционеры узнали, что те на него не садились. В итоге милиционеры пришли к выводу, что дети Сомлеева были ограблены и убиты по дороге к вокзалу, не исключено, что в одной из электричек, или даже в лесу, через который нужно было идти к пригородной станции, – в ответ на все слова милиционеров, к которым он ходил насколько возможно часто, Сомлеев глупо и жалко улыбался, словно чего-то не понимая; уроки свои он теперь тоже вёл отрешённо и иногда замирал во время объяснений, но ученики не удивлялись и не дразнили его, слух о пропаже его детей передавался от класса к классу по наследству. На самом же деле Сомлеев был отрешён потому, что внимательно и чутко прислушивался к происходящему внутри своего организма, ведь там из кусков съеденного мяса сотворился мир, в чём-то подобный нашему, а в чём-то и не подобный. Ютившееся в горной китайской деревушке племя не сказало об этом, но Сомлеев догадался: на самом деле Властитель Света не только не отправил к архонтам Посланца, он даже наш мир не успел создать; а то, что окружает нас, – это живот одного из архонтов, в котором из мяса Ормизда или кого-то из его детей созданы горы, моря и реки, и вся наша жизнь – лишь постепенное растворение чужого мяса в желудочном соке; конец света будет сворачиванием не столько времени, сколько пространства, которое отправится из желудка в дальнейший путь по кишечнику. Но мы уже к этому времени будем мертвы. Такой же мир и Сомлеев воздвиг внутри себя, стенки желудка ограничили его размеры, огородили жителям окоём; жители были сотворены из сердец его сына и дочери, может быть, их изначально было только двое, мужчина и женщина, Адам и Ева, а может, их сразу появилась целая орава, как тех древних греков, которые были созданы из камней Девкалиона и Пирры; Сомлеев не был уверен ни в том, ни в другом варианте. Их время текло быстрее, чем сомлеевское, которое он решил отрегулировать до кантовской педантичности – вставать по звонку, по нему же ложиться, питаться и освобождать тело от отходов в строго определённые минуты. Все свободные от работы и внерабочего общения с остальными людьми часы Сомлеев старался пребывать в поэтическом трансе, ощущая и прозревая железную поступь своей внутрижелудочной истории, нисхождение от невинного золотого века к братоубийственному железному; по большей части, Сомлеев мерцал, физически находясь в нашем мире, сознанием же пребывая в царстве полусонных грёз, наполненных круговоротом житейских дел своих подопечных – пахотой, войнами, жертвоприношениями, торговлей, восстаниями рабов и захватом новых. Так бы и пребывал он в своём аутическом покое до сей поры, но всё-таки друзья, корреспонденты и компаньоны по гнозису у него были, не так уж и мало людей задавалось и мучилось теми же вопросами по всем уголкам Советского Союза. В частности был один поэт, метафизик и алкоголик – Еловин. В раннем возрасте он переводил Рембо и Лотреамона, а самая бурная юность его пришлась на период деколонизации Африки, которую он, конечно, принял в штыки: ничего, кроме убогого капитализма и не менее мерзкого социализма гнилой Запад и не менее гнилой Восток принести туда не могли, тогда как колыбель человечества, его Праматерь-Африка наиболее всего нуждалась в защите своих обычаев и верований, именно они, как наиболее древние, аутентичные и непреходящие, почти вечные, были ближе всего к той Изначальной Традиции, на которую неоднократно ссылался в своих трудах Рене Генон, революционный философ, мистический консерватор и ниспровергатель ненавистного столь многим современного мира, всех его поганых эгоистических основ; Генон был малоизвестным оккультистом, жившим в отшельническом уединении в Египте, но Еловин не сомневался, что будущие поколения будут молиться на него так же, как сегодняшние либералы поклоняются «фернейскому затворнику», к которому небеспочвенно возводят свою родословную; о Традиции Генон писал очень мало и мутно, по большей части он просто ссылался на неё, когда нужно было обосновать какую-нибудь смелую выкладку или в очередной раз указать современному миру на его убожество; было известно только, что главное, чем характеризовалась Традиция – это Единство всего со всем, людей с природой, Небес с Землёй, жизни со смертью; чем больше в людском обществе было профессиональных, научных, религиозных различий, тем дальше оно находилось от Традиции: средневековая учёность всему сразу была предпочтительней, чем современная специализация, средневековое же монолитное католичество было стократ лучше сегодняшнего христианства, раздёрганного на части протестантскими сектами. Вслед за туманными намёками Учителя Еловин поначалу обратил свой взгляд на Восток – иерархический, разграфлённый на варны, лотосовый лист Индии, даосско-конфуцианский сплав Китая; но вскоре он развернулся к Средиземноморью и наконец достиг того места, на котором остановился Генон; потоптавшись рядом с ним, Еловин пошёл дальше и глубже, в экваториальный мрак и в самый низ Австралии. Именно там лежит магический Зюд, божественный Юг всех времён и народов, понял Еловин, именно оттуда есть пошла человеческая земля. Там всё осталось как есть, и таким же бы и оставалось, если бы не белый человек со своим богомерзким бременем лишать свою Праматерь её ветхой невинности, первобытной близости к Зверю и Небу, равнонеудалённости от них. Именно туда направил свои стопы Генон, остановившийся, замерший, замороженный, в Египте, где он принял ислам и двадцать последних лет прожил как шейх Абд-аль-Вахид Яхья. Сердце тянуло его ниже к экватору, но Генон остановился на пути, словно бы ангел с огненным мечом преградил ему дорогу вспять, в земной Эдем; ему пришлось довольствоваться медленной, тронутой европейским тленом жизнью арабов, женитьбой на дочери местного религиозного учителя и послушничеством в суфийском ордене. Нет, Еловин не видит Уриила с мечом, который грозил Генону и загораживал ему вход в джунгли, он пойдёт дальше; и вот уже он исследует верования первобытных племён, среди которых видит царей-жрецов и вождей-шаманов, воедино вместивших в себе религиозную и светскую благодати, благословлённых двойным помазанием Небес. Видит Еловин и простейший, самый ранний из известных, гнозис – поедание как проникновение в самую суть, ведь там всё ещё царят те времена, когда Дух воедино слит с Телом, и второе немыслимо без первого, если ты хватаешь Тело за мясистые выпуклости и отростки, ты берёшь в свои руки и Дух; если ты пережёвываешь или глотаешь целиком кусок мяса, то и содержащийся в нём Дух входит в тебя. Выкладками этими Еловин поделился с многими друзьями, но по-настоящему заинтересовались, прониклись и уверовали лишь двое – безработный парвеню Ногин, самоучка, эрудит и мизантроп и Барханов, журналист, мистик и хулиган. Барханов изначально был восторженным технократом и государственником, но государство гнило и рушилось, шаг за шагом осыпаясь в небытие; видя неизбежный крах системы, Барханов подался в почвенничество, язычество и дыромоляйство, но все почвеннические, языческие и дыромоляйские сообщества крошились, дробились на части, обвинявшие друг друга в отступничестве, и в итоге, как правило, скатывались в сумрачный зоологический национализм, пропитанный истерикой и страстным желанием всех проверить на расовую и этническую идентичность, в первую очередь, конкурентов по общей идее; Барханову претило быть заодно с горсткой фанатиков. А с Африкой, кроме всего прочего, у него были связаны самые тёплые воспоминания, однажды его даже красили под чернокожего, когда он был репортёром в одной из подсоветских стран. В пандан ему Ногин изначально нигде не работал и Африку не любил; сын немаловажного военного, он мог позволить себе богемное тунеядство, песни под гитару, бисексуальные вечеринки, раскрепощающие чувства, и ненависть к режиму просто так, за то, например, что он безбожный (ненавидеть его за то, что он не капиталистический и не либеральный, Ногин не хотел, потому что это было слишком попсово, да и по-старпёрски, что уж там говорить). И вообще это было общее веяние эпохи: на смену ультралевым и свободной любви пришли неоконсерваторы и садомазохистская эстетика, Маркса сменил Ницше, Фрейда – Алистер Кроули и его наследники (практически поголовно лишённые чувства юмора своего учителя), политэкономию – каббала, а дзэн-мотоциклистов потеснили бизнес-суфии. На Африку в трактовке Еловина Ногин подсел благодаря Генону, которого также обожал, не особо, правда, задумываясь о природе Традиции, для него поначалу гораздо важнее была анафема современному миру, чем альтернатива ему (которой, впрочем, у Генона и не было). Старшие тусовочные товарищи указали Ногину на Еловина как на самого глубокого и оригинального толкователя идей Генона, и Ногин в нём не разочаровался. И вот уже через Барханова и Еловина он вышел на их старого знакомого по пьянкам и полублядкам-полухэппеннингам пятидесятых (несмотря на то, что слова такого искусствоведы ещё не придумали, сами хэппенинги уже были, особенно после смерти Сталина, похороны которого некоторые считают первым советским хэппенингом) – Сомлеева. Оба уже давно о нём ничего не слышали, и Еловин даже побаивался, что Сомлеев за эти годы обуржуазился, стал нормальным позднесоветским человеком, а то и вовсе уехал за границу и стал там преподавателем в университете; но Сомлеев оказался дома, работающим по расписанию, как заведённые часы; первое время он уклонялся от общения, но потом выделил им свободное время. В те годы, когда Сомлеев ещё не нашёл своего пути, он Генона не любил, как излишне абстрактного, бесплотного и не запредельного, вот и сейчас на рассуждения Еловина он отреагировал довольно вяло, зато вспомнил молодость, когда самым крутым шиком в их среде считалось рассказывать о выдуманных убийствах, изнасилованиях и просто сексуальных перверсиях, – легко, цинично и со смехом, – и, что называется, дал класс: хихикая, похотливо шепча и буквально выплёвывая ласкательные суффиксы в отвратительно большом количестве (они превратили его речь в кощунственное камлание – даже не сатане, а милому сатанишке), он поведал о своём Великом Делании, о сотворении внутриутробного мира и о тех социальных процессах, которые там нынче происходят, о том, что мир его отошёл от своего создателя, утратил с ним вертикальную духовную связь, раньше раскатами поднимавшуюся от пищевода до носоглотки (ибо в специальные дни, обычно раз в полгода, заботливый Сомлеев обновлял созданный им мир, принимая рвотное или слабительное; в эти дни, считал он, там совершается что-то по-настоящему великое и эпическое, навроде ледниковых периодов или зарождения локальных религий спасения); что там теперь, судя по коликам и периодическим болям, наступило новое время, людишки обманывают друг друга кто во что горазд, молятся своему Создателю в белёных известью протестантских школах вместо готических соборов и православных храмов, и в связи с этим он, Сомлеев, решил отойти от дел на покой, получать пенсию, кушать манную кашку и мирно ждать свёртывания времени в свиток вместе с самим собой. Старые друзья и новый ученик тут же Сомлееву поверили: во-первых, это была чистая правда, всё, что он им рассказал; во-вторых, верить таким рассказам на слово было частью этикета на доисторических хэппенингах; ну и в-третьих, самостийное открытие Сомлеева очень хорошо совпадало с еловинской интерпретацией Изначальной Традиции. Довольно быстро вокруг Сомлеева сложился внутренний культ, его возвели в ранг полубожества и поселили в самой дальней комнате его дома. Потом, когда у секты завелись кой-какие деньги, его сначала поселили в подвале, в котором он в основном спал, а во время бодрствования – сидел в глубокой медитации или расхаживал, раскачиваясь из стороны в сторону, иногда его выводили в библиотеку, где кто-нибудь из дежурных читал ему книги из впопыхах собранной библиотеки (Сомлеев считал, что попадая в его живот через уши, они задают его миру в дни его заката утешительные вибрации, он очень искренне хотел, чтобы смерть его создания была окрашена в розовые тона, пусть и безбожные, зато добрые; сам он старался не слушать, вернее слушать только ухом, но не головой, как он сам выражался). В это же время зломудрый Ногин предложил не только вывести секту вовне, привлечь новых адептов и найти покровителей в правоохранительных и олигархических кругах, которые посодействуют в добыче новых объектов познания (их собственные первые трупы были познаны примерно так, как мне Ногин и рассказывал, с тем отличием, что вкушая варёную и жареную плоть первого, автостопщика, он думал о тех километрах, которые за свою недолгую, но весёлую жизнь успели намотать эти ноги, о том, как они, бывало, заплетались из-за того, что в верхнюю часть тела был влит спирт Royal или втянут марихуановый дым; теперь эти километры входили в ноги самого каннибала, первобытный пьяный кураж так же шатал его из стороны в сторону, а уши его так же подёргивались от дурацких песен ленинградских рок-групп); нет, Ногин предложил ещё и концептуально вывернуть наизнанку те идеи, вокруг которых все они собрались. В профанном мире, потерявшем свои корни, истинные ценности и глубинная метафизика не найдут своего места, говорил Ногин, откажемся для простецов от идеи познания, заменим её дьявольским отражением в зеркале, и вот увидите! – на гедонистическую приманку поедания человеческой плоти просто так, да ещё и приправленную снятием всяческой ответственности, они полетят как мухи. Так и стало. Для богатых жертвователей, на чьи деньги под чьей крышей секта устраивала свои пиршества раз в месяц, они были агностиками-каннибалами, для внутренней же гвардии они были тем, кем и являлись – адептами Изначальной Традиции, учителями Первого Знания, наследниками древних африканских и полинезийских Знающих, возродившими Великое Искусство. Им не испортили карты ни простец Мотин, уведший часть жертвователей, ни простец Колоднов, вредные идеи которого они восприняли как необходимое и неизбежное дьявольское искажение Божественного Промысла. Всё испортил только я. Сперва меня действительно воспринимали как ретранслятора городских легенд, слухов и чернушных баек, в которые просочились сведения об их внешнем круге, но Ногин, по его словам, тут же заподозрил неладное. Он давно втайне и въяве молился Господу о ниспослании чуда, о нисхождении Высшего Принципа с самых Верхних Пределов до его ничтожного уровня. Туда, наверх, он сам неоднократно поднимался, преодолевая земные нормы, ещё в юности, когда то истязал свою плоть сухим постом, то погружался в расщепляющую сознание содомию, но ему, как и многим, этого было мало, он всегда мечтал о лицезрении тыльной части Божественного Сияния или хотя бы о поцелуе ангела. Именно Ногин настроил Макса перед допросом, чтобы они с Даней не усердствовали, не применяли пыток и ограничились бы простыми, не травмирующими побоями. Если мы ошибаемся, я не хочу, чтобы он был изувечен. Пойми, Макс, я чувствую, что не всё так просто. Макс всегда относился к боссу с обожанием и ловил его чувства на полуслове. Он вытащил меня от разбушевавшегося Дани, а утром Ногин танцевал в своей московской квартире, раскачиваясь в молитвенном экстазе. После моего умыкания он долго спорил с Еловиным насчёт природы моего появления. Ногин считал меня воплощением Божественной Воли и по меньшей мере пророком, в чью пьяную голову Господь впервые постучался в тот самый нужный момент, когда рядом очутился Макс. Особенно Ногин упирал на то, что я придумал их, буквально выхватив из воздуха, хотя в пьяном бреду мог придумать кого угодно, хотя бы тех же самых гастарбайтеров-ассасинов! Еловин долго сомневался, скрипел и сварливо сетовал на мою слабую состоятельность в качестве пророка – слишком уж я испорчен западными веяниями, вон даже два моих имени первоначально носили какие-то мерзкие музыканты. В итоге они порешили ждать знака, в случае отсутствия которого Ногин хотел отпустить меня, а уже после ликвидировать наконец надоевшего ересиарха. Колоднов неправильно представлял их мышление; рано или поздно, они бы всё равно его убили (а уезжать ему было лень, и это, судя по всему, действительно было гораздо сильнее, чем страх смерти для покойного шестидесятника), просто им нужен был наиболее раздражительный повод, которым для Ногина и послужило моё умыкание (он слишком трепетно относился к моему появлению, чтобы не возревновать к похитителю смертной ненавистью). Еловин требовал, чтобы приготовили к потреблению и постижению нас обоих. На этом же смиренно настаивал невзлюбивший меня Даня. Но знак пришёл, и впечатлил он всех. Поздно вечером к ним постучалась девушка, сообщившая, что Джим пригласил её сюда. В ответ на самую обаятельную из ногинских улыбок она улыбнулась ещё прекрасней. Джим у нас на третьем этаже живёт, в гостевой комнате, добродушно сообщил Роман Фёдорович. И попросил Макса проводить. Регина, в отличие от меня, сразу же заметила вынутый шприц, ударила Макса и повалила его ловкой подсечкой, но на грохот прибежали молодые, и она в отчаянии прыгнула в окно, выбив его столом, сломала ногу, разбила лицо и потеряла сознание. Разрезали её на части и отрубили ей голову уже в подвале, куда быстро перенесли, усыпив ещё на земле. Ликованию Ногина не было конца. Он то танцевал, то много и весело разговаривал с Максом, Даней и даже панибратски хлопал по спинам юных гвардейцев. В подвальной поварне он бродил между столов, активно мешал повару, боявшемуся тактично выпроводить Учителя, и даже вынул из холодильника отрезанные конечности Регины и как-то любовно облизывал окровавленные места разрубов. Впрочем, все его восторги относились только ко мне. Роман Фёдорович рассчитывал, что даже находясь в шоке от совершённого (он не сомневался, что это самое деяние я совершил в изменённом состоянии сознания, трансе, подпитии, а, может быть, в припадке ярости), я загляжусь в её мёртвые глаза и окончательно приду в себя, вспомню своё истинное предназначение и прочту доверенное мне послание.
37
– Надеюсь, теперь он думает, что Бог послал меня откусить ему кончик носа? – мрачно спросил я.
Это уже был третий или четвёртый мой вечер в обществе Сомлеева. Он мне ужасно надоел, очень хотелось впаять ему по рылу, но он подсознательно всегда ставил стул на такое расстояние, чтобы я его не достал.
– Нет, конечно, – прошелестел Сомлеев. – Он думает теперь о другом. Может, правда, может, нет, я в этих штучках ничего не понимаю. Моё дело маленькое – свой век дожить покойно… И довести мой мир до конца, достойненького конца… Да.
– Тогда идите уже и не мешайте мне дрочить перед сном.
– Ладно, ладно, пойду уже, пойду, – Сомлеев никогда не сопротивлялся и не отвечал на мои грубости, только хихикал и улыбался. – А знаешь, что я сам думаю?
– Что?
– Я-то сразу не поверил, что к чему… Ромка, он любит всю эту завиральщину… И убеждать умеет. В чём хочешь убедит, так ведь? А я всё равно ему нипочём не верю, – он лукаво облизнулся (он вообще очень любил облизываться, при этом его глаза всё время куда-то засматривались… омерзительное зрелище!). – Я на тебя пришёл смотреть, только когда ты ему нос откусил…
– Зачем?
– А потому что я про тебя всё знаю, – и он покивал для пущей убедительности. – Всё-всё. На самом деле, знаешь что? – испуганно обернувшись к двери, он убедился, что никто не подслушивает и заговорщицки мне подмигнул. – На самом деле, тебя съели уже давно. Как Макс тебя в машину засунул – это, значит, горло… К нам дорога – пищевод… Так-то. А здесь мы тебя в желудочном соку мыли-купали, а потом в кишку… Там ты уже и отдал – всё, что в тебе доброго было… Идеи эти твои глупые, мысли твои дурацкие, всё-всё отдал. Засосала их кишка и съела! А тебя уже и нет, одно говно лежачее…
С этими словами он и ушёл.
Про свой разговор с Богом я ему начал было рассказывать, но слов нужных не нашёл. Да и какие слова сошли бы для этого монстра? Он всё время перебивал, хихикал и корчил мне рожи. Потому что приходил смотреть не на пророка, а на говно.
38
Дня через три меня, как обычно, повели в сральник, а потом я начал умываться. Пока я фыркал, отсмаркивался и протирал глаза, в дверь неслышно вошли трое забойщиков. Один схватил мои руки и завернул за спину, второй зажал мне рот рукой в перчатке и заломил голову назад. Третий достал из кармана брезентового плаща серп и перерезал мне горло. Всё куда-то поплыло, пошло пятнами, застрекотало, дёрнулось, и меня не стало.
Забойщики наклонили моё тело над рукомойником, чтобы кровь хлестала в слив, потом подошли ещё двое с брезентовой скатертью, на которую рывком опрокинули моё тело. Двое пошли с моим телом в поварню, а забойщики остались замывать зеркало, рукомойник и пол.
В поварне скатерть водрузили на большой металлический стол, и самый дюжий мясник разрубил моё тело на шесть частей. Ноги и руки перенесли в рефрижератор, затем мясник вспорол моё безголовое тело от груди до паха умелым разрезом и начал по очереди, не спеша, вынимать внутренности. Лёгкие, желудок, кишки и селезёнку он бросил в специальный мешок, печень и сердце отложил отдельно. После этого он аккуратно отрезал пенис и тестикулы, положил их на блюдо с печенью и сердцем, поставил туда же голову и велел поварятам отнести остатки моего лишённого конечностей, головы, половых органов и внутренностей тела в рефрижератор. Блюдо он передал поварам, которые унесли его в смежную с разделочной часть поварни.
Один повар начал обжаривать внутренние и половые органы. Сперва он как следует вымыл сердце, печень и пенис в горячей воде, затем около часа отваривал их в солёной воде. Сердце он после варки нарезал полосами, а печень и пенис порубил на кусочки и положил три части меня на три разные сковороды. К печени повар добавил мелко нарезанные кусочки сладкого перца и помидорные ломтики, к сердцу – ржаные сухарики и молотый чёрный перец, пенис и тестикулы извалял в кляре.
Второй повар выбрил мою голову, надрезал череп на уровне верхней части лба, выпилил круговое отверстие и снял крышку черепа, отдал её обмыть поварёнку. Вычерпав мозги серебряной лопаточкой, он поставил их тушиться в сковороде вместе с овощами и зеленью.
Чрез некоторое время в гостиную внесли четыре блюда: печень и сердце с гречневой кашей, сдобренной специями – для Еловина и Барханова соответственно, пенис и тестикулы с рисом и овощами – для Макса и Дани, мозги тушёные с овощным рагу и картофельным пюре в качестве гарнира – для Ногина. Перед Максом и Даней стояли литровые кружки с чешским пивом, перед Ногиным – бокал сухого вина, перед Бархановым – стакан виски 1939 года, перед Еловиным – стакан русской водки.
Все пятеро едоков старательно пережёвывали и переживали меня.
39
и вот мы колышемся и перетекаем друг в друга, один во второго, и в третьего, и в четвёртого, и в пятого, и в шестого, и в седьмого, и в восьмого, и в девятого, и в десятого, нас очень много, гораздо больше жалких шести миллиардов, потому что некоторые из нас жили очень давно, некоторые только будут жить, а есть и такие, которые ещё живут, но всё равно они уже здесь
вечность похожа не на лодку, как я думал Арсеньеву в кабаке, а на огромный, больше всех когда-либо спускаемых с земных верфей, лайнер – с бесконечным количеством кают, рекреационных палуб, кабаре и теннисных кортов, а также специальных кают для встреч разного
такие места встреч разного нужны для окончательного успокоения, там формы окончательно соединяются, чтобы забрать мучительное, туда заходят мерцающие пассажиры, а выходят оттуда полные и сияющие, пульсирующие всеми цветами радуги
оттуда выплывают бегры и нелые, жучины и менщины, еврабы и авреи, педуралы и натурики, пролеталисты и капиталии, хаскеды и скиначи, христульмане и мусиане, престы и ментупники, хутси и туту
и ещё целиковые корейцы выходят, заходят северные и южные, выходят целиковые
каждый из вошедших приполовинивается, объемлет ту свою часть, в которой он так нуждался снаружи, растворяет её в себе и растворяется в ней
когда я вошёл туда, там была Регина
она втиснулась в меня, у меня отрасли волосы и вышла грудь, а мой пенис вогнулся внутрь и увагинился, а у неё всё наоборот
и так всё и продолжилось
если бы не люди в шапках-ушанках и пидорках, которые ходили по палубам и что-то зачитывали на никаком языке
здесь всё на никаком языке, или на всём языке сразу
потому что слова, конечно, важны, но не так, как мы думали, когда пили внутрь тела алкоголь и воевали со словами
просто раньше слова были нужны, чтобы ими думать и предполагать, а здесь сразу всё понимаешь и познаёшь
познаёшь то, что хотел познать, но не мог и боялся, или познаёшь до конца то, что нельзя познать до конца раньше, вот, например, жену или другую часть нас
те, которые в ушанках, это учителя русских, они познали своих врагов и теперь бормочут слова Толстого и слова Эдуарда, сына Венеамина, в одной фразе
это значит, мы забыли про них сказать, но вот они сами появились и напомнили нам про то, что их надо возвестить и накликать, или предсказать, моя часть нас хочет спать, я путаю слова, а в невремени в этом легко запутаться
вообще, моей части нас хочется лежать и ничего не делать, поэтому всё это вам рассказала Регинина часть нас
пока моя часть лежала в полупустоте, она всё это думает на бумагу, которой здесь нет и никогда не будет
потом она тянет меня из пустоты и сама легла спать и заснёт
мы не знаем, что это здесь, но зато очень любим спать
христульмане и мусиане иногда говорят, что Страшный Суд будет вчера, это их главная шутка, они и на Земле много шутили и шутят и будут шутить
такая шутка, её не здесь не понять, потому что тут времени больше нет и не было никогда
Регинина часть нас сказала, что когда трубач с крыльями придёт будить нас на вчерашний Страшный Суд, она повернулась к моей части нас и скажет: давай притворимся, что не слышим, – и мы повернёмся и будем спать дальше
пока её часть нас спит, скажем, что мою часть в жизни называли Матвей, Регинина часть нас, думая этот рассказ в бумагу, специально зачем-то это спрятала
ну вот мы и доделали до конца, что должны были, дальше вам смотреть не получится, может, когда-нибудь потом, или где-нибудь теперь
а в общем и не важно
апрель 2010, Стол-на-Кабаке –
апрель 2012, Диван-на-Хате


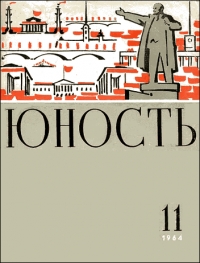
Комментарии к книге «Съедобные люди», Михаил Илларионович Львов
Всего 0 комментариев