Заза Бурчуладзе Надувной ангел
Перевод с грузинского – Гурам Саникидзе Редактор перевода – Дмитрий Вебер
© Bakur Sulakauri Publishing, 2011
© Заза Бурчуладзе, 2014
© Гурам Саникидзе, перевод, 2014
© ООО «Aд Маргинем Пресс», 2014
1
Ночной сеанс
В общение с духами мало кто верит, но их вызывают снова и снова. Нино и Нико Горозии тоже не верили, что им удастся войти в контакт с духом Георгия Гурджиева. Такие духи – все равно что голливудские звезды, связаться с ними совершенно нереально.
Горозии сомневались, что у них что-то получится. И все-таки погасили свет на кухне, выложили на стол большой квадратный лист ватмана с нарисованным на нем кругом, в который фломастером были старательно вписаны буквы грузинского алфавита, а под кругом приписано «да – нет». На перевернутой тарелке тем же фломастером нарисована стрелка. На блюдечке в красный горошек горела короткая толстая свечка, оранжевое пламя которой выхватывало из темноты лишь ватман, тарелку со стрелкой, выложенные на стол руки супругов и их лица.
Настенные часы показывали первый час ночи, но этого не было видно в темноте. В раковине высилась гора немытой посуды. Пламя свечки туда тоже не дотягивалось. В чашке с отломанной ручкой в остатках кофе с молоком плавала дохлая муха. Запах в комнате стоял тяжелый – смесь никотина, геля для мытья посуды и псины. В стоящем у стены кресле спал Фуко – белый бультерьер с розовой мордой, размером почти что с кабана. От соседей доносились звуки телевизора. Где-то смотрели «Профиль»:[1] пригласили, видимо, какого-то остроумного гостя – зал то и дело смеялся и старательно аплодировал.
Нино выглядела гораздо моложе своих лет, хотя никто точно не знал, сколько ей было. Она работала мелкой служащей в мэрии Тбилиси. Слегка сдувшаяся грудь, большие голубые глаза, хорошая осанка, отсутствие целлюлита – миниатюрная женщина в стиле Барби. Никто бы не смог сразу определить, что за ее добродушным лицом и слегка меланхоличным взглядом укрыты твердая воля и железный характер.
Нико тоже не был богатырем. Впрочем, в отличие от Нино, в его пропорциях ощущалось что-то невыносимое и даже неполиткорректное. Со своими пухлыми щеками, округлыми губами и потухшими глазами он походил на депрессивного психопата. Характер у него такой мягкий, что хоть веревки вей.
В ту ночь на Нино были джинсовые шорты и белая, почти прозрачная футболка, а на ногах резиновые тапочки. Она только что вышла из ванной, и её короткие растрепанные волосы еще не высохли. Запах шампуня слегка оживлял тяжелый воздух в комнате. Она была без лифчика: крепкие соски выпирали через футболку. Слегка возбужденная, она хотела, чтобы Нико засунул руку под футболку и потрогал ее за сосок… Но больше ничего.
А Нико смотрел на тарелку со стрелкой и думал о лежавшем в холодильнике эклере, к которому не смел притронуться. Вот уже неделю он не ел после шести часов вечера и страшно мучился. На самом деле избыточный вес особо его не беспокоил – эта диета была скорее навязчивой идеей, чем необходимостью.
Мысль устроить спиритический сеанс появилась у Нины, когда она сидела на работе, убивая время в интернете. Нико ничего против этой затеи не имел. Разве ж пойдешь против собственной жены? Тем более когда она решила войти в контакт с покойниками.
Он всего лишь спросил:
– А почему именно с Гурджиевым? – а в душе добавил: «А не, скажем… скажем…» Хотел назвать другого, более авторитетного покойника, но никого с ходу не вспомнил. Кроме разве что попугая, который был у него в детстве. Однажды утром, сняв ткань с клетки, Нико увидел дохлую птичку. Она валялась на дне клетки и была еще теплая. Когда он взял малюсенький труп попугайчика в руки, его головка упала набок.
– Как это почему, – Нино сделала паузу, – если что, хоть по-грузински с ним сможем поговорить.
Дело в том, что Горозии толком не знали ни одного иностранного языка. В самом крайнем случае Нино могла бы припомнить несколько немецких слов, а Нико – английских, еще меньше. К тому же Нино настолько мало знала о Гурджиеве, что считала его если не грузином, то, по крайней мере, родившимся в Грузии.
Нико, сомневавшийся в существовании языкового барьера с духами, в глубине души согласился с женой. В их отношениях было что-то такое, что существует между матерью и сыном.
Когда-то Нико считался перспективным режиссером. Сняв в двадцать лет студенческий короткометражный фильм, он быстро оказался в центре внимания узкого, но нужного круга. Тогда многие заговорили о его интуиции и остром глазе. Все было вроде впереди у молодого человека: короткие романы с отчаянными домохозяйками, длинный шарф вокруг шеи и бурный образ жизни. Все кончилось, когда он познакомился с Нино. С ней Нико быстро сдулся и размягчился. А видеокамеру как-то непроизвольно сменил на фотоаппарат. За последние три года даже в нескольких совместных выставках участвовал, хотя стало заметно, что его острый глаз уже притупился. Черно-белые портреты и пейзажи другие тоже умели снимать. Причем гораздо лучше. Что Нико и сам видел, но особо по данному поводу не переживал. Поэтому его фотоаппарат теперь чаще лежал на полке рядом с компакт-дисками и книгами. А интуиции сейчас хватало только на то, чтобы не сморозить чего-нибудь такого, что не понравится Нино. В конце концов, он уже давно жил за ее счет. Так что, будучи рядом с женой, Нико иногда говорил не то, что сам хотел сказать, а то, чего от него ждали (как он сам считал).
«Мало ли что», – подумал в ту ночь Нико, выбросил наконец из головы дохлого попугая и сказал:
– Пусть будет Гурджиев, – пожал плечами и почему-то добавил: – Посмотрим.
Учитель танцев
Нино не ожидала, что что-то получится, даже когда повела тарелку со стрелкой по кругу над пламенем свечки и положила на картон. В Исландии как раз начиналось извержение вулкана Эйяфьядлайокудль, когда в Тбилиси Горозии прикоснулись к тарелке и закрыли глаза. Нино больше шептала, чем говорила из сердца: «Гурджиев, иди к нам!.. Гурджиев, иди к нам!..»
Когда тарелка сначала завибрировала, затем резко замерла, а в прихожей что-то затрещало и зашуршало, Нино тотчас замолчала. Выпучив глаза, Горозии уставились друг на друга. Фуко вскочил, навострил уши. В прихожей вновь что-то зашуршало. Фуко спрыгнул с кресла, напряженный, с рычанием двинулся в сторону входной двери. Короткие мускулистые лапы пес слегка разводил в стороны, как большая ящерица. Нино сжала руку Нико. Фуко вышел в прихожую.
Там отчетливо кашлянули. Фуко вдруг перестал рычать. Из темноты доносились звуки неясной возни. Нино еще крепче сжала ладонь Нико. А тот ничего лучше не придумал, чем шепотом позвать в темноте:
– Фуко! – слегка повысил голос, – Фуко!
– Здесь, – ответили из прихожей.
У Нино расширились глаза, волосы на спине встали дыбом. Как у каждой грузинки, у Нино росло немного волос вдоль позвоночника.
– Кто там? – почему-то шепотом спросил Нико.
Из темноты выдвинулся среднего роста и дряблого телосложения старик, чем-то походивший на тюленя. Даже в тусклом свете свечки было ясно, что он подслеповат. У него были большие выпученные глаза и мягкий старческий подбородок. Густые белые усы с торчащими кончиками росли будто прямо из ноздрей. Потрепанный черный пиджак нараспашку, между карманом черного атласного жилета и пуговицей – цепочка от золотых часов. На ногах плосконосые запыленные штиблеты. А на голове смушковая черная папаха – некая смесь суфийского таджа и пионерской пилотки. Фуко пристроился рядом, помахивая хвостом.
– Я Гурджиев, – начал мужчина прямо из прихожей.
В конце он чуть зашепелявил, так что Нино не расслышала – Гурджиев или Доржиев. При виде старика Нико встал:
– Прошу вас, господин…
– Зовите меня Гурджи,[2] – помог старик. Разговаривал он странно, будто бы еле сдерживая улыбку.
– Гурджи? – повторил Нико.
– Впрочем, – старик протянул Нико руку, – имя Раймонд мне тоже нравится. Фуко глухо тявкнул, вроде как кашлянул, потребовав внимания.
– Раймонд? – спросил Нико, машинально пожимая гостю руку.
Фуко встал на задние лапы, передними уперся в старика, чуть не свалив его с ног. Тот потрепал пса по голове, почесал за ухом.
– Пусть будет Гурджи, – сказал он с улыбкой, – только без господина!
Нико не понял, шутит гость или говорит серьезно.
– Салам алейкум! – Старик пожал Нино руку. – Учитель танцев Георгий Гурджиев.
Гурджиев на секунду посмотрел Нино в глаза. А она сразу ощутила между ногами легкое покалывание, по всему телу прошел озноб. Это было подобно гипнозу – одновременно приятно и опасно.
Нино, несмотря на растерянность, отметила, какая теплая и мягкая рука была у гостя.
Перед тем как старик убрал руку, Нино заметила на его среднем пальце кольцо с выгравированными фигурами разных животных. Это была тонкая ювелирная работа. Даже в неверном свете свечи каждая деталь виднелась четко, как на аверсе свежеотчеканенной монеты. На серебряном кругу друг за другом выстроились маленький человечек с птичьей головой, двуглавый орел, стоящий на одной ноге журавль, обыкновенный петух… Лишь одна птичка повторялась три раза подряд. Как многоточие. У птички было крупное тело, маленькая головка и крючковатый клюв.
Гость уловил направление взгляда Нино.
– Это андийский кондор, – сказал он и скупо поклонился Нино, – честь имею.
Нико заметил, что гость улыбнулся в усы, завидев тарелку со стрелкой. Также отметил легкий и приятный акцент, с которым старик говорил по-грузински. Очевидно, Нино была права – надо было вызывать именно Гурджиева.
– Чаю не желаете? – Нино встала со стула.
«Эклер еще есть», – подумал Нико про себя.
– Не успеем, – гость достал из кармана жилета часы, посмотрел на них, – очень извиняюсь. Сейчас должен быть совершенно в другом месте… не знаю, как сюда попал, – и вытянул нижнюю губу. – Видимо, что-то не так пошло.
На кухне воцарилась неловкая тишина. Нико отвел взгляд от старика – сначала посмотрел на Нино, затем на Фуко, на холодильник и снова на Нино.
– Сейчас исчезну, – деловито сказал гость и начал считать: – Пять… четыре… – Горозии уставились на старика. – Три… два… один…
И действительно, эффектно досчитав, Гурджиев всколыхнулся, как некачественное изображение на телеэкране, но не исчез. Лишь в животе у него щелкнуло, из ушей струей вырвалась черная сажа и запахло жженой резиной.
Фуко удивленно и сдавленно тявкнул. Гость посмотрел на часы, потряс ими, приложил к уху, снова посмотрел на них.
– Что случилось? – спросила Нино.
– Не знаю, – гость непроизвольно рыгнул, выпустив остаток сажи изо рта, как дым сигареты. Снова пахнуло жженой резиной.
На кухне воцарилась неловкая пауза. Гость казался растерянным.
– Могу чем-нибудь вам помочь? – Нико придвинул стул. – Садитесь.
– Не знаю, голубчик, не думаю… – Старик машинально присел. – Главное, не поддаваться панике. – Было видно, что он обращается к себе, а не к Горозиям. – Побеседуем, и исчезну, когда исчезнется.
Монахи-акробаты
Присели в гостиной. Нико пристроился на подоконнике у открытого окна, чашка с отломанной ручкой стояла рядом. Издали он разглядывал гостя. В глубине души ему было стыдно, что он совсем ничего не знал об этом человеке. Все-таки Георгий Гурджиев, не ерунда какая. Нино сидела за столом, временами прикрывая рот рукой – зевала. В пальцах держала зажженную сигарету, но не курила, фиолетовый дым вился к потолку. Сначала у нее было столько вопросов, что она не знала, с какого начать. Все они казались равно глупыми и неуместными. А затем вопросы разом испарились. Прошел уже почти час, как пожаловал Гурджиев, а Нино больше так ни разу и не почувствовала в его взгляде того, отчего совсем недавно по ее телу пробежали мурашки. Даже стыдно сделалось, как это она могла подумать такое об этом старом хрене; конечно, показалось. Гость тем временем успел снять пиджак и жилет, штиблеты и папаху – лысая голова блестела при свете лампочки. На ногах обнаружились носки в полоску с протертыми пятками. Как любой крестьянин, кроме кисловатого душка ног он издавал смесь запахов свежей травы, дыма и отчасти – навоза. Теперь он казался еще старше. Было заметно, что он не брился уже несколько дней. От горячего его щеки разрозовелись. Гурджиев закатал рукава протертой грязной рубашки, и открылись руки, сплошь в старческих пигментных пятнах. Он сидел на диване с прямой спиной, как йог. Рядом на блюдце лежал изюм. Захватив несколько ягод одновременно, он закидывал их в рот, запивая чаем из прозрачного стакана. В такие моменты его старческий дряблый подбородок колыхался, как у рептилии. Временами он доставал часы из кармана жилета, смотрел на них. Фуко положил ему голову на колени, и Гурджиев спокойно потирал псу ухо.
– Знавал я братьев Фуко, – сказал Гурджиев, – Янош и Тамаш Фуко. Были монахами-акробатами из Капошвара. Великолепный гуляш готовили. И чардаш танцевали неплохо… – Затем спросил: – Его кто назвал Фуко?
– Нико, – Нино прикрыла рот рукой, зевнула и сделала вывод, что он зациклен на именах, вспомнив историю с Раймондом.
Гурджиев посмотрел в сторону Нико.
– В честь Мишеля Фуко, – сказал Нико, – он так же выглядел: плотная шея и сильная челюсть… – Вдруг он замолчал, застеснявшись своего прилежного ответа.
К тому же имя собаке давал не он – они купили щенка, когда его уже звали Фуко, а про плотную шею и сильную челюсть им сказал кинолог. Горозии перепроверили в интернете и, когда очень постарались, действительно нашли некое сходство между внешним обликом бультерьера и Мишеля Фуко.
– Вот, оказывается, в чем дело, – Гурджиев улыбнулся в усы.
Нико не понял, Гурджиев открыто над ним посмеивался или просто тик у него был такой – улыбаться в усы. Он так разозлился, что чуть было не бросился искать в интернете фотки Мишеля Фуко. К тому же, глядя на ноги Гурджиева, почему-то вспомнил увиденных прошлым летом американских туристов в стамбульском Султанахмете. Как привидения, они молча ступали по устланному коврами полу Голубой мечети за гидом с бесплатной брошюрой о мечети в одной руке и пакетом собственной обуви в другой, на шее фотокамера, а в глубине души немного страха – впавший в религиозный экстаз, стоящий на коленях на седжаде имам во время молитвы то и дело смачно прикладывался лбом к полу. А вокруг призраками ходили спрятанные в чаршафы женщины.
Нино нетерпеливо ждала, когда старик исчезнет – его бесконечный визит уже начинал ее раздражать. К тому же до смерти хотелось спать. Не осмеливаясь спросить прямо, когда, мол, вы исчезнете, она зашла издалека:
– Оттуда ничего не слышно?
Старик достал часы из кармана, посмотрел на них:
– Пока ничего, – вздохнул.
Он все еще потирал ухо Фуко. Пальцы, натренированные в переборе четок. Пребывающее в блаженстве животное валялось рядом с ним, как падаль.
Нино уже уверилась, что Гурджиев никуда не собирается и останется у них. Она только не понимала, старик это сам все устроил или случайно получилось.
– Вы ложитесь, – сказал Гурджиев, – поздно уже. Я здесь подожду, если можно. Мне главное – вас не беспокоить. – И про себя буркнул: – Когда-нибудь же исчезну, елки-палки!
Так жалко и безнадежно сказал, что даже Нино смягчилась, хотя его когда-нибудь совсем ей не понравилось.
– Давайте сделаем так, – Нино встала. – Я вам постелю здесь, – и тут же добавила, шутя: – И… когда вы исчезнете, исчезнете.
– Прекрасно! – подхватил Гурджиев и даже зааплодировал.
Фуко вскочил на диване, глухо залаяв.
Рекламная блокада
Вскоре Горозии легли. Сразу уснуть, конечно, не смогли. Да и как тут уснешь! Шутка ли – в соседней комнате сидит Гурджиев. Было так жарко, что они не могли прикоснуться друг к другу. Где-то без умолку жужжало ночное насекомое.
Нико, лежа в кровати, включил лэптоп. Его легкая вибрация распространилась на всю постель – и на «Ютубе» тихо начал смотреть документальный фильм о Гурджиеве. Чем дольше он смотрел, тем бо́льшим уважением проникался к гостю. А мыслями парил над лежащим в холодильнике охлажденным эклером.
Несмотря на жару, Нино по горло завернулась в простыню. Глаза слипались, лицо освещал экран лэптопа. Временами в фильме появлялись архивные кадры – Гурджиев то садится в машину на какой-то улице Парижа, то стоит в тени дерева в окружении молодых людей, улыбаясь в усы, то мнет в руках папаху… Нино ощутила гордость, что человек, красовавшийся на экране лэптопа, сидит у них в гостиной.
Временами шум проносящихся по проспекту Руставели машин доносился до улицы Атарбекова. Сквозь ветки стоящего перед домом дерева из окна спальни Горозии виднелся небольшой фрагмент Тбилиси – стеклянный купол президентской резиденции, освещенный прожекторами собор Троицы и затемненный Авлабар.
Нино одновременно была возбуждена и раздражена, как перед месячными, и хотела, и стеснялась секса с Нико. По одной и той же причине. Почему-то представляла, что за стеной Гурджиев все свое могучее внимание направил на них и своими рентгеновскими глазами прожигает их комнату насквозь. На самом деле он уже давно сладко спал. Свернулся в клубочек, подобно эмбриону, между ногами скомканная простыня, тихое комариное попискивание при выдохе, из открытого рта стекает слюна. На лысой голове капельки пота. На нем была белая майка и черные семейные трусы до колен. Под майкой виднелся контур корсета. Носки в полоску были запихнуты в штиблеты. Сложенные брюки и папаха лежали на стуле, пиджак и жилет висели рядом, у ног спал Фуко.
В «Википедии» Нино вычитала, что у Георгия Ивановича Гурджиева был гипнотический, таинственный взгляд. А про себя подумала, что старик так косоглаз, что не приходится удивляться – кому-то его взгляд мог показаться и таинственным. Эта деталь запала ей в душу, хотя там еще много чего было написано.
Писали, например, что Гурджиев был философом, гимнастом, знахарем, йогом и магом; что он и Сталин вместе учились в Тбилисской духовной семинарии; что он говорил на многих языках; что в поисках древних эзотерических школ пешком обошел с единомышленниками весь Ближний Восток и Среднюю Азию; что был в Тибете духовником юного далай-ламы Тхубдана Джамцхо; что духовником Тхубдана Джамцхо в самом деле был Агван Доржиев, бурятский монах и агент России, которого часто путают с Гурджиевым; что национал-социалисты по его совету сделали свастику символом своей партии; что лично знал и имел большое влияние на Адольфа Гитлера… Из этого винегрета фактов выходило, что почти все ключевые события первой половины XX века прямо или косвенно были связаны с именем Гурджиева. Гимнаста с гипнотическим взглядом.
Прежде чем закрыть лэптоп, Нико узнал из интернета, что в эти самые минуты небо Европы затягивало пеплом исландского вулкана и авиакомпании отменяли рейсы один за другим.
«Возможно, из-за того, что воздушное сообщение перекрыли, Гурджиев и застрял у нас», – подумал Нико про себя, протянув лэптоп на стул рядом с кроватью.
– Представляешь, сколько выложили бы телекомпании, чтобы только взять интервью у Гурджиева? – шепотом сказал Нико и посмотрел на Нино, а про себя подумал – может, хотя бы сфотографировать его?
Нино уже отрубалась, голос Нико донесся до нее издалека. Засыпая, она увидела Гурджиева почему-то в «Профиле» – вот он сидит на кремовом диване со сведенными, как у девочки, коленями и со слезами на глазах вспоминает свою прошедшую жизнь, а в руках мнет папаху. Ведущая спрашивает: «Скажите, где родился Маг Социалистического Труда Георгий Гурджиев?» «Я из Гурджаани», – Гурджиев невольно срыгивает, выплескивая изо рта немного черной сажи. Зал аплодирует. Снова ведущая спрашивает: «А сейчас где живете?» Гурджиев смущается, снова и снова мнет папаху: «В бывшем Сталинабаде, сегодняшнем Душанбе». Зал смолкает. Напряженная пауза. Ведущая смотрит на него с сочувствием. Гурджиев уточняет: «Душанбе» по-таджикски значит «город духов», или «кишлак», – на этом месте изо рта снова выплескивается сажа, а Гурджиев неожиданно достает из шапки гвоздику и протягивает ведущей: – Это вам». Зал аплодирует. Ведущая спрашивает снова: «А как вы так быстро из Душанбе попадаете на спиритические сеансы?» – и машинально нюхает цветок. Гурджиев отвечает: «Вот так», надевает на голову папаху и сразу исчезает. Зал ахает. Откуда-то из задних рядов доносится: «Пидорас!» Камера приближается к лицу ведущей. Крупный план. Она с улыбкой говорит в камеру: «Не переключайте. После рекламной блокады мы быстро вернемся».
2
Четвертый путь
С той ночи Гурджиев, как вирус, плотно засел в семье Горозия. Впрочем, в первые дни он с нетерпением ждал своего исчезновения, подобно застрявшему из-за непогоды пассажиру, ожидающему объявления его рейса. Он шарил в интернете на лэптопе, который ему дал Нико (в основном старик читал статьи про себя и просматривал свои же фотографии), смотрел телевизор в гостиной либо крутил педали на тренажере и вдруг вскакивал: мол, сейчас исчезну – и начинал судорожно искать папаху. Фуко с лаем носился вокруг. Затем Гурджиев прикрывал глаза, выплескивал изо рта сажу с запахом резины и начинал тихо бормотать: «Три, два, один…», но не исчезал. А там и вскакивать перестал. Только часы доставал из кармана жилета и тайком посматривал на них. Так тайком невротикам свойственно считать себе пульс.
Горозии были уверены, что Гурджиев проделывал все это лишь для вида, а на самом деле никуда не собирался. Ну да, колыхался порой, подобно некачественному изображению телевизора, – но хотел бы исчезнуть, давно бы уже исчез, думала Нино. Тем более что исландский вулкан уже затих, а все эклеры давно были подъедены. Впрочем, за несколько дней так они привыкли к Гурджиеву, что уже сами не хотели его отпускать. Прозвали его ласково Рай – от Раймонда.
Рай оказался хорошим рассказчиком. Его сказочные и фантастические истории Горозии слушали зачарованно. А свои совершенно невероятные байки Гурджиев постоянно подкреплял какими-то датами, сдабривал цитатами из суфийских поэтов, бахши и мудрецов, чрезмерно подслащивал и украшал восточными орнаментами. Сложно было судить, существовали ли когда-нибудь те поэты, бахши и мудрецы, на коих Рай то и дело ссылался. В интернете ни одного из упомянутых Гурджиевым авторов Нико не нашел. Понятно, что Горозии ни единому слову не верили, а оторваться все равно не могли. К тому же память Гурджиева хранила бессчетное количество сказок и басен, он помнил наизусть множество месневи и хадисов. Даже в современной поп-музыке неплохо разбирался, это уже не говоря о входящих в его репертуар трюках и иллюзионистских номерах: шарик изо рта, карта из рукава, исчезновение стакана… неожиданно проведет рукой по щеке у одного из Горозии и из-за уха вытащит монету или чайную ложку. А еще он делал отменный гоголь-моголь, с корицей. Вот анекдоты ему не слишком удавались. Чувства юмора, похоже, не было, а если и было, то очень свое образное.
К примеру, один раз он повалился посреди гостиной, закатил глаза и судорожно затрясся всем телом, а изо рта пошла пена. Нино подумала, что у Гурджиева припадок, и, напуганная, выскочила из комнаты. Обалдевший Нико решил, что Рай умирает. При виде его судорожно скрюченной руки он вдруг твердо решил вложить в нее саблю. Откуда-то вспомнил, что рыцари умирают с оружием в руках. Помчался к кладовке, где должна была храниться сабля его детства. Пластмассовая, правда, но очень похожая на настоящую. В спешке он не нашел ничего путного, кроме отвертки. Не долго думая, прибежал к Раю и вложил инструмент ему в руку. А тот неожиданно разразился истерическим смехом:
– Ха, ха, ха… – Он даже приподнялся с пола, – ты за сантехника меня держишь, дружок?
Что до Фуко, то он уже не отходил от Гурджиева ни на секунду. Сидел с ним, лежал у его ног, спал, положив голову на его колени. Рубашка, брюки и стопы Гурджиева всегда были в шерсти. По квартире он ходил босиком, как молельщик по мечети. То и дело надевал на голову Фуко свою шапку, а тот моментально застывал и в испуге озирался по сторонам. Гурджиев приписывал это магической силе шапки. Говорил, эта папаха излучает сильные эфирные волны, которые вызывают в мозгу определенные мысли и эмоции, которые его собачий ум не в состоянии постичь. Старик резвился с псом как ребенок: то ушки потрет, то поборется… Фуко то лаял на Гурджиева, то ластился к его ноге. В такие моменты старик послушно стоял и ждал, когда собака кончит свои собачьи дела. А Фуко – с высунутым языком, счастливый, трахал ногу Рая.
В один из дней Гурджиев, только что вышедший из ванной с папахой на голове, вдруг завертелся вокруг своей оси посреди гостиной подобно суфию, павшему в экстаз. Полы халата разлетались, как платье. Разлегшийся на полу Фуко заскулил, прикрыв лапами глаза. В какой-то момент Нино показалось, что старик сейчас не удержится и грохнется. Того гляди, что-нибудь разобьет и сам зашибется. А Гурджиев даже не оступился, браво прокрутившись волчком. Ему никак не мешало его упитанное, как у тюленя, тело и корсет, никогда не снимавшийся из-за радикулита.
Вскоре выяснилось, что Гурджиев и лунную походку отлично исполняет – когда чему-то очень рад, и тай чи красиво показывает. Невзирая на корсет, этот пожилой человек каждое утро по-кошачьи гибко извивался и растягивался на балконе, будто бы медитировал в движении. И вообще, он всегда был полон энергии, как старый ковер пылью. Нико жутко завидовал его воздушным и грациозным движениям. Он-то знал наверняка, что никогда не станет таким гибким. Даже если сядет на строгую диету и никогда не притронется к сладкому.
Нино так привыкла к его утренним танцам, что совершенно перестала их замечать. В остальное время Гурджиева было не отличить от обычных пенсионеров-маразматиков: в туалет часто бегал – видимо, из-за простаты, покрасневшие глаза постоянно наполнялись старческой слизью, во время еды у него часто падали изо рта крошки, да и перед телевизором он нередко засыпал с пультом в руке.
Кстати, Нико так и не смог сфотографировать его. Невзирая на все хитрости, на всех фотографиях Гурджиев получался полупрозрачным пятном, похожим на дрожание горячего воздуха. Цифровая камера была исправна, на фотографиях все было отлично видно, и только Рай расплывался. Гурджиев потешался и приговаривал, что это-де происходит потому, что он здесь, а в то же время и не здесь. И каждый раз сваливал все на гравитационные волны. Приводил в пример то какое-то колебание струн, то замкнутую времениподобную кривую; объяснял так – если последуешь по этой кривой очень быстро, из путешествия вернешься прежде, чем отправишься. «В данном случае я все еще путешествую, и то, что для этой Вселенной составляет целый век, по кривой равно одной тысячной секунды. Так что я вижу аппарат, но аппарат меня не видит – он всего лишь фиксирует мое тепловое излучение». К сожалению, Горозии мало что смыслили в каких-то там колебаниях и кривых. Да и сам Гурджиев до конца не понимал – находился он в колеблющихся струнах либо только во времениподобной кривой.
Однажды утром Нино проснулась раньше обычного, через приоткрытую дверь спальни случайно увидела, что сидящий на диване в гостиной Рай снял корсет. Зубами он придерживал край задранной майки, а из его пупка торчали цветные тонкие кабели, которые он внимательно рассматривал, на некоторые ловко наматывал изоляционную ленту и запихивал обратно в живот. Тогда Нино вспомнились две вещи одновременно: маленький микрофончик, встроенный в живот ее первой говорящей куклы, с подключенным к нему красными и зелеными тонкими кабелями аккумулятором и задохнувшаяся отравляющим газом террористка-смертница в шахидском поясе, увиденная по телевизору в кадрах штурма «Норд-Ост». Итак, радикулит был ни при чем. Рай надевал корсет лишь за тем, чтобы из живота не вывалились кабели.
Что же до учений Гурджиева, Горозии мало что из них поняли. Такие темы, как множественность «я», «человек-машина» или «четвертый путь», так и остались для них закрытыми, больше того, у них появилась уверенность, что и сам Гурджиев не вполне понимает, о чем ведет речь. А тот мог трепаться часами обо всем на свете. Да хоть бы и об изюме. Свои слова он неизменно подкреплял цитатами из старых книг: «Всяк, вкушающий кишмиш сухой, пребудет в добром здравии, да не будет хвори и немощи такой, чтоб на лекаря уповать». Как-то раз он много, но поверхностно рассуждал о гармоничном развитии человека, лазерных парусах, горизонте событий, шаманских грибах, кротовой норе, двигателе искривления, космической символике персидских ковров, эффекте бабочки, курильщиках опиума, третьем глазе и так далее, в частности – о четвертом пути. Сказал, что кроме пути факира, пути монаха и пути йога есть и четвертый путь, который принципиально отличается от предыдущих трех. Хотя отличие так и не вспомнил. Он не запомнил даже, чем закончилась третья серия «Хауса», которую смотрел накануне вечером.
Коварный план
Как-то в субботу Горозии сидели на кухне. Нино ставила фломастером точки на узоре лежащей на столе салфетки – маленькие синие пятна сразу впитывались в бумагу. Нико пил кофе из чашки с отломанной ручкой. Нино зажгла сигарету, сделала глубокую затяжку. Гурджиев босиком приплелся на кухню с «Оракулом» под мышкой. Обложку Нико сразу узнал – «Оракул» за прошлый месяц уже давно лежал в туалете на полке вместе с другими журналами и газетами и освежителем воздуха. Гурджиев был одет в кремовые шорты и белую майку. Его одежда и штиблеты с запихнутыми в них носками лежали на полке в кладовке среди ящиков со хламом, старых компакт-дисков и лыж времен детства Нико. На неуклюжей стопке книг примостилась его папаха, которую как-то ночью, с целью проверки ее магических свойств, Нико тайком взял да и нахлобучил себе на голову. Никаких особых мыслей или эмоций он не заметил, только уши заложило и заболели виски.
Гурджиев остановился при входе на кухню, окинул Горозий своим таинственным взглядом и спросил:
– Не мешаю вам?
Фуко запрыгнул на свое кресло и улегся поудобней, положив голову на лапы. Где-то провыла сирена скорой помощи.
– Нет, – Нико так быстро отмахнулся, будто скрывал что-то.
В знак отрицания Нино тоже покачала головой, стряхнула пепел с сигареты в пепельницу. Рай включил электрический чайник, «Оракул» положил рядом с собой. На кухне воцарилась неловкая тишина, и тут зашумел чайник. Рай достал стакан из шкафа, забросил туда одноразовый пакетик чая.
– Такие лица у вас, – сказал он, – будто что-то от меня скрываете…
Рай заглянул в шкаф и обнаружил, что изюм закончился. Чайник быстро закипел. Рай налил кипяток в стакан.
– Могу ли я что-нибудь для вас сделать? – Рай повернулся к Горозиям.
Вода в стакане постепенно становилась коричневой, на поверхности образовывалась белая пенка. Из открытого окна доносились звуки улицы. Рай намотал пакетик чая ниткой на ложку, отжал в стакан. Где-то снова провыла сирена скорой помощи.
– Не знаю… – Нино погасила сигарету в пепельнице, – смотря что ты можешь.
– Вай-вай, Нино ханум, что я могу? – Рай удивился, – погугли и увидишь, что я могу и что – нет.
То, что Гурджиев был излишне самоуверен, Нико давно заметил. Конечно, он был великим человеком. Но все же делалось неловко от постоянного хвастовства. В глубине души Нико даже подумал, что Гурджиев, возможно, понемногу впадает в старческий маразм. Впрочем, он не очень хорошо понимал, что значит впасть в старческий маразм…
– Можешь… – Нино сделала паузу, – можешь помочь нам деньги заработать?
Нико глянул на жену – уже в который раз заметил, что при разговоре с Раем с ней иногда что-то происходило, будто менялось, что совсем не нравилось Нико. Хотя в данном случае полностью разделял настроение жены. А что же у него должно быть против денег? Рай поднес стакан ко рту, подул на чай:
– Почему нет, – улыбнулся в усы, – для вас все могу.
Нико показалось, что Рай опять шутит и сейчас расскажет какую-нибудь историю или басню, как всегда. Но последовал неожиданный вопрос:
– Сколько надо?
– Откуда я знаю… – Нино пожала плечами, – чем больше, тем лучше.
– Прекрасно! – Гурджиев поднял стакан чая подобно бокалу вина, – лучше не сказал бы и Заратустра: чем больше, тем лучше…
Фуко навострил уши, с удивлением уставился на Гурджиева, будто не ожидал такого от Заратустры.
– Давайте, может, вот это заложим в ломбард, – Гурджиев достал из кармана часы на цепочке, – «Зенит» 1910 года, золото. Или вот что продадим, – он поднял правую руку, подразумевая серебряное кольцо с птичками; согнул все пальцы и прямым остался только средний палец с кольцом – получилось, он показал Горозиям фак. – Или…
– Или? – переспросил Нико.
– Или есть у меня еще одна идея, – Рай положил часы на стол, на часы – цепочку, затем с хлюпаньем втянул в себя чай и спросил: – У вас есть богатый сосед?
На кухне вновь воцарилась тишина. Горозии переглянулись… Весь этот разговор, беззаботно затеянный Нино, вовсе не нравился Нико. Но, как это нередко бывало, Нико сказал не то, что хотел, а то, что от него ожидали в данном случае.
– Есть один, – сказал Нико, – Нуго… Нугзар Чикобава. Но здесь не живет. К любовнице иногда приходит.
– Не тот ли, – спросил Рай, – которого на черной машине возят?
– Вообще-то та черная машина – бронированный «Брабус», – Нико так гордо уточнил, будто имел какое-то отношение к бронированной машине Нуго.
– Очень хорошо, – Рай отпил чай, стакан поставил рядом с часами, – любовница где живет?
– Над нами, – сказала Нино, – на пятом.
– Ну вот, – Рай потер руки, – Нугзара надо похитить.
– Похитить? – Нико вновь показалось, что Рай шутит невпопад, хотя на всякий случай он понизил голос.
– Да, – Рай подтвердил, – и выкуп потребовать.
Нино не понимала, насколько этот пожилой человек серьезен. Но невольно даже представила в темной комнате прикованного наручниками к батарее Нуго с заклеенным пластырем ртом. Не испугалась. Всего лишь спросила:
– А… выкуп кто заплатит?
– Об этом рано говорить, Нино ханум, – Гурджиев подкрутил рукой усы, – часто платит сторона похищенного. Но в данном случае, наверное, заплатит сам похищенный. Кому нужен скандал, история, то-се… Главное, все сделать правильно. – В конце подытожил: – Сделаем. И Нугзар не Энвер Ходжа, и его машина не бетонный бункер.
– Что для этого нам нужно?
Гурджиев понял, что Ходжа и бункер не произвели никакого эффекта.
– Случай, удача и вероятность, – сказал Рай и, поскольку Нино продолжала тупо пялиться на него, тут же добавил: – Нино ханум, помнишь, наверное, на вопрос оператора «Что вам нужно, кроме чуда?», Нео отвечает: «Оружие. Много оружия». В данном случае еще больше оружия нам понадобится чудо, совсем немного чуда.
Вдруг Нико спросил:
– То есть либо мы продаем кольцо, либо закладываем часы в ломбард… либо похищаем Нуго?
Нино и Рай повернулись к Нико. Даже Фуко уставился на него.
Тогда Нико впервые испугался Гурджиева – таким его он еще не видел. Всего лишь на мгновение по его лицу пробежала тень, и глаза заблестели иначе. Вдруг Нико осенило: ведь он совсем не знает Рая. Неожиданно за старым маразматиком и добрым сказочником проступили контуры совершенно чужого человека, Икс-Рая. Порой люди с легкостью позволяют заглянуть в собственные глаза, а оттуда – в душу. Нико понял, что Гурджиев намеренно показался ему во всей красе, чтобы Нико увидел. Впрочем, может и почудилось… Тем более когда он в следующую минуту присмотрелся к Гурджиеву, его косящие глаза по-прежнему были наполнены старческой слизью, щеки обильно серебрила щетина (уже давно надо было брить), и вообще, он был босиком. Рай, в свою очередь, медленно осмотрел Нико с головы до ног, будто сканируя, и вдруг расхохотался:
– Ха – ха – ха… – старческий подбородок заиграл. – Почему, дружок, почему либо – либо? Есть и четвертый путь: сделаем всё вместе!
Турецкий блокбастер
Четвертый вариант на самом деле даже не рассматривался. Как-то само по себе и единогласно было принято решение о похищении Нугзара.
Гурджиев и Горозии сидели за столом в гостиной, Нико ближе к окну. Фуко спал на диване.
Нико то и дело поглядывал на вход в подъезд, который был перед ним как на ладони. Перед Раем на столе лежал «Оракул», на полях которого тот ручкой вырисовывал маленькие фигурки, похожие на египетские. Частью машинально, частью – чтобы произвести впечатление на Нино. Больше других Нино нравились жук-скарабей и сидящая кошка с поднятыми ушками, которая напоминала ей копилку из детства. Нино подглядывала украдкой, не переставая играть в тетрис в лэптопе. Нико так глубоко вошел в роль похитителя, что на живопись Рая даже внимания не обращал – Нугзар мог объявиться в любую минуту.
– Постой, разве на пятом не та тетка живет, – Рай спросил, не поднимая головы, и пририсовал ко лбу кошки направленный на нее пистолет, – у которой грудь, как дыни, и большие губы, мясистые?
– Та самая, – подтвердил Нико, – Манана Кипиани.
– Приятная женщина, Манана, пальчики оближешь, – Гурджиев понял, что увлекся, и повернулся к хозяйке дома: – Разумеется, после тебя, Нино ханум!
– Разумеется, – Нино рассмеялась и подумала: все мужчины одинаковые. Хотела еще что-то добавить, но в это время на улице зашумела машина.
Нико глянул вниз, резко обернулся и молча, только губами, приподняв брови, сказал: «При-е-ха-ли!»
Фуко навострил уши. Нино сразу всполошилась и засуетилась. Гурджиев приложил к губам указательный палец. Затем тихо встал, горделиво вышел из гостиной. Фуко соскочил с дивана, последовал за ним. Гурджиев глазом прилип к дверному глазку, глядя на лестничную площадку.
* * *
Когда на верхнем этаже глухо захлопнулась дверь, Гурджиев вернулся в гостиную. Горозии встречали его стоя, как солдаты командира. Чем-то они напоминали тех кошек со стоячими ушами, которых Рай рисовал на полях «Оракула». Горозии терпеливо ждали инструкций Рая. Они до конца не понимали, какая роль достанется им во всей этой истории. Об этом Гурджиев не распространялся.
Донесся шум отъезжающей машины. Нико посмотрел на улицу.
– Гай Гракх Браб покидает занятые позиции? – спросил Рай и сел на диван.
Его школьная шуточка выстрелила вхолостую, Нико кратко кивнул головой.
– Значит, до утра ничего интересного не произойдет, – сделал вывод Гурджиев и тут же спросил: – Этот Нугзар кем-то приходится Арнольду Чикобаве?[3]
– Не знаю, – Нико сел на стул, посмотрел на жену, вернул вопрос Раю: – Кто такой Арнольд Чикобава?
Фуко подскочил на диване, затем положил голову на колени Гурджиеву.
– Был один такой… – Рай потрепал ушко Фуко, – да так, просто вспомнил.
Бестолковые беседы Гурджиева и его расслабленность заставили Нино занервничать – вдруг у него нет никакого плана и он просто действует по ситуации? Хотя, возможно, это тоже было частью плана. Гурджиев ведь обожал морочить людям голову.
Первым не стерпел Нико, спросил прямо:
– Сейчас что делаем?
Гурджиев посмотрел Нико в глаза и спокойно ответил:
– Ждем-с, дружок, ждем-с…
Этого расплывчатого ответа оказалось достаточно, чтобы Нино тут же расслабилась – перед ней сидел все тот же авантюрист и способный на все человек. Такой не мог действовать без плана, не просчитав заранее каждый нюанс. Он ведь мог притвориться кем угодно: и святым и убийцей, и мудрецом и заложником обстоятельств… впрочем, Нино не понимала, для чего нужна эта конспирация.
– Может, посмотрим что-нибудь? – нарушила Нино затянувшуюся неловкую паузу.
– Можно, – Гурджиев посмотрел на Нико, будто последнее слово оставалось за ним, – до утра все равно еще полно времени.
Нико вовсе не был настроен смотреть что-либо, внутренне напрягся в ожидании утра, все же сказал:
– Можем что-нибудь в интернете посмотреть.
– Что скажете насчет клевого турецкого фильма? – предложил Гурджиев.
– Турецкого? – кроме кофе, Нино ничего клевого турецкого не смогла вспомнить.
– Иви бир фильм, – Рай похвалил подобно сладкой пахлаве, – чок иви бир фильм!
Нико только пожал плечами и вывернул нижнюю губу – мол, мне все равно. Единственное, от слов Рая ему захотелось есть.
– А ну-ка, посмотри, Нино ханум, – Гурджиев сказал, – есть где-нибудь «Дорога»?[4]
Нино набрала текст на клавиатуре лэптопа, вгляделась в экран.
– Сколько, оказывается, этих «Дорог», – удивилась Нино, глазами пробежала список выстроенных на экране фильмов с одним и тем же названием, развернула лэптоп к Гурджиеву: – Мы эту «Дорогу» ищем?
На раскрытом постере фильма небритый усатый мужчина в кепке нес на спине женщину, у которой на голове был платок, а на плечах – накидка с бахромой. Черная кепка мужчины тоже была обвязана сверху платком в цветочек. У обоих головы были посыпаны снегом, а лица были озабочены. Видно было, что они переживают из-за одного и того же, но по совершенно разным причинам. Мужчина смотрел вперед, куда-то в пространство, женщина – вниз и слегка вбок – в вечность.
Гурджиев прищурился, на секунду прекратил теребить ухо Фуко, вгляделся в постер издалека.
– Ай сагол, Нино ханум! – сказал он. – Сенде сагол!
Между тем «Дорога» оказалась не таким крутым фильмом, как рекламировал Гурджиев. По крайней мере, Горозии не усмотрели никакой крутизны в истории нескольких несчастных узников, которых на неделю освобождают из турецкой тюрьмы: возвратившийся домой Сейт-Али узнает, что жена загуляла. А ее родственники заперли ее, как собаку, в подвале, чтобы Али убил ее и смыл позор с семьи… На другого узника, Мехмеда Салиха, который отбывает наказание за грабеж, семья жены валит вину за смерть шурина, которого полиция убила при ограблении. Мехмед безуспешно пытается оправдываться. В конце убегает вместе с женой Эмине на поезде, но их настигает родственник Эмине и убивает обоих… Еще один узник – Омар, возвращаясь в родную деревню, решает прокрасться через границу, но накануне пограничники убивают его брата контрабандиста, и т. д. и т. п. Мало того, что полно убийств и насилия, так еще и все герои фильма какие-то выцветшие, несчастные и безнадежные, и все подернуто желтоватым налетом.
В отличие от Горозий, турецкий блокбастер так увлек Гурджиева, что тот до самого конца он не мог оторвать взгляда от экрана, только тихо охал и сжимал кулаки. В конце даже прослезился. Горозии сочли, что Рай переживает за героев фильма, хотя у того просто глаза устали вглядываться в экран лэптопа.
Утреннее преображение
Утром, лежа в кровати, Нино заметила, что только что проснувшийся Нико одним глазом не то удивленно, не то отчужденно смотрит на нее, будто сам еще не понимает – проснулся он или нет.
– Давай быстрее! – прошептала Нино.
Нико потер глаза кулаками, как в детстве, когда его поднимали в школу, и спросил сонным голосом:
– Сколько времени?
– Восьмой час.
Ответ тоже как будто из детства… Из открытого окна доносился шум машин с проспекта Руставели. Перед домом щебетали спрятавшиеся в деревьях птички. Город просыпался. Было еще прохладно. Эх, сейчас бы еще поспать… Вдруг Нико вспомнил про вчерашнюю историю. Вспомнил, что этим утром они похищают человека, и сразу же очнулся.
Когда он вышли в гостиную, Гурджиев уже был на ногах, кровать убрана. Видимо, утренний тай чи только что завершился – на слегка раскрасневшейся лысой голове блестели крошечные бисеринки пота. Он стоял боком к окну, смотрел на улицу. Он был одет в кремовые шорты, белую майку и был босиком, его поза выражала спокойствие и надменность. Или Нико это только показалось? Видно, что Рай полностью собрался, как опытный полководец перед боем. Рядом стоял Фуко, как верный оруженосец. Оруженосец выглядел слегка растерянным – не понимал, что происходит.
– «Брабус» на месте, – сказал Гурджиев через плечо, повернулся и потопал к прихожей.
Остальное Нико завершил про себя: «Значит, сейчас Нугзар спустится по лестнице!»
Горозии молча последовали за Гурджиевым. Тот слегка приоткрыл дверь, одним глазом глянул на лестничную площадку и, не поворачиваясь к Горозиям, поднял в воздух указательный палец и прошипел: «Тс-с!»
Фуко удивленно поднял одно ухо – смотрел то на Рая, то на Горозий.
Вдруг все разом посмотрели на потолок – услышали, как на верхнем этаже закрылась дверь, а затем раздались шаги на лестнице.
Гурджиев глубоко вдохнул, подождал несколько секунд и резко открыл дверь. Спускаясь по лестнице, Нугзар Чикобава резко остановился, посмотрел Гурджиеву в глаза. Тот только этого и хотел – встретил взгляд Нугзара и зачавкал губами, подобно грызуну. Нугзар, управляемый взглядом Гурджиева, вдруг потерял вес, как космонавт; взлетел с лестницы на несколько сантиметров и начал в полете снижаться к Гурджиеву. Удивление и страх у него быстро переросли в отупение почти магического характера. Тем временем лестничную площадку заволокло густым, тяжелым, серебристо-серым туманом. Легкий ветерок откуда-то донес запах жареной картошки.
– Иди ко мне, хабиби… – Гурджиев бормотал, раскрыв руки, будто собирался заключать хабиби в объятия, – иди к папочке… иди… иди…
И Нугзар с расширенными глазами молча летел к Гурджиеву. Видно было, что вовсе не хочет обняться с папочкой, но управляющая им сила превосходит его волю.
Нино молилась, чтобы не высунулся кто-нибудь из соседей. А Нико захотелось спрятаться в кладовке.
Гурджиев вышел на лестничную площадку – встретил Нугзара с распростертыми объятиями. А тот смиренно припал головой к сердцу Гурджиева. Без сил, как подрубленный. Не подхвати его Гурджиев, точно грохнулся бы на пол. Не разжимая объятий, Рай затащил Нугзара в квартиру, усадил на пол, прислонил спиной к стене и закрыл дверь.
Все произошло так быстро, Горозии и оглянуться не успели. Стояли на месте как вкопанные. Все действо они наблюдали, как кино. Туман только сделал картинку еще более киношной. А запах жареной картошки возбужденный мозг Нико превратил в приятный аромат соленого попкорна.
Сидевший на полу Чикобава поднял глаза на Горозий и схватился за сердце. Открывал рот беспомощно, как выброшенная на берег рыба. Гурджиев дал ему затрещину. Чикобава сжался, в уголках рта выступила пена.
– А ну-ка! – Гурджиев еще сильнее заехал ему по лицу. – Без фокусов!
В ответ Нугзар издал долгий хрип, постепенно смягчился, обессилел и обмяк… губы сразу почернели, глаза налились кровью, голова упала набок. Лицо быстро распухло и приняло баклажанный оттенок. Гурджиев склонился, эффектно повторил расхожий киножест – зажал сонную артерию Нугзара указательным и средним пальцами. Какое-то время постоял в таком положении, затем произнес: «Мда-а», а про себя с сожалением подумал: «Я часть той великой силы, что вечно хочет добра и вечно совершает какую-нибудь хуйню». Даже в таких ситуациях Гурджиев оставался поэтом.
Увиденное насколько потрясло Нико, что он как только на месте не заскакал. Нино выглядела спокойнее. Спокойствие ее было напускным – ее мозг клокотал, разум безрезультатно искал выход из создавшейся ситуации. Все молчали. Даже Фуко все это время лишь махал хвостом. Нико первым не выдержал, тихо спросил:
– Умер?
Гурджиев подбоченился. Видно было, что он не ожидал такого развития событий. Задумал одно, а получилось совсем другое. По крайней мере, такой вывод сделал глядевший на него Нико. Во всемогуществе Гурджиева в ту секунду даже Нино стала сомневаться.
– Возможно, так лучше… – Гурджиев глянул на окаменевшего Чикобаву и сказал: – Паниковать не надо. Я контролирую ситуацию.
Нино передернуло. Вдруг она увидела, как почерневший и скособоченный Нугзар приходит в себя, его глаза приоткрылись.
Фуко заскулил, лизнул Нугзара в лицо.
– Фуко, фу! – скомандовал шепотом Нико. – Ко мне!
Собака не послушалась, но лизать лицо Чикобавы перестала.
Гурджиев вдруг сел на корточки, заглянул в Нугзару в кроваво-красные глаза:
– Ты жив?
Тот ничего не ответил.
– Слышишь меня? – снова спросил Гурджиев.
Тот заморгал глазами.
– Можешь говорить? – допытывался Гурджиев.
Вскоре изо рта Чикобавы глухо раздалось:
– Могу.
У Гурджиева заблестели глаза. Взгляд у него сейчас был такой чистый и наивный, что, казалось, кинь ему сейчас мячик, он начал бы чеканить его носом, подобно цирковому тюленю. Было видно, что сейчас он скорее импровизировал, чем действовал по какому-то плану, совсем как его любимый Хаус.
Вдруг в брюках Чикобавы запищал мобильный. Нино чуть не завопила. Гурджиев не растерялся, быстро достал из кармана Нугзара аппарат и поднес экран к его глазам, спросив:
– Кто?
– Мой водитель, – захрипел Нугзар.
– Посмотри мне в глаза! – Гурджиев четко и с выражением произносил каждое слово. – Ты сейчас спокойно скажешь водителю, что скоро спустишься. Понял?
– Понял.
Гурджиев нажал на кнопку, приложил мобильный к щеке Нугзара.
– Скоро спущусь, – сказал Нугзар.
Гурджиев отключил аппарат, велел Чикобаве:
– Встань и иди!
Тут он чуть хватанул, Чикобава даже не пошевелился.
Гурджиев, быстро оценив мифологичность всей этой сцены, спросил помягче:
– Можешь ходить?
Тот в ответ вывернул нижнюю губу. Рай помог ему встать.
С такого близкого расстояния Нино впервые смотрела на Нугзара Чикобаву. Ростом он был чуть ниже Гурджиева. В прихожей Горозий он стоял, как маленький памятник. Ухоженным телом, узкой талией и плечами шире талии походил на статуэтку «Оскара». Симпатичный, изящный мужчина. Только его распухшее лицо баклажанного цвета все портило.
– Ты сейчас уйдешь… – говорил Гурджиев, смотря Нугзару в лицо и кладя мобильный в карман его брюк; говорил очень медленно, не только между словами делал паузы, а сами слова как-то растягивал: программировал или гипнотизировал Чикобаву, – и никому не расскажешь о том, что случилось здесь. Сегодня вечером придешь один и принесешь один миллион евро. Понял?
– Понял, – прохрипел Нугзар, еле ворочая языком. Гурджиев открыл дверь, выглянул на лестничную площадку, затем отошел в сторону – дал Нугзару пройти:
– Иди.
Нугзар Чикобава тяжелым шагом вышел на лестничную площадку, медленно побрел вниз по лестнице… Гурджиев закрыл дверь, быстро повернулся и направил указательный палец на Горозий, как пистолетное дуло:
– Вот вам и миллион!
3
Шоколадные усы
Все произошло настолько по-идиотски, что Горозии сразу поверили, что Нугзар Чикобава принесет миллион. О том, что тот же Чикобава мог создать им проблемы, причем серьезные, они как-то не подумали.
Нино тотчас же твердо решила, что с работы уйдет. Что ни говори, женщине ее типа нечего делать в мэрии Тбилиси. Тем более в отделе спорта. Карабкаться по горам карьерного роста она так и не научилась. Нет, просто нечего ей там делать, тем более что у нее такие большие голубые глаза и меланхоличный взгляд. А Нико думал, почему не попросили больше. После того как операция прошла как по маслу, миллиона ему показалось маловато. Радовали лишь, что в условиях нынешнего мирового кризиса этот миллион по своей покупательской способности приравнивался почти к двум. Одному только Гурджиеву было наплевать, что принесет Чикобава – деньги или проблемы.
Нико пошел на кухню, включил электрический чайник, открыл «Нутеллу» и принялся делать бутерброд. Нино села на стул и закурила. На улицу она не выглядывала, чтобы не увидеть случайно баклажанного цвета лицо Чикобавы. На кухне и так держался тяжелый запах собачьего корма и помойки. Из окна меж тем как на ладони видно было, как Чикобава с трудом вышел из подъезда, открыл дверь «Брабуса» и тяжело опустился на заднее сиденье. Не чувствуя вони, Нико старательно и бережно намазывал «Нутеллу» на кусок хлеба, как художник наносит мастихином краску на холст.
На кухню заглянул Гурджиев. Поверх майки он надел кремовую рубашку с короткими рукавами, на ноги – старые кроссовки Нико со стоптанными задниками. Он держал Фуко за ошейник. Собака стояла рядом и нехотя помахивала хвостом.
– Пойду с Фуко погуляю… – сказал Гурджиев и тут же добавил: – Заодно и мусор вынесу. – Видимо, вонь таки ударила ему в нос.
В чайнике зашумела вода. Гурджиев нажал на педаль помойки, вытащил из ведра полный мешок мусора. Нино стряхнула пепел с сигареты в пепельницу и про себя отметила, насколько безволосы желтовато-белые ноги Гурджиева, будто он только что их побрил.
– Скоро вернешься? – спросил Нико, не поднимая головы.
– К Мамадавити[5] сходим… – Гурджиев завязал пакет, – потом не знаю, может, еще выше поднимемся.
– Тогда возьми ключ, – сказал Нико, – может, мы тоже выйдем.
Нино слегка вздрогнула и удивленно посмотрела на мужа. Он все так же вдохновенно, как художник, мазал кусок хлеба шоколадной пастой. В словах Нико ничего удивительного не было. Но в тембре его голоса Нино уловила какую-то странную беззаботность.
– Надеюсь, что не задержитесь допоздна… – при выходе с кухни Гурджиев засюсюкал, как ребенок, – и не оставите меня вечером одного наедине с миллионом.
Чайник с щелчком отключился.
– Больше надо было просить, – Нико только сей час поднял голову.
Раньше он постеснялся бы сказать Гурджиеву так прямо. Не потому, что считал его умелым воином, в руках которого все что угодно может превратиться в грозное оружие, даже пакет с мусором. Прежде всего он постеснялся бы собственного мнения о Гурджиеве, сложившегося после чтения статей в интернете. Впрочем, сей час речь шла о такой сумме, что на многое просто не обращаешь внимания. Хотя бы временно.
Между прочим, после чтения тех же самых интернет-статей и у самого Гурджиева полностью поменялось мнение о себе. Ведь раньше он даже в глубине души не надеялся, что его будут помнить после смерти (несмотря на то что он всегда завоевывал себе имя, не жалея сил, а потом старательно окутывал его завесой тайны). А помнят же! Пусть биография и искажена до неузнаваемости. В тех статьях Гурджиев оказался настолько не похож на самого себя, насколько не похож на человека его же фоторобот. Но не это было главное. Главное, что существовало два Гурджиева. Первый, с пакетом мусора в руке, и второй – лишенная формы, цифровая функция, существующая лишь в Силиконовой долине.
Уже уходивший Гурджиев резко обернулся к Нико и за все время их знакомства впервые сказал совершенно серьезно:
– Ты прав.
В ответ Нико так впился в бутерброд, что в уголках рта появились шоколадные усы.
* * *
Нино повернула ключ «Пежо», завела машину. Нико нажал на кнопку, до конца опустил окно.
Никто из них не заметил, как автоматически включилось радио и в салоне тихо зазвучала спокойная электронная музыка – ритмичное потрескивание, периодический писк и монотонный стук в сопровождении перманентного сверла а-ля бормашина.
– Куда едем? – спросила Нино.
– Все равно, – сказал Нико, – погуляем где-нибудь.
В другой раз Нино обязательно спросила бы – где именно, но сейчас ничего не сказала, представляя себя рядом с Нико маленькой девочкой, что очень возбуждало и забавляло. Видимо, такова была утренняя реакция на стресс.
В тот день Нико говорил меньше обычного, а думал больше. Это легко понять. Миллион заставил бы задуматься и мышь.
Выезжая со двора, Нико посмотрел вверх, на окна Мананы, освещенные солнцем. Занавешенное окно спальни было приоткрыто. На мгновение то ли чье-то лицо мелькнуло в окне, то ли на стекле заиграли лучи солнца – Нико не разобрал. Стоял обычный воскресный день. Старушка Зина сидела в кресле на балконе второго этажа. Перед ней, как всегда, проветривались на веревке вынутые из нафталина шерстяные вещи. Стоящая лицом к гаражу маленькая девочка закрыла глаза руками и высоким голосом с выражением считала: «Десять… девять… восемь…» Дети разбегались в разные стороны – кто куда успеет спрятаться. «Семь… шесть… пять…»
При виде девочки Нино вспомнила свое детство. Как папа вез ее на Черепашье озеро по канатной дороге. Тогда она впервые попробовала нанизанную на длинную палку сахарную вату, от которой слипались губы и слегка кололо горло, будто по сладкому пушистому облаку кто-то рассыпал маленькие осколки стекла. На вид сахарная вата оказалось лучше, чем на вкус.
– Может, поедем на Черепашье озеро? – спросила Нино.
– Поехали, – Нико, недолго думая, подхватил идею.
Сам он, глядя на стоящую спиной девочку, вспоминал Гурджиева в ночь вызова духов. «Сейчас исчезну», – сказал тот, стоя на кухне с часами в руке, и начал отсчет.
Нино сделала радио чуть погромче – потрескивания, писка и стука стало больше. Выехали на улицу Арсена. Из припаркованного на углу «Форда Транзит» сгорбившийся безбородый курд Абдулла тащил в магазин большой ящик «Тампакса».
Время принесло свои изменения на этот участок Мтацминды – кто-то неудачно вышел замуж, кто-то удачно развелся, одного убили, другого посадили в тюрьму, третья накачала ботоксом губы, засохшую осину срубили и на ее место поставили мусорный контейнер на колесах, улицу Атарбекова давно переименовали в улицу братьев Зубалашвили (хотя все до сих пор так и называют ее Атарбекова), и советский гастроном превратился в современный маркет… Только безбородый Абдулла остался таким же, каким Нико помнил его с детства, – старый, тощий, пшенично-желтый, морщинистый, с почти женским лицом и с вечно торчащей изо рта папиросой, всю жизнь таскающий что-то на себе. Чего только не видал Нико на его спине: и мешок с сахаром, и бидон с топленым маслом, а сегодня он впервые видел безбородого Абдулу с ящиком женских гигиенических тампонов.
Ватные ноги
Не успели подъехать к озеру, Нино уже захотелось вернуться назад. Как в любое время дня и года, вокруг было полно людей и машин. А ведь есть только две причины ехать на Черепашье озеро: первая – когда тебе больше некуда ехать, и вторая – оттуда всегда можно посмотреть на раскинувшийся перед тобой Тбилиси и снова убедиться в том, что это не город твоей мечты.
Стоило Нино повернуть руль, чтобы ехать обратно, как перед их машиной на стоянке, словно нарочно, освободилось место – «Опель» болотного цвета выехал задом, развернулся и медленно покатил в сторону Тбилиси. Нино на секунду замешкалась. Это была редкая удача, но она вовсе не хотела ей пользоваться. Но тут стали требовательно сигналить сзади, из серебристого «Мерседеса», а сторож стоянки в оранжевом жилете помахал ей полосатой палкой – пригласил жестом на свободное место… Нино припарковалась.
Не выходя из машины, они смотрели вниз на Тбилиси, откуда доносился отдаленный гул. У Нико появилось ощущение, будто перед ним другой Тбилиси. Но он не смог бы объяснить, чем отличается этот другой Тбилиси от обыкновенного. Просто впервые показалось, что это, возможно, не такой уж безнадежный город и в нем многое возможно. Жить, например. Вдруг захотелось сделать фотографию.
– Где бы ты хотела жить в Тбилиси? – спросил Нико.
Нино приподнялась и окинула взглядом Тбилиси. Быстро мысленно пробежалась по каждому району города. Наконец указала пальцем:
– Видишь тот большой белый дом?
Нико безрезультатно последовал взглядом за направлением пальца:
– Там много белых домов.
– Тот высокий… что стоит при входе в Мзиури.
Нико пригляделся к зданию.
– Ты правда хотела бы там жить?
– Да, – сказала Нино, – а ты разве нет?
– Не знаю. – После короткой паузы Нико добавил: – Поехали отсюда.
Нино все еще представляла себя маленькой девочкой рядом с Нико. Поэтому молча и покорно выехала со стоянки и повела машину в сторону Тбилиси.
У парка Ваке Нико в первом же киоске купил газету «Слово и дело»[6] и синий «Винстон». Когда вернулся в машину, сигареты отдал Нино, а сам раскрыл газету. Кто-то другой на его месте потратил бы легкие деньги быстро и бессмысленно: в кратчайшие сроки нахапал бы всего, о чем пишут в глянцевых журналах, молниеносно взлетел бы и еще более стремительно упал. А вот мозг Нико заработал совсем в другом направлении. В более тихом, инвесторском направлении. Деньги не ослепили, а будто раскрыли ему третий глаз – более трезвый и разумный. В своем воображении он уже начал обустраивать вокруг себя спокойный комфорт. Это был чисто рациональный импульс, а не духовный подъем. И так он никогда не мечтал нюхать бесконечные кокаиновые дорожки, пить шампанское из горла и сидеть в джакузи с голыми фотомоделями.
Нино закурила, сделала глубокую затяжку… Она испытывала нечто новое по отношению к собственному мужу. Ее тело реагировало на него как на мужчину, причем чужого мужчину. Близость с которым действовала на Нино как афродизиак. Это легко понять, их постельные отношения уже давно переросли в стандартную грузинскую, то есть почти в асексуальную, дружбу. Потом, Нико настолько чужда была любая инициатива, что его внезапная активность невольно возбуждала и околдовывала Нино. Все равно что кролик загипнотизировал бы удава. Только кролик не должен об этом знать.
Она медленно вела машину по почти пустому проспекту Чавчавадзе в сторону площади Свободы. Даже не замечала, что реклама на радио уже закончилась и из динамиков доносился какой-то агрессивный рэп. В поведении Нико ничего возбуждающего само по себе не было, но мурашки все же ползали по шее, спине и между ногами. Ноги стали как будто ватными.
Реакции на стресс разнообразны: у одних начинается речевая активность, у других – суетливый мыслительный процесс, у третьих элементарно расстраивается желудок или снижается аппетит. В случае с Горозиями ничего фантастического не происходило – всего лишь химия: один невольно проявлял инициативу, а для другого именно инициатива первого была чарующей. К тому же Нико хранил многозначительное молчание, чем одновременно походил и на голливудского киномафиози, и на мелкого бандита, подражающего голливудскому киномафиози.
Когда проезжали первый корпус университета, Нико набрал на мобильном номер телефона из газеты:
– Это Нани?
И заговорил паузами:
– Звоню по объявлению. Да. Это тот дом, что стоит при входе в Мзиури? Да. Точнее, нет. Понятно. Когда можно посмотреть квартиру? Вместе с женой. Да. Через час на углу Чавчавадзе и Аракишвили. До встречи.
Радужные глаза
В лесу Мтацминда[7] Гурджиев поскользнулся на шишке. Не удержал равновесия, несколько раз перекатился кубарем, будто цирковой медведь, и… случайно так сильно ударился о замшелый камень головой, что сразу же потемнело в глазах и заложило уши. От боли чуть он не потерял сознание. Гурджиев даже не почувствовал, как мелкие осколки стекла порезали правое колено. Оглушенный, он присел на покрытую влажными листьями и хвоей землю. Рядом валялась яичная скорлупа и разбитая бутылка «Киндзмараули» – потертая этикетка еще сохранилась.
Гурджиев не заметил гриб, выглядывавший из травы под елкой прямо перед его носом. Если бы увидел, непременно признал бы в этом грибе молодого Грибоедова с круглыми очками на носу, с радугой в глазах и с красной шляпкой на голове, покрытой белыми хлопьями. Говорят, в лесу Мтацминда до сих пор бродит дух Александра Грибоедова и часто селится в грибах. Это легко понять. Убитый в Тегеране в 1829 году дипломат похоронен там же, в пантеоне Мтацминда. Этот метемпсихоз тоже дело обычное. Где же должен обитать дух грибоеда, если не среди грибов, а то и в грибах? Многие культурные люди ведь часто именно так и поступают – живут в самих себе, медленно подъедая себя изнутри, как паразиты. Как и у Гурджиева, у Грибоедова также был весьма таинственный взгляд. Когда век уже живешь в грибе, да еще и ешь этот гриб, то волей-неволей взгляд твой наполнится тайной.
В свою очередь, Грибоедов тоже не видел Гурджиева: очень сложно увидеть что-либо, когда в глазах у тебя сияет радуга. Тем более если эта радуга вращается подобно гипнотической спирали. Стоящий под елкой и хитро улыбающийся Грибоедов пыхтел малюсенькой трубкой и пускал в сторону Гурджиева клубы сладковатого фиолетового дыма, который все сильнее и сильнее его одурманивал. К сожалению, это была несостоявшаяся встреча двух великих духов. А ведь Гурджиев и Грибоедов чем-то очень были похожи друг на друга – не только энигматическими взглядами и тем, что оба похоронены вдали от своей родины. Было еще нечто объединявшее этих двух великих воинов.
Помимо грибоедовского дыма в воздухе стоял пьянящий запах сырости, мха и перегноя. Только когда Фуко начал облизывать Гурджиеву колено, тот обнаружил, что из царапины идет кровь. Про себя улыбнулся – однажды в детстве он точно так же сидел на земле с расцарапанным коленом, и собака лизала выступавшую из раны кровь.
Ту собаку звали Фило. Это была кавказская овчарка. Когда ему исполнилось три года, папа принес черный пушистый мячик, у которого оказался влажный носик, розовые лапки и запах молока из пасти.
Смотрел Гурджиев на Фуко и понимал, что совсем ничего не знает ни об этой собаке, напоминавшей ему большую белую крысу, ни о ее хозяевах, ни об этом городе, кусочек которого видел сейчас сквозь деревья. В частности, виднелись Мтацминда и Сололаки. Стоящая в развалинах крепости Нарикала гигантская цинковая «Мать Картли»[8] с чашей в одной руке и с саблей в другой слегка наклонилась вперед, будто вот-вот и рухнет на Тбилиси… на крыши старых домов из красного кирпича, ощетинившехся спутниковыми антеннами.
В его время по этим узким улочкам торговцы водили навьюченных переметными сумами ослов. На каждом шагу продавали мацони, лаваш, вино и хурму. Тбилиси тогда звался Тифлисом, был полон мелколобых грузин, златозубых азербайджанцев, монобровных армян, рыжеволосых черкесов, персов с красными ногтями. А чего стоило подглядывание за женщинами, выходящими из серных бань в пестрых сарафанах! Впрочем, приятное воспоминание сразу завяло, стоило вспомнить тбилисских старушек. Как сказал поэт: не знаю ничего отвратительнее грузинских старух: это ведьмы.[9] Национальность тут ни при чем. Кавказские старушки везде такие: рога, копыта и хвост достаются им в наследство, а летающая метла – по заслугам.
Смотрел Гурджиев сверху на Тбилиси и понимал, что не знает, чего ему надо в этом городе, в этом лесу, рядом с этой белой собакой, что так старательно вылизывала ему колено. Как истинный философ, напоследок он подумал, что и о самом себе ничего толком не знает. Возможно, это оно и есть – горе от ума.
На сидящего на земле Гурджиева нахлынули сантименты. Он вспомнил, как в жаркий летний день мама отправила его на рынок за мясом. «Купи на косточке, – мама достала деньги из складок платья, – два фунта». Тогда у Гурджиева были густые брови, юные пушистые усы и торчащий вперед подбородок. Яйцеобразную голову наголо обрили из-за вшей.
Конечно, это «воспоминание» – не более чем причуда его престарелого уже мозга. Гурджиеву так детально «вспоминался» поход на рынок, что даже сомнения не закралось, что это лишь машинальная абберация его собственного ума. Сложно сказать, что это было – то ли временное помешательство Гурджиева, некий вид парамнезии, либо все это внушил ему стоящий под елью Грибоедов с красной шляпкой.
Огорошенному и одурманенному дымом Гурджиеву меж тем совершенно четко «вспоминалось», как они с Фило когда-то шли по проселкам к Ширакскому рынку. В руке он держал небольшую корзину, внутри которой – чистая, сложенная льняная ткань, чтобы завернуть мясо. Фило гордо шел рядом, иногда вырываясь вперед. Горячий ветерок то и дело доносил резкую вонь: где-то что-то гнило. Тогда Гурджиев впервые ушел из дома так далеко без отца. Тот с лихорадкой лежал в кровати – его укусила змея, и ему был необходим мясной бульон.
Накануне мама впопыхах умчалась из дома и вернулась с карлицей Сируш, сжимавший в руках кожаный мешок. У Сируш было восковое лицо, длинный нос и волосатая родинка на морщинистой щеке, некогда черное платье выцвело в грязно-зеленый оттенок. Она напоминала пугало. Гурджиев залез на гранатовое дерево у окна и увидел, как Сируш туго намотала полотенце на ручку ложки и засунула ее папе в рот… Тот крепко сжал ложку челюстями. Тогда карлица маленьким ножиком вырезала на ноге папы мясо, из раны долго, старательно высасывала кровь и сплевывала в тазик, который держала мама. Напоследок, когда кровотечение ослабло, она вымазала рану изнутри какой-то мазью и обмотала тканью. При уходе сказала: «В Карабадине[10] написано: и если укушенный аспидом чувствует самого себя слабо, угрюмо и бессильно, мяса ему сварить и тем покормить». Мать только вечером сказала Гурджиеву, что утром папу укусила змея.
Королевство кривых зеркал
В тот день стояла невыносимая жара, и у входа на рынок рядом с каменным забором на солнцепеке жарился один единственный попрошайка – вместо ног ниже пояса у него была маленькая деревянная доска. Перед ним стоял ржавый тазик с мелочью. Какое-то тряпье было намотано на талию, кожа на хрупких плечах шелушилась. Он больше походил на каменного истукана, чем на живое существо. Вся его тощая плоть была так густо покрыта пылью с головы до доски, что его можно было принять за фрагмент каменного забора. На рынке покупателей почти не было. Продавец чернослива с открытыми глазами спал на полуразваленном стульчике. Перед ним в мешке, как полудрагоценные камни, лежали сине-фиолетово-голубые сливы. Там же, на стойке, висели нанизанные на нитки сухо фрукты, похожие на четки.
Старик-сапожник в холщовом переднике на голое тело держал во рту сразу несколько гвоздей и прибивал набойку на драный сапог. Из его маленькой мастерской размером с собачью конуру тянуло кожей и клеем.
Откуда-то доносились трепещущиеся звуки дудука, но самого дудукиста не было видно. Он играл что-то простое и печальное, рассказывал очередную историю неудачника.
Чего только не валялось у старьевщика на разложенном на земле куске холста: старая деревянная расческа, музыкальная шкатулка, простой женский браслет, позолоченные восточные тапочки со вздернутыми носками, крошечная серебряная солонка, пожелтевший от использования мундштук из слоновой кости… К столбу было прислонено большое зеркало в темной деревянной раме. Редкая была вещь, будто кто-то собрал мозаику из кривых и перекошенных кусков от разных зеркал, и каждый фрагмент мозаики асимметрично отражал окружающее пространство. В тени этого странного зеркала дремала самодовольно надутая и отупевшая от жары курица. Перед ней в пыли слегка ветерок ворошил красновато-пестрые перья.
В двух шагах над прилавком с кусками мяса с жужжанием носились мухи. То и дело наплывала сильная вонь. На фиолетово-черной морде коровьей головы, лежавшей на краю прилавка, неподвижно сидела зеленая муха размером с добрую лягушку. Коровья голова смотрела на Гурджиева с бо́льшим любопытством, чем сидевший на стуле толстый мясник с полуприкрытыми узкими хитрыми глазами. То ли оглушен солнцем, то ли под хмельком. Или и то и другое. Он походил на ленивого, застывшего зверя, долго ожидающего добычи в засаде.
– Мне бы кусок с костью, – сказал Гурджиев, – для варки.
Мясник неохотно поднялся со стула, волосатой рукой прогнал круживших над мясом мух. Некогда белый передник был измазан кровью, под ногтями также засох ла кровь.
– Сколько?
– Два фунта.
– Два фунта… – недовольно повторил мясник, – для кошки несешь?
– Для папы, – Гурджиев обиделся.
Ничего больше не сказав, он швырнул кусок мяса на весы.
В это время Гурджиев заметил стоящего за сапожной мастерской человека с широкими ноздрями, мясистыми губами и такими густыми волосами, что казалось – у него на голове папаха. Мужчина был полностью черный, причем от солнца так не чернеют. В нашитых на груди черкески газырях лежали серебряные пули, на поясе красовался кинжал в серебряных ножнах. Человек с руки кормил леденцами белоснежную лошадь. Животное как будто светилось, только нос был серо-розовый, а ноздри и глаза – черные, как угли. Гурджиев понял, что это тот самый черный человек, о котором столько говорили с недавних пор. Все повторяли одно и то же, что, мол, в городе объявился черный человек. Но никто не знал, что хотел черный человек и кто он вообще такой.
Человек посмотрел в сторону Гурджиева и случайно поймал его взгляд одним глазом. Второго глаза у него не было. Гурджиева пробрала дрожь, так как он знал: увидеть слепого с бельмом на глазу – к смерти.
Из этих мыслей Гурджиева выдернул мясник:
– Больше двух фунтов, – положил кусок мяса в корзинку Гурджиеву, сверху доложил еще и немного желтого жира, – на, возьми это тоже. Для бульона.
Дудукист издал протяжный звук.
Гурджиев прикрыл мясо тканью, взял мелочь у мясника и повернулся было уходить, как вдруг неожиданно заржала белая лошадь. Гурджиев резко посмотрел в сторону лошади, но его ослепило отражавшееся в зеркале старьевщика солнце. Испугавшись ржания, Фило неуклюже отпрянул и врезался в зеркало.
Перед тем как зеркало упало Гурджиеву на голову, каждый кусок вдруг отразил множество Гурджиевых. Скорее каждый кусок как будто засосал свою частичку Гурджиева, как пылесос. Всего на миг увидел Гурджиев в каждом осколке зеркала своего близнеца, в некоторых – с вытянутой, как у жирафа, шеей, в других – круглого, как мяч, еще в других – извивающимся червяком… Гурджиев внезапно испугался, как в кошмаре. Испугался, что навсегда застрянет в осколках зеркала. Точнее, в королевстве кривых зеркал.
Лошадь снова заржала. Сразу же послышался громкий топот копыт. Гурджиев не понял, что это было – оптический обман или же по трещинам зеркала в самом деле проскакал черный человек на белой лошади. Спешащий за наездником ветерок поднял тяжелую пыль. Время будто остановилось, пыль и перья повисли в воздухе.
Оглушенный и окосевший Гурджиев, как кукла, сидел на земле – не чувствовал, что порезал колено. Вокруг валялись осколки зеркала и пестрые перья. Быстро собрался народ. Все открывали рты, что-то говорили, но он их не слышал. Дудук тоже резко затих. Красная курица круглыми глазами смотрела по сторонам, обалдев на солнцепеке. Гурджиев молча, телепатически спросил у птицы:
– Ты Жар-птица?
Птица ковыряла клювом пыль и осколки стекла. Гурджиеву она ответила тоже телепатически:
– Кому – Жар-птица, кому – всего лишь курица.
Гурджиев сразу перешел к делу:
– Знаешь, кто этот черный человек?
– Абхазский негр, живет в Адзюбже, Кодорском ущелье, – был ответ.
– Грузин? – Гурджиев удивился.
– Сложно сказать, потомок древних колхов или тех африканцев, которых князь Шервашидзе в XVII веке купил на Стамбульском рынке рабов и привез в Абхазию для работы на лимонных плантациях.
– Их много?
– Несколько семей. – затем курица добавила: – Замкнутые люди, ни к кому не ходят и никого к себе не подпускают.
Не птица, а живая энциклопедия. Гурджиев еще о многом хотел спросить, но в это время прибежал Фило. Курица испугалась, куда-то скрылась, а на земле осталось лежать странное яйцо, как будто освещенное изнутри и тикающее, как часы. Только тогда, когда собака начала лизать Гурджиеву колено, он обнаружил, что из раны текла кровь. Гурджиев потянулся было за яйцом, но оно оказалось полым и хрупким и сразу раскрошилось у него в руке.
И вот Гурджиев вновь сидит, теперь уже в лесу Мтацминда, окруженный деревьями, а не людьми. И снова держит в руке обычную яичную скорлупу. На земле тикали его золотые часы – может, выпали из кармана. Колено лизал Фуко – белый бультерьер с розовой мордой. Под елью из листьев уже знакомый нам гриб топорщил красную шляпку с белыми точками. Обычный ядовитый гриб, будто дух Грибоедова никогда не вселялся в него. Духи, они ведь как голливудские звезды – на одном месте надолго не задерживаются.
Глядел Гурджиев на Фуко и понимал, что ничего не знал ни об этой собаке, напоминавшей ему большую белую крысу, ни о ее хозяевах, ни об этом городе, кусочек которого видел сейчас сквозь деревья и откуда доносилось глухое гудение.
4
Три хуя кондора
Вечером Горозии сидели перед телевизором на диване в гостиной. Должен был начаться «Хаус», но в специальном выпуске «Курьера» пока что показывали демонтаж памятника Сталину в центре Гори. Репортаж без комментариев шел в прямом эфире.
Босоногий Гурджиев сидел в кресле, снова в кремовых шортах, под белой майкой просвечивали контуры корсета. На покрасневшее колено был наклеен пластырь. К мягкой безволосой ноге пристало несколько еловых иголочек. Руки лежали на подлокотниках. Фуко с открытым ртом спал на полу у его ног.
Нико был доволен – квартира в доме у входа в Мзиури, которую они посмотрели в тот день, оказалась прекрасной во всех отношениях. Триста тысяч долларов сначала показалось дорого, но каждое слово из уст маклера слышалось ему как пение: «Новостройка… в центре Ваке…[11] четырехкомнатная новая квартира… с тремя балконами… с евроремонтом… с автономной системой отопления, с паркингом… с охраной…» Наконец, слова, оставленные на десерт, решили все: «Вид на проспект Чавчавадзе и Мзиури…» Уже не было необходимости добавлять, что так дешево квартира продавалась из-за кризиса.
– Покупаем, – сказал Нико, – деньги будут завтра.
В том, что деньги будут, Нико был уверен.
Нико смотрел телевизор, но в мыслях возился в новой квартире в Ваке. К старой квартире уже чувствовал некоторое отчуждение. Было даже немного неловко сидеть на потертом диване перед маленьким телевизором, пульт которого срабатывал, если с силой нажать на несколько кнопок одновременно. Кто-то другой, быть может, никогда не решился бы поступиться ни этим диваном, ни этим телевизором, ни этим пультом. А что уж говорить про дырявые обои лимонного цвета, сырой потолок в ванной, непреходящую вонь на кухне и повсюду валяющуюся шерсть Фуко. Нико простился со всем этим твердо и навсегда еще утром, когда готовил себе шоколадный бутерброд. Когда-то, наверное, он соскучится по куполу собора Троицы и краешку Авлабари, которые смотрели в окно их спальни сквозь ветки деревьев, и по вечно скрюченному безбородому Абдулле с папиросой во рту. Но это уже тема другого разговора.
Нино на несколько минут задремала прямо перед телевизором. Приснилось, что в каком-то супермаркете она катит пустую тележку среди высоких прилавков и тщетно пытается выбраться из секции. Поблизости никого нет. У магазина не было ни потолка, ни пола – прилавки будто висели во всеобъемлющей белизне, как увешанные оружием металлические стены на виртуальном складе «Матрицы». Бесконечные полки супермаркета были загружены гигиеническими тампонами, зубной пастой, рулонами туалетной бумаги, моющими средствами для унитаза и пакетами стирального порошка. В воздухе стоял специфический запах. Нино подумала, что наверное, это и есть ад, когда без конца катишь пустую тележку по супермаркету, а прилавки заполнены туалетной бумагой. Нино заметила, что здесь ничего не отбрасывало тени, будто освещение поступало со всех сторон. Она была уверена, что уже по нескольку раз проходила мимо одного и того же прилавка. Ей не хватало воздуха. Прошиб пот и закружилась голова… Надо было как можно скорее выбраться из этого лабиринта. Взяла аэрозоль с полки, чтобы поставить на полу как ориентир, но тот оказался пушистым, теплым, с тонкой шерстью, как живое существо, а где-то в глубине будто и сердце билось быстро, как у зверька. Это тепло казалось одновременно и приятным, и отвратительным. Нино невольно выпустила аэрозоль из рук. У того в воздухе выросли короткие конечности и длинный хвост: едва упав на пол, он сразу же бросился под прилавок с противным крысиным писком. Нино затрясло. Прежде чем взять другой аэрозоль, она присмотрелась получше. Вроде бы шерсти не было, на этикетке мелким шрифтом значилось: «Перед употреблением взболтать».
Нино казалось, что ее саму взбалтывали, наблюдали за ней со стороны. Быстро повернув голову, она вдруг поймала пристальный взгляд Гурджиева: тот сидел в кресле между прилавками и улыбался ей с лицом неподвижным, как у статуи. По спине у Нино пробежали мурашки, и колени так подкосились, что не обопрись она о тележку, прямо там и растянулась бы. Гурджиев пошевелил губами, не спуская с Нино близоруких глаз навыкате. Он молча, неуклюже дышал, только грудь вздымалась и слегка колыхался дряблый подбородок. Зрачки так плавно расширялись, сужались и снова расширялись, будто в глазницы были встроены маленькие камеры слежения. Нино ясно увидела, как вдруг заполыхало на среднем пальце правой руки Гурджиева серебряное кольцо. Сияние становилось все более ослепительным. Как будто в кольце кипела какая-то энергия, которая не уже помещается внутри и вот-вот выплеснется. Все было поглощено туманом – Нино видела только раскаленное кольцо, а точнее, маленький светящийся круг, который глухо гудел и с треском метал цветные искры. Выгравированные на перстне фигуры принимали все более четкие очертания: стоящий на одной ноге журавль, человек с птичьей головой и обычный петух… А те три похожие друг на друга птички с большими телами, маленькими головками и орлиными клювами вообще вылезли из кольца, расправили крылья и полетели к Нино. Их сияние слепило Нино, и все же она увидела, как все трое соединились в воздухе в одну птичку… И теперь уже один огненный кондор летел к ней со свистом, рассыпая искры. Из его клюва вырывалась черная сажа. От птицы исходила такая энергия, что Нино не выдержала и откинулась на спину прямо на свою тележку. Та неожиданно оказалась удобной, как гинекологическое кресло. Нино машинально раскрыла полусогнутые ноги и обнаружила, что на ней был лишь белый махровый халат, и то на голом теле. Халат тут же раскрылся, а на ногах оказались мягкие тапочки. Краем глаза она увидела, что у птицы есть толстый хуй, и он светился красно-желто-белым цветом, как раскаленная спираль рефлекторного обогревателя. Да еще и дергается. Тут Нино сообразила, что птицы не слились воедино, а сидели друг в друге, как матрешки. И хуев соответственно было сразу три. Просто были уложены вместе – как в кабеле параллельно лежат изолированные друг от друга проводники. Нино вдруг ясно почувствовала, как у нее в животе, подобно цветку, раскрылись три раскаленных хуя… и, лишь когда по всему телу растекся электрический ток, она поняла, что искры падали с тех хуев, как цветное пламя с бенгальских огней. Нино будто видела себя со стороны. Точнее, свой светящийся мозг, в котором электрические сигналы хаотично смешивались друг с другом. В это время птица прошипела ей в ухо: «Ничего личного, это всего лишь бизнес».
Когда Нико очнулся от грез о квартире в Ваке, улыбающийся как истукан Гурджиев все еще сидел в кресле, и Фуко также валялся у его ног. Только у Нино блестели глаза, ноздри раздулись и губы высохли – будто их обтерли полотенцем. Изможденная, она совсем не чувствовала ног. В сторону Гурджиева она даже не смотрела, считая его теперь мерзким типом, способным на все. Решила, он преднамеренно проник к ней в сон, чтобы изнасиловать ее. Она не допускала, что сон мог быть всего лишь реакцией на утренний стресс. Иногда сон просто сон, и необязательно искать в нем скрытые знаки и подтексты.
Время шло к одиннадцати, когда с улицы донесся шум машины. Ни один их них не шевельнулся, хотя все трое поняли – Чикобава приехал. Только Фуко вскочил и навострил уши. Нико про себя отметил, что и впрямь не оказался Чикобава Энвером Ходжой, хотя он и понятия не имел, кто это такой.
Гурджиев спокойно встал, вышел в прихожую. Фуко последовал за ним. Нико упрямо продолжал смотреть телевизор – подъемный кран держал связанного толстыми канатами вождя, как вытащенного из воды кита.
Зефирный Сталин
Рай завел Чикобаву в комнату. Фуко шел с ними, махая хвостом. Казалось, у Нугзара окаменели все сосуды и суставы: при малейшем движении он скрипел и хрустел всем телом. От него слегка тянуло падалью, а правый глаз слегка засох. Нугзар застыл посредине комнаты. На нем была та же одежда: белая рубашка, серые брюки и черные ботинки. На запястье те же тонкие часы с кожаным ремешком. Единственное, он полностью посинел, левый глаз еще сильнее налился кровью, а седые лохмы стояли дыбом. Рай достал из маленькой черной сумки свежайшие пачки фиолетовых банкнот, аккуратно разложил их на журнальном столике перед телевизором и, как крупье, придвинул деньги к Горозиям:
– Ваш миллион.
Нино чуть не стошнило, будто цвет хрустящих банкнот перешел к ним непосредственно с лица Чикобавы. На Нико разложенные пачки с пятисотевровыми купюрами тоже не произвели впечатления. Казалось, что денег слишком мало. Какие-то двадцать брикетов фиолетовой бумаги. А ведь на столе реально лежал миллион евро. В комнате пахло свежими банкнотами и падалью.
С улицы донеслись звуки отъезжающей машины. Гурджиев выглянул в окно – «Брабуса» у входа в подъезд уже не было. Фуко начал обнюхивать штанину Чикобавы. Гурджиев зна́ком показал Нугзару на кресло:
– Садись.
Тот сел, заскрипев, как старый шкаф, с трудом согнув одеревенелые конечности.
– Кто знает, что ты здесь? – Гурджиев присел на край дивана.
– Ни-и-кто, – Чикобава еле ворочал языком.
– Что ты сказал водителю, куда поедешь?
– К Манане.
– И Манана не знает, где ты сейчас?
– Не-ет.
– То есть, – Рай каждое слово произносил с выражением и одновременно пристально вглядывался в окровавленные глаза Чикобавы, – никто не знает о твоем местонахождении?
– Ни-никто.
– Очень хорошо, – Гурджиев улыбнулся в усы, протянул Чикобаве раскрытую ладонь: – Дай свой мобильный.
Чикобава с трудом, скрипя и хрустя, достал из кармана брюк телефон, протянул Гурджиеву. Тот открыл аппарат, вытащил батарейку и сим-карту, разобранный на куски телефон положил на стол и вдруг подобрел, будто один исполнял роль и злого, и доброго полицейского. Он сказал Нугзару:
– Напоминаешь мне кого-то.
Чикобава попытался улыбнуться, но не смог справиться с мышцами лица, будто они стали резиновые.
– Арнольд Чикобава приходится тебе кем-то? – допытывался Гурджиев.
Фуко отстал от брюк Чикобавы, оперся головой о колено Гурджиева.
– Н-не знаю, – Нугзар вывернул губу, – кто такой Арнольд Чикобава?
– Был один… – Гурджиев потер ухо Фуко. – Вспомнил просто… Чай? Кофе?
– Пусть будет чай, – захрипел Чикобава.
Горозии молча глядели на штабель денег. У Нико в мозгу работал калькулятор: он снова и снова прокручивал и распределял прокрученный со всех сторон и тысячу раз распределенный миллион. Если бы Нино ничего не имела против, то кроме квартиры в Ваке и мебели для нее этого миллиона хватило бы на дачу в Кикети,[12] и еще на две хорошие машины и, что самое главное, хватило бы на исполнение давней мечты Нико. К счастью, благодаря мировому кризису в Тбилиси все продавалось за полцены. Мечтой Нико была собственная кондитерская, магазинчик сладостей, а при нем – своя пекарня. Чуть ли не наяву видел за слегка запотевшими стеклами холодильника разнообразные торты и разноцветное мороженое, ломящиеся от пирожных прилавки, шоколадные фигурки, завернутые в фольгу, пирамиды печенья, набитые зефиром и цветными конфетами большие прозрачные банки…
Тем временем Нино равнодушно смотрела на фиолетовые банкноты, словно перед ней лежали не наличные, а игрушечные деньги из «Монополии». Это ведь сложно – не задуматься над миллионом хотя бы на секунду. Тем более когда он у тебя в руках. Когда понимаешь, что это твой миллион. Хочешь – закинь в камин, хочешь – сложи самолетики и пусти из окна. Аккуратно разложенные деньги странно подействовали на Нино, погрузив ее в своего рода наркотический анабиоз – тело и мозг полностью отключились. На самом деле ее мозг сейчас был похож на крошечный адронный коллайдер, по которому мысли носились, как элементарные частицы. Из-за этой скорости у Нино и не получалось думать.
Тем временем деньги открыли у Нико второе дыхание. Кроме кондитерской он представил, как ездит по слегка опустевшему осеннему Тбилиси на красном «Феррари»… Вечер, уличные фонари только что зажглись; моросит, силуэт машины красным цветом отражается на мокром асфальте, узкие ручейки дождя криво извиваются по ветровому стеклу. Он пристегнут, подобно пилоту самолета-истребителя, стоит слегка нажать на педаль, и машина полетит пулей – ведь в двигателе заперты пятьсот сумасшедших лошадей, а из динамиков еле слышно доносится какой-то минимал…
Когда Нико очухался от своих мыслей, «Курьер» все еще транслировал без комментариев демонтаж памятника Сталину – подъемный кран так и держал повязанного вождя, как кита, а Гурджиев и Чикобава угощались чаем и беседовали как старые друзья. Точнее, чай пил Гурджиев, и он же вел беседу, а Чикобава неподвижно сидел в кресле, как манекен. С тем же успехом Гурджиев мог бы поговорить и со стеной. Его это не особо волновало – в лице Чикобавы он нашел идеального слушателя. Время от времени он брал с тарелки немного изюма и запивал его чаем, в другой рукой трепал за ухо Фуко, положившего голову на его колено. От удовольствия собака зажмурилась и, казалось, улыбалась.
– Знаешь, что тбилисское метро самое уникальное в мире? – Гурджиев спросил у Чикобавы.
– Н-не знал, – признался Чикобава.
– Да, хабиби, – убеждал его Гурджиев и, грызя изюм, добавил: – Утром 5 марта 1953 года под Тбилиси появился неопознанный летающий объект, перемещающийся с юго-востока на северо-запад. Ему сопутствовали звуковые эффекты: гром, скрип, гудение. Никто не знает, был ли этот объект связан со Сталиным. Доподлинно известно только, что «перед смертью вождь выпустил изо рта газ, который сомкнулся в воздухе прозрачной, шарообразной сферой из горячего стекла и тихо улетел в окно…» Тбилисский же НЛО издавал звуки, подобные громовым раскатам, и одновременно сиял красным, желтым и белым с мощностью в десять тысяч ватт. Объект был скорее овальным, нежели сферическим, походил на страусиное яйцо. Сзади болталась радуга, как хвост у кометы. По другой версии, радуга была в яйце и освещала скорлупу изнутри.
– О-о-о, – прохрипел Чикобава нечеловеческим голосом.
Нико не понимал, зачем Рай оболванивал и так оболваненного Чикобаву.
Нино окончательно убедилась, что Гурджиев давеча действительно проник в ее сон и эта история про метро тоже каким-то образом связана с тем сном. К тому же думала, что на самом деле Гурджиев не к Чикобаве, а к ней обращался. Откуда могла знать Нино, что Рай всего лишь забавлялся – соединял увиденную в лесу Мтацминда яичную скорлупу и повязанного в телевизоре вождя. Как ашуг, он сочинял истории на ходу – так просто, без всякой задней мысли.
Гурджиев улыбнулся в усы, похрустел изюмом и продолжил:
– На следующий день газета «Правда» писала: «Вчера в 6 часов и 11 минут по местному времени в г. Тбилиси несколько граждан видели сферическую молнию. Со слов майора отдела милиции Авлабарского района А. Шерозия: «Был седьмой час, когда в небе громыхнуло и засверкало. У Первой клинической больницы, бывшего “Арамянцева”, с неба опустилось яйцеобразное светящееся тело и, как мыльный пузырь, с колыханием полетело в сторону площади 26 Бакинских Комиссаров. Перемещался примерно на высоте десяти метров над уровнем земли. От его блеска болели глаза. В конце объект упал на площади 26 Комиссаров и взорвался». Больше ничего. Ни слова об издаваемых яйцом звуках, о его конечной траектории, о лечении яйца яйцом. Эту историю Москва тогда так мистифицировала, что в американской разведке одно время считали, что в ту ночь в Тбилиси советские ученые испытали дистанционно управляемую электронную бомбу. В газете было указано точно только время падения яйца. В действительности оно не взрывалось, а провалилось под землю. Легко, как камень под воду. В тот момент из земли изверглась черная сажа, затем запахло гарью… – Тут, как будто наглядно поясняя сказанное, Гурджиев срыгнул, изверг немного сажи изо рта и ушей и как ни в чем не бывало продолжил: – Яйцо пронеслось через город, за несколько минут пройдя через Тбилиси. Из Авлабари оно пролетело под землей до тогдашней площади Ленина, где сделало примерно шестидесятиградусный поворот и продолжило путь до памятника Руставели, там еще раз повернуло и затем все время шло прямо до сегодняшней санзоны, там выскочило из земли и улетело в небо. После этого началась магнитная буря, которая продолжалась два дня. В это время над городом плыли круглые и гладкие облака, похожие на ртуть, разлитую в невесомости.
Те несколько секунд, что яйцо двигалось под землей, Тбилиси трясло, сейсмические волны зафиксировали сейсмографические станции Баку и Стамбула. Правда, подземные толчки в эпицентре составили тогда всего лишь пять-шесть баллов по шкале Рихтера. Тбилиси уцелел. Лишь только в окнах многоквартирных домов выбило стекла, у ипподрома раскололась гора – там, где сегодня проходит Ваке – Сабурталинская дорога, а стоящий на площади Ленина памятник прорвало по середине – он не разбился вдребезги, а только треснул, как арбуз.
– О-о-о, – захрипел Чикобава.
– Траектория перемещения яйца под землей известна точно, – Гурджиев не обратил никакого внимания на хрип Чикобавы, – так как именно в ходе этого движения возникли туннели под Тбилиси, позже превращенные в метро. Сложно сказать, были ли сталинский пузырь и тбилисский НЛО одним и тем же объектом. Возможно, при полете сфера деформировалась и приняла более аэродинамическую форму яйца. Но даже если не так, все равно непонятно, чего яйцу понадобилось в толще земли. Это напуганный страус именно в земле ищет укрытие. Но разве страуса поймешь? Об этой глупой птице Иов говорит так: «Он оставляет яйца свои на земле, и на песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их и полевой зверь может растоптать их; ибо Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла». За долгие годы исследований в засекреченном туннеле советские ученые так и не обнаружили следов чужой цивилизации. Дыра длиной двадцать километров и диаметром десять метров появилась как будто сама по себе. Тбилисское метро ввели в эксплуатацию 11 января 1966 года. Тоннель перегородили, добавили рельсы и эскалаторы. В 1985 году к главной оси привязалась и Сабурталинская линия, – Гурджиев снова срыгнул, на этот раз без сажи, бросил взгляд на телевизор и сердито пробурчал: – Ну когда же, елки-палки, «Хаус» уже начнется?
Нино пришла к выводу, что ко всему прочему Гурджиев был еще и маньяком. Его зависимость от сериалов иначе было не объяснить. К тому же после каждой серии он либо пристально изучал свой язык в зеркале, либо тайком ощупывал лимфатические узлы под мышкой и на шее, либо прикладывал руку ко лбу – мерил температуру.
На экране подъемный кран уже укладывал вождя в кузов грузовика.
– Знаешь, почему стены станций тбилисского метро по вечерам всегда слизистые, а в воздухе стоит сладковато-горьковатый запах? – Гурджиев вновь повернулся к Чикобаве.
– Н-не знаю, – признался тот.
– Потому, хабиби, что споры размножаются, образуется зигота, и за ночь все там покрывается грибами. Если каждое утро уборщики не будут тереть стены специальными лопатами, станции переполнятся грибами и метро встанет.
Естественно, Нико ни одному слову Гурджиева не поверил, хотя при упоминании яиц его мысли вспенились и склеились, как пастила. Он тут же решил, что наряду с другими штучками в его пекарне обязательно будут торговать зефирным Сталиным – мягкий генералиссимус в розовом военном мундире, с толстыми белыми усами и трубкой во рту. Он не заметил, что вождь в его воображении очень походил на Гурджиева, наряженного в розовую фуфайку бурятского шамана. Будь Нико повнимательнее, рассмотрел бы на фуфайке пришитые там и сям перья, воротник из пушистого заячьего меха и вышитые золотом прямоугольные орнаменты, идеально сцепленные друг с другом, как фигурки тетриса.
Нефритовый император
То, что Чикобава останется у них ночевать, Нино поняла, когда Гурджиев начал разбирать на части его мобильный телефон. Ей уже так хотелось спать, что было до лампочки, кто и где останется. Кроме тбилисского метро Гурджиев тогда много говорил о детях графа Паука, архитекторах страха, демоне со стеклянной рукой, звездном пути, искусственном разуме, космической одиссее…
Нино больше не слушала Гурджиева – скрючившись на диване, в полусне она смотрела заученный до тошноты «Мимино». Было в этом что-то почти оккультное – по ряду необъяснимых причин тот или иной фильм непроизвольно становится спутником твоей жизни и, когда бы ни наткнулся на него по телевизору, всякий раз не можешь оторваться от экрана. В тот вечер Нино не выдержала сентиментальной истории о застрявших в советской Москве двух бедолагах-кавказцах и уснула прямо на диване.
– Не буди, – прошептал Рай Нико, – мы на кухню пойдем.
Гурджиев взял стаканы со стола, тихо зашлепал из комнаты. Чикобава на цыпочках последовал за ним, стараясь не хрустеть окаменевшими суставами. Даже Фуко поплелся на кухню, втянув когти.
Нико выключил телевизор, осторожно снял с жены тапочки и укрыл ее простыней. Прежде чем выключить в комнате свет, глянул на денежный штабель на столе. Издалека он казался маленьким, едва с кубик Рубика. Снова подумалось – почему не попросили больше. Немного смущало, что так оставляет деньги, но взять их он тоже не решился.
Гурджиев включил электрочайник, повернулся к Чикобаве:
– Не проголодался, хабиби?
– Н-нет, – прохрипел Чикобава.
– Чайку тебе налить?
Чикобава присел на стул, вместо ответа пожал плечами – ему было все равно, нальют чай или нет, он ни к чему не притрагивался.
Гурджиев достал пакет с изюмом из шкафа, высыпал на тарелку. Нико прислонился плечом к стене у входа на кухню.
– Хочешь, я тебе сделаю гоголь-моголь? – спросил Рай. – С корицей.
– Нет, спасибо, – сказал Нико, – поздно уже.
– Спать хочешь, дружок?
– Да, – Нико зевнул в кулак, – что-то начинаю вырубаться.
– Ну, иди, иди, ложись. Нам еще о многом надо поговорить, – Гурджиев повернулся к Чикобаве: – Не так ли, хабиби?
Хабиби кивнул, похрустывая шеей.
С той ночи Нугзар Чикобава так и остался с Гурджиевым. Горозии только изредка захаживали на старую квартиру – до переезда на новую решили остановиться в гостинице «Рэдиссон». Прежде всего из-за зловония Чикобавы, которое с каждым днем становился все невыносимее.
Как Нино и собиралась, она сразу написала заявление и ушла с работы. Теперь она коротала дни в номере, лежа на кровати перед телевизором либо просматривая журналы у крытого бассейна гостиницы. А Нико, измученный, возвращался в номер поздно вечером.
Обустройство квартиры обернулось целой философией – со своими традициями, мистикой, добродетелям и медитативной практикой. Как выяснилось, на одной только интуиции тут далеко не уедешь: нужно владеть и тайными, сокровенными познаниями. Так, гостиная – не только диван с креслами, стол и полки. В той же гостиной непременно должен находиться пастельного цвета ковер, а в углу должна стоять высокая стеклянная ваза, наполненная слоями цветного песка, как выяснилось. На полках следует разместить несколько предметов геометрической формы, разбросанных с изящной небрежностью, где-то между DVD и толстой, как пенек, ароматизированной свечкой. Желательно, чтобы на стене висела фотография или картина с улицей неопознанного мегаполиса либо постер какого-нибудь ретрофильма – такой подойдет любому интерьеру. Занавески – тема отдельного разговора. Тем более что еще предстоит определиться: занавески или жалюзи?
– Здесь можно жалюзи, – манерно изогнув ручки, сказал нежным женским голосом стоящий в пустой гостиной дизайнер Коки и повернулся к Нико: – В спальне – шторы… с тюлем.
В такие важные минуты Нико очень не хватало жены – без нее он побаивался принимать решения. Но Нино в это время находилась в другом измерении. И дело не в том, что сейчас она лежала в шезлонге у бассейна, а в том, что в последнее время она настолько погрузилась в себя, что совсем не интересовалась происходящим вокруг. Никакого бизнеса, только личное. Так что, будь она сейчас здесь, все равно ничем не смогла бы помочь.
Естественно, долго так продолжаться не могло, рано или поздно Нино непременно выйдет из своего полунаркозного состояния. Впрочем, все происходящее сейчас Нико принимал как данность и старался не беспо коить лишний раз жену.
Нанять дизайнера из агентства пришлось после того, как Нико понял, что не сможет обустроить квартиру самостоятельно. Этому Коки было около двадцати лет, младше Нико, он выглядел как псевдопанк, свихнувшийся от кетамина, в одной руке он держал айпэд, а вторую руку часто манерно изгибал. Никакого доверия не внушали его рваные кеды, узкие, брючки до щиколоток с шахматным рисунком, куча браслетов, намотанный на шею холщовый шарфик, пирсинг в ноздре и рыжий хохолок на голове, делавший его похожим на удода. А ведь если присмотреться, во взгляде парня читалась космическая мудрость.
Этого Нико, конечно же, не заметил, но зато понял – Коки точно знает, где что должно стоять и висеть. Этот кибердаос был способен расставить все вещи в их истинном порядке.
– Здесь будет стоять музыкальный центр… здесь торшер… – Коки махнул ладошкой к стене: – Там повесим постер «Барбареллы».
– Не слыхал. Фильм какой-нибудь старый? – спросил Нико.
– Ну да, не новый. «Барбарелла. Королева галактики»…
– Не смотрел, – признался Нико.
– Да и не надо… Я тоже не видел «Нефритового императора», однако ношу же, – тут Коки манерно вывернул кисть.
Нико только сейчас заметил на одном из его браслетов маленькие пластмассовые фигурки животных, похожие на детские витаминные пилюли. Среди них выделялся белый человечек в мантии, расшитой золотыми дракончиками, размером с вишню и гладкий, как перламутр, с решетом в руках, равнодушным лицом, узкими глазами, длинными опущенными усами и короной на голове. Нико показалось, что человечек подмигнул ему.
Пауза немного затянулось.
– Можно повесить постер другого фильма, – Коки достал айпэд, провел по нему указательным пальцем, показал экран Нико: – Какой-нибудь из них.
У Коки в айпэде оказалась целая галерея постеров. Нико мельком глянул на экран:
– Пусть будет «Барбарелла», – сказал наконец, – королева галактики.
Человечек подмигнул ему еще раз.
* * *
В это время Гурджиев заставлял Чикобаву читать священные тексты. Дело в том, что у того оказался завидный талант к заучиванию наизусть. И этот талант с каждым днем только расцветал. Чем больше Чикобава каменел и смердел, тем лучше все запоминал. И Рай решил научить его церковным гимнам и песнопениям. Тот учил, прилежно и ревностно. Он уже не мог садиться, но дни и ночи напролет погружался в учение. Теперь он был одет в странную одежду, походившую одновременно на платье дервиша и рясу священника. Ее Гурджиев собственными руками сшил из разных черных лоскутов. Старую одежду он сжег в лесу Мтацминда – на всякий случай. Он совсем забыл, что, согласно старому суфийскому поверью, сжигание одежды означает физическое исчезновение личности. А ведь кто-кто, а Гурджиев должен был помнить суфийские поверья.
Между тем Нугзар порядком оброс седыми волосами и бородой, лицо его полностью почернело, а правый глаз совсем засох и запал. Зато окровавленный левый глаз светился как у киборга. На чем бы он ни сфокусировал взгляд, там появлялась красная точка, как от лазерной указки. Даже родная мать и та не смогла бы опознать в этом почерневшем Нугзара Чикобаву.
По всей видимости, Гурджиев создавал из него некоего робота, которого программировал по-своему. Чикобава уже сильно отдалился от нормы: обычный человек таких условий не выдержал бы. Теперь он не нуждался ни в еде, ни в сне, ни в чем остальном, жизненно необходимом. Каждое утро Гурджиев раздевал его догола, клал на разложенный на полу целлофан и разминал каждую мышцу и сустав, не исключая челюсти и язык, подолгу тщательно смазывал и массировал машинным маслом – чтобы тот не одеревенел окончательно.
Вначале Гурджиев чем только не пытался смягчить дубеющую кожу Чикобаве – начиная с питательных и увлажняющих кремов, разложенных на туалетном столике спальни, и заканчивая самыми разными видами бальзамов. Однажды даже побрызгал антизагарным спреем. Но ничего так не помогло Нугзару, как обычное машинное масло, чье лечебное свойство Рай обнаружил совершенно случайно.
В тот день, рыская в поисках черной ткани для рясы Нугзара, Гурджиев заглянул в кладовку и нашел не черную ткань, а наполненную черноватой жидкостью пластмассовую банку. Долго не раздумывая, сразу намазал Чикобаву, а тот, как по команде, тотчас стал хрустеть намного меньше. И кожа, если и не стала до конца эластичной, приобрела некоторую упругость. Рай не заметил, что из нагроможденных в кладовке книг нарочито высовывалось одно ветхое издание с выцветшей золотой надписью на корешке: Грибоедов. Кто-то или что-то настойчиво и тщетно старалось устроить встречу этих двух великих духов.
При каждом массаже Фуко недовольно рычал – ревновал, что внимание уделяется другому. Иногда пытался слизывать масло, но Рай не давал: «Нельзя, фу!»
– Не обижаешься, хабиби, что обрабатываю тебя этим маслом? – то и дело спрашивал Нугзара Гурджиев, массируя его тело.
– Н-нет, – хрипел Чикобава.
– И не надо, – Гурджиев который раз уже повторял ему: – Ты же видишь, что помогает. Человек – это машина, хабиби.
А тому массаж так или иначе помогал. Скрипа стало меньше, простые движения начали удаваться. Рай очень хотел, чтобы Нугзар мог вертеться, как дервиш, или крутить педали велотренажера, но пока это было невозможно себе представить. То, что после смазки маслом он мог медленно перемещаться по квартире и держать книгу, уже было большое дело. Главное, чтобы читал хотя бы кондаки и икосы. И Чикобава, подобно пустыннику, молящемуся на столпе, стоял в углу гостиной и все ночи напролет тихо бормотал акафисты и тропари. В освещении не нуждался – своим лазерным глазом он прекрасно видел в темноте. Единственное, увлекшись чтением, он иногда непроизвольно повышал голос и будил съежившегося на диване Гурджиева. Тот рычал ему:
– Тише ты, елки-палки!
Покаянные песнопения
В старую квартиру Горозии заходили так редко и ненадолго, что почти не замечали успехов вставшего на путь веры Чикобавы. К тому, что стоящий в углу гостиной облаченный в рясу Нугзар без конца читал молитвы, они уже привыкли. Иногда он даже тихо распевал. Что они замечали, так это смрад, который с каждым их визитом становился все более невыносимым. В комнате стояла резкая смесь запахов падали, пыли, моторного масла и псины, к чему примешивался тонкий, сладковатый аромат медовой свечки. Обстановка все больше напоминала квартиру, в одного из обитателей которой вселился дьявол, а другие жильцы пригласили экзорциста для его изгнания. Усиливая это впечатление, Нугзар бормотал молитвы при свете желтоватых медовых свечей. На стене висела приколотая кнопками бумажная икона святого Маврикия, которую Гурджиев вырезал из старого «Оракула». Если бы не лазерный глаз Чикобавы, можно было бы подумать, что это его фото – Нугзар и Маврикий были похожи, как близнецы. Поскольку вся квартира была в пыли, а стены и пол замызганы маслом, стекающим с тела Чикобавы, создавалось впечатление, что злой дух изгадил все вокруг зловонным гноем и кислой слизью.
Однако Горозий все меньше интересовало, кто там что изгадил или бормотал. Они не стали бы горевать, даже если квартира превратилась бы в космический корабль, в уголке которого незаметно обустроился Чужой. Басни Гурджиева уже постепенно надоедали. К тому же в последнее время тот гнал что-то совершенно невразумительное, беседовал о разрыве связи между новой корой головного мозга Чикобавы и его лимфатической системой: «Как правило, в таких случаях человек не теряет разум, – говорил он, – а эмоции пропадают. А в случае с Нугзаром все наоборот. У него пропал разум, но осталась главная эмоция – покаяние». И потом неизменно спрашивал:
– И вы понимаете, что это значит?!
Однажды Нико спросил, что же это значит, на что Гурджиев спокойно ответил:
– То, что Нугзар вроде мышки Рамана.
– Мышки? – Нико показалось, что ослышался.
– Да, – сказал Гурджиев, – был такой физик, факир и болван – Венката Рамана, у которого была белая мышка. Кстати, хорошее имя Венката… В общем, этот Рамана каждое утро на час сажал свою мышку в закрытый ящик, где заранее смонтировал пистолет, к курку которого веревкой был привязан сыр. Механизм оружия был так чувствителен, что выстрелил бы при малейшем касании к веревке и убил бы мышку. Хотя в течение одного часа Рамана не мог точно сказать, выстрелит ли пистолет, то есть съест ли мышка сыр и шевельнется ли веревка. Поэтому он соединял эти две возможности. Теперь по утрам для Рамана мышь была не живой и не мертвой, а их суммой. В чем была фишка данного опыта – так и оставалось неизвестным. Тем более что веревка так никогда и не натянулась, и мышка после каждого эксперимента благополучно выживала. А в одно прекрасное утро Рамана сам сел в этот ящик и покончил с собой тем же оружием. Но здесь не это главное, – Гурджиев сделал паузу, – главное – тот час, в течение которого мышка одновременно и жива, и мертва. И это, обратите внимание, задолго до Шрёдингера с его котом. К тому же у Венкаты все было по-честному: вполне реальные ящик с мышкой и пистолет с веревкой, а не какой-то там мысленный эксперимент. – В конце спросил: – Если это и игра в кошки-мышки, то она не на жизнь и не на смерть, а на совесть. Понял, дружок, что хочу сказать?
Однако Горозии ничего не восприняли из этого темного поучения. Поняли только, что Гурджиев превратил Чикобаву в экспериментальную мышь, а их квартиру – в какую-то оккультную лабораторию. На всякий случай Нико глянул на стоящего в углу Чикобаву, но он совсем не был похож на мышь. А Нино заключила, что мышка оказалась умнее хозяина. Самым же непонятным для обоих осталось то, почему именно покаяние стало главной эмоцией Чикобавы. Горозии многого не знали из того, что происходило в их бывшем жилище, и не хотели знать. Не знали они и того, что недавно там побывал следователь из полицейского отделения района Мтацминда.
* * *
Однажды, когда Нико подмигивал нефритовый император, а Нино лежала в шезлонге у бассейна гостиницы, в дверь их старой квартиры позвонили. Фуко навострил уши и залаял. Сидевший в кресле перед телевизором Гурджиев встал, положил пульт на подлокотник, вышел в прихожую. Фуко последовал за ним. Гурджиев посмотрел в глазок на лестничную площадку, где стоял неизвестный молодой мужчина с аккуратно расчесанными каштановыми волосами и с папкой в руках. Он был одет в джинсы с высоким поясом и голубую рубашку, из нагрудного кармана которой торчала ручка. Гурджиеву не понравились ни его папка, ни ручка. На всякий случай быстро вернулся назад, поставил окаменевшего Чикобаву в кладовку и предупредил:
– Ни слова, а то…
Как только Гурджиев открыл входную дверь, у хозяина папки сперло дыхание. Вырвавшаяся из квартиры Горозии вонь чуть не свалила его. Фуко зарычал.
– Фуко, фу! – Гурджиев остановил его.
– Здравствуйте, – тот показал Гурджиеву заранее подготовленное удостоверение и затем положил его в карман. – Младший лейтенант Давид Окуджава. Следователь.
– Георгий Мтацминдский,[13] – Гурджиев пожал ему руку, – поэт.
В действительности младший лейтенант Давид Окуджава не был следователем, а был одним из офицеров, прикрепленных к делу об исчезновении Нугзара Чикобавы. А следователем назвался для того, чтобы произвести впечатление на босоногого старика. Сделав заключение, что перед ним стоит один из блаженных, юродивых поэтов, нарекавших себя чудаковатыми псевдонимами, пишущих белые стихи, живущих в свинарнике и вслух говорящих с самими собой. В сущности, грузинские поэты именно такими и бывают. В тот момент Гурджиев был одет только в шорты, на поясе – терапевтический корсет, на плечах – взлохмоченная старческая шерсть. Дряблый, небритый подбородок дергался, как у жующего траву буйвола.
– Если позволите, задам всего несколько вопросов.
Гурджиев пялился своими близорукими глазами на Окуджаву, будто ничего не слышал. Окуджаве показалось, что ему сканируют мозги и одновременно заглядывают в душу. Молчание продлилось несколько секунд. «Изучает меня», – подумал Окуджава, и у него невольно задрожали ноги.
– Будь ты проклят, иезуит несчастный! – неожиданно бросил ему в лицо Гурджиев.
Лейтенант напрягся. А Гурджиев расхохотался:
– Ха-ха-ха… – Подбородок снова заходил. – Шутка, дорогой. А вообще, хочу, чтобы ты знал: когда я проклинаю тебя, груди мои благословляют тебя.
Окуджава невольно уставился на розовые соски старика, облепленные белой по-бараньи вьющейся шерстью.
Вдруг Гурджиев улыбнулся в усы, его косой глаз на секунду загорелся, и он пригласил лжеследователя зайти в квартиру:
– Заходи, дорогой, заходи.
Гурджиев посторонился. Лейтенант задержал дыхание, неохотно шагнул в квартиру. Гурджиев повел его на кухню, указал на стул. Тот сел, положил папку на стол рядом с открытым лэптопом, сверху – блокнот и ручку. Фуко начал старательно обнюхивать его ботинки и носки.
– Чай? Кофе? – предложил Гурджиев.
– Не беспокойтесь. У меня всего пара вопросов к вам, – Окуджава через носок чувствовал теплое дыхание и мокрый нос собаки.
– Слушаю тебя, – сказал Гурджиев и тут же спросил: – Булат Окуджава тебе кем-то приходится?
Фуко отстал от ноги лейтенанта, заскочил на свое кресло.
– Не знаю. – Лейтенант смутился. – Кто такой Булат Окуджава?
– Был такой, бард. Вспомнил просто… – Гурджиев достал яйцо из холодильника. – Могу сделать тебе гоголь-моголь. С корицей.
– Нет, спасибо, – Окуджаве уже хотелось сбежать, воздуха не хватало, казалось, сидел не в жилой квартире, а в берлоге бомжа, одежда уже наверняка начала пропитываться смрадом. И все же он спросил: – Начнем?
– Начнем, – Гурджиев вернул яйцо в холодильник, сел на стул по другую сторону стола.
Окуджава подумал, что старик, видимо, часто взбивает желток с сахаром. И, глядя на жирные пятна на стенах и линолеуме, решил, что они были забрызганы гоголь-моголем. Откуда ему было догадаться о сочившемся маслом Чикобаве. Лейтенант раскрыл блокнот, взял ручку:
– Вы ничего странного не замечали в последнее время?
– Странного? – Гурджиев оглядел кухню. – Когда?
Окуджава заглянул в папку:
– Двадцать пятого июня.
– Двадцать пятого июня… – Гурджиев погрузился в мысли, его лицо освещалось экраном лэптопа. – Если не ошибаюсь, в этот день 1857 года были опубликованы «Цветы зла» Бодлера, в 1872 году в Германии запретили деятельность иезуитского ордена, в 1907 году в Тифлисе Иосиф Джугашвили ограбил инкассаторскую карету, в 1910 году в парижском Гранд-опера состоялась премьера балета «Жар-птица» Стравинского, 25 июня считается днем рождения радужного флага. В этот же день в 1984 году скончался французский умница Мишель Фуко, – сказал и предался молчанию, закончив вещание.
При упоминании своего имени Фуко навострил уши, уставился на Гурджиева. Окуджава не понял – подавая эти википедические сведения, старик вслух тренировал свой старческий ум, прикидывался дураком или действительно был сумасшедшим. У лейтенанта закружилась голова. Казалось, зловоние пропитало не только каждый квадратный миллиметр его тела, но и проникло в мысли.
– Я спрашиваю про июнь сего года, – на всякий случай уточнил.
– Сего года… – Гурджиев снова задумался и, будто его осенило, вдруг захлопал в ладоши: – Точно! Разве не двадцать пятого июня снесли памятник Сталину в центре Гори? Вот уж странное дело!
Поскольку лейтенант был патриотически настроенным молодым человеком, ему захотелось сказать, что демонтаж памятника Сталину был скорее закономерным, нежели странным событием, но сказал совсем другое:
– Что вы скажете о вашей соседке Манане Кипиани, какая она женщина?
– Манана милая женщина, пальчики оближешь, – сказал неосмотрительно Гурджиев, вспомнив ее груди-дыни и круглые, мясистые губы.
В это время за стеной послышался глухой хрип. Возможно, Чикобава при упоминании Мананы забормотал. Окуджаву резко передернуло, тихо спросил у Гурджиева:
– Кто там?
– Койянискаци, – ответил серьезно Гурджиев.
– Кто-кто?
Поскольку Чикобава не замолк, Гурджиев привстал, жестом показал Окуджаве следовать за ним; тот вовсе не хотел никуда следовать за безумным стариком, но что-то неведомое, куда сильнее простого любопытства, заставило его пойти. Фуко тяжело соскочил с кресла.
Перед тем как открыть дверь кладовки, Гурджиев повернулся к лейтенанту и приложил к губам указательный палец: «Тс-с!», тот инстинктивно встал сзади старика. Из кладовки вырвался резкий, как ацетон, запах. Вначале Окуджава ничего не мог разобрать через слегка приоткрытую дверь, кроме висящей где-то в пустоте точки, которая светила красным светом. Однако когда глаза привыкли к темноте, увидел и стоящую фигуру с взлохмаченными, как у дикобраза, волосами темно-пепельного цвета, которая тихо бормотала: «Душа моя, душа моя, восстань, не безмолвствуй, близится конец, и к лицу тебе возмущение…»
По телу лейтенанта прошел холодный озноб, он прошептал Гурджиеву на ухо:
– Кто это?
– Абхазский негр, – шепотом же ответил Гурджиев, – из Адюбжи.
– Грузин?
– Скорее потомок тех африканцев, что князь Шервашидзе купил на рынке рабов в Стамбуле в XVII веке и ввез в Абхазию, – Гурджиев невольно повторил слова курицы.
Окуджава только сейчас разглядел рясу Чикобавы. При виде стоящего в темноте силуэта он вспомнил почерневшие мощи святых, увиденные в детстве в Печерской лавре в Киеве, и спросил:
– Монах?
– Да, монах… – Гурджиев ничего другого не смог придумать: – Отец Маврикий, мученик.
– Странное имя, – сказал Окуджава, а про себя заключил: «Психи какие-то!»
Чикобава выглянул из темноты на лейтенанта и, как снайпер жертве, посадил ему посередине лба красную лазерную точку. И заговорил: «Смерть воззрил, и ужаснула мя, и погребен быв, возлюбил путь праведный и покаялся…»
– Странное, – Гурджиев согласился, – но колоритное.
– А почему он взаперти?
– Некоторые монахи иногда уединяются в пещеру.
Окуджава хотел спросить, почему отец так воняет, но постеснялся.
Тем временем Чикобава захрипел:
Владыко Господи небесе и земли, Царю веков! Благоволи отверсти мне дверь покаяния, Ибо я в болезни сердцамоего молю Тебя, Истиннаго Бога, Света миру: Призри многим Твоим благоугробием И приими моление мое; Не отврати его, но прости мне, Впадшему во многаяпрегрешения. Ибо ищу покоя и не обретаю, Потому что совесть моя не прощает меня. Жду мира, и нет во мне мира, По причине глубокаго множества беззаконий моих. Услыши, Господи, меня, в отчаянии находящагося. Ибо я, лишенный всякой готовности И всякой мысли ко исправлению себя, Припадаю к щедротам Твоим.Наполненный впечатлениями младший лейтенант ни на секунду не мог допустить, что отец Маврикий и есть Нугзар Чикобава. Именно тот, кого он искал. По его мнению, заключенный в кладовке хоть и выглядел мучеником, пребывал в особом, вполне комфортном аду.
Гурджиев и Окуджава вернулись на кухню. Встав на задние лапы, Фуко оперся о Гурджиева, тот потер ему ушко. Из кладовки доносилось приглушенное песнопение: «Помилуй меня, поверженнаго на землю и осужденнаго за грехи мои. Обрати, Господи, плач мой в радость мне, расторгни вретище и препояшь меня веселием…»
– Не буду больше беспокоить, – сказал лейтенант, заключив, что в этом дурдоме ничего он путного не узнает, взял свои вещи со стола.
– Уже уходишь? – Гурджиев удивился. – Давай чаю хотя бы попьем, пока Бозона Хиггса не нашли.
– Да нет, спасибо, – Окуджава глянул на часы, – дел еще много.
– Ах, боже мой! Все дела и дела, отдыхать-то когда?! – Гурджиев вдруг повел рукой по щеке лейтенанта, вытащил у него из-за уха тонкую медовую свечку желтоватого цвета и протянул молодому человеку: – Это от меня. – Гурджиев обожал фокусы.
Уже окончательно растерянный Окуджава машинально положил ручку и свечку вместе в нагрудный карман рубашки. И вроде бы Хиггса тоже нашли, вспомнил он заголовок недавней статьи из какой-то газеты. Несмотря на стоящую в комнате вонь, он все же почувствовал приятный запах меда.
Вышли в прихожую. Гурджиев открыл дверь, протянул Окуджаве руку:
– Заходи иногда в гости.
Окуджава пожал Гурджиеву руку, заглянул ему в глаза и… вдруг совершенно забыл, где находился совсем недавно, кто был этот босоногий волосатик, похожий на лешего, извергающий черную сажу из ушей, и еще эта собака, невесть откуда взявшаяся, стоящая рядом со стариком и виляющая хвостом. А Гурджиев добродушно улыбался лжеследователю и одновременно пристально глядел ему в глаза…
В следующую минуту младший лейтенант Давид Окуджава спускался по лестнице подъезда с папкой в руках, со свечкой в кармане, с сухостью во рту и с пустотой в голове, и молитвой в сердце: «О, лоно недосягаемое и изобилие благоволения, очисти одеяние души моей грешной и спаси меня, чтобы взывал тебе раскаяния сердца моего. Аминь».
* * *
Об этом визите Нико ничего не знал. Но понимал, что так не может долго продолжаться и надо что-то срочно предпринять. Рано или поздно смрад непременно привлечет внимание соседей. Что повлечет за собой не просто потерю постера «Барбареллы», а реально большие проблемы. Любая мелочь сейчас могла все поставить вверх ногами.
Кроме того, надо было устроить две вещи: судьбу Гурджиева и Фуко. По правде говоря, Нико с трудом, точнее, совершенно не представлял, как в новой квартире весь пол будет в шерсти Фуко, а кресла – в его слюнях. В новую квартиру собака не вписывалась. Что до Гурджиева, то напрашивался вопрос, собирается ли он в конце концов исчезнуть в этих своих струнах или на худой конец – в кривой. Дело в том, что Нико собирался сделать в старой квартире ремонт и сдать ее. А при собаке и старике это было невозможно.
Но в первую очередь Нико все же беспокоила история с Чикобавой. В магазинах, на улице, в номере гостиницы или в кафе его вдруг передергивало – казалось, что вонь уже вырвалась из их квартиры и пропитала весь Тбилиси. Против самого Чикобавы он ничего не имел, в глубине души Нико даже нравились его покаянные песнопения. Но было ясно: от Нугзара следовало избавиться во что бы то ни стало. Пока не поздно. Даже если для этого придется разрезать его на мелкие куски и выбросить в целлофановых пакетах в помойку либо закопать где-то за городом. Правда, при одной мысли о топоре или пиле Нико чуть ли не в обморок падал. Но ничего другого в голову, к сожалению, не приходило. Все надежды были только на Нино, которая не поддержала идею расчлененки Чикобавы и сказала так:
– Подожди, что-нибудь придумаем.
И вот однажды, когда Нико и дизайнер выбирали кухню для новой квартиры в каком-то каталоге, на мобильный Нико пришло сообщение от Нино с одной единственной фразой: «Знаю, что нужно делать».
5
Старый универсал
Вечером Горозии сидели на веранде «Рэдиссона». Стояла приятная прохлада. Левая набережная Куры просматривалась как на ладони. Солнце еще не зашло, но уличное освещение в городе уже было включено. Столы вокруг в основном пустовали. Только поодаль сидели какие-то похожие на иностранцев грузины и иностранцы, похожие на грузин. Иногда легкий ветерок доносил аппетитные запахи из кухни ресторана. Перед Нино стоял эспрессо без сахара – гомеопатическая доза горького кофе. Небо было красноватым от заходящего солнца. Из динамиков лился какой-то лаунж. На нетронутом латте Нико пена уже подсохла и напоминала теперь женское бедро с послеродовыми растяжками, с которого сошел загар. Нико без конца складывал и раскладывал салфетку.
– Помнишь, в прошлом году мы видели маленькую церковь в Сабуе?[14]
– Помню, – сказал Нико, и перед его глазами встала крошечная, построенная из отесанных камней и крытая выцветшей черепицей древняя часовня с узенькими оконцами.
– Как-то странно называется…
– Не Хмала?[15] – подсказал Нико.
– Вот туда и надо отвезти Нугзара.
– Зачем? – спросил Нико. – Разве эта часовня не пустая?
– Тем лучше. Ночью втихаря отвезем туда Нугзара и оставим там, – Нино затянулась, – все очень просто. Потом местные жители обнаружат незнакомца, который целыми днями стоит и молится. Еда ему не нужна, в сне и туалете также не нуждается. Кто же выгонит молельщика из святилища? Сам Нугзар самостоятельно никуда не денется. К тому же никто не будет знать, кто он и откуда появился.
– Хорошо, но если он все расскажет?
– Он скажет только то, что позволит ему Рай.
– А то, что воняет? – больше всего Нико это беспокоило.
– Ну и что, – Нино пожала плечами, – в деревне по чуть-чуть все воняют.
Нико задумался. План Нино казался простым и нахальным и поэтому мог сработать. Наконец он сказал:
– То есть нужно с Раем поговорить.
– Лучше ты с ним поговори один на один.
Рядом со столом Горозий прошел официант с пиццей на подносе, оставив за собой запах теплого сыра, помидоров и оливок.
– Вот и отлично, – Нико вовсе не горел желанием поговорить с Гурджиевым один на один, но не подал виду, – заодно спрошу, когда сам думает исчезнуть.
– Об этом потом, – Нино потушила сигарету, – сначала нужно с Нугзаром разобраться.
Теперь Нико был готов поговорить не то что с Гурджиевым, даже с дерьмом Фуко, лишь бы только Нино вновь была рядом… или он был рядом с Нино. Хотя какое это имело значение. Нико в самом деле предпочел бы пообщаться с собачьим говном, нежели с Гурджиевым. Он опасался, что разговор у них затянется – Рай будет против выселения Чикобавы, его придется убеждать. Однако все прошло гладко.
На следующий день Гурджиев и Нико зашли в гостиную. В углу монотонно бормотал Чикобава. Нико глянул на него и тихо сказал Раю:
– Дальше держать его здесь невозможно.
Гурджиев только вздохнул. В комнате слышалось лишь тихое бормотание Нугзара: «Недостоин я просить себе прощения, Господи, ибо много раз давал обещание покаяться – и делался лжецом, неисполнившим обещания; много раз уже восставлял Ты меня, но я снова падал самовольно…»
– Есть одна хорошая молельная в Сабуе. Туда его отвезем, – продолжал Нико.
Гурджиев взглянул на Нико глазами, полными таким теплом и любовью, Нико даже забеспокоился:
– Для него же самого лучше будет, – сказал наконец, будто оправдывался. – Хмала почти что Малая…
– Наверное, – Гурджиев пожал плечами. – Когда отвозим?
Нико не ожидал, что Рай тоже захочет поучаствовать в операции.
– Завтра ночью.
– Договорились!
Нико кивнул.
– Что поделаешь, – сказал Гурджиев, а про себя тихо добавил: – Такова квантовая метафизика бытия.
* * *
Специально для транспортировки Чикобавы Горозии купили двенадцатилетний «Субару Форестер», неприглядную колымагу-универсал. Но то имелись веские причины. Во-первых, поскольку конечности Нугзара не сгибались, посадить его в кресло седана стало бы делом непростым. А в «Форестер», если откинуть заднее сиденье, не один, а все десять человек влезут. Разумеется, если укладывать их штабелями. Второе и главное – такая машина не привлечет внимание. Мало-мальски сносный автомобиль в деревне как бельмо на глазу. А на древний «Форес тер» кто посмотрит? Кроме того, несмотря на то что в паспорте было написано «светло-серебристый», авто было однозначно темно-пепельного цвета, с зашпаклеванной правой дверью и почерневшими от старости фарами. А никудышный салон годился разве что для перевозки покойников. Самое главное, со стороны багажника стекла были так затонированы, что снаружи не было ничего видно.
Было уже без малого два часа ночи, когда Нино подъехала на машине к подъезду, отключила двигатель и посмотрела на окна дома. Свет нигде не горел. Только в нескольких окнах можно было заметить бледное голубовато-фиолетовое мерцание телевизора. Фарами Нино дала знак Нико, который, согласно плану, выглядывал из темного окна кухни. А Гурджиев, одетый в кремовые шорты и белую футболку, в старых кроссовках Нико со стоптанными задниками, был прикован к глазку в прихожей – мониторил лестничную площадку. Глядя на него, Фуко ритмично помахивал натянутым хвостом, подобно стрелке метронома. Нугзар Чикобава лежал на полу, тщательно завернутый с головы до ног в целлофан, как замороженная рыба в открытом холодильнике супермаркета. Не то что смрад, целлофан не пропускал даже лазерный луч из его глаза.
Нико вышел в прихожую, сказал Гурджиеву:
– Нино приехала.
– Фуко, ко мне! – тихо скомандовал Гурджиев, открыв дверь.
Все прошло стремительно и по плану. Нико и Рай подхватили окаменевшего Нугзара, как бревно, и тихо понесли вниз по лестнице… Фуко следовал за ними. Мужчины засунули тюк в багажник «Форестера». Там на всякий случай валялось несколько автомобильных ароматизаторов с приятным запахом хвои. Нино завела двигатель, Гурджиев и Фуко разместились на заднем сиденье. Нико открыл дверь машины и, перед тем как сесть, на секунду глянул вверх на затемненные окна… Он никого не заметил. Ни замученную бессонницей и жарой старую Зину, которая, затерявшись в развешанных шерстяных вещах с запашком нафталина, сидела в это время в кресле на балконе и смотрела на улицу. Ни безбородого Абдуллу, выскочившего при звуке машины из постели и наблюдавшего из форточки своей землянки за их возней и автоматически запоминающего номер машины и время. Нико казалось, что единственный, кто не спал в этот момент в их дворе, была летучая мышь, хаотично кружившая при тусклом свете уличного фонаря.
– Поехали, – сказал Гурджиев.
Поющий сом
Едва выехав со двора, Нино включила радио. Установила предельную громкость, которая напрочь исключала беседу в салоне. Ей не хотелось все дорогу слушать басни Гурджиева. Из динамиков вместе со звуками дрим-попа как будто бы потянулись и молекулы валиума – успокаивающего и расслабляющего.
В полном безмолвии миновали аэропорт. Дремлющий в кресле Нико машинально скользил глазами по установленным вдоль трассы билбордам. Голова Фуко целиком высовывалась из открытого окна; язык вывалился из раскрытой пасти; ветер хлестал по морде, заставляя пса прижмуриваться. Нино смотрела строго вперед: ей вспоминалось начало какого-то фильма – под музыку в кадре мелькают желтые разделительные полосы освещенной фарами трассы. На экране плывут титры.
Гурджиев уже спал. Свернувшись, подобно эмбриону, пускал слюни на сиденье. Фуко вскоре надоело глотать ветер, он примостился у ног Рая, втиснулся и положил голову на Гурджиева. Тихое пение упакованного в целлофан Нугзара не было слышно на фоне музыки.
Нино была опытным водителем. Она быстро гнала машину по пустой трассе. Порой казалось, что она не впишется в поворот и машина сейчас перевернется. Однообразные, темные деревушки сменяли друг друга. Если бы не дорожные знаки, нипочем не угадаешь, когда кончалась одна и начиналась следующая. По мере удаления от Тбилиси признаки цивилизации стремительно исчезали, что делало ночную темноту гуще и осязаемее. Невозможно было разобрать, где горизонт, где соединяются черноватое синее небо и синеватая черная земля. Только стоящие на трассе билборды поддерживали связь с привычной реальностью, которая постепенно как будто оставалась позади. Когда промчались мимо поворота на Сигнахи, их догнала машина патруля с мерцающими синими и красными лампочками. Она появилась так неожиданно, словно сконденсировалась из темноты. Нико не испугался, рядом с Гурджиевым он чувствовал себя защищенным, ведь тот легко и играючи улаживал любое дело; и все-таки ладони вспотели. Нино сбавила ход, съехала с трассы, выключила радио и спустила окно. В зеркало она наблюдала, как полицейский вышел из машины, напялил фуражку и, прежде чем подойти к «Форестеру», поправил табельное оружие на поясе.
– Офицер Цинцадзе, – патрульный склонился к окну, – Ваши документы, пожалуйста.
– Сейчас, – Нино начала шарить в сумке.
Гурджиев спустил у себя окно:
– Здравствуй, – поздоровался с офицером. Тот оставил Гурджиева без ответа, взял документы у Нино, взглянул на водительские права:
– Почему превышаете скорость, гражданка Нино Дарчия?
Вместо ответа тявкнул Фуко.
Офицер вдруг оглянулся, почувствовав чье-то дыхание в затылок. Сзади никого не было.
– Фу! – Гурджиев унял собаку.
Офицер заглянул в «Форестер», оглядел пассажиров и собаку, заметил длинный пакет, торчащий в салоне из багажника:
– Что везете? – спросил.
Нико украдкой глянул на стоящую сзади них машину патруля, где сидел второй офицер. Пока Нино придумывала, что сказать, Гурджиев беззаботно ответил:
– Рыбу.
– Рыбу? – Офицер с подозрением присмотрелся к пакету, оттуда донесся глухой вой.
– Сом, – Гурджиев добавил, похлопал рукой по упакованному Чикобаве, – поющий сом.
Офицер положил руку на оружие, только сейчас впервые заглянул в глаза Гурджиеву и… покорно опустил руку. Всякое сомнение моментально улетучилось. Плечи опустились, лоб разгладился. Действительно, что могло быть в багажнике, если не поющий сом? Вернул Нино документы:
– Счастливого пути.
Нино завела двигатель, машина медленно тронулась.
Гурджиев высунул голову на улицу:
– Калистрату Цинцадзе[16] случайно никем не приходишься?
– Не знаю, – офицер потер затылок, снова почувствовал сзади чье-то дыхание, – кто такой Каллистрат Цинцадзе?
– Забудь… – крикнул Гурджиев стоящему на трассе офицеру. – Прощай, дружище!
* * *
Больше нигде не останавливались. Был шестой час, когда переехали мост над Алазани.[17] Рассветного солнца еще не было видно, горизонт только-только забрезжил. Мужчины спали. Природа просыпалась перед глазами Нино. Игра теней и цвета продолжалась всего несколько секунд. Было прохладно. Нино слегка ослабила акселератор, нажала на кнопку, чтобы спустить окно. В салон ворвался запах влажной земли и свежей травы. По одну сторону виднелись разбросанные по горам деревушки, чуть дальше – смутный призрак затянутого облаками Казбека, вдоль дороги проплывали кахетинские долины, поля, виноградники и рощи.
Когда на вершине горы появилась красная Греми,[18] Нино машинально отключила радио. Время будто замедлилось, раскинутое пространство на рассвете казалось бескрайним. Солнце всходило словно из бесконечности. Близость безлюдных полей, спящих виноградников, полинявших нив, неповоротливого Алазани, возвышенной Греми и призрак Казбека наполняли Нино непостижимыми эмоциями. Тишину нарушало лишь замогильное песнопение упакованного в целлофан Чикобавы. Нино сглотнула подкативший к горлу комок, вдруг ей захотелось перекреститься. Но какая-то сила не позволила. Невольно взглянула в зеркало и наткнулась на пристальный взгляд Гурджиева, качающего головой, как фарфоровый Будда. На его лице играла улыбка, одновременно осуждающая и сочувственная. Непонятно, кого он осуждал и кому сочувствовал…
– В Бога веришь? – спросила Нино.
Гурджиев задумался… как будто заглядывал своими близорукими глазами в самого себя, ища ответ. Затем через зеркало вперил взгляд прямо в глаза Нино:
– Боже упаси, – и резко расхохотался, – ха-ха-ха…
Нино не поняла, что Гурджиева так рассмешило – ее вопрос или свой собственный каламбур. Фуко залаял, как будто поддерживая Рая. От шума проснулся и Нико. Сразу узнал место – подъезжали к Сабуе.
Гастрономическая пьета
Нино остановила машину у часовни, крытой выцветшей черепицей. Гурджиев опустил окно – Фуко высунул голову, обнюхал воздух. Поблизости не было ни души. Только где-то далеко в поле шагал крестьянин с косой через плечо. Нико запомнил церковь не настолько обветшалой и маленькой – с прошлого раза она словно уменьшилась в размерах, как старуха. К тому же на ней росли деревья и какие-то кусты, как бородавки с волосами.
Мужчины вытащили Чикобаву из багажника, внесли в часовню… и замерли. В углу кто-то спал. Некое подобие кровати было сооружено из кирпичей и доски, и на этом ложе лицом к стене свернулся калачиком какой-то коротышка. Его лохмотья, казалось, были сняты с огородного пугала.
Нико быстро огляделся. Перед ним располагалась небольшая каменная комната. Где-то пять шагов в ширину и десять – в длину. Место соединения земли и стены заросло мхом. Рядом с кроватью валялось пыльное бревно, а на нем – заткнутая тканью на манер «коктейля Молотова» бутылка, наполовину наполненная какой-то мутной жидкостью, и газета с яичной скорлупой и засохшей хлебной коркой. На стене висел небольшой холст. Художник явно перестарался – вокруг головы у Спасителя был не нимб, а целое пламя, словно кто-то поджег Ему волосы. Лицо получилось чрезмерно длинным, а глаза – слишком большими и неестественно голубыми. Сгоревшие свечки на закопченных камнях вокруг холста напоминали желтых червяков.
Мужчины тихо положили упакованного Нугзара на пол. Фуко начал обнюхивать мох. Гурджиев достал перочинный нож из кармана, обрезал целлофан вокруг Чикобавы. В часовне вмиг завоняло. Мужчины поставили Нугзара на ноги, приставили его к стене в углу, с трудом согнули ему руки. Тот сразу начал молиться еле слышным хрипом – будто обрадовался, – как странник, вернувшийся к родному очагу. Нико достал из кармана салфетку и обтер ладони, запачкавшиеся маслом. В это время проснулся коротышка. Лениво привстал в кровати, протер глаза и уставился на гостей. У него было опухшее лицо, лохматые волосы и застарелая редкая щетина. Мужчина пригляделся сначала к Гурджиеву, затем с Нико перевел взгляд на Чикобаву. Наконец, увидел и собаку, которая показалась ему огромной белой крысой-переростком. Тут он неожиданно достал из-под матраса пастуший посох и замахнулся им как мухобойкой.
– Кто вы такие, черт возьми? – возмутился он сипло; за звуками подтянулся и винный перегар.
И нахмурился, хотя и безрезультатно. С такого жесткого бодуна он даже муравья не смог бы напугать. Скорее сам бы перепугался при виде того же муравья.
Фуко не залаял, только удивленно уставился на лохматого.
Быстро оценив ситуацию, Гурджиев поднял руку и произнес:
– Мы пришли с миром, мастер!
Человек чуть-чуть опустил занесенный посох.
– Кто вы такие, я спрашиваю? – спросил, уже смягчившись, гонор его куда-то исчез.
– Гм, кто мы такие… – Гурджиев понизил голос, будто вверял тайну, и украдкой указал на Чикобаву: – Вот он, главный.
Человек оглядел стоящего в углу Нугзара и невольно сам понизил голос:
– А он кто такой?
– Он пришел после меня, но стал впереди меня, и я не достоин даже развязать ремни его сандалий, хоть и пребывает он бос, – Гурджиев ответил шепотом, – и из его пиалы мы приняли уже добро за добро. – Затем спросил: – Готов к тому, чтоб тоже принять из его пиалы добро за добро?
– Не знаю. – Человек растерялся, положил посох на матрас. Он ничего не понял из сказанного незнакомцем. Но уже сообразил, что эти странные люди не должны причинить ему зла.
– Позволь облобызать тебя, – сказал Гурджиев, вдруг схватил коротышку за плечи, притянул к себе и поцеловал в обе щеки, одновременно вытащив из-за его ушей две наполненные чачей стопки. Одну протянул растерянному человеку, а вторую взял себе. – Как тебя звать, мастер?
– Гогия, – человек машинально принял рюмку, – Хурошвили. – Затем тихо добавил: – Говнюком тоже зовут.
Эти последние слова Гурджиев как будто не услышал:
– За наше знакомство, – чокнулся с окончательно сбитым с толку Гогией, залпом выпил водку, перевернул пустую рюмку. – Желаю, чтобы так же исчезли твои недруги, Гоги-джан! – цокнул кончиком языка и, распробовав напиток, добавил: – Ух, миро, что ни на есть.
– Будем! – сказал Гогия и пригубил стакан, но, как ни старался, никак не мог выпить чачу до конца.
Нико не понял, то ли благодаря очередному фокусу Гурджиева в малюсеньком стакане спиртное никак не кончалось, или Гогия пил такими маленькими глотками. Корчась, мастер страстно сражался со стаканом, водка так и капала ему на бороду. К стоящему в воздухе смраду Чикобавы подмешался горьковатый аромат чачи. Тут даже Фуко забеспокоился – залаял на Гогию, словно говорил ему, мол, хватит пить. И тот, сообразив, что не может выпить до конца, перестал, пригляделся к стакану. Тот был наполнен, как прежде, до краев, будто капли не было выпито. Но крепкий алкоголь ведь явно пробрал Гогию, по всему телу разливалось приятно расслабляющее тепло.
– Эта рюмка не опорожняется, – улыбнулся ему Гурджиев, – это называется: «Пил, пил, пил, так и не испил».
Гогия ничего не ответил, изумленно изучая свой стакан.
– Дарю, – сказал ему Гурджиев.
– Вот это… – тихо проговорил Гогия, – мне-е?
Гурджиев вновь улыбнулся:
– Пусть станет истиной слово сие, сказанное чистосердечно.
– Что вы там делаете столько времени? – сначала раздался голос Нино, затем сама она вошла в часовню. Уставилась на Гогию… глазами спросила Нико, дескать, а это еще кто такой. Фуко, виляя хвостом, подбежал к Нино.
– Нино ханум, знакомься, – Гурджиев представил мастера, – это наш брат и друг, Гогия Хурошвили – звездочет и волхв.
Волхв попытался встать, но Гурджиев не позволил:
– Не беспокойся, мастер, мы уже уходим, – и прежде, чем Гогия успел что-то сказать, зна́ком показал на стоящего в углу Нугзара: – Присмотришь ведь за ним, так?
Чикобава насадил лазерную точку на лоб Гогии и одновременно захрипел: «Умоляю Тебя, милосердный и человеколюбивый Гогия, душу грешную мне освяти, тело очисти в Алазани святом, ум направь, мысли очисти, смилуйся, пошли просветление на мою голову, и язык мой отсохший восхвалит правду Твою…»
У тронутого всем этим Гогии вырвалось:
– Присмотрю, а как же, бля!
Гурджиев вытащил из кармана шортов вырезанное из «Оракула» фото святого Маврикия, которое раньше висело на стене в гостиной Горозии, расправил и дал Гогии и даже сказал ему на кахетинском наречии:
– Это отец Маврикий, мученик.
Гогия не сообразил, кто имелся в виду – стоящий в углу или изображенный на фото, или это был один и тот же человек; смотрел то на фото, то на Чикобаву, будто искал десять различий между ними, но не находил ни одного. Чача уже так его разогрела, что он не смог бы найти различие между курицей и яйцом. По той же причине он не чувствовал воцарившийся в часовне смрад.
– Прощай, мастер, и возлюби нас! – сказал Гурджиев и направился к выходу. Поднял с земли целлофан, в который доселе был завернут Чикобава, на ходу со скрипом свернул в комок и вынес из часовни.
Фуко и Горозии молча последовали за ним.
Стоящий в углу Нугзар в это время низко хрипел: «…Душа моя, Владыка, страждущая грехами всякими и страстями неизмеримыми, воскресь ее прошением божьим твоим, яко некогда страждущая она, дабы я, умерший, тоже вопил: величия твердостей Твоих…»
Мастер так и застыл – полусидя на кровати, в одной руке наполненный стакан, в другой – лоскут газеты.
Все переживания Нико теперь моментально испарились. Гурджиев тоже казался довольным. Когда сели в машину, забросил комок целлофана в багажник и уверенно сказал:
– Йохтур… – почесал Фуко за ушком, – отныне о Нугзаре позаботится Говнюк.
* * *
На обратном пути кахетинский пейзаж уже не казался Нино так прелестным, как совсем недавно. Ни раскинутые поля, ни возвышенная Греми, ни призрак Казбека уже не привлекали ее. А Алазани показалась просто мутной. Поднявшееся солнце как-то сразу все опошлило, раскрыв все цвета, словно с женщины сдернули полупрозрачный чаршаф. Пока продолжалась та быстротечная волшебная игра теней и цвета, под чаршафом тело ее читалось лишь смутно. Теперь же оно было обнажено и расколдовано.
После Телави вдоль трассы появились бабульки, они расставляли вдоль дороги яблоки в ведрах, а на перекладины, прикрепленные к вертикальным стойкам, вешали кто чурчхелу на нитках, кто бусы чернослива. На низких лавочках почти у всех лежал сложенный, как шарф, тклапи.[19]
За всю дорогу до Тбилиси остановились всего один раз. Горозии и Гурджиев зашли в столовую «Икалто», чтобы позавтракать. Кроме здорового коренастого буфетчика, застегивающего пуговицы на грязно-белом потертом халате, никого не оказалось. Окрашенные в розовый цвет стены некогда были оклеены обоями: под краской проглядывали старые узоры. Тут и там висели длинные ленты клейкой бумаги с трупами мух. Пыльный вентилятор в центре потолка давно был в нерабочем состоянии: между его крыльями паук сплел паутину. А в советском холодильном прилавке, который зловеще тарахтел, стояла одна единственная тарелка с одинокой и очень старой рыбой. Никто не увидел, как буфетчик незаметно засунул под халат торчащие из живота тонкие кабели.
– Покормишь чем-нибудь, начальник? – еще издали спросил Гурджиев.
– Повар еще не пришел, – буфетчик ответил грубым голосом. – Есть каурма, вчерашняя… – направил волосатую руку на прилавок: – И вот эта кефаль.
Гурджиев пригляделся к названной кефалью рыбе и совершенно серьезно спросил:
– А это не из тех рыб, которых Христос размножил в пустыне?
В ответ буфетчик оскалил редкие зубы, подернулся, подобно некачественному изображению на телеэкране. Гурджиев сразу узнал улыбку, заглянул буфетчику в пятнистые глаза и… почтительно склонил голову – и тоже улыбнулся. В это время Нико рассматривал рыбу. Соответственно он не видел, как на секунду у обоих загорелись глаза и они уставились друг на друга, бесшумно зачмокав губами. Будь у Нико врожденный локатор, он поймал бы протянувшиеся между теми двумя малые эфирные колебания и коротковолновые электромагнетические излучения. Рай и буфетчик обменивались мыслями… изрыгая из ртов немного сажи. Бродячие души, бывает, сталкиваются друг с другом в весьма неожиданном месте и времени.
А рыба действительно выглядела подозрительно. Непонятно было, вареная она, жареная или вообще копченая. Превратившись в сплошной коричневый цвет в проникших через окно солнечных лучах, местами она отливала фосфором – казалось, что волнистая, скомканная чешуя подернулась плесенью. Глазная ямка была пуста и почернела изнутри, рот – слегка приоткрыт, как будто давно испустила дух. На тарелке она скорее покоилась, нежели лежала. Голова и хвост свешивались с тарелки. Глядевшую на эту гастрономическую трагедию Нино чуть не стошнило.
– Пошли отсюда, – сказала она Нико.
Рыба была ни при чем. В последнее время Нино нередко испытывала приступы тошноты – она была беременна. И, как сама думала, скорее от Гурджиева, чем от Нико. Допуская, что от первого она могла забеременеть во сне. Установить, кто биологический отец, ничего не стоило, Нино об этом сильно не парилась. Главное, что после долгих лет безрезультатных попыток – наконец-то! – она чувствовала в животе незнакомого еще обитателя.
Надувной ангел
После переселения Нугзара у Горозий все пошло на лад – если кому везет, то уж по полной программе и до отказа, комплексно. Оставалась лишь одна заминка: будущее Гурджиева и Фуко. Об исчезновении Мананы Кипиани они случайно узнали от Гурджиева. Тот узнал об этом из сплетней соседей (в старых кварталах Тбилиси все обо всех знают все; или почти все) – по поводу Нугзара Чикобавы к ней несколько раз наведывались из полиции, но не задержали, затем какие-то типы увезли ее на черном «Мерседесе», и с тех пор она не появлялась. Видимо, какие-то люди искали Нугзара в неверном направлении… Хотя до Мананы Кипиани Горозиям было как до лампочки. Они уже въехали в новую квартиру, и пересуды бывших соседей для них остались в прошлом.
Дизайнер Коки превзошел все ожидания. Так обустроил за кратчайшее время их новую квартиру, что даже Нино не к чему было придраться. Мельчайшие детали точно выверенной формы и цвета так гармонично сочетались, будто были созданы друг для друга. Поэтому задачу найти место для кондитерской и обустроить ее Горозии тоже полностью возложили на Коки.
А тот и место быстро нашел, и даже успел начать ремонт со своей группой строителей. Как выяснилось, этот Коки помимо дизайна отлично справляется с функциями прораба. На пересечении улиц Палиашвили и Базалети на первом этаже четырехэтажного дома сначала какой-то тбилисский кутюрье обустроил свою студию, затем там появилась вывеска стоматологической клиники (которая так и не открылась), одно время даже торговали фруктами и овощами, но в конце концов на витрине, обклеенной желтой бумагой, появилась надпись большими буквами: «Сдается или продается», там же был указан и номер телефона.
– Если есть возможность, лучше купить, – посоветовал Коки Горозиям, – в случае чего коммерческую площадь в таком месте в любой момент продашь без проблем.
И те, недолго думая, купили (кстати, довольно дешево); одобрили разработанный в компьютере Коки проект интерьера и название, который Коки придумал для их новой пекарни: «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО».
Как переехали на новую квартиру, в старую почти перестали заходить. И Гурджиева, у которого в компаньонах остались лишь Фуко и лэптоп, почти не вспоминали. Хотя интересовались, когда же наконец он съедет с квартиры, вопрос сдачи которой уже решили, и Коки скоро должен был приступить к ремонту. Соответственно, хотел он того или нет, Гурджиеву надлежало в самом скором времени оттуда исчезнуть – в прямом или переносном смысле.
* * *
Однажды вечером Горозии сидели на диване в гостиной – смотрели «Профиль» в настенном широкоэкранном телевизоре. В студии собрались гости – звезды грузинского театра и кино разных поколений. Как всегда, было много грусти, откровений и пролитых слез. Каким же черствым надо быть, чтобы все это не тронуло?!
И в тот момент, когда ведущая кокетливо объявила о рекламе, после которой ожидается сюрприз, Нино повернулась к Нико и прямо, без всякой подготовки, сказала:
– Я беременна.
Нико вдруг растерялся. На какое-то время потерял дар речи. Потом пробубнил:
– Сколько уже?
– Почти два месяца, – Нино улыбнулась.
Воцарилось неловкое молчание.
– УЗИ сделала? – спросил Нико, чтобы нарушить молчание.
Нино положила его руку себе на живот. Нико ничего не почувствовал, лишь некоторую отверделость живота жены. Которую он почему-то приписал ее занятиям в бассейне. Но не подал виду – тоже улыбнулся. Знал, что должен обрадоваться, но не знал, как должен выразить эту радость. Нико тщетно искал нужные слова; смутивший, не понимал, что делать – обнять Нино, убрать с ее живота руку, которая уже нагрелась, или… Снова Нино проявила смекалку – притянула Нико к себе, обняла и тихо сказала:
– Иди ко мне, – и кокетливо, как та ведущая, добавила: – Впереди ждет главный сюрприз.
* * *
Гурджиев тоже фактически пропал, словно Манана Кипиани. После Нугзара и параллельно с «Хаусом» он нашел себе новое развлечение – создал профиль на «Фейсбуке», с найденными в интернете своими фотографиями, которые нашел там же, открыл личную стену и собрал в друзьях около тысячи людей из разных уголков мира. Небольшой виртуальный кружок фанатиков и преданных ему людей день ото дня расширялся перед его глазами. Знание языков облегчало дело. Правда, это были поверхностные знания, но вполне достаточные для того, чтобы трепаться на «Фейсбуке». Тем более тут часто обходились только выражающими эмоции иконками. Мало помалу социальная сеть совершенно засосала Гурджиева – как безумный, он дневал и ночевал перед лэптопом. Одновременно беседовал с сотнями людей из разных точек земного шара, ставил лайки, подмигивал, обменивался музыкой и фото, давал и получал уйму советов. Становился другом и сам принимал в друзья каждого встречного-поперечного, не оставлял без ответа ни одного комментария и сам тоже не оставался без комментариев и лайков.
От Фуко он теперь постепенно отдалялся. Только выгуливал его – и с нетерпением ждал, пока собака сделает свои дела, чтобы вернуться в квартиру и снова засесть перед лэптопом.
* * *
Тем временем имя Нугзара – он же отец Маврикий – получило широкую огласку. Сначала в Сабуе, а затем в прилегающих к ней деревнях прошел слух о лекаре-чудотворце из Хмала-Церкви. Оттуда весть о нем добралась до Телави, а там и до Тбилиси. Грузия маленькая страна – из одного конца в другой птички не летают, а прыгают. А вести были настолько фантастические, что не было необходимости даже приукрашивать их. Как всегда, к появлению очередного чудотворца сначала все отнеслись с подозрением, а потом валом повалили к нему.
Грузинские деревни испокон веку были богаты лекарями и волхвами. Здесь всегда найдутся чудотворцы, которые раскрывают закрытую судьбу, восстанавливают разрушенные семьи, находят пропавших или их могилы, возвращают сбежавшего супруга, готовят талисманы на довольство и от сглаза, оплодотворяют бездетных, делают лекарство против старости и рака – из ослиного мозга, волчьей лапы, вороньей печени и т. д.
Кроме лекарей Грузия славится обилием икон, источающих миро. Здесь часто можно встретить чудотворную икону или фреску, струящуюся маслом, яко ароматы источают благоухания, и чудодейственно исцеляющую страждущих. Однако с отцом Маврикием была совершенно другая история – он и сам лекарь, и миро источает, яки масло (это масло немного попахивает машинным, но кого это интересует). К тому же он словом своим служил делу доброму и, что самое главное, безо всякого вознаграждения.
А история эта началась так: как только Горозии и Гурджиев выехали из Сабуе, Гогия поплелся домой, выписывая восьмерки. Чача так дала ему по шарам, что он еле держался на ногах. Хотя голову сохранил свежей. Знатоки знают – некоторые напитки укрепляя все члены, расслабляют душу; другие же наоборот, то есть душу в высшей степени окрепляют, а члены ослабляют. Однако известно, напиток тогда хорош, когда расслабляет и душу, и члены. Вошедшего во двор Гогию радостно встретила дворняжка Джибо.
– Уйди, Джибо, – отогнал ее ногой, – не до тебя мне. Поднялся на второй этаж, потряс спящую жену
Марту – она же Матико, – которая давно была прикована к постели. Ее красные распухшие ноги будто обожгла крапива, а из язв сочилась жидкость. У Матико были сросшиеся брови, крошечный носик, короткий лоб, узкие губы и чуть заметные усы. Грузная была женщина, с пышными руками. Чем-то походила на медведя. Гогии почти не было видно рядом с ней. Эта женщина-гора страдала больными ногами.
– Матико, ты спишь?
– Где ты шлялся?
– Вставай, – начал подгонять Гогия, – вставай быстро.
Та и не думала шевелиться, решив, что муж нажрался с утра пораньше. Правда, странно горящие глаза Гогии несколько ошарашили ее, и она спросила (хоть и была крупная женщина, но сердечко было маленькое):
– Ты скажешь или нет, что случилось?
– Чудо!
Матико только сейчас заметила стакан в руке мужа:
– Че там у тебя в стопке, водяра, что ли?
– Какая водяра… Миро это.
– Ах так, да? – Марта скинула с себя одеяло. – Сейчас я тебе покажу чудо!
– Обожди, женщина, обожди, дай сказать… – Гогия посмотрел на опухшие ноги жены, торчащие из-под ночнушки, и поднял стакан вверх. – Сколько ни пей, стопочка эта остается полной. Это называется… – нахмурил лоб, но никак не мог вспомнить название. – Черт! Называется как-то. Забыл.
– Это как раз для тебя.
– Ты слышишь меня, нет? Говорю, что остается полной. Давеча чувак пришел в Хмала… – почему-то Гогия не посмел соврать, хотя предпочел поделиться только частью правды. – И, в общем, сейчас он там молится.
– А тебе-то что, пусть молится, ничего с ним не будет.
– Что еще с ним может быть, – Гогия поставил полный стакан на стол, – дохлый как будто.
– Дохлый? – У Матико в голове пробежала плохая мысль, она невольно прикрыла одеялом ноги. – Не ты ли…
– Таким и был, – Гогия прервал ее, – и сейчас он там. Стоит в темноте и хрипит, глаз один… красный.
В подтверждение своих слов хотел показать жене кусок газеты; пошарил в карманах брюк, но не нашел.
Сложно сказать – Марте от мужа сообщилось волнение или одолело простое любопытство; она снова скинула с себя одеяло:
– Дай руку, помоги.
Медленно двинулись в сторону Хмала-Церкви. Сложно было Матико идти – одной рукой она опиралась на костыль, с другой стороны ее поддерживал Гогия. На плечах – бумазейный пестрый халат в цветочек. Неслушающиеся, больные ноги засунуты в галоши со смятыми задниками. Медленно покачиваясь из стороны в сторону, она тяжело ступала по просеке. Шедшая рядом с ней Джибо отрабатывала свой собачий долг, равнодушно облаивая соседских псов через забор. Растекавшийся из часовни смрад Матико почувствовала издалека.
Заглянула в церковь, но ничего не смогла разобрать, кроме красной точки, висевшей в воздухе в самом темном углу. Из глубины церкви доносилось тихое пение: «…Господи, даруй мне ручьи слез, поминание смерти незабвенное и мягкость сердца, ибо стал я кроток…»
Убедившись, что все тихо, Матико зашла в часовню. Приблизилась к стоящему в темноте и, как следует разглядев его, черного и мироточащего, вмиг окаменела. Нугзар резко замолчал, опустил единственный глаз на опухшие и больные ноги Матико, поставил на них красную точку и захрипел:
– Молюсь Тебе, Боже наш, немощного раба Твоего посети Твоею милостью. Да, Господи, пошли с Небес Твою целительную силу, коснись ее тела, угаси жар, укроти страдание и всякую немощь, в ней таящуюся. Будь врачом Твоего раба, воздвигни ее с одра болезни, с ложа страдания в здравии и крепости. Даруй ее Твоей святой Церкви угождающей и творящей Твою волю!..
При этих словах немочь в ногах мгновенно покинула Матико. В экстазе она бросилась на колени, поклонилась лекарю и уверовала в него. Гогия был готов поклясться, что от неведомой силы, сошедшей в это время на Матико, его жена даже слегка похорошела. И действительно, в тот момент Матико больше напоминала медвежонка, нежели медведя.
После этого слух о способностях отца Маврикия разлетелся мгновенно. Это было его первое сотворенное чудо в Хмала. С того дня он оттуда не выходил, стоял день и ночь в темном углу и молился, не переставая. Между делом даровал всем то, чего им больше всего не хватало, – скромность, покорность и кротость, дабы шли они по жизни правильной дорогой.
Что с того, что отец Маврикий безжалостно вонял. Мало того, поскольку маслом его никто уже не смазывал, он потихоньку начал сохнуть, ноги и лицо подернулись мхом, а плоть сходила ошметками, так что кое-где и кости проглядывали. Но кто обращает внимание на подобные мелочи, когда дело касается чуда?
Одним субботним вечером, когда Нино принимала душ, Нико валялся на диване перед телевизором и смотрел «Постскриптум», показывали сюжет о чудотворце где-то в Сабуе. Чего только не рассказывал и стар и млад об отце Маврикие. Как он исцелил их одним лишь словом после длительной и тяжелой болезни. Рассказывали, как прозрели слепые, услышали глухие и заговорили немые… Показали и Хмала-Церковь, все такую же старую и маленькую. Вокруг нее толпилось море людей, как при обходе Каабы паломниками во время хаджа. В часовню тянулась нескончаемая очередь страждущих. Наконец показали и самого отца Маврикия, хрипящего в тени часовни: «…Господи Боже наш, наказуй и паки исцеляй, воздвигая от земли нища, и от гноища возвышай убогого, милостивне исцелял еси болящия, и немощныя, отпустив им грехи. И ныне рабом Твоим, в немощи душевней и телесней зле страждущим, исцеление даруй, подай им оставление грехов: и уврачуй всякую язву, всякий недуг и всякую болезнь их…» Нико показалось, что он еще сильнее почернел и усох. Сильно отросшие волосы стояли дыбом, как папаха, лицо поросло мхом, а красный глаз сверкал еще ярче. По окончании сюжета ведущий сказал из студии:
– По решению Гремской епархии рядом с Хмала-Церковью начинается строительство нового храма. Абоненты «Магти», «Джеосела» и «Билайна» могут перечислить деньги на строительство по номеру…
Потрясенный сюжетом Нико почувствовал подступивший к горлу комок, моментально набрал по мобильному объявленный номер и, не раздумывая, перечислил десять лари в фонд строительства храма.
В ту ночь ему приснилось, будто они с Нино только что вернулись из Парижа, валяются на кровати и рассматривают отснятые фотографии. По фотографиям получается, что в Париж Нино ездила одна. Нико не видно ни в одном кадре. Вот Нино сидит в переполненной «Ротонде», вот рассматривает мозаику в базилике Сакре-Кёр, вот, опершись о перила, смотрит на Сену с Нового моста, вот стоит где-то на улице, просто улыбается на фоне красного «Феррари»… Только единственный кадр сохранил силуэт Нико – на Рю Камбон перед домом «Шанель» витрина случайно отразила его с фотоаппаратом в руках, когда он снимал Нино. Нико рассматривает разложенные на кровати фотографии. Он хорошо помнит, где и когда снимал каждый кадр. Не может вспомнить только один: на фотографии вечер, Нино стоит рядом с Пирамидой Лувра, на палец намотана нитка, на которой качается белый надувной шарик в форме ангела. Странный шарик – будто бы не резиновый, а бумажный; поверхность не гладкая – с помятостями и бороздками. Кроме того, тускло светится изнутри, как китайский фонарик. Ангел хочет взлететь к небу, но нитка не пускает.
* * *
Утром Нико встал с постели, тихо, чтобы не разбу дить Нино, взял одежду и вышел из комнаты. Быстро умылся. Чай пить не стал. И спустился в гараж.
Вскоре уже поворачивал с Чавчавадзе на Атарбекова. Заметил на углу улицы рядом с супермаркетом курящего безбородого Абдуллу… Серовато-голубой дым постепенно окучивался над его головой и походил на зонт атомного гриба. Казалось, что еще немного, и Абдулла растворится в нем и от него останется лишь столбик дыма.
Дверь в старую квартиру Нико открыл своим ключом. В прихожей стоял тяжелый воздух, хотя не такой смрад, как при Нугзаре. Все было тихо. Фуко не показывался. Наверное, Гурджиев пошел с ним гулять, подумал Нико, и очень удивился, обнаружив на диване в гостиной спящего Рая, который по горло завернулся в простыню. У изголовья на стуле лежал включенный лэптоп – экран освещал небритое уже несколько дней лицо. Вытекшая изо рта пена засохла на бороде. Куда исчез прежний, полный жизни Гурджиев? Перед Нико лежал дряхлый старик с впалыми щеками. Рай открыл глаза:
– Давно тебя не было, – попытался улыбнуться, но не получилось.
– Вот, пришел, – у Нико тоже не получилась улыбка, – яйца принес.
Он осторожно опустил пакет на стол.
– Гм, я от этих яиц скоро кудахтать начну, – Гурджиев вновь неудачно пошутил. Разговор не клеился. В комнате воцарилась неловкая тишина.
– Где Фуко? – спросил Нико.
Гурджиев привстал на диване, уставился на Нико, будто не понял вопроса. Наконец тихо и пристыжено сказал:
– Я съел его.
В другое время Нико подумал бы, что он забавляется, а сейчас сразу понял, что Гурджиев говорит правду. Нико передернуло. Голова закружилась, и он свалился как подкошенный на стул. Ни на йоту не испугался. Перед ним сейчас лежал коварный и отвратительнейший, хотя совершенно беспомощный старик. Ему захотелось разозлиться на этого хрыча, наорать на него. Для какого же мерзкого ритуала ему понадобилось сожрать друга, который ни на секунду не отходил от него?! Но Нико не мог ни злиться, ни орать на него, поскольку в глубине души был благодарен Гурджиеву. Ведь он и сам планировал избавиться от Фуко. А Гурджиев хоть жутким способом, но в итоге решил эту проблему в пользу Горозии.
– Очень голодный я был, дружок… – начал тот.
– Ты должен уйти, – прервал Нико, – сейчас же.
Тот молча встал с дивана, в одних трусах вышел из комнаты.
Скоро вернулся в той же одежде, в которой был одет в первую ночь. Как и тогда, потрепанный белый пиджак был расстегнут, между карманом и пуговицей черного атласного жилета висела золотая цепочка. Ноги засунуты в плосконосые пыльные штиблеты. На голове та же смушковая черная папаха. Единственное, сейчас все ему было велико, словно был одет в чужую одежду.
– Прощай, дружок, – сказал Гурджиев.
Нико не двинулся со стула, только поднял руку. При виде пустого кресла, облепленного белой шерстью Фуко, к его горлу подступил комок. Старое кресло было так прогнуто, будто собака только что соскочила с него.
Гурджиев вышел на лестничную площадку, закрыл за собой дверь. Какое-то время Нико сидел неподвижно. Затем обошел комнаты… без цели, просто так. Квартира нуждалась в капитальном ремонте. Все было загажено маслом. Он заглянул в шкафы, кладовку… В ванной лежал толстый слой пыли, а на потолке на кухне висела паутина. Раковина была завалена немытой посудой, на грязном столе стоял стакан с засохшим гоголь-моголем и приклеившейся ложкой. Нико открыл холодильник. В нем было пусто, и только в морозильнике лежала отрубленная голова Фуко, которая как будто улыбалась. Нос и погасшие глаза покрылись тонким слоем льда.
Примечания
1
Аналог российской передачи «Пусть говорят». (Здесь и далее прим. пер.)
(обратно)2
Слово «Гурджи» представляет собой застывшую форму прозвища, которое восходит к тюркскому слову «гурджи», что значит «грузин».
(обратно)3
Грузинский лингвист и филолог, 1898–1985.
(обратно)4
Имеется в виду фильм Йылмаза Гюнея, 1982.
(обратно)5
Церковь на склоне горы Мтацминда, в которой похоронен писатель А. С. Грибоедов.
(обратно)6
Аналог российской «Из рук в руки».
(обратно)7
Гора в Тбилиси, на которой расположен пантеон, где похоронены великие люди Грузии. «Мтацминда» – букв. «Святая гора».
(обратно)8
Монумент в столице Грузии, символ Тбилиси.
(обратно)9
А. С. Пушкин. «Путешествие в Арзрум».
(обратно)10
«Лечебная книга» Зазы Панаскертели-Цицишвили (XV в.) с обширными сведениями о лекарствах растительного, животного и минерального происхождения.
(обратно)11
Ваке – фешенебельный квартал Тбилиси.
(обратно)12
Пригород Тбилиси с фешенебельными дачами.
(обратно)13
Известен также как Георгий Святогорец (от «Мтацминда» – «Святая гора»), 1009–1065. Грузинский монах, автор духовных сочинений, переводчик. Один из самых почитаемых грузинских святых.
(обратно)14
Деревня в районе Кварели недалеко от Греми, на южном склоне кахетинского участка Большого Кавказского хребта.
(обратно)15
«Хмала» букв. «меч» по-грузински.
(обратно)16
Каллистрат (Михайлович Цинцадзе), 1866–1952. Епископ Грузинской православной церкви, католикос-патриарх всея Грузии.
(обратно)17
Крупнейшая река на востоке Грузии.
(обратно)18
Крепость с церковью Архангелов.
(обратно)19
Сушеное пюре из сливы ткемали.
(обратно)



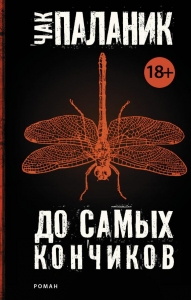
Комментарии к книге «Надувной ангел», Заза Бурчуладзе
Всего 0 комментариев