Уильям Сьюард Берроуз Интерзона
Палец
Ли не спеша брел вверх по 6-й авеню со стороны 42-й улицы, отражаясь в витринах.
«Я должен это сделать,» повторял он про себя.
Вот и она. Лавка ножовщика. Ли стоял перед ней, дрожа от холода в своем поношенном честерфильде с поднятым воротником. Одна из пуговиц на пальто отсутствовала, ненужные нитки трепались на ледяном ветру. Он медленно обогнул витрину и вошел, разглядывая ножи, ножницы, карманные ножики, пневматические пистолеты и наборы инструментов с металлическими ручками, упакованные в небольшие кожаные пакеты. Ли вспомнил, что как-то раз в детстве ему подарили такой набор на Рождество.
Наконец он увидел то, что искал: ножницы для резки дичи, точь в точь такие, как те, которыми отец обрезал у индюшек лапки на День Благодарения у бабушки.
Ножницы лежали, блестящие и гладкие, одно лезвие — прямое и острое, другое — с зубцами, как у пилы, чтобы придерживать мясо.
Ли попросил эти ножницы посмотреть. Он поклацал ими, проверил лезвия большим пальцем.
«Нержавеющая сталь, сэр. Не только не ржавеет, но и не тускнеет.»
«Сколько?»
«Два доллара семьдесят девять центов с налогом.»
«Хорошо.»
Продавец запаковал ножницы в коричневую бумагу и плотно замотал сверток клейкой лентой. Ли показалось, что бумага, хрустя, оглушительно шумит в пустой лавке. Он разменял последние пять долларов и вышел, ощущая тяжесть ножниц в кармане пальто.
Он пошел вверх по Шестой авеню, бормоча:
«Я должен это сделать. Теперь-то уж придется это сделать, раз купил ножницы.»
Он увидел вывеску: «Отель Аристо».
Консьержки не было. Он поднялся на один этаж. Старик, тусклый и размытый, как старая фотография, стоял за конторкой. Ли зарегистрировался, заплатил доллар аванса и забрал ключ с массивным бронзовым брелком.
Он вошел в комнату, как в черную шахту. Включил свет. Потемневшая от времени мебель, двуспальная кровать с тощим матрацем и провисшей сеткой. Ножницы он положил на тумбочку перед вращающимся овальным зеркалом.
Ли прошелся по комнате. Снова взял ножницы и поместил последнюю фалангу своего левого мизинца против зубцов, нижнее лезвие точно на суставе. Медленно он опускал верхнее лезвие, пока оно не коснулось мякоти пальца. Посмотрел в зеркало, изобразив на своем лице надменную маску денди XVIII века. Глубоко вздохнул, сжал ручки быстро и сильно. Боли он не почуствовал. Кончик пальца упал на тумбочку. Ли повернул руку и поглядел на обрубок. Кровь брызнула ему в лицо.
Неожидано он ощутил острую жалость к кусочку пальца, лежащему на тумбочке с несколькими капельками крови, собравшимися вокруг кости. Слезы навернулись ему на глаза.
«Не помогло,» сказал он голосом усталого ребенка. Он привел свое лицо в порядок, стер с него кровь полотенцем и накрепко перевязал палец, добавляя больше марли по мере того, как просачивалась кровь. За несколько минут кровотечение прекратилось. Ли подобрал обрубок пальца и положил в жилетный кармашек. Затем вышел из отеля, швырнув ключ на конторку.
«Я сделал это,» сказал он себе. Волна эйфории захлестнула его на улице. Он зашел в бар и заказал двойной бренди, встречая все глаза одинаково дружелюбным взглядом. Добрая воля изливалась из него на всех встречных. Жизнь, полная оборонительной враждебности, осталась позади.
Спустя полчаса он сидел на скамейке в Сентрал-Парке в компании своего психоаналитика. Тот все пытался убедить его отправиться в Белльвью и предложил «прогуляться и все обсудить».
«Серьезно, Билл, ты рубишь сук, на котором сидишь. Когда ты поймешь, осознаешь, что ты сделал, тебе понадобятся услуги психиатра. Для твоего „я“ это будет уже слишком.»
«Мне нужно только зашить палец. У меня сегодня свидание.»
«Серьезно, Билл, я не представляю себя в дальнейшем твоим аналитиком, если ты и на этот раз не послушаешься меня.» Голос его перешел на фальцет, на визг, он был почти в истерике. Ли не слушал: он глубоко верил в своего доктора. Доктор о нем позаботится. Он обернулся к нему, улыбаясь, как маленький мальчик:
«Почему бы Вам самому не зашить?»
«Я не делал этого с тех пор, как был практикантом, и, в любом случае, у меня нет с собой инструментов. Зашить нужно правильно, иначе можно запросто получить заражение крови.»
В конце концов, Ли согласился зайти в Белльвью — только для оказания медицинской помощи.
Ли сидел на лавочке в Белльвью, дожидаясь, пока доктор закончит с кем-то беседовать. Доктор вернулся и отвел Ли в другую комнату, где практикант зашил ему палец и наложил повязку. Доктор все продолжал убеждать его сдаться на обследование; Ли внезапно овладела слабость. Медсестра попросила его откинуть голову. Ли почувствовал, что должен целиком положиться на доктора.
«Хорошо,» сказал он. «Я сделаю, как вы скажете.»
Доктор похлопал его по руке. «Ага, Билл, ты делаешь все, как надо.» Он провел Ли мимо нескольких столов, где тот подписал какие-то бумаги.
«Пойду разберусь с канцелярщиной,» сказал доктор.
Наконец, Ли, облаченный в халат, оказался в пустой палате.
«Где моя комната?» спросил он у медсестры.
«Ваша комната! Я даже не знаю, к какой из кроватей вы приписаны. Так или иначе, вы не можете пойти туда до восьми часов, пока не будет специального распоряжения врача.»
«Где мой доктор?»
«Доктор Бромфилд? Сейчас его нет. Он будет завтра около десяти утра.»
«Я имел в виду, доктор Хоровиц.»
«Доктор Хоровиц? Не думаю, чтобы здесь такой работал.»
Ли огляделся вокруг. Пустые коридоры, мужчины, бродящие по ним в пижамах, бормочущие что-то под холодным, безразличным взглядом служителя.
Черт, да это же психиатрическая клиника, подумал он. Он затащил меня сюда и смотался!
Годы спустя Ли рассказывал эту историю так:
«Никогда я не говорил тебе о том, как у меня был приход Ван Гога, и я отрезал себе кончик мизинца?» С этими словами он показывал свою левую руку. «Так вот, эта девица. Живет в соседнем номере от меня в меблированных комнатах на Джейн-Стрит. Я в нее влюблен, а она такая тупая, что я никак не могу произвести на нее впечатление. И каждую ночь я слышу, как она там, в соседней комнате, с другим мужиком на полную катушку. Это меня окончательно доконало. Ну, я и отрезал начисто кончик вот этого мизинца. Решил подарить его ей: „Пустячное напоминание о моей неугасимой страсти. Предлагаю Вам носить вот это на шее в флакончике с формальдегидом.“
Но мой психоаналитик, вонючий ублюдок, затащил меня в психушку, а обрубок пальца послали в Поттерсфилд, приложив к нему свидетельство о смерти, потому что кто-то ведь мог найти этот обрубок, и полиция стала бы искать остальные части тела.
Если тебе, милок, когда-нибудь случится оттяпывать себе палец, не вздумай брать ничего, кроме ножниц для дичи. Только ими ты наверняка отрежешь начисто.»
«А что же с этой девицей?»
«О, к тому времени, как я выбрался из дурдома, она уже давно переехала в Чикаго.
Я больше никогда ее не видел.»
Ли и мальчики
Солнечный луч падает на внутреннюю сторону бедра мальчишки, сидящего на крыльце в шортах, ноги его раздвинуты, и вас охватывает спазм — сперма брызжет в бесконечном оргазме, стекая по камням улицы, шея и спина ломаются… теперь лежащего мертвым, глаза закачены, видны белые длинные разрезы, постепенно из белых становящиеся красными, а кровь, как слезы, стекает по лицу…
Или неожиданный запах соленого воздуха, звуки рояля внизу по улице города, горячий полуденный ветер трясет листьями пыльного тополя, картины взрываются в мозгу, как ракеты, от запахов, звуков вас сводит судорога, ностальгия переходит в невыносимую, страшную боль, мозг превратился в перегруженный коммутатор, посылающий сумасшедшие сигналы внутренностям. Наконец, тело не выдерживает, сжимается, как бешеная кошка, кровяное давление падает, флюиды текут по разбухшим дряблым артериям, за шоком следуют кома и смерть.
Кто-то постучал в наружный ставень. Ли открыл окно и выглянул наружу.
Мальчик-араб лет четырнадцати на вид — они всегда выглядят моложе своего возраста — стоял и улыбался так, что понять его двусмысленно было нельзя. Он сказал по-испански что-то, что Ли не расслышал. Ли отрицательно помотал головой и стал закрывать ставень. Мальчик, все продолжая улыбаться, взялся за него, пытаясь помешать Ли. Ли рванул ставень и захлопнул его. Он почувствовал, как грубое дерево поймало и разорвало руку мальчика. Мальчик, не сказав ни слова, повернулся и пошел прочь с опущенными плечами, держась за свою руку. На углу маленькая фигурка попала в столб солнечного света.
«Я не хотел его обидеть,» подумал Ли. Он пожалел, что не дал мальчику хотя бы немного денег, даже не улыбнулся ему. Почувствовал себя грубым и отвратительным.
Несколько лет назад он ехал на автомобиле где-то в Вест-Индии. Автомобиль замедлил ход из-за обилия ухабов, маленькая черная девочка подбежала к нему и со смехом бросила в машину букет цветов. Круглолицый грузный американец в буром габардиновом костюме собрал эти цветы и со словами «не нужно» швырнул их в девочку. Цветы посыпались на пыльную дорогу, а девочка с плачем убежала.
Ли медленно закрыл ставень.
В долине Рио-Гранде на юге Техаса он убил гремучую змею клюшкой для гольфа. От столкновения металла и живого мяса змеи его прошиб электрический удар.
В Нью-Йорке, когда он кидал бухих отрубов в метро с Роем, на конечной станции, в Бруклине, какой-то пьяный вцепился в Роя и стал звать фараонов. Ли дал этому пьяному в морду, сбив с ног, а затем пнул его в бок ногой. Хрустнуло ребро. На Ли накатил приступ тошноты.
На другой день он заявил Рою, что больше пьяных грабить не будет. Рой поглядел на него своими безразличными карими глазами, которые ловили блики света, подобно опалу. В голосе Роя была мужественная ласковость, ласковость, которой обладают только сильные мира сего: «Тебе херово от того, что ты пнул этого раздолбая, да?
На тебе свет клином не сошелся, Билл. Я найду себе другого напарника.» Рой надел шляпу и начал уходить. Он остановился, держась за ручку двери, и обернулся.
«Это, конечно, не мое дело, Билл. Но у тебя же денег на жизнь хватит. Почему ты просто не завяжешь?» Он вышел, не дожидаясь, пока Ли ответит.
Ли был не в настроении заканчивать письмо. Он надел пальто и вышел на узкую, бессолнечную улицу.
Аптекарь заметил Ли, стоящего в дверях лавки. Лавка эта была около восьми футов шириной, бутылки и коробки расставлены вдоль стен. Аптекарь улыбнулся и поднял палец.
«Одну?» спросил он по-английски.
Ли кивнул, обводя взглядом бутылки и коробки. Аптекарь передал ему коробку ампул, не заворачивая. Ли сказал: «Спасибо.»
Он пошел прочь, сквозь улицу, по обе стороны которой был базар. Товары переполняли эту улицу, и Ли уворачивался от посуды, мисок, подносов с гребешками, карандашами, мыльницами. Вереница ослов, груженых древесным углем, перегородила ему дорогу. Он прошел мимо женщины без носа, с черным шрамом на лице, тело завернуто в грязный и грубый розовый шелк. Ли шел быстро, виляя из стороны в сторону, просачиваясь между людьми. Он достиг солнечных аллей внешней Мадины.
Прогулка по Танжеру напоминала падение, ныряние в темные шахты улиц с натыканием на углы и пороги. Он миновал слепца, сидящего на солнышке у одной из дверей.
Слепец был довольно молод, с бахромой белокурой бороды. Он сидел с протянутой рукой, рубашка расстегнута, и видна была гладкая, ухоженная плоть и неглубокие, неподвижные складки на животе. Он сидел там весь день, каждый день.
Ли свернул на свою улицу, и ветерок с моря охладил пот на его тощем теле. Он всунул ключ в скважину и открыл дверь плечом.
Он перетянул себе вену и всадил иглу в гноящийся нарыв. Кровь винтом брызнула в шприц — в те дни он пользовался обычным шприцем. Указательным пальцем он нажал на поршень. Неуловимая ласка потекла по его венам. Он бросил взгляд на дешевый будильник на столе у кровати: четыре часа. Его мальчик приходил в восемь.
Времени достаточно для того, чтобы отучить Эвклида от его геометрии.
Ли ходил по комнате. «Мне надо завязать,» повторял он снова и снова, ощущая тяжесть джанка в своих клетках. Он пережил момент паники. Крик отчаяния скрутил его тело: «Мне надо убираться отсюда! Мне надо сделать передышку!»
Как только эти слова вылетели, он вспомнил, чьи это слова: братья Эспозито-Бешеные Псы, арестованные за ограбление с убийством, отделенные от электрического стула лишь маленьким промежутком времени и некоторыми формальностями, прошептали эти слова в подслушивающие устройства, установленные у их кроватей в тюремной камере.
Он сел за пишущую машинку, зевнул и сделал несколько заметок на отдельном листке бумаги. Ли зачастую тратил на одно письмо по многу часов. Он бросил карандаш и уставился в стену с лицом пустым и мечтательным, размышляя о душевном человеке Вильяме Ли…
Он был уверен, что рецензенты из этих подозрительных журнальчиков, типа «One», тоже сочтут Вилли Ли душевным, если только он — гримаса дискомфорта — ну, знаете, если он, так сказать, не переборщит.
«О, это же просто мальчишество… в конце концов, Вам же понятно, что воля мальчика — это воля ветра, а размышления юности — это долгие, долгие размышления.»
«Да, я знаю, но… пурпурножопые бабуины…»
«Это гангренозная девственность.»
«Как же мне это самому не приходило в голову. Ну, а геморрой?»
«Да как будто все дети на что-то подсели.»
«Вот именно… а выпавшие из задницы кишки, ищущие, где бы отлить, как слепые черви?»
«Порнуха для школьников.»
«Поймите, я вовсе не пытаюсь казаться милым крошкой Ли…»
«Лучше и не стоит. Он на все сто процентов тоскливый мальчик, он тащится от свистков паровозов, которые слышит через покрытое снегом жнивье и замерзшую красную пыль Джорджии.»
…да, что-то слегка беспокоило в том, что портрет душевного Вильяма Ли должен обрисовывать сам Вильям Ли. Он подумал о развитии мозговых марионеток, телепатической марионетки, которая настраивает вашу психику и говорит именно то, что вы хотите услышать: «Босс, Вы душевны. Вы самый что ни на есть новожопый пурпурномодный святой.»
Ли отложил карандаш и зевнул. Он поглядел на кровать.
«Я сонный,» решил он. Он снял брюки, ботинки и лег на кровать, укрывшись байковым одеялом. Они не чешутся. Он закрыл глаза. Картины неслись мимо, волшебный фонарь джанка.
Когда, бывает, переберешь, такое ощущение, будто избыток дурмана кружится вокруг да около, приковывает к постели, ощущение пасмурного, мертвого ужаса. Картины в мозгу неуправляемые, черно-белые, без всяких эмоций, а неживая тяжесть наркотика лежит в теле подобно вязкому, густому веществу.
Ребенок подошел к Ли и протянул к нему кровоточащую руку.
«Кто это сделал?» спрашивал Ли. «Я убью его. Кто это?»
Ребенок поманил его в темную комнату. Окровавленным обрубком пальца он указал на Ли.
«Нет! Нет!» завопил Ли и проснулся.
Он посмотрел на часы. Было почти восемь. Его мальчик мог прийти в любую минуту.
Ли порылся в комоде у кровати и нашел косяк. Он закурил его и откинулся на кровать, ожидая Кики. От ганджи во рту был горький зеленый вкус. По всему телу разлилось теплое покалывание. Ли заложил руки за голову, выпятив ребра и втянув живот.
Ли было сорок лет, но тело его было сухощавым, как у подростка. Он опустил глаза на свой живот, принявший форму дуги, начинающейся от грудной клетки. Джанк довел его тело до состояния «кожа да кости». Ли чувствовал стенку своего желудка прямо под кожей. Кожа белая и гладкая, он был почти прозрачный, как тропическая рыба, с голубыми жилками в том месте, где выдавалась подвздошная кость.
Кики вошел и включил свет.
«Спите?» спросил он.
«Нет, просто отдыхаем.» Ли встал и обвил Кики руками, заключив его в долгое, крепкое объятие.
«В чем дело, мистер Вильям?» сказал Кики, смеясь.
«Ни в чем.»
Они присели на край кровати. Кики рассеянно гладил Ли по спине. Потом обернулся и посмотрел на Ли.
«Очень худой,» сказал он. «Вам надо есть больше.»
Ли втянул живот так, что почти дотронулся им до хребта. Кики засмеялся и провел руками по ребрам Ли вниз к животу. Он положил большие пальцы на его хребет и попытался заключить его живот в ладони. Он встал, снял с себя одежду и сел рядом с Ли, лаская его с беспорядочной страстью.
Как и многие испанские мальчики, Кики не испытывал любви к женщинам. Для него женщины существовали только ради секса. Он знал Ли уже несколько месяцев и по-настоящему любил его, любил платонически. Ли был тактичен и великодушен, он не просил Кики делать того, чего тот не хотел, оставляя занятия любовью на подростковом уровне. Кики был вполне доволен таким положением вещей.
А Ли был вполне доволен Кики. Ему не нравилось заниматься поисками мальчиков.
Интерес к одному и тому же мальчику после нескольких встреч он не терял, не будучи любителем беспорядочных связей. В Мексике он дважды в неделю спал с одним и тем же в течение года. Тот мальчик был так похож на Кики, что мог бы сойти за его брата. У обоих были прямые черные волосы, восточный облик и худощавое гладкое тело. От обоих исходил дух приторной мужской девственности. Ли везде встречал одинаковых людей, куда бы он ни попал.
Портреты «Кафе Сентраль»
Джонни-экскурсовод сидел перед «Кафе Сентраль» с миссис Мерримс и ее шестнадцатилетним сыном. Миссис Мерримс путешествовала на страховую премию своего мужа. Она была холеная и полноправная. Она составляла список того, что надо купить и куда надо сходить. Джонни наклонился чуть вперед, обходительный и изнывающий от услужливости.
Другие экскурсоводы курсировали мимо, как расстроенные акулы. Джонни по праву заслужил их зависть. Его взгляд скользил вбок по худощавому телу мальчика, которому так шли серые фланельки и спортивная рубашечка с открытым воротом.
Джонни облизал губы.
Ханс сидел за несколько столиков от него. Это был немец, поставлявший мальчиков английским и американским гостям. У него был дом в туземном квартале — кровать и мальчик, два доллара за ночь. Правда, большинство его клиентов предпочитали «быстрячок». У Ханса были типично нордические черты, тяжелый костяк. Было что-то черепообразное в его лице.
Мортон Кристи сидел рядом с Хансом. Мортон был патетическим имя-черкни и на-столе-прибери. Ханс был единственным человеком в Танжере, способным терпеть его дурацкую болтовню, его бесконечное нудное вранье о благосостоянии и положении в обществе. В одной из его историй говорилось о двух тетках, живущих в одном доме и не сказавших друг другу ни слова в течение двадцати лет.
«Но, понимаешь, дом такой огромный, что это было нетрудно, правда. У них у каждой свой штат прислуги и свои отдельные домохозяйки.»
Ханс просто сидел и улыбался сквозь все эти россказни. «Это же маленькая девочка,» говаривал он в оправдание Мортону. «Вы не должны на него напрягаться.»
На самом деле, Мортон выработал в себе за годы своего отщепенчества сидя то за одним, то за другим столиком, отчаянно стараясь отсрочить хоть на секунду тот момент, когда собеседник его пошлет, — острейшее чутье на слухи и скандалы. Если кого-то брали за жабры, Мортон всегда узнавал об этом первым. У него был нюх именно на то, что кто-либо старался скрыть. Самая внешне бесстрастная личина не имела никакой защиты от его телепатической проницательности.
Кроме того, хотя он не был ни внимательным слушателем, да и не нравился никому, то есть был вовсе не тем человеком, которому хотелось бы излить душу, у него был способ вытягивать из вас самые неожиданные откровения. Иной раз вы забывали, что он рядом, и говорили что-то кому-то другому за столиком. Иногда он вдруг встревал с вопросом личным, нахальным, и вы отвечали ему прежде, чем успевали опомниться. Его личность настолько ничего из себя не представляла, что вас ничто не могло насторожить. Ханс использовал этот талант Мортона в целях сбора ценной информации. Он мог разузнать обо всем происходящем в городе, проведя каких-нибудь полчаса с Мортоном в «Кафе Сентраль».
Сам Мортон собственного достоинства не имел, поэтому его самооценка росла и падала по мере того, как к нему относились другие. Поначалу он производил хорошее впечатление. Он казался наивным, детским, дружелюбным. Незаметно наивное щебетание переходило в глупую, механическую болтовню, дружелюбие — в голодную, цепляющуюся навязчивость, а детскость таяла у вас на глазах над столиком кафе.
Вы поднимали глаза и видели глубокие морщины у рта, жесткого, глупого рта, похожего на рот старой шлюхи, видели глубокие складки на шее, когда он поворачивал голову, ища кого-то, — он всегда неистово оглядывался по сторонам, словно ожидая кого-то более важного, чем собеседник.
И были, наверняка были там люди, занимавшие все его помыслы. Он вертелся в отвратительных конвульсиях заискивания, приходя в отчаяние всякий раз, как иная его жалкая попытка терпела полный провал, постоянно делая в штаны от страха и возбуждения. Ли приходило в голову, что Мортон, должно быть, по ночам рыдает.
Мортоновы потуги понравиться завсегдатаям с положением в обществе или заезжим знаменитостям, потуги, оканчивавшиеся обычно крахом и позором в «Кафе Сентраль», служили приманкой для особого рода охотников за падалью, которые кормятся тем, что унижают и разобщают других. Эти захиревшие клуши никогда не уставали сплетничать и распространять повсюду нескончаемую сагу о поражениях Мортона.
«Так вот, он прямо уселся рядом с Теннесси Уильямсом на пляже, и Теннесси ему сказал: „Мне что-то сегодня нездоровится, Майкл. Я бы ни с кем не хотел разговаривать.“ Майкл! Даже не знает, как его зовут! А он-то говорит: о, да, Теннесси, мой хороший приятель!»
И они смеялись, и дрыгались из стороны в сторону, и всё хлопали в ладоши, и глаза их горели поганой похотью.
«Вот, наверное, так и выглядят люди, когда они кого-нибудь сжигают заживо,»
думал Ли.
За другим столиком сидела красивая женщина смешанных негритянских и малайских кровей. Она была тонкого сложения, с темной, словно медной кожей, ее маленькие зубки слегка отстояли друг от друга, а соски грудей торчали немного вверх. Одета она была в желтый шелковый халат и держалась с аристократической грациозностью.
За тем же столиком была эффектная немка: золотые волосы, завитые и образующие тиару, пышный бюст, героические пропорции.
Она беседовала с полукровкой. Когда она при разговоре открывала рот, обнаруживались кошмарные зубы, бурые, кариесные, скорее подпертые, нежели заполненные, кусками стали — некоторые из этих кусков заржавели, другие были медные, с зеленым налетом ярь-медянки. Зубы были неестественно большими и налезали один на другой. Обломанные, ржавые куски прижимались к ним, как старый забор из колючей проволоки.
Обычно она старалась держать свои зубы в секрете как можно дольше. Однако ее красивые губы едва ли могли ей в этом помочь, и зубы выглядывали наружу, когда она разговаривала или ела. Она никогда не смеялась, если могла сдержаться, да только неожиданные припадки хохота накатывали на нее время от времени по самым случайным причинам. За этими припадками хохота всегда следовал истерический плач, и она всё повторяла, давясь слезами: «Все увидели мои зубы! Мои кошмарные зубы!»
Она постоянно копила деньги на то, чтобы привести свои зубы в порядок, но почему-то всегда спускала эти деньги на что-то другое. Бывало, она на них напивалась, или вдруг отдавала их кому-то в необъяснимом припадке истерической щедрости. Она была кадром номер один для любого разводилы в Танжере, потому что все знали: у нее есть деньги, она их всегда копит на зубы. Но пытаться ее подначить было небезопасно. Она могла внезапно впасть в ярость, и тогда обкладывала иного бездельника, вереща изо всех сил своих легких молодой Юноны:
«Ты, ублюдок вонючий! Пытаешься развести меня на мои зубные деньги!»
Обе они, и полукровка, и нордическая, которая, кстати, называла себя Хельга, были свободными шлюхами.
Сон о каторге
В ту ночь Ли приснилось, будто он на каторге.
Вокруг были сплошные голые, высокие скалы. Он жил в пансионе, который никогда не отапливался. Он вышел на прогулку. Обойдя угол и выйдя на грязный булыжник улицы, он столкнулся с ледяным горным ветром. Он подтянул пояс кожаной куртки и ощутил холодок последнего отчаяния.
Никто не говорит помногу после первых нескольких лет в колонии: ведь каждый знает, что все здесь в одинаковой степени нищие. Они сидят за столом, поедая холодную, жирную пищу, каждый по отдельности, и молчат, словно камни. Только визгливый, пронизывающий голос хозяйки всё звучит, не смолкая.
На улицах каторжане смешиваются с горожанами, и их трудно узнать в толпе. Но рано или поздно они выдают себя своей одинокой напряженностью: ведь их помыслы заняты исключительно побегом. Еще каторжан отличают: самоконтроль, но без внутреннего спокойствия и уравновешенности; горькое знание, но без зрелости; душевная сосредоточенность, но без тепла и любви.
Каторжане знают, что любое естественное выражение чувств влечет за собой жесточайшее наказание. Агенты-провокаторы последовательно внедряются в среду узников, нашептывая им: «Расслабься. Будь самим собой. Выражай свои чувства.» Ли был убежден, что путь к побегу лежит через связь с одним из горожан, и поэтому он зачастил во всякие кафе.
Однажды он сидел в «Метрополе», а напротив него был юноша, который рассказывал о своем детстве, прошедшем в прибрежном городке. Ли уставился сквозь голову этого мальчика, он видел солончаковые болота, дома из красного кирпича, бухту и в ней старую ржавую баржу, с которой ныряли мальчишки, оставляя на палубе свою одежду.
«Это, может быть, — оно,» подумал Ли. «Теперь спокойно. Тихо, тихо. Не спугнуть его.» У Ли застучало в животе от возбуждения.
В течение последующей недели Ли испробовал все известные ему уловки, бесстыдно открещиваясь от неудавшихся попыток — пожимая плечами: «Я только так, решил дурака повалять», или «Son cosas de la vida». Он докатился до самого жалкого вымогательства и попрошайничания. Когда и это не помогло, он взобрался на один опасный склон (впрочем, не такой уж и опасный, поскольку Ли знал каждый дюйм этого склона) и поймал красивую зеленую ящерицу из тех, что водились только в этих горах. Он подарил ящерицу мальчику, посадив ее на нефритовую цепочку.
«Мне потребовалось семь лет, чтобы сплести эту цепочку,» сказал он ему. На самом деле он выиграл цепочку у заезжего торговца, играя с ним в латахов. Мальчик был тронут и согласился пойти с Ли в постель, но вскоре после этого разорвал интимные отношения. Ли был в отчаянии.
«Я люблю его, и, кроме того, я не выведал Секрета. Может быть, он Агент.» Ли посмотрел на мальчика с ненавистью. Лицо его разламывалось на куски, словно кто-то растапливал его паяльником изнутри.
«Почему ты не хочешь мне помочь?» допытывался он. «Хочешь еще одну ящерицу? Я достану тебе черную ящерицу с прекрасными лиловыми глазами, она живет на западном склоне, где ветер развевает плющ над уступом и высасывает его из расселин. В городе есть еще только одна такая ящерица, и она… ну, неважно.
Пурпурноглазая ящерица более ядовита, чем кобра, но она никогда не кусает своего хозяина. Это милейшее и нежнейшее животное на земле. Ну, давай я покажу тебе, какой милой и нежной может быть пурпурноглазая ящерица.»
«Неважно,» сказал мальчик, смеясь. «Кажись, одной хватит.»
«Не говори кажись. Ну, слушай, я отрежу себе ступню и уменьшу ее способом, которому научился у Ауки, — короче, фокусы тебе покажу.»
«На что мне твоя гнусная старая ступня?»
«Я дам тебе денег на экскурсию, покатаю тебя на караване. Ты сможешь вернуться на побережье.»
«Я вернусь туда, как только захочу. Мой сводный брат знает дорогу.»
Мысль о том, что кто-то может уехать по желанию, привела Ли в такую ярость, что он чуть не потерял самообладание. Потная рука сжала в кармане выкидной нож.
Мальчик посмотрел на него с отвращением.
«Ты выглядишь очень противно. У тебя лицо стало типа черное, зелено-черное. Ты во что бы то ни стало хочешь, чтобы меня стошнило?»
Ли призвал на помощь все самообладание, которому научился за годы заключения.
Лицо его из черного стало цвета красного дерева, а затем к нему вернулся нормальный загорелый цвет. Самоконтроль разлился по телу, как морфий. Ли улыбнулся мягкой улыбкой, но мускул в его щеке все еще дергался.
«Это просто старый фокус шипибо. Они ночью становятся черными, выходя на охоту, знаешь… Я тебе никогда не рассказывал, какая со мной была история у истоков Эффенди? Это было во время чумы, когда всё вокруг дохло, даже гиены.»
Ли пустился в обычные россказни. Мальчик теперь смеялся. Ли пригласил его пообедать.
«Хорошо,» сказал мальчик. «Но чтоб без этих твоих фокусов шипибо.»
Ли рассмеялся облегченно и радостно.
«Торкнуло, да, молодой человек? Меня тоже, когда по первому разу. Блевал тогда до солитера. Ну, ладно, счастливо.»
Интернацональная Зона
Морок подозрительности и снобизма нависает над Европейским кварталом Танжера.
Каждый ищет на тебе ценник, определяет — каково твое достоинство, можно ли тебя немедленно применить в практических целях. Бульвар Пастер — это 5-я Авеню Танжера. Служащие в магазинах склонны к неучтивости, если не купишь что-нибудь сразу. Вопросы без покупок удостаиваются холодного, неохотного ответа.
В первую мою ночь в городе я отправился в модный бар, одно из немногих процветающих мест при сегодняшнем кризисе: тусклый свет, хорошо одетые гермафродиты, напоминающие о большинстве баров нью-йоркского верхнего Ист-Сайда.
Я завязал беседу с человеком, сидевшем справа от меня. На нем был такой пиджак из дерюги, типичное создание из ультро-шикарного магазина с Дурной Авеню.
Очевидно, это высший признак роскоши — появляться на людях в двенадцатидолларовом костюме с драгоценностями; так получилось, что я знал, откуда приехал этот пиджак и сколько он стоит, потому что у меня в чемодане лежал такой же (несколькими днями позже я отдал его чистильщику обуви).
Лицо у этого мужчины было мрачное, одутловатое, отлитое в форму кислого недовольства, богатого недовольства. Это выражение лица чаще всего встречается у женщин, и если женщина сидит с такой вот кислой и по-богатому недовольной миной достаточно долго, вокруг нее сам собой вырастает «Кадиллак». Мужчине, вероятно, более подойдет «Ягуар». К слову сказать, я видел снаружи бара припаркованный «Ягуар».
Человек справа отвечал на мои вопросы осторожными, короткими фразами, аккуратно избегая всяких намеков на теплоту и дружелюбие.
«Вы сюда прямо из Штатов?» упорствовал я.
«Нет. Из Бразилии.»
Разогревается, подумал я. Я ожидал, что понадобятся две фразы, чтобы вытянуть столько информации.
«Ну? А как Вы приехали?»
«На яхте, конечно.»
Я почувствовал, что после такого любая фраза будет некстати, и позволил себе ослабить сомнительный интерес к его персоне.
В Европейском квартале Танжера на удивление много первоклассных французских и других ресторанов, где подают отменную еду за весьма разумные деньги.
Примерное меню в «Альгамбре», одном из лучших французских ресторанов: улитки по-бургундски, пол-куропатки с горошком и картофелем, замороженный шоколадный мусс, набор французских сыров и фрукты. Цена: один доллар. Это меню и эта цена дублировались в дюжине других ресторанов.
Спустимся со стороны Европейского квартала и мы попадем, повинуясь неуловимому процессу засасывания, в Сокко Чико — Маленький Рынок, — давно уже никакой не рынок, а просто мощеный прямоугольник длиной в квартал, по обе стороны которого стоят кафе и магазины. «Кафе Сентраль» по причине своего расположения предлагает лучшее обозрение проходяших сквозь Сокко Чико людей, и поэтому именно здесь собирается все местное общество.
Въезд машин в Сокко Чико закрыт с 8 утра до полуночи. Зачастую безденежные компании часами стоят, беседуют, прежде чем закажут кофе в Сокко. Днем они могут сидеть перед кафе, ничего не заказывая, но с 5 до 8 вечера должны уступить свои места клиентам, которые платят, если только безденежные не завяжут беседу с платежеспособными.
Сокко Чико — место встреч, нервный центр, панель управления Танжера. Практически каждый житель города показывается там хотя бы раз в день.
Многие жители Танжера проводят большую часть своего бодрствования в Сокко. По обе стороны вы видите людей, брошенных здесь в безнадежных, отчаянных ситуациях, людей, ждущих предложения работы, справок о принятии, виз, разрешений, которые никогда не придут. Всю свою жизнь эти люди плыли по несчастливому течению, всегда принимали ошибочные решения. Вот и приплыли. Это она. Последняя остановка: Сокко Чико, Танжер.
Рынок психического обмена так же ломится от товара, как и магазины. Кошмарное ощущение статичности пропитывает Сокко, словно ничто не может ни случиться, ни измениться. Любая беседа растворяется в космической тупости. Люди сидят за столиками кафе, тихие и разобщенные, как камни. Никакая близость, кроме физической, невозможна. Экономические законы, не затронутые никакой гуманностью, ведут к установлению предельной статичности. В один прекрасный день все эти молодые испанцы в габардиновых пальто, болтающие об американском футболе, арабские экскурсоводы и барыги, подбрасывающие монетки и курящие свои трубки с кайфом, извращенцы, сидящие перед кафе и приглядывающиеся к мальчикам, мальчики, демонстрирующие свои задницы, ворюги, сутенеры, контрабандисты, менялы — все они навсегда застынут в своих последних бессмысленных позах.
Бессмысленность в Сокко, кажется, приобрела свое новое измерение. Сидя в кафе, выслушивая чье-нибудь «предложение», я вдруг осознаю, что собеседник на самом деле рассказывает сказку ребенку, ребенку внутри себя самого: патетические фантазии о контрабанде, о торговле брильянтами, наркотиками, оружием, или об открытии ночных клубов, кегельбанов, туристических агенств. А иногда и сама идея бывает ничего себе, да только она неосуществима — возбужденный, доверительный голос, решительные жесты в шокирующем контрасте с мертвыми, безнадежными глазами, опущенными плечами, одеждой, которая уже не поддается ремонту и оставлена в покое — пусть себе разваливается.
У некоторых из них есть и инициатива, и интеллект, например, у Бринтона, который, существуя на скромный доход, пишет такие нецензурные романы, что опубликовать их невозможно. Он, без сомнения, талантлив, но его работа безнадежно непродаваема. Он интеллектуален, у него есть редкая способность видеть соотношение несопоставимых вещей, координировать информацию, но он движется сквозь жизнь, как фантом, никогда не способный найти нужное время, нужное место и нужного человека, реализовать что-либо в реальных условиях трех измерений. Он мог бы состояться как бизнесмен, антрополог, исследователь, юрист, но стечение обстоятельств никогда не поспевало вовремя. Он всегда опаздывал или приходил слишком рано. Его способности остались на уровне неразвившегося зародыша. Он либо последний экземпляр вымершего рода, либо первый, кто представляет новое соотношение места и времени, — словом, человек без контекста, времени и места.
Крис, тип из английской частной школы, из тех, что увлекаются разведением пушного зверя, китайской крапивы, лягушек или жемчуга. Он, на самом деле, окончательно разорился на пчеловодческом проекте в Вест-Индии. По его наблюдениям, мед был дорогой и импортировался. Затея казалась надежной, и он вложил в нее все, что имел. Но он не знал о том, что в этих местах пчел истребляли, поэтому разводить их было невозможно.
«Такое могло случиться только с Крисом,» говорят его друзья, ибо это лишь одна глава из фантастической саги о невезении. Кого еще, кроме Криса, могли заловить в начале войны, когда ужесточили закон о наркотиках, и у кого еще могли удалить коренной зуб без анестезии? В другой раз он чуть не загнулся от перитонита и был упрятан в больницу в Сирии, где никогда не слыхали о пенициллине. Его, уже полумертвого, вызволил английский консул. Во время оккупации Танжера испанцами его приняли за испанского коммуниста и три недели держали incommunicado в концентрационном лагере.
Теперь он, разоренный и безработный, в Сокко Чико, интеллигентный человек, который хочет работать, говорит свободно на нескольких языках, но носит на себе несмываемое клеймо неудачливости и провала. Его тщательно избегают ездоки на «Ягуарах»: они боятся заразиться загадочной болезнью, которая делает из таких, как Крис, пожизненных неудачников. Он умудряется оставаться в живых, преподавая английский язык и торгуя виски за комиссию.
Роббинсу — около пятидесяти, у него лицо доносчика-кокни, типичного «фараонова дружка». Есть у него способность прямо-таки вонзать свой резкий голос в ваше сознание. Никакой внешний шум на него не действует. Роббинс, кажется, является недоделанным представителем вида Нomo Non Sapiens, шантажирующим род человеческий самим фактом своего существования.
«Помнишь меня? Я тот самый мальчик, которого ты тогда оставил одного среди лемуров и бабуинов. Я не так приспособлен к жизни, как некоторые.» Он протягивает вам свои деформированные руки, до отвратительного инфантильный, незаконченный, его жадные голубые глаза ищут в вас намек на виноватость или неуверенность, вокруг которого он обовьется, как минога.
Он поместил все свои деньги на счет своей жены, чтобы увернуться от налога; и вот жена сбежала с каким-то вероломным австралийцем. («А я-то считал его своим другом!») Это одна история. У Роббинса их множество, в каждой из них расказывается о его падении и разорении после процветания и богатства, а всему виной — предавшие и обманувшие его друзья. Он вперяет в вас испытующий, обвиняющий взгляд: ты что, тоже предатель, который откажет нуждающемуся в нескольких песетах?
Роббинс также выступает с номером под названием «Я не могу вернуться домой», намекая на мрачные преступления, якобы совершенные им на родине. Многие завсегдатаи Сокко Чико утверждают, что не могут вернуться домой, пытаясь оттенить мертвенную серость прозаического провала штрихом украденной краски. На самом деле, если бы кто-то действительно был в розыске за серьезное преступление, власти смогли бы разыскать его в Танжере за десять минут. Что же до всех этих рассказов об исчезновениях в туземном квартале, то, живя там, иностранец тем самым только обращает на себя внимание. Любой экскурсовод или чистильщик обуви проведет фараонов до самой вашей двери за пять песет или несколько сигарет. Поэтому, когда кто-то становится конфиденциальным после третьей рюмки, купленной ему вами, и говорит, что не может вернуться домой, знайте, что вы слушаете классическую прелюдию к вымогательству.
Мальчик-датчанин сел здесь на мель и ждет приятеля, который едет сюда с деньгами и «остальным багажом». Каждый день этот мальчик ходит встречать паром из Гибралтара и паром из Альхесираса. Мальчик-испанец дожидается разрешения на въезд во Французскую Зону (в котором ему по неизвестной причине постоянно отказывают), где дядя даст ему работу. У мальчика-англичанина подружка сперла все его деньги и ценные вещи.
Мне никогда не доводилось видеть сразу столько людей без денег и без всяких надежд на деньги. Это так отчасти потому, что в Танжер может въехать любой. Не обязательно быть платежеспособным. Вот люди и приезжают — в надежде получить работу или стать контрабандистами. Но никакой работы в Танжере нет, а в контрабандной торговле вакансий так же мало, как и в любой другой. Вот люди и заканчивают в заднице, на Сокко Чико.
Все они проклинают Танжер и надеются на чудо, которое вызволит их отсюда. Они получат работу на яхте, они напишут бестселлер, они переправят в Испанию тысячу ящиков шотландского виски, они найдут кого-нибудь, кто спонсирует сеть заведений для игры в рулетку. Для этих людей типично верить в какую-то мифическую систему игорных домов. Их вера напоминает хорошо знакомую скрюченную позу человека, которому дали поддых. И все их промахи находятся в прямой зависимости от их натуры.
Некоторые из старожилов Сокко Чико, вроде Криса, еще прилагают реальные усилия, чтобы прокормить себя. Прочие же — штатные, профессиональные паразиты.
Антонио-Португалец. Паразит до мозга костей. Работать он не будет. То есть, он к этому не способен. В его лице человеческие возможности деградировали до того предела, когда человек уже не может существовать без хозяина. Само его присутствие вызывает раздражение. Он испускает из себя призрачные побеги, нащупывающие слабые места, за которые можно было зацепиться.
Джимми-Датчанин. Еще один штатный паразит. У него есть дар — появляться именно тогда, когда его не хочется видеть, и говорить именно то, чего не хочется слышать. Метод Джимми состоит в том, чтобы планомерно вызывать в вас омерзение, но скорее к его персоне, чем к его поведению, в котором, если разобраться, ничего особенно омерзительного и нет. Это заставляет вас чувствовать себя в чем-то виноватым перед ним, и вы откупаетесь порцией спиртного или несколькими песетами.
Иные из паразитов специализируются на туристах и проезжих, даже не пытаясь социально уравнять себя с долгосрочными жителями. Эти используют различные варианты мелкого, строго одноразового вымогательства.
Один паразит-еврей смутно похож то ли на офицера полиции, то ли на некую другую разновидность начальника. Он приближается к туристу с каким-то безапелляционным выражением. Турист предвидит проверку паспорта или другое беспокойство такого рода. Когда выясняется, что вопрос всего лишь в небольшой «ссуде», он отдает деньги с чувством огромного облегчения.
У одного молодого норвежца заведено подходить к вновь прибывшим без своего стеклянного глаза — зрелище действительно не для слабонервных. Ему, мол, нужны деньги на покупку стеклянного глаза, иначе он не получит работу, о которой пойдет просить следующим утром. «Как же я буду работать официантом, если я вот так вот выгляжу?» говорит он, наводя на свою жертву пустую глазницу. «Я же распугаю всех клиентов, разве не так?»
Многие завсегдатаи Сокко Чико остались здесь со времен Бума. Несколько лет назад город был заполнен дельцами и растратчиками. Был бум обмена денег и их перемещения, контрабандных предприятий и пограничных мер по борьбе с ними.
Рестораны и отели не могли обслужить всех желающих. Бары были забиты круглые сутки.
Что же случилось? Что дало сбой? Куда подевались золото, нефть, проекты строительства? По большому счету, виновата неравномерность цен и обменных курсов валют. Танжер был расчетной палатой, откуда деньги и товары двигались во всех направлениях к более высоким целям. Под этим непрекращающимся денежно-имущественным дождем восполнялись чужие военные потери, цены и курсы валют достигали стандартных показателей, и Танжер выдыхался, как умирающая вселенная, в которой невозможно уже никакое движение, потому что вся энергия равномерно распределена.
Танжер — бескрайний перезатоваренный рынок. Всё на продажу — и ни одного покупателя. Масса никому не известных сортов виски, худшего качества немецкие камеры и швейцарские часы, бывшие в употреблении бракованные чулки, пишущие машинки непонятных марок — всё это широко представлено во всех магазинах. Ну просто слишком много всего, слишком много товаров, жилья, еды, слишком много сутенеров, проституток и контрабандистов. Классическая, архетипическая депрессия.
Экскурсоводы в Танжере образуют отдельный класс, и я не знаю, кто сравнится с ними в наглости, упорстве и общей пакостности. Неудивительно, что само слово «экскурсовод» носит здесь на себе печать несмываемого позора.
Военно-морские силы издают бюллетень о том, что надо делать, если окажешься в одной воде с акулами. «Прежде всего, избегайте некоординированных движений:
акула может принять их за судороги обессиленной рыбы.» Этот совет может быть полезен и в случае с экскурсоводами. Их безудержно привлекают некоординированные движения туристов в непонятных направлениях. Налицо неуверенность, незнание, куда идти, и экскурсоводы спешат к ним, покинув свои убежища в подворотнях и арабских кафе.
«Милую девочку не желаете, мистер?»
«Видели Касбу? Дворец султана?»
«Ищете кайфа? Хотите посмотреть, как я трахну свою сестренку?»
«Геркулесовы пещеры? Милого мальчика?»
Их настойчивость ошеломляет, их нахальство не знает пределов. Они проследуют за человеком несколько кварталов и в конце концов потребуют мзду за потраченное время.
Женская проституция, в основном, ограничена борделями. С другой стороны, мужчины-проститутки попадаются на каждом шагу. Они полагают, что все приезжие — гомосексуалисты, и открыто пристают к ним на улицах. Меня бывало атаковали мальчики, которым было никак не больше двенадцати лет.
Казино, безусловно, привлекло бы больше туристов и, во многом, облегчило бы экономические страдания Танжера. Но, невзирая на совместные усилия коммерсантов и владельцев отелей, все попытки построить казино пресекались испанцами по религиозным мотивам.
Климат Танжера переменчив. Зимы здесь сырые и промозглые, летом — ни жарко, ни холодно, в целом, приятно, но постоянно дующий ветер гонит песок с побережья, и у людей, сидящих весь день на открытом воздухе, песок забивается в уши, в волосы, в глаза. Из-за течения вода в середине августа становится ледяной, и даже самые упертые купальщики могут находиться в воде не дольше нескольких минут. Пляж — не слишком привлекательное место.
Вообще, Танжеру нечего особенно предложить приезжим, кроме низких цен на базаре.
Я обратил внимание на необыкновенное количество хороших ресторанов. Путеводитель по ресторанам, издаваемый Американским и Зарубежным Банком, упоминает 18 первоклассных едален, где цена на комплексный обед колеблется между 80 центами и 2.5 долларами. Вам предоставлен выбор гостиничных номеров, комнат и отдельных домов. Цена одной большой комнаты с ванной и выходящим на бухту балконом, комфортабельно обставленной и с прислугой: 25 долларов в месяц. А есть удобные комнаты и за 10 долларов. Сшитый портным костюм из английского материала, который в США стоит 150 долларов, в Танжере стоит 50. Именные сорта виски стоят от 2 до 2.50 долларов поллитра.
Американцы избавлены от неприятной необходимости регистрироваться через полицию, обновлять визы и от прочего, с чем они сталкиваются в Европе и Южной Америке. В Танжере не требуют визы. Можете оставаться сколько вам угодно, работать, если найдете работу, начинать свое дело без всяких формальностей и разрешений. А у американцев здесь экстерриториальные права. Гражданские и уголовные дела, касающиеся гражданина Америки, разбираются в консульском совете по законам Округа Колумбия.
Юридическая система Танжера довольно сложная. Уголовные дела разбираются смешанным судом из трех судей. Приговоры выносятся сравнительно мягкие. Два года тюрьмы обычно дают за ограбление, даже если у преступника длинная биография.
Приговор к пяти годам — вопиющая редкость. В Танжере есть и смертная казнь.
Метод — шеренга из десяти жандармов. Мне известен лишь один случай за последние годы, когда был вынесен приговор к высшей мере.
В Туземном квартале ощущается определенный дух гостеприимства, которое, однако, сводится к бормотанию по-арабски, когда вы проходите мимо. Бывало, меня открыто оскорбляли пьяные арабы, но редко. По Туземному кварталу Танжера субботним вечером гулять безопаснее, чем по 3-й авеню Нью-Йорка.
Преступления с применением насилия встречаются нечасто. Мне случалось ходить по улицам в любое время суток, и никто не пытался меня ограбить. Причина редкости вооруженного грабительства скорее не в миролюбивости арабов, а в том, что легко выследить человека в городе, где все друг друга знают, и где наказание за грабеж, особенно совершенный мусульманином, довольно жестокое.
Туземный квартал Танжера представляет из себя то, что от него и ожидаешь:
путаница узких, бессолнечных улочек, кружащих и петляющих, как тропинки, многие из них заводят в тупик. После четырех месяцев здесь я все еще нахожу дорогу в Медине путем движения от одного ориентира к другому. Запах просто невероятный, и трудно определить все его составляющие. Широко представлены гашиш, паленое мясо, нечистоты. Вы видите грязь, нищету, болезни, и все это — переносимое с непостижимым равнодушием и безразличием.
Люди идут с гор, таща на спинах громадные тюки с древесным углем точнее, женщины тащат тюки. Мужчины едут на ослах. Положение женщин в этом обществе понятно. Я заметил, что у многих из этих носильщиц угля носы начисто съедены болезнью, но не смог установить разницу между этими съеденными носами. Скорее всего, все носильщицы из одного и того же сильно зараженного района.
Гашиш — наркотик Ислама, как у нас — алкоголь, на Дальнем Востоке опиум, в Южной Америке — кокаин. Против курения и продажи гашиша ничего не предпринималось, и каждое туземное кафе пропитано дымом. Листья срезают на деревянной дощечке, перемешивают их с табаком и курят через маленькие глиняные трубочки с длинным мундштуком.
Европейцы не обнаруживают удивления и не высказывают негодования в арабских кафе. Обычно там пьют мятный чай, подаваемый очень горячим в высоких стаканах.
Если держать стакан за дно и верх, не касаясь стенок, можно не обжечь руку. Вы сможете купить гашиш, или кайф, как здесь его называют, в любом туземном кафе.
Из него также делают сладкие, смолистые пирожки и едят с горячим чаем. Вязкое вещество, вырабатываемое из зерен конопли, и есть настоящий гашиш, и гораздо более мощный, чем листья и цветы этого растения. Смола называется маджун, а листья — кайф. В Танжере трудно найти хороший маджун.
Кайф идентичен нашей марихуане, и здесь у нас есть возможность наблюдать за результатами ее постоянного употребления на примере всего населения. Я спросил у врача-европейца, приходилось ли ему замечать какие-либо болезненные эффекты. Он ответил: «В целом, нет. Наступает наркотический психоз, но он редко достигает острой стадии, когда необходима госпитализация.» Я поинтересовался, не опасны ли арабы, страдающие этим психозом. Он ответил: «Я никогда не слышал о том, чтобы кайф прямо или косвенно был причиной насилия. Отвечу на Ваш вопрос: обычно они неопасны.»
Типичное арабское кафе — комната с несколькими столами и стульями, огромный медный или латунный самовар предназначен для чая и кофе. Площадка на ножках, покрытая матрасами, занимает всю заднюю часть комнаты. На матрасах, сняв туфли, развалились посетители, они курят кайф и играют в карты. Игра называется «редондо», для нее нужна колода из 42 карт — весьма простая карточная игра.
Драки вспыхивают, прекращаются, люди слоняются туда-сюда, играют в карты, курят кайф, и всё это — в безбрежном, бесконечном сне.
Обычно там есть радио, включенное на полную громкость. Арабская музыка не имеет ни начала, ни конца. Она вне времени. Когда западный человек слушает ее, она кажется ему бессмысленной, потому что он пытается услышать временную структуру, которой нет.
Я беседовал с американским психоаналитиком, практикующим в Касабланке. Он жаловался, что ему ни разу не удавалось произвести исчерпывающий анализ у араба, поскольку у того нет чувства времени. Для араба нет ничего исчерпывающего.
Любопытно, что наркотик Ислама — гашиш, который действует на чувство времени таким образом: события, вместо того, чтобы происходить по порядку — в прошлом, настоящем и будущем, — происходят одновременно, а настоящее содержит в себе и прошлое, и будущее.
Танжер, кажется, существует сразу в нескольких измерениях. Вы всегда набредаете на улицы, площади, сады, которых никогда раньше не видели на этом месте. Здесь явь переходит в сон, а сны извергаются в реальность. Недостроенные здания превращаются в гниющие руины, арабы тихо врастают в них, как виноградные лозы.
Каталонский юноша движется через базар, наталкиваясь на людей, блуждая, как лунатик. Мужчина, босой, в тряпье, его лицо изъедено, оно распухло от кошмарной кожной болезни, он просит подаяния одними глазами. У него не осталось воли, чтобы протянуть руку. Старый араб страстно целует камни тротуара. Люди останавливаются на несколько мгновений, смотрят с животным любопытством, затем идут дальше.
Никто в Танжере не является тем, на что он внешне похож. Наряду с фальшивыми изгнанниками Сокко Чико здесь есть неподдельные политические беженцы из Европы: евреи, спасшиеся из нацистской Германии, испанские республиканцы, подборка французов-вишистов, беглые немецкие фашисты. Город полон подозрительных европейцев, у которых нет нормальных документов, чтобы уехать куда-либо еще.
Здесь столько людей, не могущих уехать, у них нет денег, или документов, или ни того, ни другого. Танжер — это безбрежная каторга.
Однако особую притягательность Танжера можно описать одним словом: освобождение.
Освобождение от чужого вмешательства, официального или какого угодно. Ваша частная жизнь здесь принадлежит вам. Делайте абсолютно всё, что вам заблагорассудится. Конечно, о вас будут судачить. Танжер — город сплетен, и все здесь друг друга знают. Но этим всё и исчерпывается. Никакое официальное давление, никакое общественное мнение не будут ограничивать вас. Фараон стоит себе на углу, руки за спиной, и его функции сокращены до одной — следить за порядком. Вот и всё, что он делает. Он — полная противоположность воображаемой нами полиции полицейских государств и нашему собственному злобному сознанию.
Танжер — одно из немногих оставшихся в мире мест, где — если вы, конечно, не продолжаете грабить, убивать, насиловать, в общем, вести себя незрело и антисоциально — вы можете жить так, как вам захочется. Вы в заповеднике невмешательства.

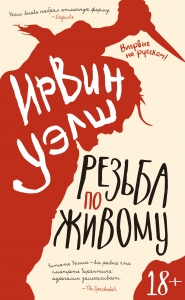

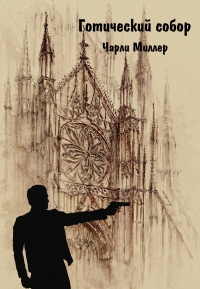
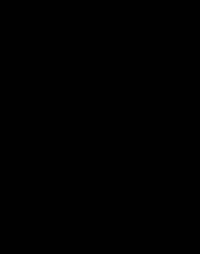

Комментарии к книге «Интерзона», Уильям Сьюард Берроуз
Всего 0 комментариев