его Донъ-Жуана и донну Анну, его Моцарта и Сальери. Вѣдь въ послѣднемъ произведенiи рѣшается одинъ изъ величайшихъ вопросовъ психологiи – отношенiе таланта къ генiю. И какъ рѣшается! совершенно художнически, безъ малѣйшаго намека на задачу! А самъ г. Григорьевъ долженъ былъ согласиться, Бѣдная Невѣста напр. только задача глубокаго характера, а не типъ, не живое лицо. Когда-же это у Шекспира бываютъ задачи? Есть-ли у Пушкина хоть одна такая задача? А у Островскаго такихъ задачь – типовъ множество: Жадовъ, учитель Ивановъ и его дочка, Вышневскiй, Вышневская, даже, можетъ быть, самъ Лёвъ Красновъ. По крайней мѣрѣ, въ этомъ послѣднемъ ясно намѣренiе исправить ошибку Писемскаго въ изображенiи Ананiя Яковлева. Наконецъ Досужевъ, который изъ типическаго лица въ «Доходномъ Мѣстѣ» является какимъ-то смѣшнымъ разрѣшителемъ всякихъ припятствiй въ «Тяжелыхъ Дняхъ».
Посмотримъ теперь на отношенiе Пушкина и Островскаго къ изображенiю нашей исторической жизни. Не будемъ говорить уже объ отношенiи Пушкина къ Петру Великому, котораго онъ глубоко оцѣнилъ и къ которому позже онъ обратился въ Мѣдномъ Всадникѣ съ слѣдующимъ вопросомъ:

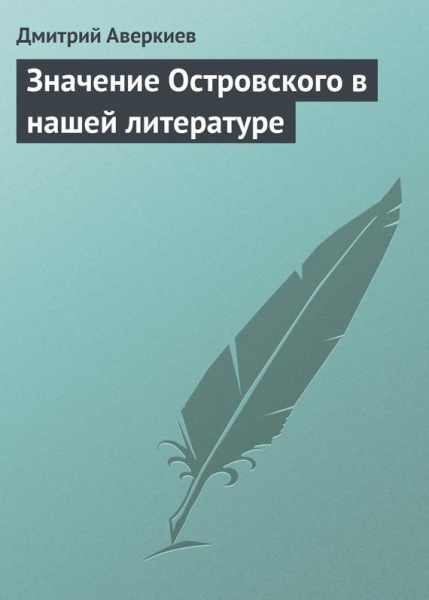
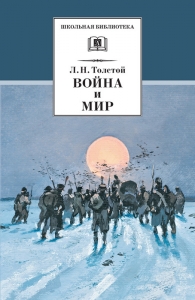
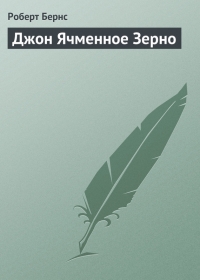
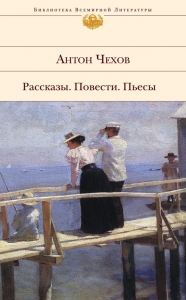

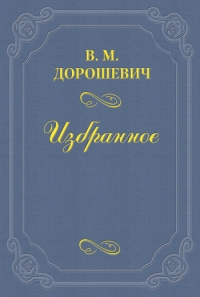
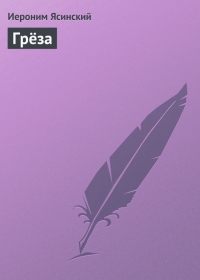
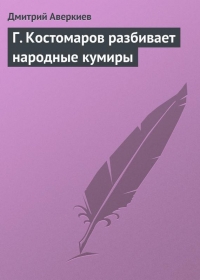
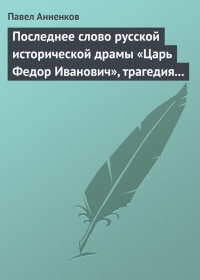
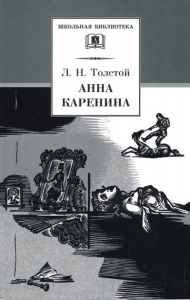
Комментарии к книге «Значение Островского в нашей литературе», Дмитрий Васильевич Аверкиев
Всего 0 комментариев