Густав Майринк Урна в Ст. Гингольфе
В получасе езды от Санкт-Гингольфа, – за холмами, – находится древний парк, дикий и покинутый, – не обозначенный ни на одной карте.
Замок, стоявший когда-то посредине его, вероятно еще несколько столетий тому назад, разрушился; остатки белых стен, – не выше, чем до колен человека, – торчат потерянные из дикой глубокой травы, как побелевшие гигантские остовы зубов допотопного чудовища.
Равнодушное время все сровняло с землею, ветер развеял – имена и гербы, ворота и двери.
А на башни и крыши светило солнце, пока они медленно и незаметно распадались в прах, чтобы потом мертвой пылью с испарениями долины подняться вверх.
Так зовет к себе всепоглощающее солнце земные предметы.
Глубоко в тени кипарисов сохранилась в парке от забытых времен выветрившаяся каменная урна; темные ветки сокрыли ее от непогоды.
Рядом с этой урной я бросился однажды в траву, слушал раздраженное карканье ворон там, на верхушках деревьев, и видел, как цветы становились серьезными, когда тучи простирали свои руки перед солнцем; и вокруг меня грустно закрывались тысячи глаз – так чудилось мне – когда угасал свет на небе.
Долго лежал я так, почти неподвижно.
Грозные кипарисы мрачно стерегли урну, смотревшую на меня своим обветренным каменным лицом, как существо без дыхания и сердца, – серо и бесчувственно.
И мысли мои тихо скользнули в потонувший мир – полный сказочных звуков и таинственного звона металлических струн; мне казалось, что должны прийти нарядные дети, и, стоя на цыпочках, бросать в урну – своими маленькими ручками – камешки и сухую листву.
Потом я долго размышлял, почему на этой урне лежит тяжелая крышка, как каменная, упрямая, черепная коробка. И какое-то странное чувство овладело мной, при мысли о том, что воздух и жалкие сгнившие предметы, сокрытые в ней, так бесцельно и таинственно изъяты из жизни.
Я хотел двинуться и почувствовал, что члены мои скованы сном, а пестрые картины жизни медленно блекнут.
* * *
И мне приснилось, что кипарисы вновь стали молодыми и незаметно колеблются от тихого дуновения ветерка.
В урне отражалось мерцание звезд, а падавшая на белый, при ночном освещении, луг тень от голого, исполинского креста, молчаливо и призрачно торчавшего из земли, была похожа на вход в мрачную шахту.
Медленно тянулись часы, иногда, на короткий промежуток времени, блестящие круги ложились на траву и на мерцающие венчики дикого укропа, волшебно сиявшего, подобно цветному металлу, – искры, – бросаемые месяцем между стволами деревьев, когда он проходил над холмами.
Парк ждал чего-то или кого-то, кто должен был прийти и, – когда на дорожке, из сокрытого в полной тьме замка, тихо заскрипел под тяжестью чьих-то шагов гравий, и ветерок принес шелест платья, мне показалось, что деревья выпрямились и хотят нагнуться вперед, чтобы прошептать пришедшему предостерегающие слова.
Это были шаги молодой матери, пришедшей из замка для того, чтобы броситься к подножию креста, с отчаянием охватив его основание.
Но под тенью креста стоял человек, не замеченный ею; присутствия его здесь она не подозревала.
Он, выкравший в сумерки ее спящее дитя из колыбельки, и ожидавший здесь ее прихода час за часом, ее муж, привлеченный домой издалека грызущими подозрениями и мучительными снами.
Он прижал свое лицо к дереву креста и слушал, затаив дыхание, шепот ее молитв.
Он знал душу своей жены и сокрытые побуждения ее натуры и знал, что она придет. К этому кресту.
Он видел это во сне. – Она должна была прийти сюда, чтобы здесь искать свое дитя.
Как магнит притягивает железо, как инстинкт собаки помогает ей найти потерянного щенка, так та же темная загадочная сила, – будь это даже во сне, – направит стопы матери…
Шумели листья и ветки, чтобы предостеречь молящуюся, ночная роса падала ей на руки. Но она потупила взор, и чувства ее были слепы в неимеющей названия тоске и заботе о пропавшем дитяти.
Поэтому она не чувствовала, что крест был обнажен и не нес на себе того, к кому она взывала и кто сказал: иди и не греши больше.
А тот, кто вместо него слушал слова ее муки, хотел быть безжалостным духовным отцом.
И она молилась и молилась, и все яснее выливалась ее мольба в признании.
«Не обвиняй меня, господи, и, как простил женщине прелюбодеяние»…. – тогда громко застонали старые ветки в муке и страхе и дико схватили подслушивавшего за крестом и вцепились в его плащ… порыв ветра промчался по парку. Последние предательские слова унесло его порывом, но ненавидящего уха не обманет и буря, и молниеносно становится достоверным то, что долгое время было только подозрением.
И опять мертвая тишина вокруг.
Молящаяся у креста упала, – недвижно, словно скованная сном.
Тогда тихо, тихо повернулась каменная крышка, и белые руки человека засветились во тьме, когда они медленно и беззвучно, подобно страшным паукам, ползли по краю урны.
Ни звука во всем парке. Парализующий ужас крался в темноте. Линия за линией опускались и исчезали каменные винтовые нарезки.
И вдруг, сквозь чащу, крошечный луч месяца осветил орнамент на урне и создал на отшлифованной капители горящий ужасный глаз, смотревший в лицо мужчины вытаращенным коварным взглядом.
* * *
Ноги, подгоняемые ужасом и страхом, мчались через лес и треск хвороста вспугнул молодую мать.
Шум стал слабее, потерялся вдали и замер.
Но она не обращала на это внимания и прислушивалась в темноте, с остановившимся дыханием, к какому-то незаметному, еле слышному звуку, родившемуся как бы из воздуха и достигшему ее уха. Разве это не был тихий плач? Совсем рядом с ней?
Неподвижно стояла она и прислушивалась, прислушивалась с закушенными губами, ее слух стал острым, как у зверя; она задерживала дыхание до того, что начинала задыхаться и все-таки дыхание, вырывавшееся из ее рта, казалось ей шумом бури; сердце гудело, и кровь в жилах бурлила подобно тысяче подземных ключей. Она слышала как скребутся гусеницы в коре деревьев и незаметно колеблются травинки.
И загадочные голоса зарождающихся, неродившихся еще мыслей, от которых зависит судьба человека, – невидимо сковывающие его волю – и все-таки тихие, гораздо более тихие, чем беззвучное дыхание растущих растений, звучали чуждо и глухо в ее ушах.
А между ними плач, болезненный плач, обволакивающий ее, звучащий над ней и под ней, – в воздухе, – в земле.
Ее дитя плакало, – где-то там, – здесь, – ее пальцы сжимались от смертельного ужаса, – бог поможет ей найти его.
Совсем, совсем близко от нее должно оно быть, бог хочет только испытать ее, – конечно!
Вот плач послышался ближе и громче, безумие машет своими черными крыльями и затемняет ими небо, – весь ее мозг – один единственный, истерзанный слуховой нерв.
Минуту, еще минуту сострадания, о боже, пока она найдет свое дитя.
Полная отчаяния, она бросается вперед на поиски ребенка, но шум первых же шагов ее поглощает тонкий звук, путает слух и приковывает ногу к прежнему месту. Беспомощная, она останавливается, недвижная как камень, чтобы не потерять следа.
Снова она слышит свое дитя, оно зовет ее, но вот лунный свет прорывается через парк и сверкающими потоками низвергается с верхушек деревьев, и украшения на урне светятся, как белый перламутр.
Резкие тени кипарисов указывают: здесь, здесь поймано твое дитя, разбей камень. Скорей, скорей, пока еще не задохнулось; но мать не видит и не слышит.
Отблеск света обманул ее; в беспамятстве бросается она в чащу, до крови царапает руки о терния, и шарит в кустах, как беснующийся зверь.
* * *
Ее жуткие вопли несутся по парку.
И белые фигуры приходят из замка и рыдают, и держат ее руки и, полные сострадания, уносят ее.
Безумие покрыло ее своей мантией и она умерла в ту же ночь. Ее дитя задохнулось, и никто не нашел маленького трупа; урна хранила его, пока он не превратился в пыль.
Старые деревья стали болеть с той ночи и медленно засохли. Только кипарисы охраняют трупик и до сегодняшнего дня.
Никогда больше они не сказали ни слова и от горя оцепенели и стали неподвижными.
А деревянный крест они молча прокляли, пока не пришла буря с севера, не вырвала его и не повергла ниц. Урну она в своем бешенстве тоже хотела разбить, но бог не позволил этого; камень не всегда справедлив, а этот был не более жесток, чем человеческое сердце.
* * *
Что-то тяжелое давит мне на грудь и заставляет меня проснуться.
Я смотрю вокруг себя, поднебесное пространство наполнено преломленным светом. Воздух жарок и ядовит.
Кажется, что горы испуганно сдвинулись и ужасающе отчетливо каждое дерево.
Отдельные белые полосы пены мчатся по воде, гонимые таинственной силой; озеро черно; как разинутая пасть бешенной исполинской собаки лежит оно подо мной.
Вытянувшееся фиолетовое облако, какого я никогда еще не видал, парит со страшной неподвижностью, высоко парит над бурей и, как призрачная рука, схватывает небо.
Сон об урне еще душит меня, и я чувствую, что это рука урагана там наверху – и его далекая, невидимая рука нащупывает и ищет на земле сердце, оказавшееся более твердым, чем камень.


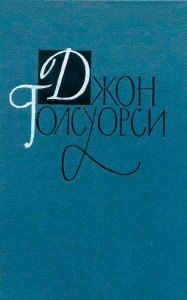
Комментарии к книге «Урна в Ст. Гингольфе», Густав Майринк
Всего 0 комментариев