Жид Андре
ЯСТВА ЗЕМНЫЕ
Моему другу Морису Кийо1
Вот плоды, которыми
питались мы на земле.
Коран, II, 23
Не обманись, Натанаэль, грубым названием, которое мне вздумалось дать этой книге; я мог бы назвать ее "Менальк", но Меналька, так же как и тебя самого, никогда не было. Лишь одно человеческое имя - мое собственное - могло бы дать название этой книге; но тогда как я осмелился бы подписать ее?
Я вложил в нее себя - не раздумывая, не стыдясь; и если я порой говорю в ней о стране, которую никогда не видел, о запахах, которых никогда не вдыхал, о поступках, которых никогда не совершал - или о тебе, мой Натанаэль, которого я никогда не встречал, - то вовсе не потому, что склонен к притворству. Мой рассказ не более вымышлен, чем твое имя, Натанаэль, который меня прочтет, имя, что я даю тебе, не зная, каким оно у тебя будет на самом деле.
И когда ты прочтешь меня, брось эту книгу - и уходи. Я хотел бы, чтобы она заставила тебя уйти - уйти все равно куда, из твоего города, от твоей семьи, от твоего дома, от привычных мыслей. Не бери мою книгу с собой. Если бы я был Менальком, я взял бы тебя за правую руку, чтобы вести тебя, но так, чтобы твоя левая рука не знала об этом; и отпустил бы тебя, как только города остались позади; и сказал бы тебе: забудь меня.
Пусть моя книга научит тебя интересоваться собой больше, нежели ею, потом - всем остальным больше, чем собой.
КНИГА ПЕРВАЯ
Мое ленивое счастье, которое
долго дремало, просыпается.2
Гафиз
I
Не пытайся, Натанаэль, найти Бога иначе, чем во всем.
Каждое создание указывает на Бога, но ни одно его не обнаруживает.
Каждое создание, стоит только взгляду остановиться на нем, уводит нас от Бога.
*
Пока другие печатались или учились, я провел три года в путешествиях, стараясь, напротив, забыть все, чему успел выучиться мой ум. Это забывание было медленным и трудным; оно оказалось для меня полезней, чем все знания, навязанные людьми, и стало подлинным началом воспитания.
Ты никогда не узнаешь, сколько усилий понадобилось мне, чтобы почувствовать интерес к жизни, но теперь, когда она меня интересует, это чувство будет, как и всякое другое, - страстным.
Я с восторгом наказывал свою плоть, испытывая большее наслаждение от наказания, нежели от греха, - столь опьяняло мою гордыню то, что я просто не грешу.
Изживать в себе мысль о заслуге - камень преткновения для ума.
...Сомнение в избранном пути превращало в пытку всю мою жизнь. Что сказать тебе? Любой выбор, если вдуматься, ужасен: ужасна свобода, которая совсем не связана с долгом. Это дорога, которую приходится выбирать в совершенно незнакомой стране, где каждый делает собственное открытие, и, запомни это хорошенько, делает его только для себя; так что самый неясный след в самом глухом уголке Африки кажется все-таки менее сомнительным... Тенистые рощи завлекают нас, миражи дразнят водой, еще более иссушая... Но вскоре воды потекут там, где их заставят течь наши желания; ибо эта страна обретает очертания лишь по мере нашего приближения к ней, и пейзаж вокруг, пока мы движемся вперед, мало-помалу упорядочивается; и мы не различаем, чт?о за горизонтом; но даже то, что рядом с нами, - не более чем последовательность и изменчивая видимость.
Но к чему сравнения, когда предмет столь серьезен? Мы все уверены, что непременно обретем Бога. Увы, пытаясь найти Его, мы не знаем, куда нам обращать свои молитвы. Говорят, что Он везде, повсюду, Невидимый, и преклоняют колени наудачу.
И ты, Натанаэль, уподобишься тому, кто пойдет за светом, который сам же держит в руке.
Куда бы ты ни пошел, ты можешь встретить только Бога.
- Бог, - говорил Менальк, - то, что перед нами.
Натанаэль, ты увидишь в пути все, но не остановишься нигде. Скажи себе, что Бог - единственное, что не может быть преходящим.
Пусть значение будет в твоем взгляде, а не в рассматриваемом предмете.
Все эти различные познания, которые ты хранишь в себе, останутся отличными от тебя, пока не обветшают от времени. Зачем ты придаешь им такую цену?
Есть польза в желаниях и польза в пресыщении ими - поскольку при этом они лишь возрастают. Ибо, я говорю тебе это всерьез, Натанаэль, каждое желание делало меня более богатым, чем обладание, всегда ложное, предметом моего желания.
*
Ради множества упоительных вещей, Натанаэль, я изнурял себя любовью. Их сияние происходило оттого, что я непрерывно воспламенялся ими. Я не мог насытиться. Любая пылкость вела к любовному истощению, упоительному истощению.
Еретик из еретиков, я всегда тянулся к взглядам, далеким от моих, к резким поворотам мысли, разногласиям. Всякий ум интересовал меня лишь тем, что отличало его от прочих. Мне пришлось истребить в себе симпатию, видя в ней одно лишь признание общих с кем-то чувств.
Вовсе не симпатию, Натанаэль, - любовь.
Действовать, не судя, плох поступок или хорош. Любить, не заботясь, хорошо это или плохо.
Натанаэль, я научу тебя пылкости.
Вечное волнение, Натанаэль, - только не спокойствие. Единственный покой, с которым я мог бы примириться, - это покой смерти. Я боюсь, что любое желание, всякая энергия, которым я не дам выхода в течение жизни, истерзают меня. Я надеюсь, выжав из себя на этой земле все, что было во мне заложено, умереть в полной безнадежности.
Вовсе не симпатия, Натанаэль, - любовь. Ты понимаешь, не правда ли, что это не одно и то же. Лишь из страха потерять любовь я мог иногда проникнуться симпатией к печалям, горестям, боли, которые иначе едва ли смог бы перенести. Пусть каждый сам заботится о собственной жизни.
(Я не могу сегодня писать, потому что колесо поворачивается на гумне. Вчера я видел это; молотили рапс. Полова взлетала; зерно падало вниз. Пыль вызывала удушье; женщина ворочала снопы. Два красивых парня с босыми ногами собирали зерно.
Я плачу, потому что мне нечего больше сказать.
Я знаю, что нельзя начинать писать, когда нечего больше сказать, кроме этого. Но я писал и буду писать еще об этом, снова об этом.)
*
Натанаэль, я хочу подарить тебе радость, которую тебе еще не смог дать никто другой. Я не знаю, к?ак передать тебе ее, эту радость, однако я держу ее в руках. Я хочу говорить с тобой так проникновенно, как этого не сделал еще никто. Я хочу прийти к тебе в тот ночной час, когда ты будешь одну за другой открывать и отбрасывать книги, ища в каждой из них нечто большее, чем тебе уже открылось, когда ты еще ждешь, когда твоя пылкость готова стать печалью, не находя поддержки. Я пишу только для тебя; я пишу только ради этих часов. Я хочу написать такую книгу, в которой ты не найдешь ни одной только моей мысли, ни одной только моей эмоции, но сочтешь, что видишь лишь отражение своей собственной пылкости. Я хочу приблизиться к тебе, чтобы ты полюбил меня.
Меланхолия - это всего лишь угасшая пылкость.
Каждое существо способно к обнаженности; каждое чувство - к переполнению.
Мои чувства открыты, как религия. Можешь ли ты понять? - Каждое ощущение это встреча с бесконечностью.
Натанаэль, я научу тебя пылкости.
Наши поступки связаны с нами, как свечение с фосфором. Они разрушают нас, это правда, но они же создают наше сияние.
И если наша душа чего-нибудь стоила, значит, она горела жарче, чем другие.
Я видел вас, широкие поля, омытые молоком рассвета; голубые озера, я погружался в ваши воды, и каждая ласка смеющегося ветра заставляла меня улыбаться - вот о чем я не устану твердить тебе, Натанаэль. Я научу тебя пылкости.
Если бы я видел что-то более прекрасное, я рассказал бы тебе об этом только об этом, и ни о чем другом.
Ты не научил меня мудрости, Менальк. Не мудрости, но любви.
*
Я испытывал к Менальку чувство большее, чем дружба, и едва ли меньшее, чем любовь. Я любил его, как брата.
Менальк опасен; бойся его; он навлекает на себя проклятия благоразумных, но не внушает страха детям. Он учит их любить не только свою семью, и исподволь - уходу от нее; он заставляет их томящееся сердце тянуться к кислым диким плодам и необычайной любви. Ах, Менальк, я хотел бы пройти с тобой и по другим дорогам. Но ты ненавидел слабость и подтолкнул меня к разрыву.
Есть удивительные возможности в каждом человеке. Настоящее располагало бы множеством вариантов будущего, если бы прошлое уже не заложило в нем свой сюжет. Но увы! Единственность прошлого предполагает единственность будущего замысел перед нами, как точка в бесконечном пространстве.
Мы уверены, что никогда не делаем того, что не способны понять. Понять значит почувствовать в себе способность к действию. МАКСИМАЛЬНО ПРИМИРИТЬСЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ - вот прекрасная формула.
Любые формы жизни, вы все казались мне прекрасными. (То, что я говорю тебе сейчас, мне говорил Менальк.)
Я надеюсь, что хорошо узнал все страсти и все пороки; по крайней мере, я потакал им. Все мое существо стремилось ко всякой вере; и я бывал столь безумен, что иногда почти верил в то, что у меня есть душа, - так остро я чувствовал ее готовность выскользнуть из моего тела, - говорил мне еще Менальк.
И наша жизнь предстает перед нами как стакан, наполненный ледяной водой, запотевший стакан в руках охваченного горячкой, который хочет пить и выпивает все одним глотком, хорошо зная, что ему следовало бы помедлить, но не имея сил отвести этот упоительный стакан от своих губ, столь свежа эта влага, так возбуждает в нем жажду жар лихорадки.
II
Ах, как я вдыхал холодный ночной воздух! Ах, эти окна! И такие бледные лучи стекали с луны из-за тумана, как будто это были ключи, - казалось, их можно пить.
Ах, окна! Сколько раз я пытался охладить свой лоб вашими стеклами! И сколько моих желаний рассеивалось, как дым, когда я бежал из своей постели, cлишком разгоряченный, к балкону, чтобы увидеть бесконечное спокойное небо.
Лихорадки прошлых лет, вы нанесли смертельный удар моему телу, но как опустошается душа, когда ничто не обращает ее к Богу.
Постоянство моего обожания было ужасным; я целиком растворялся в нем.
Ты будешь еще долго искать счастья, недостижимого для души, говорил мне Менальк.
Когда дни первых сомнительных восторгов миновали - перед тем как мне встретиться с Менальком, - наступил период беспокойного ожидания, похожий на переход через болото. Меня засасывала тоскливая дремота, исцелить которую сном было невозможно. Я отдыхал от отдыха, спал и просыпался еще более усталым, мой ум оцепенел как бы в предчувствии метаморфозы.
Тайные манипуляции организма; скрытая работа невыясненного генезиса; тяжелые роды; вялость, ожидание; как хризалида, как куколка в коконе, я спал; я давал возможность сформироваться внутри меня новому существу, которым я стану, уже совсем непохожему на меня. Весь свет доходил до меня будто сквозь толщу зеленоватых вод, сквозь листья и ветки; смутное восприятие, как бывает при опьянении или сильном потрясении. - Ах! Пусть наступит наконец, - умолял я, - кризис, болезнь, острая боль! И мой мозг сравнивал себя с грозовыми небесами, затянутыми тяжелыми облаками, когда трудно дышать и все ждет молнии, чтобы лопнули наконец эти серые бурдюки, полные влаги и прячущие лазурь.
Сколько же тебе длиться, ожидание? И в конце концов останется ли нам что-то для жизни? - Ожидание! Ожидание чего? - взывал я. Может ли произойти что-то, чего не породили мы сами? И что могло произойти с нами, чего бы мы уже не знали?..
Рождение Абеля, моя помолвка, смерть Эрика, разрушение моей жизни вместо прекращения этой апатии, казалось, длили ее еще больше, казалось, что это оцепенение происходит от сложности моих мыслей и неопределенности желаний. Я хотел бы вечно спать во влажной земле, как растение. Иногда я говорил себе, что наслаждение прекратило бы мои страдания, и искал в изнурении плоти освобождение для ума. Потом я снова спал в течение долгих часов, как спят маленькие дети, которых укладывают днем, убаюканные теплом, в оживленном доме.
Потом я просыпался, весь в поту, с колотящимся сердцем и затуманенной головой. Cвет, который просачивался снизу, через щели в закрытых ставнях, и отражался на белом потолке зелеными отблесками лужайки, этот вечерний свет был для меня неповторимо прекрасен, подобно свету, который кажется нежным и очаровательным, пройдя сквозь листву и воду, и который дрожит на пороге пещеры, после того как вы долго были окутаны ее тенями.
Неясные шумы доносились из дома. Я медленно возрождался к жизни. Я умывался теплой водой и шел, полный печали, по равнине до садовой скамейки, на которой ждал наступления вечера, ничего не делая. Чтобы говорить, слушать или писать, я был слишком уставшим. Я читал:
...Он видел пред собой
Пустынные дороги
И птиц морских, ныряющих в волну,
И слышал шелест крыл...
Ну что же, дом мой здесь...
...Я принужден здесь жить,
Под этим дубом,
Под желтою пожухлою листвой
В пещере под землей и под травой.
Как холоден мой дом,
Он мне наскучил.
Ложбины темные,
Высокие холмы
И изгородь печальная из веток,
Усеянных созревшей ежевикой,
Унылый и безрадостный приют*.
Чувство полноты жизни, возможной, но еще не испытанной, иногда начинало брезжить, потом возникало снова, мало-помалу становясь неотвязным. Ах! Пусть створки дня распахнутся наконец, - молил я, - пусть засверкает он среди этих вечных невзгод!
Казалось, все мое существо испытывало огромную потребность закалиться в обновлении. Я ждал второго возмужания. Да, приспособить свои глаза к новому зрению, омыть их от книжной грязи, придать им большее сходство с лазурью, на которую они смотрят, - cегодня совсем чистой из-за недавних дождей...
Я болел; я путешествовал; я встретил Меналька, и мое чудесное выздоровление было воскрешением из мертвых. Я воскрес новым существом, под новым небом и среди вещей, полностью обновленных.
III
Натанаэль, я расскажу тебе об ожидании. Я видел равнину летом. Она ждала. Ждала хоть каплю дождя. Пыль на дорогах стала слишком легкой и вздымалась при малейшем дуновении. Это не было похоже на жажду. Это был страх. Земля растрескалась от жары, словно для того, чтобы вобрать в себя побольше влаги. Запах полевых цветов стал почти нестерпимым. Все изнемогало под солнцем. Каждый день после полудня мы шли отдохнуть под навес, не очень спасавший от необычайно яркого света. Это было время, когда деревья, слишком отягощенные пыльцой, слегка взмахивают ветками, чтобы рассыпать подальше свои семена. Небо было тяжелым, грозовым, и вся природа ждала. Это был миг торжества, слишком печального, потому что все птицы погибли. Дыхание земли так обжигало, что недалеко было до обморока; пыльца хвойных деревьев летела с веток, как золотой дым. - Потом пошел дождь.
Я видел небо, трепещущее в ожидании зари. Одна за другой меркли звезды. Луга были залиты росой; ветер дарил холодной лаской. Какое-то время казалось, что неясная жизнь хочет остаться сном, и мой еще усталый ум охватило оцепенение. Я дошел до опушки леса; cел; всякая тварь возвращалась к своим трудам и радостям в уверенности, что день вот-вот наступит, и мистерия жизни простиралась на каждый лепесток. - Потом наступил день.
Я видел еще другие рассветы. - Я видел ожидание ночи...
Натанаэль, пусть каждое твое ожидание, не становясь желанием, будет просто готовностью к встрече. Жди всего, что может к тебе прийти, но желай лишь того, что к тебе пришло. Желай лишь того, что имеешь. Пойми, что в каждое мгновение жизни ты можешь познать Бога, всего целиком. Пусть твое желание будет любовью, а твое познание - любовником. Ибо какое же это желание, если оно бессильно?
И что же, Натанаэль, ты постигаешь Бога и не заметил этого! Познать Бога значит увидеть Его; но Он невидим. На перекрестке каких дорог, Валаам, ты не увидел Бога, перед которым замерла твоя душа? Ибо ты представлял Его себе иначе.
Натанаэль, есть только Бог, которого невозможно ждать. Ждать Бога, Натанаэль, - значит не понимать, что ты уже познаешь Его. Не отделяй Бога от счастья и вкладывай все свое счастье в мгновение.
Я носил все свое добро с собой, как женщины Востока, бледнея от напряжения, носят на себе все свои богатства. В каждое крохотное мгновение своей жизни я мог чувствовать в себе всю совокупность своего добра. Оно возникало не от сложения множества отдельных вещей, но единственно от моего обожания. Я постоянно держал все свое добро в своей власти.
Смотри на вечер так, словно день должен в нем умереть, на утро - словно все сущее только что в нем родилось.
Пусть твое зрение обновляется с каждым мгновением.
Мудрость в том, чтобы удивляться всему.4
Все твои беды, Натанаэль, происходят от обилия твоего добра. Ты не знаешь даже, что из всего предпочесть, и не понимаешь, что единственное благо жизнь. Самое крохотное мгновение жизни сильнее смерти и отрицает ее. Смерть это разрешение на вход для других жизней, чтобы все непрерывно обновлялось. Всякая форма жизни сохраняется ровно столько времени, сколько ей нужно, чтобы выразить себя. Счастливое мгновение, когда звучит твое слово. Все остальное время - слушай; но, когда ты говоришь, - не слушай ничего.
Нужно, чтобы ты сжег в себе все книги!
ПЕСНЯ
В ЗНАК ПОКЛОНЕНИЯ ТОМУ,
ЧТО Я СЖЕГ5
Есть много разных книг. Одни читают,
Присев на край скамьи, за школьной партой.
Другие есть - для чтения в дороге
(При выборе играет роль формат);
Есть книги для лесов и для полей,
Et, - Цицерон сказал, - nobiscum rusticantur*.
Есть те, что я прочел с большим вниманьем,
И те, что копят пыль на чердаках.
Одни заставят вас в добро поверить,
В отчаянье другие приведут.
Доказывают те: есть Бог на свете,
А эти говорят: не может быть.
Есть книги, нужные одним библиофилам,
И книги, заслужившие хвалу
Когорты целой критиков маститых.
Есть книги по проблемам пчеловодства
Их узкоспециальными считают.
Есть книги о природе. После них
Уже нет смысла совершать прогулку.
Есть книги, что отталкивают мудрых,
Но привлекают маленьких детей.
И множество различных антологий
Все лучшее в них есть. О чем - не важно.
Одни нас учат жизнь любить безмерно,
А авторы других - самоубийцы.
Те сеют ненависть, а эти жнут
Все, что они посеяли когда-то.
Есть книги, излучающие свет,
Наполненные прелестью, восторгом.
Такие есть, что дороги, как братья,
Которые честней и лучше нас.
А стиль других настолько необычен,
Что можно долго изучать - темны.
Натанаэль, когда же мы сожжем все книги?!
Одни из них не стоят и трех су,
Другие же едва ли не бесценны.
Есть те, что говорят лишь с королями,
И те, чья речь звучит для бедноты.
Есть и такие, чьи слова нежней,
Чем шелест листьев в полдень.
Есть меж ними
Та книга, что когда-то Иоанн
На Патмосе, как крыса, cъел поспешно6,
(Уж лучше есть малину), и она
Переполняла горечью все чрево,
Видений вызывая череду.
Натанаэль! Когда же мы сожжем все книги?!!
Мне мало читать о том, что песок на пляже податлив; я хочу, чтобы мои босые ноги это чувствовали... Все знания, которым не предшествует ощущение, для меня бесполезны. Мне никогда в жизни не приходилось видеть прекрасное, без того чтобы вся моя нежность не возжелала прикоснуться к нему. Возлюбленная красота земли, твое цветение чудесно! О пейзаж, в который погружается мое желание! Открытая страна, где блуждают мои поиски; аллея папируса, обрывающаяся в воде; тростник, склонившийся к реке; просветы полян; явление простора в узких амбразурах веток, беспредельное обещание. Я блуждал в коридорах камней и растений. Я видел, как разматывался клубок весен.
СКОРОГОВОРКА ЯВЛЕНИЙ
Каждый день, каждое мгновение моей жизни имели для меня вкус новизны - дар абсолютно невыразимый. Благодаря ему я жил в почти постоянном страстном изумлении. Я очень быстро доводил себя до состояния опьянения, и мне нравилось впадать в это своего рода забытье.
Конечно, если я встречал смех на губах, мне хотелось поцеловать их, румянец на щеках, cлезы в глазах - я хотел выпить их; вгрызаться в мякоть всех плодов, которые тянулись ко мне с отяжелевших веток. В каждой харчевне меня приветствовал голод; у каждого источника меня поджидала жажда - своя у каждого в отдельности; - или, если другими словами выразить мои желания:
идти туда, куда ведет дорога;
отдыхать там, где благосклонна тень;
плыть вдоль берега на глубине;
любить или засыпать на берегу каждой постели.
Я смело клал свою руку на любой предмет и верил, что у меня есть права на каждый предмет моих желаний. (Впрочем, мы желаем, Натанаэль, не столько обладания, сколько любви.) Ах, пусть переливается передо мной каждая малость, пусть вся красота облекается и искрится моей любовью!
КНИГА ВТОРАЯ
Яства.
Я жду вас, яства!
Мой голод не остановится на полпути;
Он не утихнет, пока не будет удовлетворен;
Никакая мораль не помешает мне,
А лишениями я мог кормить только душу.
Удовольствия! Я ищу вас.
Вы прекрасны, как летние зори.
Источники, особенно лакомые под вечер, отменные в полдень; бодрящая влага раннего утра; дуновения ветра на кромке прилива; заливы, заваленные мачтовым лесом; тепло ритмичных рек...
О, есть же еще дороги, ведущие в поля; полуденный зной; настои лугов; и для ночлега - ямка в стогу;
есть дороги на Восток; струи воды за кормой в любимых морях; сады в Моссуле; танцы в Туггурте; песни пастуха в Гельвеции;
есть и дороги на Север; ярмарки в Нижнем; сани, вздымающие снег; замерзшие озера; конечно, Натанаэль, мы не дадим скучать нашим желаниям.
Корабли вошли в наши порты, они привезли созревшие плоды из неведомых стран.
Разгрузите их поскорей, чтобы мы смогли наконец отведать этих плодов.
Яства!
Я жду вас, яства!
Удовольствия, я ищу вас;
Вы прекрасны, как улыбка лета.
Я знаю, что у меня нет ни единого желания,
На которое не нашлось бы уже готового отклика.
Мой голод огромен!
И каждое его проявление ждет своей пищи.
Яства!
Я жду вас, яства!
Во всей вселенной я ищу вас,
Удовольствия, удовлетворение всех моих желаний.
*
Самое прекрасное на земле,
Ах, Натанаэль, это мой голод!
Он всегда был верен тому,
Что его ожидало.
Разве вином опьяняется соловей?
Орел - молоком? А певчий дрозд - гроздьями ягод?
Орел опьяняется своим полетом. Соловей хмелеет от летних ночей. Поля дрожат от зноя. Натанаэль, пусть все твои чувства знают, что ты в упоении. Если еда не пьянит тебя, значит, ты недостаточно голоден.
Каждое законченное действие приносит наслаждение. Благодаря ему ты знаешь, что должен был сделать то, что сделал. Я не слишком жалую тех, кто ставит себе в заслугу тяжкий труд. Ибо, если он был столь мучителен, уж лучше бы они занялись чем-нибудь другим. Радость, заключенная в действии, означает полное овладение работой; и для меня неподдельность моего удовольствия, Натанаэль, главный вожатый.
Я знаю, что мое тело жаждет наслаждения каждый день и мой разум согласен с ним. А потом ко мне приходит сон. Земля и небо ровным счетом ничего не значат по ту сторону.
*
Есть странная болезнь
Когда люди хотят только того, чего у них нет.
- Нам тоже, - говорят они, - нам тоже знакома жестокая тоска души. В пещере Одоллам томился ты, Давид7, напившись воды из бочек. Ты взывал: "О кто принесет мне свежей воды, которая бьет ключом под стенами Вифлеема? Ребенком я утолял там жажду; но теперь она стала пленницей, эта вода, желанная моему жару".
Никогда не желай, Натанаэль, испить воды прошлого.
Никогда не пытайся, Натанаэль, найти в будущем утраченное прошлое. Лови в каждом мгновении неповторимую новизну и старайся не предвкушать свои радости или знай, что на подготовленном месте тебя застигнет врасплох совсем другая радость. Как ты не понимаешь, что всякое счастье - нежданная встреча, и оно предстает перед тобой каждое мгновение, как нищий на твоей дороге. Горе тебе, если ты сочтешь свое счастье погибшим только потому, что представлял его совсем непохожим на это - дарованное тебе - счастье, горе тебе, если ты способен признать только то счастье, которое отвечает твоим принципам и твоим обетам. Завтрашняя мечта - это радость, но завтрашняя радость будет другой, и ничто, по счастью, не похоже на мечту, которую мы творим себе сами, ибо только различие определяет цену всему.
Мне не понравится, если ты мне скажешь: смотри, какую радость я приготовил для тебя; я люблю только случайные радости и те, которые мой голос заставляет брызнуть из камня; они потекут для нас, новые и сильные, как молодое вино из-под пресса.
Мне не нужно, чтобы моя радость была приукрашена, не нужно, чтобы Суламита прошла по залам; перед тем как поцеловать ее, я не стер с губ пятен, оставленных гроздьями винограда; после поцелуев я пил тонкое вино, которое не освежало мой рот, и ел сотовый мед пополам с воском.
Натанаэль, не подготавливай заранее свои радости!
*
Когда ты не можешь сказать: тем лучше, скажи: тем хуже. В этом есть великое обещание счастья.
Есть люди, считающие, что мгновения счастья посланы Богом, - и другие, думающие, что Кем-то... - Но Кем?
Натанаэль, не отделяй Бога от своего счастья.
- Я не могу быть благодарным Богу за то, что он меня создал, так же как не мог бы упрекать Его за то, что меня нет, если бы я не родился.
Натанаэль, с Богом нужно говорить естественней.
Я хотел только, чтобы существование, однажды принятое, - существование земли и человека, и мое собственное - казалось естественным, но оно ошеломляет меня, и это смущает мой ум.
Конечно, я тоже слагал гимны и написал
ПЕСНЮ О ПРЕКРАСНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ
СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА
Знаешь ли ты, Натанаэль, что самые прекрасные поэтические порывы связаны именно с ними - с тысячью и одним доказательством существования Бога. Ты понимаешь, конечно, что я не собираюсь повторять их здесь, тем более просто повторять; - и потом есть те, кто доказывают лишь сам факт существования Бога, - но нам нужна также Его вечность.
Конечно, я хорошо знаю, что существуют веские аргументы святого Ансельма8
И притча о совершенных островах Блаженства.9
Но, увы! Увы, Натанаэль, весь мир не может жить там.
Я знаю, что есть согласие большинства.
Но ты, ты веришь немногим избранным.
Доказывают тем, что дважды два четыре,
Но, Натанаэль, не все ведь умеют считать.
Есть доказательство через перводвигатель,
Но всегда найдется тот, который был еще прежде первого.
Натанаэль, как жаль, что нас там не было.
Мы могли бы увидеть сотворение мужчины и женщины.
Они удивились бы, что не родились маленькими детьми;
Кедры Эльбруса, едва родившиеся и уже утомленные столетиями
На вершинах гор, уже изрытых потоками.
Натанаэль! Быть там, чтобы увидеть зарю! Какая лень помешала нам родиться тогда? Разве ты не просил о жизни? О, я, конечно, молил о ней... Но в тот момент дух Божий еще не вполне очнулся от довременного сна среди вод. Если бы я был там, Натанаэль, я попросил бы Его сделать все чуть более просторным; и не возражай мне, что тогда это было бы никому не заметно.*
Есть доказательство через конечные цели,
Но не все считают, что цель оправдывает средства.
Есть те, кто доказывают существование Бога любовью, которую они к Нему испытывают. Вот почему, Натанаэль, я называл Богом все, что я люблю, и вот почему я хотел любить все. Не бойся, что я и тебя включу в перечень; к тому же я не начал бы с тебя; я всегда предпочитал людям вещи, и нельзя сказать, что людей я особенно любил на земле. Ибо, тут ты не ошибаешься, Натанаэль: самое сильное во мне - отнюдь не доброта, я думаю, что она и не самое лучшее во мне, и вовсе не доброту я особенно ценю в людях. Натанаэль, предпочитай им своего Бога. Я тоже славил Бога. Я тоже пел гимны для Него, - и думаю даже, что, занимаясь этим, немного переборщил.
*
"- Неужели тебя забавляет, - спросил он, - выстраивать такие системы?
- Ничто не забавляет меня больше, чем этика, - ответил я. - Я питаю ею свой ум. Меня не привлекают радости, которые не входят в этот круг.
- Это умножает их число?
- Нет, - сказал я, - но это то, что принадлежит мне по праву".
Конечно, мне часто нравилось, что учение и сама система полны стройных идей, оправдывающих в моих собственных глазах мои поступки; но иногда я видел во всем этом лишь прибежище своей чувственности.
*
Все приходит в свое время, Натанаэль; все рождается из-за своей собственной потребности, только потребность эта, так сказать, материализовавшаяся.
- Мне нужны легкие, - сказало мне дерево, - и вот мой сок становится листом, для того чтобы иметь возможность дышать. Потом, когда я надышусь, мой лист падает, но я от этого не умираю. Мой плод продолжает мою идею жизни.
Не бойся, Натанаэль, что я слишком увлекусь притчами, поскольку сам их недолюбливаю. Я не хочу учить тебя другой мудрости, кроме жизни. Ибо это важнее, чем думать. Я устал в молодости следить издали за последствиями своих поступков и был уверен в том, что совсем не грешить можно, только если вообще ничего не делать.
Потом я написал: я могу спасти свою плоть лишь безвозвратным развращением своей души. Потом я совсем перестал понимать, что хотел сказать этим.
Натанаэль, я больше не думаю о грехе.
Но ты поймешь с великой радостью, что некоторое право на мысль покупается. Человек, который считает себя счастливым и при этом мыслит, может называться по-настоящему сильным.
*
Натанаэль, несчастье каждого происходит от того, что мы всегда не столько смотрим, сколько подчиняем себе все, что видим. Но не ради нас, а ради себя самой важна каждая вещь. Пусть твои глаза научатся смотреть.
Натанаэль! Я не могу больше начать ни одной строки без того, чтобы в ней снова не появилось твое прекрасное имя.
Натанаэль, я хочу заставить тебя возродиться к жизни.
Натанаэль, вполне ли ты понимаешь пафос моих слов? Я хочу еще больше приблизиться к тебе.
И, как Елисей лег над сыном Сонамитянки, чтобы воскресить его10, "приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем", - так мое большое светящееся сердце над твоей душой, еще темной, я простираюсь над тобой весь целиком: мои уста на твоих устах, мой лоб на твоем лбу, твои холодные ладони в моих горячих ладонях, и мое трепещущее сердце... ("И согрелось тело ребенка" - сказано...) - чтобы ты в наслаждении пробудился для жизни трепещущей и необузданной потом оставь меня.
Натанаэль, вот все тепло моей души - возьми его.
Натанаэль, я хочу научить тебя пылкости.
Натанаэль, не задерживайся подле того, кто похож на тебя; никогда не задерживайся, Натанаэль. Как только окружение становится похожим на тебя или, наоборот, у тебя возникает сходство с окружением, оно перестает быть для тебя полезным. Оставь его, ничто для тебя так не опасно, как твоя семья, твоя комната, твое прошлое. Бери от каждой вещи лишь урок, который она тебе преподносит; и пусть наслаждение, которое от нее исходит, опустошает ее.
Натанаэль, я расскажу тебе о мгновениях. Понимаешь ли ты, какой силой наполнено их присутствие. Ни одна самая постоянная мысль о смерти не стоит самого маленького мгновения твоей жизни. Но понимаешь ли ты, что ни одно мгновение не было бы таким ослепительно сияющим, если бы не оттенялось, так сказать, темными глубинами смерти?
Я не стал бы больше ничего делать, если бы мне сказали, если бы меня убедили в том, что впереди у меня вечность и я всегда успею сделать что-нибудь. Я отдыхал бы, прежде чем начать какое-то дело, располагай я временем сделать также и все другое. Что бы я ни сделал, вероятно, не имело бы никакого значения, если б я только знал, что эта форма жизни кончится, - и, прожив ее, я смогу отдохнуть во сне, чуть более глубоком и несущем чуть больше забвения, чем тот, которого я жду каждую ночь...
*
Я взял за правило отделять каждое мгновение своей жизни ради накопления радости, только ее; чтобы в ней в конце концов сконцентрировалось все своеобразие счастья; так что я не узнавал самого свежего воспоминания.
*
Есть огромное удовольствие, Натанаэль, даже в самом простом утверждении.
Плод пальмы называется финик, и это восхитительная еда.
Вино пальмы называется лагми; это перебродивший пальмовый сок; арабы напиваются им, а я не очень люблю его. Именно чашу лагми предложил мне пастух в прекрасных садах Уарди.
*
Я нашел сегодня утром, во время прогулки в аллее Источников, странный гриб.
Он был окутан белой оболочкой, как красно-оранжевый плод магнолии, с правильными серо-пепельными штрихами, образованными пылью спор, которая просачивалась изнутри. Я открыл его; он был наполнен каким-то грязным веществом, в центре студенисто-светлым; от него исходил тошнотворный запах.
Вокруг него другие грибы, более раскрывшиеся, казались всего лишь сплюснутыми губчатыми наростами, которые можно видеть на стволах старых деревьев.
(Я написал это перед отъездом в Тунис; и повторяю здесь, чтобы показать тебе, какую важность обретал для меня всякий предмет, коль скоро я разглядел его.)
Онфлер11 (на улице)
Временами мне казалось, что люди вокруг суетятся лишь для того, чтобы увеличивать во мне чувство моей индивидуальной жизни.
Вчера был там, сегодня здесь;
Мой Бог, зачем повсюду есть
Говоруны, что говорят и говорят без толку:
Вчера был там, сегодня здесь...
Бывают дни, когда мне достаточно повторить, что дважды два все еще четыре, чтобы я наполнился неким блаженством - и один вид моей руки на столе...
и другие дни, когда это мне совершенно безразлично.
КНИГА ТРЕТЬЯ
Вилла Боргезе
В этом бассейне... (сумерки)... каждая капля, каждый луч, каждое существо могли бы умереть с наслаждением.
Наслаждение! Это слово я хотел бы повторять без конца; или его синоним: блаженство, достаточно даже просто сказать: жизнь.
А то, что Бог создал мир не только ради этого, можно понять, лишь говоря себе... и т.д.
*
Это место - обитель очаровательной свежести, где прелесть сна так велика, что кажется доселе неизведанной.
И здесь восхитительные яства ждали, чтобы мы достаточно проголодались!
Адриатика (3 часа утра)
Песня этих матросов, занятых снастями, не дает мне покоя.
О Земля! Ты, такая древняя и такая молодая, если бы ты знала вкус горечи и сладости, восхитительный вкус короткой человеческой жизни!
Если бы ты могла понять вечную идею обновления, то, как ожидание близкой смерти увеличивает ценность каждого мгновения!
О весна! У растений, живущих всего лишь год, листья хрупкие и легко уязвимы... У человека в жизни есть лишь одна весна, и воспоминание о радости не приближает нового счастья.
Холм Фьезоле
Прекрасная Флоренция, город серьезных уроков, великолепия и цветов, особо значительный; зерно мирта и венок из "стройного лавра".
Холм Винчильята. Здесь я впервые увидел, как облака растворяются в синеве; я очень удивился, поскольку не представлял, что они могут вот так растаять в небе, считая, что облака живут, пока не пойдет дождь, и способны лишь сгущаться. Но нет: я наблюдал, как все хлопья постепенно исчезали; и в конце концов не осталось ничего, кроме лазури. Это была чудесная смерть; растворение в бескрайнем небе.
Рим, Монте Пинчо
То, что принесло мне радость в этот день, было подобно любви, но не любовь, - во всяком случае, не та, о которой говорят и к которой стремятся люди. Это не было также чувством прекрасного; не связано ни с женщиной, ни с моими мыслями. Я опишу, а ты, поймешь ли ты меня, если я скажу, что мой восторг был вызван просто СВЕТОМ?
Я сидел в саду и не видел солнца; но воздух блестел от рассеянного света, как если бы небесная лазурь стала текучей и пролилась дождем. Да, точно, здесь были волны, водовороты света, на мхе - искры, как капли; да, в этой большой аллее, можно сказать, тек свет, и золоченая пена скапливалась на кончиках веток среди этого потока лучей.
...........................................................................
..................
Неаполь; маленькая парикмахерская по соседству с морем и солнцем. На набережных жара; занавеска, которую нужно приподнять, чтобы войти. Вверить себя... Долго ли это продлится? Покой. Капли пота на висках. Дрожание мыльной пены на щеках. И тот, кто своим бритьем способен придать изысканность любому, трудится с еще большим усердием и ловкостью, приподнимает губу, помогая себе теперь маленькой губкой, смоченной теплой водой, которая смягчает кожу. Потом нежной душистой жидкостью приглушает ощущение жжения, потом успокаивает его кремом. И, чтобы подольше не двигаться, я требую подстричь мне волосы.
Амальфи (ночью)
Есть ночные ожидания
Какой-то еще неведомой любви.
Маленькая комнатка над морем; меня разбудил слишком яркий свет луны, луны над морем.
Когда я подошел к окну, то подумал, что наступил рассвет и я сейчас увижу, как восходит солнце. Но нет... В небе было другое светило, уже явленное и вполне завершенное, - луна - нежная, нежная, нежная, как для встречи Елены во Второй части Фауста. Пустынное море. Мертвая деревня. Собака воет в ночи... Тряпки на окнах.
Здесь нет места человеку. Невозможно понять, как все это сейчас проснется. Безмерная скорбь собаки. Дня больше никогда не будет. Невозможность сна. Что ты сделаешь... (то или другое?):
выйдешь в пустынный сад?
спустишься на берег, чтобы умыться?
пойдешь рвать апельсины, которые кажутся серыми при свете луны?
Пес, примешь ли ты ласку?
(Сколько раз я чувствовал, что природа настойчиво ждет от меня какого-то движения, но не знал, какое ей нужно.) Ожидание сна, который придет не скоро...
*
Ребенок следил за мной в этом саду, окруженном стеной, ухватившись за ветку, которая почти касалась лестницы. Лестница вела к террасам, растянувшимся вдоль сада. Разглядеть их целиком было невозможно.
О маленькая фигурка, которую я ласкал под кронами деревьев! Никакая тень не могла бы скрыть твоего сияния, и тень от завитков на твоем плоде всегда казалась еще более темной.
Я пойду в сад, к свисающим лианам и веткам, и буду рыдать от нежности среди этих рощ, где песен больше, чем птиц в вольере, - пока не приблизится вечер, пока не наступит ночь, которая сначала позолотит, а потом сделает еще темнее таинственную воду фонтанов.
И нежные тела новобрачных под кронами деревьев.
Я трогал нежным пальцем кожу, похожую на перламутр.
Я видел нежные ноги, которые неслышно ступали по песку.
Сиракузы
Плоскодонка; низкое небо, которое иногда спускалось к нам теплым дождем; запах водяных растений; дрожание стеблей.
Толща воды скрывает, как обильна мощь этого голубого источника. Ни звука. В этой одинокой деревушке, в этом естественном расширяющемся водоеме вода как будто расцветает на стеблях папируса.
Тунис
Во всей синеве ничего белого, что сгодилось бы для паруса, ничего зеленого - для его тени на воде.
Ночь. Кольца, светящиеся в темноте.
Лунный свет, при котором легко заблудиться. Мысли, не похожие на дневные.
Роковой свет луны в пустыне. Крадущиеся демоны змей. Босые ноги на голубых плитах.
Мальта
Необыкновенное упоение летними сумерками на площадях, когда становится еще светлее, а тени больше нет. Восторг, ни с чем несравнимый.
Натанаэль, я расскажу тебе о самых прекрасных садах, которые я видел.
Во Флоренции продавали розы; бывали дни, когда весь город благоухал. Я гулял каждый вечер в Кашинах, а по воскресеньям - в садах Боболи, где нет цветов.
В Севилье, близ башни Хиральда, есть старый двор мечети; торговцы апельсинами ссорятся там из-за симметрично расположенных мест; остаток двора вымощен плиткой; во время солнцепека здесь можно найти лишь очень маленькую тень; это квадратный дворик, окруженный стенами; он очень красив, не могу объяснить почему.
За пределами города, в огромном, огороженном решетками саду, растет множество деревьев из жарких стран; я не входил в него, но смотрел через решетку; я видел бегущих цесарок и подумал, что там много ручных зверюшек.
Как рассказать тебе об Алказаре? Этот сад - персидское чудо; когда я говорю с тобой о нем, мне кажется, что именно ему я готов отдать предпочтение среди всех других. Я думаю о нем, перечитывая Гафиза:
Принесите мне вина
Пусть прольется оно на платье,
Ибо я шатаюсь от любви.
А меня считают мудрецом!12
В аллеях водяные забавы; аллеи выстланы мраморной плиткой, обсажены миртами и кипарисами. С двух сторон - мраморные бассейны, где купались любовницы короля. Там не было других цветов, кроме роз, нарциссов и цветов лавра. В глубине сада росло исполинское дерево, где легко было представить себе пронзенного булавкой бюль-бюля. Возле дворца - другие бассейны, очень дурного вкуса, напоминают о бассейнах Резиденции в Мюнхене, где есть статуи, целиком выполненные из раковин.
В королевских садах Мюнхена я бродил, чтобы попробовать холод майской травы, по соседству с навязчивой военной музыкой. Публика неэлегантная, но меломаны. Вечер очаровывал соловьиным воодушевлением. Пение соловьев томило, как немецкая поэзия. Есть некий предел наслаждения, который человек способен выдержать, и не без слез. Поэтому наслаждение, которое я получал от этих садов, заставляло меня почти болезненно мечтать о том, чтобы оказаться в каком-нибудь другом месте. В это лето я научился весьма своеобразно пользоваться перепадом температур. Веки великолепно приспособлены для этого. Я вспоминаю ночь в вагоне, которую провел у открытого окна, занятый единственно тем, что пробовал прикосновения прохладного воздуха: я закрывал глаза не для того, чтобы заснуть, но ради этого.
Жара, длившаяся весь день, была удушающей, и еще теплый вечерний воздух казался, однако, прохладным моим обожженным векам.
Когда я увидел в Гренаде терассы Хенералифе, обсаженные олеандром, они не цвели; не были в цвету ни Кампо-Санто в Пизе, ни дворик монастыря Сан-Марко, которые я мечтал увидеть утопающими в розах. Но в Риме я видел Монте Пинчо в самое лучшее время года. В изнурительные послеполуденные часы многие искали там прохлады. Живя неподалеку, я гулял там каждый день. Я был болен и не мог ни о чем думать; природа целиком завладевала мной; успокоив свои расстроенные нервы, я порой утрачивал ощущение границ собственного тела, оно как бы тянулось вдаль; или иногда, так сладостно, становилось пористым, как сахар; я рождался заново. С каменной скамьи, где я сидел, почти не было видно Рима, который меня утомлял; над всем господствовали сады Боргезе, ниже которых, на уровне моих ног, совсем недалеко, качались верхушки самых высоких сосен. О террасы! Террасы, возле которых пространство разрывалось. О воздухоплавание!
Я хотел ночью побродить в садах Фарнезе, но туда не пускали. Восхитительная растительность на этих заброшенных руинах.
В Неаполе есть нижние сады, которые тянутся вдоль моря, как набережные, позволяя солнцу беспрепятственно проникать в них;
в Ниме - фонтан, полный прозрачной проточной воды;
в Монпелье - ботанический сад. Я вспоминаю, как однажды вечером мы сидели с Амбруазом13, будто в садах Академа, возле древнего надгробия, окруженного кипарисами, и медленно беседовали, покусывая лепестки роз.
Мы видели ночью с площади в Пейру далекое море, которое серебрила луна; рядом с нами шумел каскад городских фонтанов, черные лебеди с белой бахромой плавали по глади водоема.
На Мальте в садах резидента я снова попытался читать; в Чита Веккиа есть крохотная лимонная рощица; ее называют "il Boschetto"*, нам нравилось бывать там; и мы вонзали зубы в созревшие плоды, сок которых вначале бывал нестерпимо кислым, но зато потом во рту оставался неповторимый аромат свежести. Мы грызли лимоны и в Сиракузах, в ужасных Катакомбах.
В Гаагском парке бродят лани, почти совсем ручные.
Из сада Авранша видна гора Сент-Мишель и далекие пески, которые по вечерам кажутся пылающими. Есть множество маленьких городов с очаровательными садами; можно забыть город, его название, но так хочется снова увидеть сад; и уже не знаешь, куда нужно вернуться.
Я мечтаю о садах Моссуля; мне говорили, что они полны роз. Сады Нашпура, воспетые Омаром, сады Шираза, воспетые Гафизом; мы никогда не увидим садов Нашпура.
Но в Бискре я узнал сады Уарди. Дети пасут там коз.
В Тунисе нет других садов, кроме кладбищенских. В Алжире, в саду Испытаний (пальмы всех пород), я ел плоды, которых прежде никогда не видел. И наконец, Блида! Натанаэль, что мне сказать?
Ах, нежна трава Сахеля14; и цветы твоих померанцев! и твои тени! сладостны ароматы твоих садов. Блида! Блида! Маленькая роза! В начале зимы я не сумел оценить тебя. В твоей священной роще не было других цветов, кроме тех, что цветут круглый год; и твои глицинии, твои лианы, казалось, годились лишь для очага. Снег, сползая с гор, подкрадывался к тебе; я не мог согреться в своей комнате, тем более в твоих залитых дождем садах. Я читал "Наукоучение" Фихте15 и чувствовал, что ко мне снова возвращается религиозность. Я был мягок; я читал, что нужно смириться со своей печалью, и изо всех сил старался достичь этой добродетели. Теперь, по прошествии времени, я отряхнул пыль со своих подошв; кто знает, куда унес ее ветер? Пыль пустыни, где я бродил, как пророк; бесплодный камень всегда рассыпается в прах; для моих ног он оказался жгучим (ибо солнце слишком нагрело его). Теперь пусть мои ноги отдыхают в траве Сахеля! Пусть все наши слова станут любовью!
Блида! Блида! Цветок Сахеля! Маленькая роза! Я видел тебя, теплую и благоухающую, полную цветов и листьев. Зимний снег растаял. В твоем священном Варде мистически светилась белая мечеть и лиана сгибалась под тяжестью цветов. Олива утонула в гирляндах обвившейся глицинии. Пленительный воздух доносил аромат цветущих апельсиновых деревьев, и даже хрупкие мандариновые деревца благоухали. Над ними эвкалипты роняли старую кору, изношенный покров, она свисала, как одежда, которую солнце сделало ненужной, как мои нравственные бдения, которые имели какую-то ценность лишь зимой.
Блида
Огромные ветки укропа (зелено-золотое сияние его цветов под золотым светом или под голубыми листьями неподвижных эвкалиптов) на дороге, по которой мы шли в Сахель в это первое летнее утро, были неповторимо великолепными.
И эвкалипты, удивленные или невозмутимые.
Принадлежность всего сущего к природе; невозможность вычлениться из нее. Физические законы всеобъемлющи. Вагон, устремленный в ночь; к утру он покрывается росой.
На борту
Сколько ночей, ах, сколько ночей я смотрел в тебя со своей койки, круглое стекло моей каюты, задраенный иллюминатор, - смотрел, говоря себе: вот когда это око посветлеет, наступит рассвет; тогда я встану и стряхну свою дурноту; и рассвет омоет море; и мы причалим к неведомой земле. Рассвет наступал, но море не успокаивалось, земля была еще далеко, и мое сознание качалось на подвижной поверхности воды.
Морская болезнь, о которой вспоминает вся плоть. Прикреплю ли я мысль к этой шатающейся мачте? - думал я. Волны, я не хочу видеть никакой воды, кроме той, что растворена в вечернем ветре. Я сею свою любовь на волнах, свою мысль - на бесплодной водной равнине. Моя любовь тонет в волнах, сменяющих друг друга и неотличимых одна от другой. Они проходят, и глаз не узнает их больше. - Море, бесформенное и всегда волнующееся; вдали от людей твои волны молчат; ничто не противится их текучести; но никто не может услышать их молчания; на самый хрупкий баркас уже ополчились они, и их гул заставляет нас думать, что ревет буря. Большие валы продвигаются и сменяют друг друга безо всякого шума. Они следуют один за другим, и каждый, в свою очередь, поднимает ту же каплю воды, почти не перемещая ее. Один только вид их меняется; масса воды поддерживает и покидает их, никогда не сопровождая. Всякая форма приобретается лишь на несколько мгновений их существования; пройдя сквозь каждое, она продолжается, потом погибает. О моя душа! Не привязывай себя ни к какой идее. Бросай каждую мысль на ветер, который ее подхватит; сама ты никогда не донесешь ее до неба.
Колышущиеся волны! Это вы так раскачали мои мысли.
Ты ничего не построишь на гребне волны. Она не выдерживает никакой тяжести.
Ласковая гавань, появишься ли ты, после того как мы столько раз сбивались с пути, после всех этих метаний туда и сюда? Гавань, где моя душа, брошенная возле крутящегося маяка, отдыхающая на твердой земле, сможет наконец смотреть на море.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
I
В саду на Флорентийском холме
(что напротив Фьезоле),
где мы были в тот вечер.
- Но вы не знаете, Ангер, Идье и Титир, вы не можете знать, - сказал Менальк (я повторяю это тебе теперь уже от своего имени, Натанаэль), страсти, которая сжигала меня в молодости. Меня бесила скоротечность времени. Необходимость выбора всегда была для меня невыносимой; выбор казался мне не столько отбором, сколько отказом от всего того, что я не выбрал. Я понимал весь ужас временных рамок и то, что у времени - всего лишь одно измерение; эту линию мне бы хотелось видеть пространством, а на ней мои желания постоянно набегали друг на друга. Я всякий раз делал только то или только это. Очень скоро я начинал сожалеть о другом и часто пребывал в состоянии растерянности, не смея больше вообще чем-нибудь заняться. Мои ладони были постоянно раскрыты из страха, что если я сожму их, чтобы что-то взять, то смогу схватить лишь что-то одно. Несчастьем моей жизни с тех пор стала невозможность никакой длительной учебы, я не терпел ее, не будучи уверенным, что действительно нашел свою дорогу, отказавшись от множества других. Эта цена была слишком дорогой за что бы то ни было, и рассуждения не могли избавить меня от тоски. Оказаться на ярмарке наслаждений, располагая (по Чьей милости?) ничтожной суммой. Распорядиться ею, выбрать - значило навсегда, навеки отказаться от всего остального, и огромная масса этого остального оказывалась желанней любой выбранной единицы.
Этим же объясняется и мое отвращение к любому владению на земле; страх, что сразу окажешься владеющим лишь этим.
Товары! Припасы! Горы находок! Почему они не даются без соперничества? Я знаю, что земные блага истощаются (но я знаю также, что они неисчерпаемо взаимозаменяемы) и что чаша, которую я осушил, останется пустой для тебя, мой брат, (будь даже источник рядом). Но вы, нематериальные понятия! Формы жизни, не принадлежащие никому, - науки, познание Бога, чаши истин, бездонные чаши, зачем торговаться из-за вашего сока, если всей нашей жажды не хватит, чтобы осушить вас? Ваша влага, переливающаяся через край, всегда остается первозданно свежей для каждых новых губ. - Теперь я понимаю, что все капли этого великого священного источника равноценны; что самой малой достаточно нам для упоения и постижения всей полноты и целостности Бога. Но в ту пору чего только не желало мое безумие? Я завидовал всем проявлениям жизни, всему, что было сделано кем-то другим; я охотно сделал бы это сам; поймите - не ради результата, но ради самого делания, ибо меня не слишком пугали усталость и страдание и я считал их наставниками жизни. Я три недели испытывал ревность к Пармениду из-за того, что он изучал турецкий язык; два месяца спустя завидовал Теодозию, который открывал для себя астрономию. Таким образом, я давал себе лишь самые неясные и самые сомнительные очертания из-за абсолютного нежелания установить им какие-то границы.
- Расскажи нам о своей жизни, Менальк, - попросил Алкид.
И Менальк продолжал:
- Восемнадцати лет от роду, когда я закончил первый этап своего обучения, с умом, утомленным работой, пустым сердцем, изнемогающим от бытия, телом, раздраженным принуждением, я пустился в путь по дорогам, без всякой цели, поддавшись лихорадке странствий. Я узнал все, что знаете вы: весну, запах земли, цветение трав в полях, утренние туманы на реке и вечерние испарения лугов. Я побывал во многих городах и нигде не пожелал остаться. Счастлив, думал я, тот, кто ничем не привязывает себя к земле и блуждает с вечным рвением в постоянной подвижности. Я ненавидел домашние очаги, родню, все уголки, где человек надеется обрести покой; и долгие привязанности, и влюбленную верность, и преданность идеям - все, что подрывает уверенность в своей правоте; я говорил, что всякая новизна должна застать нас абсолютно свободными.
Книги открыли мне, что всякая свобода временна, что она не более чем выбор своего собственного варианта рабства или, по меньшей мере, своего кумира. Так семена чертополоха летят и блуждают - в поисках плодородной почвы, чтобы пустить корни, - и платят за возможность цветения утратой подвижности. Но, усвоив в школе, что аргументами человека не изменишь и что каждому из них можно противопоставить другой, нужно только его найти, я занялся поисками, иногда на очень долгих дорогах.
Я жил в непрерывном восторженном ожидании будущего, все равно какого. Я изучал как вопросы, требующие ответов, эту жажду обладания, рождающуюся перед каждым новым наслаждением и предшествующую близкому блаженству.
Мое счастье проистекало от того, что каждый источник возбуждал во мне жажду, а в безводной пустыне, где жажда неутолима, я упивался горячностью своей горячки под экзальтированным солнцем. По вечерам встречались восхитительные оазисы, казавшиеся еще более свежими оттого, что ты мечтал о них весь день. На песчаной равнине, под палящим солнцем, равнине, похожей на бескрайний сон, - зной был так велик, что даже воздух вибрировал, - я чувствовал еще биение жизни, которая не могла заснуть, которая на горизонте дрожала от слабости, а у моих ног вздувалась от любви.
Каждый день, час за часом, я не искал ничего другого, кроме проникновения, все более естественного, в природу. Я обладал драгоценным даром не слишком мешать самому себе. Память о прошлом имела надо мной ровно столько власти, чтобы придать целостность моей жизни - так чудесная нить, связывавшая Тезея с его прошлой любовью16, не мешала ему осваивать все новые и новые места. К тому же эта нить должна была порваться... Чудесное обновление. Во время утренних прогулок я часто наслаждался чувством новизны бытия, нежностью своего восприятия. - "Поэтический дар, - восклицал я, - ты дар непрерывного знакомства". - Я знакомился со всем, что встречал. Моя душа была как постоялый двор, открытый на перекрестке дорог: всякий, кто хотел войти, - входил. Я сделался мягким, дружелюбным, свободным во всех своих проявлениях, внимательным слушателем, у которого было не больше одной собственной мысли, ловцом всякой мимолетной эмоции и реакции, столь незаметной, что ничто не казалось мне хуже, чем пустые протесты. Впрочем, я заметил вскоре, как мало ненависть к безобразному подкрепляла мою любовь к прекрасному.
Я ненавидел усталость, которая была порождением скуки, и считал, что нужно полагаться на разнообразие вещей. Я отдыхал везде, где придется. Я спал в полях. Я спал на равнине. Я видел рассвет, дрожавший в просвете между колосьями; а в буковых рощах меня будили вороны. По утрам я умывался росой и новорожденное солнце сушило мою промокшую одежду. Кто еще сможет сказать, что никогда поле не было более прекрасным, чем в тот день, когда я увидел довольных жниц, с песнями возвращавшихся домой, и быков, запряженных в тяжелые телеги?!
Это было время, когда моя радость была столь велика, что я хотел поделиться ею, научить кого-то тому, что заставляло ее жить во мне.
Вечерами я смотрел, как в незнакомых деревушках то тут, то там зажигались очаги, незаметные днем. Глава семейства, усталый, возвращался с работы; дети приходили из школы. Дверь дома приоткрывалась на мгновение навстречу свету, теплу и смеху, потом закрывалась на ночь. Ни одно заблудившееся существо не могло уже проникнуть внутрь, дрожа от холода снаружи. - Семьи, я ненавижу вас; запертые домашние очаги; закрытые двери; ревнивые хранилища счастья. - Иногда, невидимый ночью, я стоял, прислонившись к стеклу, и долго наблюдал за обычаями дома. Отец сидел около лампы; мать шила; место деда или бабки оставалось свободным, ребенок рядом с отцом готовил уроки; - и мое сердце переполнялось желанием увести его с собой бродить по дорогам.
Назавтра я встречал его, когда он выходил из школы; через день я заговаривал с ним; четыре дня спустя он бросал все, чтобы следовать за мной. Я открывал ему глаза на великолепие пространства; ребенок понимал, что пространство открыто для него. Так я приучал его душу к свободе, учил радости, наконец, - чтобы потом, порвав даже со мной, он узнал одиночество.
Один, я вкушал неистовую радость гордыни. Я любил вставать до зари; я призывал солнце на поля; песня ласточки была моей фантазией, а роса - утренним омовением. Мне нравилась чрезмерная умеренность в еде, и я ел так мало, что голова у меня кружилась и любое впечатление вызывало у меня своего рода опьянение. Я пил потом много разных вин, но ни одно не кружило голову так, как голод; ранним утром это нетерпение пространства; задолго до восхода солнца я не мог спать в своей ямке в стогу.
К хлебу, который был у меня с собой, я не прикасался до тех пор, пока не впадал в полуобморочное состояние; тогда мне казалось менее странным, что я могу так ощущать природу, и она лучше проникала в меня; это был как бы прилив извне; все мои чувства были открыты ее присутствию; все во мне откликалось ей.
Моя душа преисполнилась наконец восторгом, который приводил в отчаяние мое одиночество и к вечеру утомлял меня. Меня поддерживала гордыня, но я сожалел иногда об Илере, который расстался со мной год назад, поскольку мой нрав, кроме всего прочего, был слишком суровым.
С ним я разговаривал по вечерам; он был поэт и понимал любую гармонию. Всякое явление природы казалось нам внятной речью, и можно было прочитать его причину; мы научились распознавать насекомых по их полету, птиц - по их песням и красоту женщин - по следам, оставленным ими на песке. Его тоже снедала жажда приключений; ее сила придавала ему отвагу. Конечно, никакая слава не стоит молодости сердца! Впитывая все с наслаждением, тщетно пытались мы утомить свои желания; каждая из наших мыслей была пылкой; наши чувства разъедали нас. Мы изнуряли свою сияющую молодость в ожидании прекрасного будущего, и дорога, ведущая к нему, никогда не казалась нам слишком долгой, мы шли по ней быстрым шагом, покусывая цветы с плетней, наполнявшие рот вкусом меда и изысканной горечи.
Иногда, снова попадая в Париж, я возвращался на несколько дней или часов в жилище, где прошло мое благонравное детство; все там было безмолвным; заботами отсутствующей женщины на мебель были наброшены полотняные чехлы. Держа в руке лампу, я переходил из комнаты в комнату, не отворяя ставней, закрытых в течение нескольких лет, не поднимая штор, пропитавшихся камфарой. Воздух там был тяжелый, насыщенный запахом. Моя комната одна содержалась в полном порядке. В библиотеке, самой угрюмой и безмолвной из комнат, книги на полках и столах сохраняли порядок, в котором я их расставил, иногда я открывал одну из них при свете горящей, несмотря на день, лампы и был счастлив забыться на час; иногда я открывал также фортепиано и искал в памяти мелодии старых песен; но мои воспоминания были слишком несовершенны, и, прежде чем огорчиться, я прекращал это занятие. На следующий день я снова был далеко от Парижа.
Мое любящее от природы сердце как жидкость растекалось во все стороны; никакую радость я не считал принадлежащей лично мне; я приглашал к ней любого, а когда наслаждался ею в одиночестве, то это было лишь проявлением моей гордыни.
Некоторые осуждали мой эгоизм, я осуждал их глупость. Я не пытался любить кого-то одного - мужчину или женщину, но дружбу, привязанность, любовь. Давая ее одному, я не хотел отнять ее у кого-то другого и лишь ссужал себя на время. Тем более я не хотел присвоить себе чье-то тело или сердце; как и с природой, я был в этом кочевником и не останавливался нигде. Всякое предпочтение казалось мне несправедливым; желая достаться всем, я не отдавал себя никому.
С воспоминаниями о каждом городе у меня связывались воспоминания о каком-нибудь распутстве. В Венеции я участвовал в маскарадах; оркестр из альтов и флейт сопровождал лодку, где я вкушал любовь. Следом плыли другие лодки, заполненные молодыми женщинами и мужчинами. Мы направлялись к Лидо встречать рассвет, но, когда музыканты смолкли, мы, утомившись, заснули, прежде чем взошло солнце. Но я любил даже усталость, которая остается после этих фальшивых радостей, и это головокружение при пробуждении, благодаря чему мы понимаем, что они поблекли. - В портовых городах я мог пойти за матросами с больших кораблей; я пробирался по плохо освещенным улочкам; но внутренне я осуждал в себе это желание приобрести опыт - наше единственное искушение; и, оставив моряков у дверей притонов, я возвращался в спокойный порт, где молчаливый суд ночей превращался в воспоминания об этих улочках, странный и волнующий гул которых доходил до экстаза. Я предпочитал богатство полей.
Однако в двадцать пять лет, не устав от странствий, но терзаемый чрезмерной гордыней, которую взрастила эта кочевая жизнь, я понял или внушил себе, что наконец созрел для новой формы.
Зачем? Зачем, вопрошал я, вы говорите, чтобы я снова скитался по дорогам, я хорошо знаю, что на них расцвели новые цветы, но теперь они ждут вас. Пчелы собирают мед лишь в короткий период; потом они становятся хранительницами казны. - Я возвратился в покинутое жилище. Я сорвал, убрал прочь чехлы с мебели; открыл окна и, воспользовавшись сбережениями, которые, несмотря на свое бродяжничество, сумел сделать, окружил себя всем, что смог раздобыть из дорогих и хрупких вещей, - вазами или редкими книгами, и особенно картинами, которые, благодаря знакомству с художниками, покупал очень дешево. В течение пятнадцати лет я копил, как скряга; я обогащался изо всех сил; я занялся своим образованием, научился играть на разных инструментах; каждый час и каждый день приносил мне какое-нибудь плодотворное знание; история и биология особенно занимали меня, я узнал литературу. Я умножал дружеские связи, которые мое большое сердце и занимаемое положение позволяли мне не скрывать; они были для меня более всего остального драгоценны, и однако, даже они совсем не привязывали меня.
В пятьдесят лет час настал: я продал все, и, поскольку мой вкус был безупречен и я хорошо знал каждый предмет, оказалось, что я не владел ни одной вещью, чья стоимость не возросла бы; за два дня я получил значительное состояние. Я распорядился этим состоянием таким образом, что мог воспользоваться им в любой момент. Я продал абсолютно все, не желая сохранять ничего личного на этой земле, и менее всего воспоминания о прошлом.
Я говорил Миртилу, который был со мной в полях:
"Насколько большее наслаждение дарило бы тебе это прелестное утро - эта дымка, этот свет, эта воздушная свежесть, эта пульсация твоего бытия, - если бы ты умел отдаться ему целиком. Ты думаешь, что живешь здесь, но лучшая часть твоего существа заточена в монастырь; твоя жена и твои дети, твои книги и твои занятия завладели ею и крадут тебя у Бога.
Способен ли ты в этот самый миг испытать ощущение могущества, полноты и непосредственности жизни, - не позабыв все, что осталось вне его? Привычное мышление мешает тебе; ты видишь прошлое, будущее и не воспринимаешь ничего непосредственно. Мы ничто, Миртил, в быстротечности жизни; все прошлое умирает прежде, чем родилось будущее. Мгновения! Ты должен понять, Миртил, какой силой обладает их присутствие! Ибо каждое мгновение нашей жизни, по сути, неповторимо, умей иногда концентрироваться в нем целиком. Если бы ты захотел, Миртил, если бы ты узнал это мгновение, без жены, без детей, ты был бы один перед Богом на земле. Но ты помнишь о них и носишь с собой, словно из страха потерять, носишь все свое прошлое, все свои любови и все тревоги земли. Что до меня, то любовь поджидает меня в любую минуту, как новый подарок; я знал ее всегда и не узнавал никогда. Ты не подозреваешь, Миртил, какой облик может принять Бог, ты слишком долго смотрел на один-единственный и, влюбившись в него, ослеп. Постоянство твоего обожания огорчает меня, я хотел бы придать ему большую подвижность. Позади всех твоих закрытых дверей стоит Господь. Все проявления Бога драгоценны, и всё на земле есть проявление Бога".
...Благодаря полученному состоянию, я тут же зафрахтовал корабль, взяв с собой троих друзей, команду и четверых юнг. Я влюбился в самого некрасивого из них. Но даже сладости его ласк я предпочитал созерцание огромных волн за бортом. Я входил в удивительные гавани и покидал их до рассвета, проведя иногда всю ночь в погоне за любовью. В Венеции я познакомился с удивительно красивой куртизанкой; я любил ее три ночи, рядом с ней я забыл свои прежние любови. Ей я продал или подарил свой корабль.
Я жил несколько месяцев во дворце на озере Комо, где собирались самые лучшие музыканты. Я собрал там также прекрасных дам, скромных и умеющих поддерживать разговор; мы беседовали по вечерам, в то время как музыканты очаровывали нас; потом, сойдя на мраморное крыльцо, последние ступени которого скрывались под водой, мы садились в лодки убаюкивать своих возлюбленных медленным ритмом весел. И были сонные возвращения; лодка, приставшая к берегу, внезапно будила спящих, и притихшая Идуана17, опираясь на мою руку, ступала на крыльцо.
Год спустя я был в огромном парке, неподалеку от берега Вандеи18. Трое поэтов восхваляли прием, который я устроил для них в своем доме; они говорили также о прудах, полных рыб и растений, о тополиных аллеях, об одиноких дубах и дружных ясенях, о прекрасной планировке парка. Когда наступила осень, я приказал срубить самые большие деревья и разорил свое жилище. Ничего не скажу о парке, где гуляло наше многочисленное общество, блуждая в аллеях, которые я оставил зарастать травой. Со всех сторон в аллеях слышались удары топоров дровосеков. Одежда цеплялась за ветки, лежавшие на дорожках. Осень, простершаяся над поваленными деревьями, была прекрасна. Здесь была явлена такая щедрость, что я долго потом не мог думать ни о чем другом, заглянув в свою старость.
Я занимал потом шале в Высоких Альпах, белый дворец на Мальте возле благоухающего леса Чита Веккиа, где лимоны имели нежно-кислый вкус апельсинов; странствовал в коляске по Далмации; и теперь этот сад на Флорентийском холме, напротив Фьезоле, где мы провели этот вечер вместе с вами.
Не говорите, что я обязан своим счастьем случаю; конечно, он благоволил ко мне, но я им не пользовался. Не думайте, что мое счастье зависело от богатства; мое сердце, ни к чему на свете не привязанное, осталось бедным, и мне будет легко умереть. Я стал счастливым благодаря своей пылкости. С какой бы вещью я ни сталкивался, я страстно обожал.
II
Величественная терраса, где мы находились (к ней вели винтовые лестницы), возвышалась над городом и казалась поверх лиственных глубин огромным пришвартовавшимся кораблем; иногда он как будто надвигался на город. На мостик этого воображаемого корабля я поднимался несколько раз в то лето, чтобы отведать после сутолоки улиц созерцательное успокоение вечера. Весь шум, устремляясь вверх, ослабевал; казалось, что это были валы, и они разбивались здесь; они приходили еще, и величественными волнами поднимались, расширяясь, по стенам. Но я был выше, там, куда волны не добирались. На огромной террасе не было слышно ничего, кроме дрожания листвы и заблудившегося ночного зова.
Зеленые дубы и огромные лавры, посаженные правильными улицами, заканчивались на краю неба, где кончалась и сама терраса; однако закругленные балюстрады кое-где еще забегали вперед, нависая и образуя балконы в лазури. Туда я приходил посидеть, я упивался своими мыслями; там я верил, что плыву. Над темными холмами, которые высились на другой стороне города, небо было золотого цвета; легкие ветки с площадки, на которой я был, клонились к сияющему закату или устремлялись, почти без листьев, в ночь. От города поднималось что-то, похожее на дым, это была пыльца, попавшая в полосу света, она плыла, только что оторвавшись от площадей, где сверкало и искрилось множество огней. Иногда взлетала, как будто сама собой, в восторге от этой слишком жаркой ночи, ракета, пущенная неизвестно куда, которая мчалась, преследовала, словно крик в пространстве, вибрировала, крутилась и падала, опустошенная, с мистически расцвеченным треском. Мне особенно нравились те из них, бледно-золотые искры которых падают так медленно и так небрежно рассеиваются, что думаешь потом, как чудесны звезды и что они тоже родились от этой короткой фейерии, и, видя их сохранившимися, после того как искры погасли, удивляешься... потом медленно узнаешь каждую в своем созвездии - и восторг от этого еще усиливается.
"- Я не согласен, - вмешался Иосиф, - с тем, как судьба обошлась со мной.
- Тем хуже! - возразил Менальк. - Я предпочитаю говорить себе, что того, чего нет, и быть не могло".
III
В эту ночь они воспевали плоды. Перед Менальком, Алкидом и еще несколькими собравшимися Гилас спел
ПЕСНЮ О ГРАНАТЕ
Разумеется, трех зерен
граната достаточно, чтобы
Прозерпина помнила19.
Искать вам долго счастье суждено.
Но для души вы счастья не найдете.
О чувственная радость, радость плоти
Тебя судить не мне - другим дано.
О радость горькая и чувств и плоти!
Тебя другому осуждать - не мне.
- Философ ревностный, Дидье, я восхищаюсь,
Что мысль твоя - отрада для ума,
Ты не нуждаешься в другой опоре.
Но так любить не каждый ум готов.
Хотя и я люблю душевный трепет,
Восторги сердца, радости ума
Но все ж не им пою хвалу сегодня
Вас, наслаждения, воспеть хочу.
О радость плоти, нежная, как травы,
Прекрасная, как полевой цветок,
Ты вянешь так же быстро, как люцерна,
Как таволга-печальница в руках.
Из наших чувств всего печальней зренье:
Печалит все, что осязать нельзя.
И мысль схватить уму гораздо легче,
Чем пальцам, то, чего наш взгляд желает.
О пусть ты прикоснешься ко всему,
Чего желаешь сам, Натанаэль!
Знай, это обладанье - совершенно.
Всего же слаще было для меня
Конечно, чувство утоленной жажды.
Да! И туман прекрасен на заре,
И солнце утреннее над равниной,
И упоительно для ног босых
По влажному песку ступать морскому.
Купанье упоительно всегда,
И поцелуй тех незнакомых губ,
Которые я трогаю губами
В кромешной темноте.
Но эти фрукты!
Плоды, Натанаэль!
Что мне сказать о них? Ты их не знал
Вот что меня в отчаянье приводит.
Их мякоть так нежна, и так сочна,
И так вкусна была, как мясо с кровью,
И алая, как льющаяся кровь.
Для них не нужно ждать особой жажды,
Их в золотых корзинах подают,
Но вкус их поначалу неприятен
И кажется нам пресным чересчур.
Он не похож совсем на наши фрукты,
Напоминая, может, вкус гуав,
Чуть переспевших. После остается
Во рту такая терпкость, что нельзя
Бороться с ней иначе, чем вкусив
Скорее новый плод, - о только б длился
Миг наслажденья этим дивным соком!
И так он был прекрасен, этот миг,
Что даже пресный вкус преображался.
Корзинка быстро делалась пуста,
И, прежде чем успели разделить,
Последний плод один в ней оставался.
Увы, Натанаэль, ну кто же скажет,
Какая горечь губы нам ожгла?
И никакой водой ее не смоешь.
Нас мучило желанье тех плодов,
Мы на базарах их три дня искали.
Но кончился сезон.
Натанаэль!
Где мы найдем еще плоды другие,
Чтоб вызвали в нас новые желанья?
*
Одни нам на террасах подают,
Когда садится солнце в море.
Глазурью сахарною их зальют,
Сначала выдержав в ликере.
Другие рвут с деревьев в тех садах,
Что охраняют сторожа и стены.
В сезон едят их - летом и в тени:
Поставят столики,
Коснутся веток
И градом вдруг посыплются плоды.
И мухи, в спячку впавшие, проснутся
От аромата, что один пленяет.
А кожура других пятнает губы,
Едят их, если жажда велика.
Мы вдоль дорог песчаных их нашли
Они блестели средь листвы колючей,
Которая поранит руки сразу,
Как только их попробуешь сорвать.
И утолить нам жажду было трудно.
Из этих фруктов делают варенье,
На солнце их прожарив посильней.
Другие даже и зимой кислят,
От них всегда оскомина во рту.
А мякоть тех прохладна даже летом.
На корточки присев, их любят есть
И на циновках в тихих кабачках.
Есть и такие, о которых вспомнишь
И жажда начинается тотчас.
Но их найти, увы, нам невозможно.
Смогу ли о гранатах рассказать,
Тебе, Натанаэль? Их на восточных
Базарах продают за пару су,
На тростниковых разложив подносах,
С которых падают они порой,
И видно, как валяются в пыли.
Их голые мальчишки подбирают.
А сок их кисловат, как сок малины,
Еще неспелой. Их цветок похож
На сделанный из воска, и того же
Он цвета, что и сам созревший плод.
Богатство целое здесь под охраной.
Перегородок кружевная вязь
И изобилье вкуса. И она
Пятиугольная архитектура.
Но кожура расколота - и вот
В лазурных чашах эти зерна крови,
И золотые капельки на блюдах
Из бронзы и с глазурью расписной.
- Теперь воспой нам смокву, Симиана,
Ее любовь для нас - большая тайна.
- Я воспою смоковницу, чьи связи
Любовные неведомы для нас.
Ее цветенье свернуто и скрыто.
Вот комната закрытая, где свадьба
Справляется. Снаружи никакой
Нам аромат об этом не расскажет:
Ничто не испаряется - но все
Становится и сочностью и вкусом.
Цветок невзрачен. Плод - неотразим,
Тот плод, который - лишь цветок созревший.
- Что ж, я воспела смокву. А теперь
Воспой, пожалуйста, нам все цветы.
- Однако, - возразил Гилас, - мы не воспели еще все плоды.
Дар поэта - вдохновиться сливами (цветок для меня ценен лишь как обещание плода).
Ты не рассказала о сливе.
И кислота терновника с плетней,
Ему холодный снег дарует сладость.
И мушмула, которую едят
Слегка подгнившей, и каштаны цвета
Листвы погибшей. Около огня
Кладут их, чтобы лопались от жара...
- Я вспоминаю горную чернику, которую собирал однажды в сильный холод в снегу.
- Я не люблю снега, - сказал Лотарь, - это материя слишком мистическая, она еще не покорилась земле. Я ненавижу эту неестественную белизну, замораживающую пейзаж. Снег - это холод и отрицание жизни; умом я понимаю, что он заботится о ней, помогает ей, но жизнь всплывает на поверхность только во время его таяния. Вот почему я предпочитаю видеть его серым и грязным, полурастаявшим, почти уже превратившимся в воду для растений.
- Не говори так о снеге, он может быть прекрасным, - возразил Ульрих, - он печаль и горечь только там, где большая любовь сможет растопить его; и ты, предпочитающий любовь, любишь его полурастаявшим. Он прекрасен там, где торжествует.
- Мы туда не пойдем, - сказал Гилас, - и, когда я говорю: тем лучше, ты не должен говорить: тем хуже.
И в эту ночь каждый из нас спел балладу. Мелибей
БАЛЛАДУ О САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮБОВНИКАХ
Зулейка20! Для тебя я бросил пить
Вино, что наливал мне виночерпий.
Из-за тебя я - Боабдил21, в Гренаде
Слезами олеандры оросил,
Которые цвели в Хенералифе.
Царица Савская, я Соломоном был, когда из Южной стороны далекой ты приезжала, чтобы предложить нелегкие мне разгадать загадки.
Фамарь22, я братом был твоим, я был Амноном, и умирал от горя потому, что обладать тобою был не вправе.
Когда за голубицей золотой следя на кровле своего дворца, Вирсавия, я вдруг тебя увидел, нагую и готовую к купанью, я был Давидом, тем, кто приказал, чтоб мужа твоего на смерть послали.
О Суламита23! Я тебя воспел в стихах, благоговейных, как молитвы.
И я был тем, кто от любви стонал в объятиях прекрасной Форнарины24.
Зубейда25, я тот раб, что рано утром на полдороге к площади базарной с тобою встретился; я нес на голове порожнюю корзину, приказала ты за собой мне следовать затем, чтобы ее наполнить до отказа цитронами, лимонами, сластями и пряностями разными. Потом, поскольку я понравился тебе и был уставшим, ты мне разрешила ночь провести в компании с тобой, твоими сестрами и сыновьями шаха. Мы занимались тем, что до утра рассказывали каждый в свой черед историю своей любви пред всеми. Когда настала очередь моя, то я сказал: Зубейда, до сих пор со мной историй не случалось в жизни; ну а теперь тем более не будет: ведь ты - вся жизнь моя. - Все это говоря, носильщик наш плодами насыщался. (Я вспоминаю, что совсем ребенком мечтал о сухом варенье, о котором так часто говорится в "Тысяче и одной ночи". Я ел его потом, оно было в розовом масле, и один мой друг говорил мне, что еще его приготавливают с личи.)
О Ариадна! Странник я - Тезей,
Оставивший тебя навеки Вакху,
Чтобы продолжить путь свой.
Эвридика! Прекрасная моя, я твой Орфей,
Который в царстве мертвых потерял
Тебя из-за единственного взгляда,
Не в силах более тебя не видеть.
Потом Мопс спел
БАЛЛАДУ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
Когда вода в реке заметно поднялась,
Одни надеялись, что на горе спасутся,
Другие думали: полям полезен ил,
А третьи говорили: все погибло.
Но были те, кто не сказал ни слова.
Когда река совсем из берегов вдруг вышла,
То еще виднелись деревья кое-где,
Там - крыша дома, здесь - стена и колокольня,
А за ними - холмы. Но было много мест,
Где больше не виднелось ничего.
Одни пытались гнать стада повыше в горы,
Детей своих несли другие к утлым лодкам,
А третьи - драгоценности несли,
Несли съестное, ценные бумаги
И легкие серебряные вещи.
Но были те, кто ничего не нес.
На лодках плывшие проснулись рано утром
В неведомой земле - одни в Китае,
В Америке - другие, третьи - в Перу.
Но были те, кто навсегда заснул.
Потом Гузман спел
ПЕСНЮ О БОЛЕЗНЯХ,
из которой я приведу лишь конец:
...Лихорадку подхватил в Дамьетте26,
В Огненной Земле оставил зубы,
В Сингапуре весь покрылся сыпью
Белой и сиренево-лиловой.
В Конго ногу грыз мою кайман.
В Индии случилось истощенье
От него зазеленела кожа
И прозрачной сделалась.
Глаза
Стали неестественно огромны.
Я жил в светлом городке; каждый вечер в нем совершалось множество преступлений, однако неподалеку от порта продолжали плавать галеры, которые никогда не были заполнены. Однажды утром я отбыл на одной из них; губернатор города подкрепил мою затею силой сорока гребцов. Мы плыли четыре дня и три ночи; они истощили из-за меня свои недюжинные силы. Монотонная усталость усмирила их бурную энергию; они перестали непрерывно ворочать воду; они сделались красивее, мечтательней, и память об их прошлом утонула в огромном море. Под вечер мы вошли в город, изрезанный каналами, город цвета золота или пепла, который назывался Амстердам или Венеция и в соответствии с этим был коричневым или золотым.
IV
Когда в садах у подножия холма Фьезоле, на полдороге между Флоренцией и Фьезоле, в тех самых садах, где любили петь еще во времена Бокаччо Памфило и Фьяметта,27 кончился слишком солнечный день и наступила светлая ночь, Симиана, Титир, Менальк, Натанаэль, Елена, Алкид и другие были вместе.
Перекусив лишь сладостями, которые зной позволил нам съесть на террасе, мы вышли в аллеи и теперь под впечатлением музыки бродили среди лавров и дубов, ожидая часа, когда можно будет растянуться на траве и отдохнуть возле прудов, которые приютила зеленая дубовая роща.
Я переходил от одной группы к другой и, слыша лишь обрывки разговоров, понял, что все говорили о любви.
- Всякое наслаждение, - говорил Элифас, - благо, и оно должно излиться.
- Но всякое - не для всякого, - отвечал Тибулл, - нужно выбирать.
Поодаль Теренций рассказывал Федру и Баширу:
- Я любил девочку из племени кабилов, с черной кожей и совершенным телом, едва созревшую. Озорство подростка во время близости сочеталось в ней с опытностью зрелой женщины, что обескураживало меня. Она была тоской моих дней и усладой моих ночей.
И Симиана с Гиласом:
- Это маленький плод, который часто просит, чтобы его съели.
Гилас пел:
- Бывают маленькие радости на обочинах наших дорог, эти терпкие украденные плоды подчас желаннее самых сладких.
На траве возле воды мы сели:
...пение ночной птицы неподалеку от меня в какой-то момент занимало меня больше, чем их речи; когда я снова прислушался, Гилас рассказывал:
...И у каждого из моих чувств были свои желания. Когда я хотел вернуться к себе, я находил своих слуг и служанок за моим столом, и для меня уже не оставалось даже крохотного пространства, чтобы присесть. Место счастья было занято Жаждой; другие жажды оспаривали у нее это лучшее место. Весь стол был в постоянной вражде, но чуть что - они объединялись против меня. Стоило мне приблизиться к столу, как они все шли на меня, уже пьяные, они гнались за мной, выталкивали наружу; и я снова выходил, чтобы собирать для них гроздья.
Желания! Прекрасные желания! Я принесу вам раздавленные гроздья; я снова наполню ваши огромные чаши; но дайте мне вернуться в свое жилище - и пусть, когда вы уснете, опьяненные, я смогу увенчать себя порфирой и плющом, - скрыть тревогу на лице короной из плюща.
Я сам почувствовал себя опьяненным и не мог больше внимательно слушать; через мгновение, когда птица смолкла, ночь показалась такой беззвучной, словно я был ее единственный свидетель; еще через мгновение мне показалось, что отовсюду брызнули голоса, которые смешались с голосами нашего многочисленного общества:
- Нам тоже, нам тоже, - говорили они, - ведома мучительная тоска души.
Желания не давали нам спокойно работать.
- ...Этим летом у всех моих желаний была жажда. Казалось, что они пересекали пустыню за пустыней.
Но я отказывался напоить их,
Зная, что они помешаны на питье.
(Были грозди, где спало забвенье, были те, где лакомились пчелы, были те, где задержалось солнце.)
Каждый вечер желанье сидит у меня в изголовье,
Каждое утро я вновь нахожу его там.
Ночь напролет бессонно оно во мне.
Я ходьбой утомить его долго пытался;
Но устало лишь тело мое.
Теперь поет Клеодализа
ПЕСНЮ ВСЕХ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ
Я не знаю, о чем я мечтала ночью.
Когда я проснулась, желанья мои
Сгорали от жажды.
Казалось, во сне они шли по пустыне.
Между тоской и желанием
Мечется наша тревога.
Желания! Неужели уставать не умеете вы?
О! О! О! Наслаждение быстро проходит,
Оно очень скоро пройдет.
Я знаю, увы, как продлить мне свои страданья
Но, как приручить удовольствие, мне неизвестно.
Между желанием и тоской
Мечется наша тревога.
И все человечество видится мне больным, который ложится в постель, чтобы выспаться, - который ищет покоя и не находит даже сна.
Наши желания уже пересекли континенты,
Они никогда не смогут насытиться.
И вся природа томится
Между жаждой покоя и жаждою наслаждения.
От отчаянья мы кричали
В пустынях своих жилищ.
Мы поднялись на башни,
Откуда видна лишь ночь.
Собаки, мы выли от боли
По берегам высохших рек;
Львы, мы рычали в саванне;
Верблюдицы, мы щипали
Серые водоросли шоттов,
Высасывая сок из полых стеблей,
Ибо в пустыне всегда
Не хватает воды.
Ласточки, мы летели, лишенные корма,
Над бескрайним пространством морей.
Саранча, мы пожирали все,
Чтобы прокормить себя.
Трава, мы дрожали от бури;
Облака, мы бежали от ветра.
О! Ради великого покоя я желала спасительной смерти; и чтобы наконец мое желание, иссякнув, перестало питаться новым переселением душ. Желание, я тащила тебя по дорогам, я исчерпывала тебя в полях; я поила тебя допьяна в больших городах и не могла утолить твою жажду; я купала тебя в лунных ночах, я выгуливала тебя повсюду; я баюкала тебя на воде; я хотела усыпить тебя на волнах... Желание! Желание! Что же мне сделать для тебя? Чего ты хочешь еще? Неужели же ты никогда не устанешь?
Луна показалась между ветками дубов, такая же, как всегда, но прекрасная, как всегда. Теперь они разговаривали, разбившись на группы; и я слышал лишь отдельные фразы; мне показалось, что каждый говорил другим о любви, не заботясь о том, чтобы быть услышанным.
Потом разговоры стали стихать, луна скрылась за стволами широких дубов; они остались лежать друг подле друга на траве, слушая и не понимая больше запоздавших говорунов и говоруний, приглушенные голоса которых доносились до нас, лишь смешавшись с шепотом ручья на мху.
Симиана, встав, сплела венок из плюща, и я почувствовал запах сорванных листьев. Елена распустила волосы, которые упали ей на платье, а Рашель ушла собирать влагу со мха, чтобы промыть глаза перед сном.
Даже лунный свет исчез. Я продолжал лежать, утомленный прелестью и пьяный от печали. Я не говорил о любви. Я ждал утра, чтобы уйти и бежать куда глаза глядят по случайным дорогам. Мой усталый ум уже давно дремал. Я спал несколько часов, потом, когда рассвело, я ушел.
КНИГА ПЯТАЯ
I
Дождливая земля Нормандии
покоренная равнина.
Ты говорил: мы станем принадлежать друг другу весной, под теми ветками, что мне знакомы, в уединенном месте, где много мха; наступит такая пора: воздух прогреется, - и птица, певшая там год назад, запоет снова. - Но весна в этот раз пришла поздно; и воздух, слишком свежий, предполагал другие радости.
Лето было томным и теплым. - Но ты понадеялся на женщину, которая не приехала. И ты сказал: по крайней мере, осень возместит мне мои потери и утишит мою печаль. Она не приедет сюда, я знаю, - но эти густые леса все равно заалеют. Дни в это время бывают еще теплыми, и я буду сидеть на берегу пруда, где в прошлом году осыпалось столько желтой листвы. Я буду ждать приближения вечера... Другими вечерами я пойду на опушку леса, где ложатся последние солнечные лучи. - Но осень была дождливой в этом году. Леса лишь слегка окрасились, и ты не смог посидеть на берегу пруда, выходящего из берегов.
*
В этом году я все время был занят в имении. Я присутствовал при сборе урожая и при пахоте. Я мог видеть приближение осени. Она выдалась удивительно теплой, но дождливой. К концу сентября ужасный ветер, который не переставая дул в течение двенадцати часов, высушил с одной стороны все деревья. Спустя некоторое время листья, уцелевшие при ветре, стали золотыми. Я жил так далеко от людей, что мне показалось важным сказать и об этом не слишком значительном событии.
*
Бывают дни, и другие дни тоже. Бывают утра и вечера.
Бывает утро, когда встаешь перед рассветом весь в оцепенении. - О серое осеннее утро, когда душа просыпается неотдохнувшей, усталой и так жгуче пробуждение, что ей хочется снова заснуть и она прикидывает, какова на вкус смерть. - Завтра я покидаю эту дрожащую от холода деревню; вся трава покрыта инеем. Я чую, как собаки, которые хранят в своих тайниках хлеб и косточки на случай голода, я чую, где мне искать прибереженные радости. Я знаю, что в низине, в излучине ручья, осталось немного теплого воздуха; выше - лесная преграда, золотая липа, еще не сбросившая свой покров; улыбка и ласка для маленького мальчика из кузницы, по дороге из школы. Далекий запах обильно осыпавшейся листвы; женщина, которой я могу улыбнуться возле лачуги, поцелуй ее маленькому ребенку; удары молота из кузницы, которые осенью разносятся особенно далеко... И это все? - Ах! Лучше заснуть! - Этого слишком мало. И я слишком устал надеяться...
*
Ужасные отъезды в предрассветной полутьме. Продрогшие душа и тело. Головокружение. Ищешь, что бы еще взять с собой. - Что тебе так нравится в отъездах, Менальк? Он ответил - предвкушение смерти.
Конечно, не столько из-за желания увидеть что-то иное, сколько из-за возможности отделить от себя все необязательное. Ах! Как много вещей, Натанаэль, без которых можно обойтись! Душа никогда не бывает достаточно опустошена, чтобы наконец переполниться любовью - любовью, ожиданием и надеждой, которые, в сущности, единственное наше достояние.
Ах! Все эти места, где можно было бы хорошо жить! Места, где могло множиться счастье. Трудолюбивые фермы; драгоценные полевые работы; усталость, огромная ясность сна... Поедем! И не все ли равно, где остановиться?..
II
ПУТЕШЕСТВИЕ В ДИЛИЖАНСЕ
Я сбросил свое городское платье, которое вынуждало меня сохранять чрезмерное достоинство.
*
Он был там, подле меня; я чувствовал по ударам его сердца, что он был живым существом, и теплота его маленького тела обжигала меня. Он спал на моем плече. Я слышал, как он дышит. Тепло его дыхания мешало мне, но я не шевелился из опасения разбудить его. Его изящная голова сильно раскачивалась от тряски экипажа, где мы были ужасно стеснены. Другие тоже еще спали, коротая остаток ночи.
Да, конечно, я знал любовь, и еще одну, и множество других любовей. Но разве мне нечего сказать об этой тогдашней нежности?
Да, конечно, я знал любовь.
*
Я стал бродягой, чтобы иметь возможность прикоснуться ко всем, кто скитается: я был влюблен во всех, кто не знает, где бы согреться, и я страстно любил всех бродяг.
*
Помню, четыре года тому назад я провел конец дня в этом маленьком городке, через который снова проезжаю теперь; тогда, как и сейчас, стояла осень; день тоже не был воскресным, и жаркая пора миновала. Помню, я гулял, как и сейчас, по улицам до тех пор, пока на окраине города не обнаружил сад с террасой, возвышавшейся над прекрасным краем.
Я снова на той же дороге и узнаю все.
Мои шаги накладываются на мои шаги, и мои чувства... Здесь была каменная скамья, на которой я сидел. - Вот она. - Я читал здесь. Какую книгу? Вергилия. - Я слышал доносящийся снизу грохот вальков прачек. - Я и теперь его слышу. - Воздух был неподвижен. - Как сегодня.
Дети выбегают из школы - я вспоминаю это. Мимо идут прохожие. - Так же двигались они и тогда. Солнце заходит; и дневные песни вот-вот умолкнут...
Это все.
- Но этого, - сказала Анжель, - недостаточно, чтобы написать стихотворение.
- Тогда оставим это, - ответил я.
*
Мне знакомы ранние подъемы, когда еще не рассвело.
Возница запрягает лошадей во дворе.
Ведра воды окатывают мостовую. Шум насоса.
Тяжелая голова того, кому мешали спать мысли. Места, которые нужно оставить; маленькая комнатка; здесь на мгновение я преклонил свою голову, чувствовал, думал, бодрствовал. - Пусть я сгину! И не все ли равно где (как только перестаешь видеть, разница между "где-то" и "нигде" исчезает). Живой, я был здесь.
Покинутые комнаты! Отъезды, создающие ощущение чуда; я никогда не хотел печальных отъездов. От присутствия ЭТОГО меня всегда охватывало возбуждение.
Из ЭТОГО окна посмотрим же еще мгновение... Наступает минута отъезда. Я мечтаю о миге, непосредственно предшествующем ему... чтобы еще раз окунуться в эту почти исчерпанную ночь, в бесконечную возможность счастья.
Прекрасное мгновение! В бескрайнюю лазурь вливается волна рассвета...
Дилижанс готов. Едем! Пусть все, о чем я только что думал, исчезнет, как я, в забвении бегства...
Переезд через лес. Полоса благоухающих перепадов температур. Самый теплый запах - земли, самый холодный - увядающей листвы. - Глаза мои были закрыты; я открыл их. Да: вот листья; вот движущаяся земля...
Cтрасбург
О "безумный собор!" - с вершины твоей воздушной башни, как из раскачивающейся гондолы дирижабля, видны аисты на крышах,
ортодоксальные и педантичные,
на длинных лапах,
медлительные, - потому что очень трудно заставить их подчиняться.
Постоялый двор
Ночь, я сейчас засну в глубине гумна;
вознице придется искать меня в сене.
Постоялый двор
...от третьего стакана вишневки кровь, циркулирующая в моей голове, стала горячее;
от четвертого стакана я начал ощущать это легкое опьянение, которое, приблизив все предметы, сделало их моей добычей;
от пятого стакана зал, где я находился, весь мир, кажется, принял наконец более возвышенные очертания, а мой возвышенный ум, ставший более свободным, претерпел эволюцию;
от шестого стакана в состоянии некоторой усталости я заснул. (Все радости наших чувств были несовершенны, как обман.)
Постоялый двор
Я знал тяжелое вино харчевен, которое отдает привкусом фиалок и обещает тупой сон до полудня. Я знал опьянение вечера, когда кажется, что вся земля качается под тяжестью твоей всесильной мысли.
Натанаэль, я расскажу тебе об опьянении.
Натанаэль, часто удовлетворение самого простого желания опьяняло меня, до такой степени я уже бывал пьян до этого - от самого желания.
И то, что я искал на дорогах, поначалу было не столько харчевней, сколько моим голодом.
Опьянение - ходьбой натощак, когда шагаешь прекрасным утром и голод - это вовсе не аппетит, но головокружение. Опьянение от жажды, когда идешь и идешь до вечера.
Строжайшее воздержание в еде сделалось у меня тогда чрезмерным, как разврат, и я восторженно вкушал обостренное ощущение собственной жизни. Тогда сладострастный приток моих чувств превращал любой предмет, который соприкасался с ними, в мое осязаемое счастье.
Я знал опьянение, которое легко искажает мысли. Мне вспоминается, как однажды они следовали одна за другой, точно трубочки из подзорной трубы; предыдущая всегда казалась самой тонкой, но каждая последующая была еще тоньше. Мне вспоминается, как однажды они стали такими круглыми, что, право, ничего больше не оставалось, как позволить им катиться. Мне вспоминается, как однажды они были столь эластичны, что каждая последовательно и взаимно принимала форму всех остальных. В другой раз это были две параллельные мысли, которые, казалось, пытались достичь глубин бесконечности.
Я знал опьянение, которое заставляет поверить, что ты лучше, выше, мужественней, богаче и т.п. - чем ты есть.
Осень
Была большая вспашка на полях. По вечерам борозды дымились. И усталые лошади шли более медленным шагом. Каждый вечер я пьянел, как будто впервые почувствовал запах земли. Я любил тогда сидеть на краю лесной опушки, среди сухих цветов, слушая песни пахоты, глядя на утомленное солнце в глубине поля.
Влажное время года; дождливая земля Нормандии...
Прогулки. - Ланды, но без суровости. - Крутые обрывистые берега. - Леса. Застывший ручей. Отдых в тени; непринужденные разговоры. - Рыжие папоротники.
"Ах! - думали мы, - почему мы не встретили вас в пути, луга, которые нам хотелось бы пересечь верхом?" (Они были полностью окружены лесами.)
Прогулки вечерние.
Прогулки ночные.
Прогулки
...Бытие доставляло мне огромное наслаждение. Я хотел бы испробовать все формы жизни, даже рыб и растений. Среди всех чувственных радостей я завидовал тем, которые относились к осязанию.
Одинокое дерево посреди осеннего поля, окруженное ливнем; падали порыжевшие листья; я думал, что вода надолго напоила эти корни в глубоко пропитавшейся влагой земле.
В этом возрасте мои босые ноги любили прикасаться к мокрой земле, хлюпанье луж, прохладу или тепло грязи. Я знаю, почему я так любил воду, и особенно все влажное: вода гораздо больше, чем воздух, дает нам мгновенное ощущение разницы меняющихся температур. Я любил влажное дыхание осени... Дождливую землю Нормандии.
Ла Рок
Телеги, груженные душистой травой, возвращались домой.
Закрома были полны сеном.
Тяжелые телеги, неповоротливые на откосах, подбрасывающие на ухабах, сколько раз вы везли меня с поля, лежащего на груде сухой травы, среди грубых парней, ворошивших сено.
Ах! Когда еще я мог, лежа на стогу, ждать приближения вечера?
Вечер наступал; добирались до гумна - во дворе фермы, где мешкали последние лучи.
III
ФЕРМА
Хозяин!
Хозяин! Воспой свою ферму.
Я хочу передохнуть тут мгновение и помечтать возле твоих стогов о лете, о котором мне напомнит запах сена.
Возьми свои ключи; открой мне каждую дверь, одну за другой...
Первая - это дверь гумна...
Ах, если бы время не обманывало наших надежд!.. Ах, почему бы мне, пригревшись в сене, не отдохнуть у стога... вместо скитаний, усилием воли победить бесплодность желаний!.. Я слушал бы песни жнецов и смотрел бы, спокойный, примирившийся, как бесценные запасы урожая везут на отяжелевших телегах - словно в ожидании ответов на вопросы, которые задают мои желания. Я не стал бы больше искать в полях, чем мне насытить их; здесь я накормил бы их досыта.
Есть время смеяться - и время, когда смех уже замер.
Да, есть время смеяться - и время вспоминать об этом.
Конечно, Натанаэль, это был я, я, и никто другой, видевший, как волнуются эти травы - эти самые, которые теперь высохли, чтобы дать запах сену, высохли, как все скошенное, - эти живые травы, зеленые и золотые, качающиеся на вечернем ветру. - Ах, почему не вернется время, когда мы лежали на краю... и густые травы принимали нашу любовь.
Живность сновала под листьями; каждая из их тропинок была целой дорогой; и, когда я наклонился к земле и стал разглядывать лист за листом, цветок за цветком, я увидел массу насекомых.
Я узнавал влагу земли в порыве ветра и в природе цветов; так, луг был усеян маргаритками, но лужайки, которые мы предпочитали и которыми пользовалась наша любовь, были сплошь белыми от зонтичных растений, одни из них были легкие, другие - большие борщевики - непрозрачны и огромны. По вечерам в траве, ставшей более глубокой, они, казалось, плавали, как светящиеся медузы, свободные, оторванные от своего стебля, приподнятые волной тумана.
*
Вторая дверь - это дверь житниц.
Груды зерна. Я буду славить вас, злаки; золотая пшеница, притаившееся богатство; бесценный запас.
Пусть истощится наш хлеб! Житницы, у меня есть ключ от вас. Груды зерна, вы здесь. Будете ли вы целиком съедены, прежде чем мой голод утолится? В полях птицы небесные, в закромах - крысы; все бедняки за нашими столами... Хватит ли здесь пищи, пока не кончится мой голод?..
Зерна, я сохраняю горсточку. Я сею ее на своем плодородном поле; я сею ее в лучшую пору; одно зерно даст сто, другое - тысячу!..
Зерна! Там, где обилен мой голод, зерна, вы будете в изобилии!
Хлеба, проклевывающиеся сначала как маленькая зеленая травка, скажите, какой желтеющий колос придется нести вашему изогнутому стеблю? Золотое жниво, снопы и колосья - горсточка зерен, которую я посеял...
*
Третья дверь - в молочную.
Покой; тишина; бесконечное капанье из корзин, где обжимаются сыры; прессование брикетов в металлических формах; день за днем во время большой июльской жары запах свернувшегося молока кажется все более свежим и более пресным... нет, не пресным - но острота его столь незаметна и столь размыта, что ощущается лишь в глубине ноздрей и уже скорее как вкус, чем как запах.
Маслобойка, которую содержат в стерильной чистоте, небольшие бруски масла на капустных листьях. Красные руки фермерши. Окна, всегда открытые, но затянутые металлической сеткой, чтобы кошки и мухи не проникли внутрь.
Плошки, выстроенные в ряд, полны молока, все более и более желтого, пока не поднимутся все сливки. Сливки собираются медленно; они набухают, слоятся, и сыворотка отделяется. Когда она отойдет целиком, ее выливают...
(Но, Натанаэль, я не хочу все это тебе рассказывать. У меня есть друг, который занимается сельским хозяйством и к тому же замечательно говорит об этом; он объясняет мне полезность каждой вещи и учит, что даже сыворотка не должна пропасть. В Нормандии ею кормят свиней, но, кажется, ей есть и лучшее применение.)
Четвертая дверь открывается в хлев.
В нем невыносимо жарко, но коровы хорошо пахнут. Ах! Почему бы мне не оказаться в том времени, когда вместе с ребятишками фермера, вспотевшая плоть которых так хорошо пахла, мы бегали между ногами коров; искали по углам яслей яйца; часами наблюдали за коровами, следили, как падали, лопаясь, коровьи лепешки; спорили о том, какое животное начнет испражняться первым, и однажды я убежал в ужасе, решив вдруг, что одна из коров собирается родить теленка.
*
Пятая дверь - дверь хранилища для фруктов:
В дверном проеме - солнце, кисти винограда висят на бечевках; каждая косточка размышляет и зреет; тайно переваривает свет; выделяет ароматную сладость.
Груши. Обилие яблок. Плоды! Я вкушал вашу сочную мякоть. Я бросал семечки на землю; пусть взойдут! Чтобы вновь подарить нам удовольствие.
Хрупкое зернышко; обещание чуда; ядрышко; маленькая весна, дремлющая в ожидании. Семечко между двумя расцветами, семечко, пережившее расцвет.
Мы задумаемся потом, Натанаэль, о мучительном прорастании (усилия травы, вырывающейся из семечка, чудесны).
Но восхитимся теперь этим: каждому оплодотворению сопутствует наслаждение. Плод пропитан соком; и удовольствие - единственное постоянство жизни. Мякоть плода - вкусовое доказательство любви.
*
Шестая дверь - дверь давильни.
Ах, почему бы мне не растянуться теперь под навесом - где спадает жара возле тебя, во время выжимания яблок, рядом с кислыми выжимками.
Мы старались бы, ах, Суламита! Если наслаждение нашей плоти на влажных яблоках длится дольше и иссякает не так быстро - подкрепимся их сладостным ароматом...
Шум жернова баюкает мои воспоминания.
*
Седьмая дверь открывается на винокурню.
Полумрак; горящий огонь; темные механизмы. Внезапно возникающая медь тазов.
Перегонный куб; его таинственный гной тщательно собирают. (Я видел, как так же собирают сосновую смолу, болезненную камедь черешен, молочко каучуконосных фикусов, вино пальм со срезанных верхушек.)
Узкая склянка, целая волна опьянения сосредоточена в тебе, бьется о берег; эссенция, куда вошло все, что есть восхитительного и притягательного в плоде; восхитительного и благоухающего в цветке.
Перегонный куб! Золотая капля, которая вот-вот просочится. (В ней больше вкусовых ощущений, чем в концентрированном вишневом соке; другие благоухают, как луга.) Натанаэль! Вот воистину чудесное видение; кажется, что сама весна должна целиком уместиться здесь... Ах! Пусть мое нынешнее опьянение слишком театрально. Пусть я пью, закрытый в этом чересчур темном зале, который я больше не увижу, - пусть я пью, чтобы чем-то подбодрить свою плоть - и освободить свой ум, - ради того чтобы видеть все то нездешнее, чего я пожелаю...
*
Восьмая дверь - дверь каретного сарая.
Ах! Я разбил свою золотую чашу - я просыпаюсь. Опьянение - всегда лишь подмена счастья. Повозки. Любое бегство возможно; сани, ледяная страна; я впрягаю в вас, сани, свои желания.
Натанаэль, мы поедем навстречу всему и мы достигнем всего. В сумке возле сиденья у меня есть золото; в моих сундуках - меха, которые заставят почти полюбить холод. Колеса, кому под силу сосчитать ваши обороты во время гонки? Повозки, легкие домики. Пусть наша фантазия правит вами в поисках оставшихся радостей! Плуги, пусть быки проведут вас по нашим полям. Ройте землю, как кабаны: неиспользованный лемех в сарае ржавеет, и все эти инструменты... Вы все, неиспользованные возможности нашего бытия, в страдании, в ожидании - в ожидании, чтобы в вас запрягли желание, - для того, кто желает лучших краев...
Пусть снежная пыль, которую поднимет наша скорость, летит за нами! Санки! Я впрягаю в вас все мои желания...
*
Последняя дверь открывалась на равнину...
...........................................................................
..................
КНИГА ШЕСТАЯ
ЛИНКЕЙ28
Zum sehen geboren
Zum shauen bestelit.
Goethe (Faust, II)*
ЗАПОВЕДИ Господни, вы уязвили мою душу.
Заповеди Господни, сколько вас - десять или двадцать?
До каких пор вы будете сжимать свои границы?
Твердить, что запретов становится все больше и больше?
Сулить новые кары за жажду всего, что я найду прекрасного на земле?
Заповеди Господни, вы принесли боль в мою душу.
Вы окружили каменной стеной единственный источник, который мог напоить меня.
...Но я чувствую теперь, Натанаэль, что преисполнен жалости к маленьким человеческим слабостям.
*
Натанаэль, я научу тебя тому, что все в мире божественно просто.
Натанаэль, я расскажу тебе обо всем.
Я вложу в твои руки, слабый пастырь, пастушеский посох, и мы осторожно поведем во все края овец, которые еще никогда не шли за хозяином.
Пастырь, я приведу твои желания ко всему, что есть на земле прекрасного.
Натанаэль, я хочу обжечь твои губы жаждой нового и потом поднести к ним чашу, полную свежести. Я пил из нее; я знаю источники, где губы могут утолить свою жажду.
Натанаэль, я расскажу тебе об источниках.
Есть родники, которые бьют из скал;
другие едва виднеются подо льдом;
третьи такой голубизны, что их глубина кажется большей, чем на самом деле.
(В Сиракузах Киана замечательна именно этим.
Лазурный источник; укрытый водоем; вода расцветает на стеблях тростника; мы наклонялись над лодкой, чтобы рассмотреть гравий, похожий на сапфиры, голубые рыбы проплывали мимо.
В Загване из Нимфеи текла вода, которая когда-то поила Карфаген.
В Воклюзе вода появляется из-под земли в таком изобилии, словно она текла давным-давно; это уже почти река, берущая начало под землей; она течет среди пещер и пропитывается мраком ночи. Колеблющийся свет факелов угнетает; потом становится так темно, что говоришь себе: нет, я никогда не смогу двинуться дальше.)
Есть железистые источники, которые ярко окрашивают скалы.
Есть сернистые, вода которых, зеленая и горячая, поначалу кажется отравленной. Но, если в ней искупаться, Натанаэль, кожа становится такой восхитительно нежной, что к ней еще сладостней прикасаться.
Есть источники, над которыми по вечерам восходят туманы; туманы, плывущие ночью и медленно рассеивающиеся по утрам.
Крохотные простенькие роднички, хиреющие среди мхов и камышей.
Ручьи и реки, где стирают прачки и которые заставляют крутиться мельничные колеса.
Неистощимые запасы! Пульсация вод. Обилие воды под покровом земли; тайные резервуары; сосуды без стенок. Твердыня скалы будет взломана. Склоны гор покроются кустарником; засушливые земли возрадуются, и даже горькая пустыня расцветет.
Из земли бьет больше источников, чем наша жажда может выпить.
Воды непрестанно обновляются; небесные туманы падают на землю.
Если на равнине воды не хватает, пусть равнина идет пить в горы - или пусть подземные каналы доставят воду с гор на равнину. - Чудесное орошение в Гренаде. - Резервуары; Нимфеи. - Есть завораживающая красота в источниках. Необычайное наслаждение окунуться в воду. Водоемы! Водоемы! Мы покидаем вас, очистившись.
Как солнце в утренней заре,
Луна в росе ночной
Так в вашей влаге мы спешим
С себя усталость смыть.
Есть удивительная прелесть в родниках, и ключах, и в воде, которая фильтруется под землей. Она предстает потом столь же чистой, как если бы текла через хрусталь; пить ее - ни с чем несравнимое наслаждение: она бесцветна, как воздух, прозрачна, как невидимка, и не имеет вкуса; узнать ее можно лишь по необычайной свежести, и в этом ее тайная сила. Натанаэль, понимаешь ли ты, как велико может быть желание выпить ее?
А большей радости я никогда не знал,
Чем ощущенье утоленной жажды.
Теперь ты услышишь, Натанаэль,
ПЕСНЮ О МОЕЙ УТОЛЕННОЙ ЖАЖДЕ
Поскольку наши чаши были полны,
Тянулись губы, как для поцелуя;
И чаши полные пустели быстро.
А большей радости я никогда не знал,
Чем ощущенье утоленной жажды...
*
Напитки есть, которые готовят,
Лимонным соком приправляя вкус,
И апельсины выжав, и цитроны
В них кислоты и сладости союз.
И это сочетанье освежает.
Я из бокалов пил, настолько тонких,
Что думалось, когда касались губ:
Расколется и не попав на зуб.
Но все напитки в них вкусней казались,
Почти не разделяло нас стекло.
Мне из упругих кружек пить случалось,
Сожмешь ее слегка двумя руками
И вверх к губам вино бежит само.
Пил в кабачках я из стаканов грубых
Тяжелое вино, день прошагав
Под раскаленным солнцем. Много раз
По вечерам мне силы возвращала
Холодная вода из родников.
Я воду пил из бурдюков, хранивших
Неистребимый запах козьих шкур.
Я жажду утолял, припав к ручью,
Куда в жару хотелось просто лечь.
Я руки в воду погружал до плеч,
На дне невольно гальку будоража...
И впитывал прохладу кожей всей.
А пастухов, что пили из горсти,
Я научил соломинкой пить воду.
Бывало, летом долгие часы
Я в зной шагал лишь прихоти в угоду
Чтоб жажду ощутить и утолить.
Вы помните, мой друг, как ночью во время нашего ужасного путешествия, вспотевшие, мы были разбужены жаждой и пили из глиняного кувшина охлажденную им воду?
Водоемы, тайные колодцы, куда приходят женщины. Вода, которая никогда не видела света; вкус темноты. Хорошо аэрированная вода.
Вода, неправдоподобно прозрачная, в которую я хотел бы добавить синевы или лучше зелени, чтобы она казалась мне еще холоднее, - и немного аниса.
А большей радости я никогда не знал,
Чем ощущенье утоленной жажды.
Нет, все эти звезды на небе, весь этот жемчуг в море, белые перья на берегу заливов, - я еще не все их пересчитал.
Не пересчитал всех шепотов листвы; всех улыбок зари; всего летнего смеха. И теперь что мне еще сказать? Если мои губы молчат, не думаете ли вы, что мое сердце спит?
О поля, омытые лазурью!
О поля, пропитанные медом!
Пчелы прилетят, тяжелые от воска...
Я видел темные гавани, где рассвет прятался за решетками рей и люгерных парусов; утром тайный отъезд лодок, лавировавших между корпусами больших судов. Приходилось наклоняться, чтобы проплыть под протянутыми канатами швартов.
Ночью я видел, как отплывали бесчисленные парусники, уходившие во тьму, уходившие навстречу утру.
Они не так блестят, как жемчужины; не так светятся, как вода; и все же камни дорог тоже умеют излучать свет. Мягкие импульсы света на мощеных дорогах, которыми я проходил.
Но фосфоресценция, Натанаэль, ах, что сказать об этом? Материя представляется мне бесконечно пористой, согласной со всеми законами, послушной, насквозь прозрачной. Ты не видел стены этого мусульманского города, багровеющие на закате, слабо освещенные ночью. Толстые стены, белые, как металл, стены, куда днем изливается свет; в полдень он накапливается в них, а ночью вам кажется, что они как бы вспоминают, чуть слышно пересказывают его, этот свет. - Города, вы казались мне прозрачными! Видимые с холма, там, в глубокой обволакивающей ночной тени, вы светились, похожие на полые алебастровые лампы - символ верующего сердца, - светом, который заполнял вас, как поры, и сияние которого проливалось вокруг, как молоко.
Белые камни дорог в темноте; хранилища света. Белый вереск в сумерках ланд; мраморные плиты мечетей; цветы морских гротов - актинии... Вся белизна это сбереженный свет.
*
Я научился судить обо всех предметах по их способности воспринимать свет; некоторые из них, днем побывавшие на солнце, представали передо мной потом, ночью, словно соты, заполненные светом. - Я видел воды, текущие в полдень по равнине, которые потом, попав в объятия непроницаемых скал, становились вдруг залитыми богатством накопленной позолоты.
Но, Натанаэль, я хочу говорить с тобой здесь только о вещественном - вовсе не о
НЕВИДИМОЙ КРАСОТЕ - ибо
...как те чудесные водоросли, вытащенные из воды, тускнеют...
так и... и т.д.
- Бесконечное разнообразие пейзажа наглядно доказывает, что мы еще не узнали всех форм счастья, раздумий или печали, в которые они могли облечься. Я помню: иногда в детстве в ландах Бретани, когда я еще бывал временами печален, моя грусть вдруг рассеивалась, настолько она ощущала себя понятой и отраженной пейзажем - и таким образом как бы оказывалась передо мной, и я мог, восхищенный, созерцать ее.
Вечная новизна.
Он сделал что-то очень простое, потом сказал:
- Я понял, что этого еще никто никогда не сделал, не подумал и не сказал. - И вдруг все показалось мне воистину первозданным. (Весь опыт человечества, целиком поглощенный настоящим моментом.)
20 июля, 2 часа утра
Подъем. - Бога нельзя заставлять долго ждать! - восклицал я, умываясь; как бы рано ты ни встал, жизнь всегда уже на ногах; раньше засыпая, она не позволяет нам ждать ее.
Заря! Ты была нашей бесценной отрадой.
Весна - заря лета!
Весна каждого дня - заря!
Мы еще спали, когда взошла радуга...
...всегда недостаточно ранние для нее,
всегда недостаточно поздние,
как казалось луне...
Сны
Я знал полуденный летний сон, - сон среди дня - после работы, начатой слишком рано; утомленный сон.
Два часа. - Дети уложены. Приглушенная тишина. Возможность музыки, которую нельзя реализовать. Запах кретоновых занавесок. Гиацинтов и тюльпанов. Белья.
Пять часов. - Пробуждение в поту; сердцебиение; озноб; пустота в голове; восприимчивость плоти; плоть пориста, и кажется, что она заполняется слишком сладостно всем, что вокруг. Низкое солнце; желтые лужайки; глаза, уставившиеся в остаток дня. О вино вечерних размышлений! Раскрываются лепестки вечерних цветов. Умыть лоб теплой водой; выйти... шпалеры кустов и деревьев; сады за стенами, залитыми солнцем. Дорога; скот, бредущий с пастбища; на закат смотреть бесполезно - восхищение и так уже слишком велико.
Возвращение. К своей работе, к своей лампе.
*
Натанаэль, что мне рассказать тебе о постелях?
Я спал на мельничных жерновах; я укладывался в борозду скошенного поля; я спал в траве под палящим солнцем; в сенном амбаре ночью. Я подвешивал свой гамак к веткам деревьев; я спал, качаясь на волнах; улегшись на корабельном мостике; или на узенькой койке в каюте напротив глупого глаза иллюминатора. Бывали постели, на которых меня поджидали куртизанки; и другие, на которых я ждал мальчиков-подростков. Были среди них постели, обитые тканью, настолько мягкие, что они казались созданными, как и мое тело, для любви. Я спал в палатках, на досках, где сон был подобен смерти. Я спал в мчащихся вагонах, ни на миг не переставая ощущать движение.
Натанаэль, бывают восхитительные приготовления ко сну; и чудесные пробуждения, но не бывает восхитительного сна, и я люблю мечту только до тех пор, пока верю в ее реальность. Ибо самый прекрасный сон не стоит мига пробуждения.
У меня вошло в привычку ложиться спать лицом к широко открытому окну, как бы под открытым небом. В слишком жаркие июльские ночи я спал совершенно голый под лунным светом; меня будила предрассветная песня дроздов; я целиком погружался в холодную воду, гордый столь ранним началом дня. В Юре мое открытое окно оказалось над небольшой долиной, которая вскоре покрылась снегом; и со своей кровати я видел опушку леса; там летали вор?оны или в?ороны; ранним утром стада будили меня своими колокольчиками; возле моего дома был источник, куда пастухи водили скот на водопой. Я вспоминаю все это.
Мне нравилось на постоялых дворах Бретани касаться шершавых свежевыстиранных простынь, которые так хорошо пахли. В Бель-Иле я просыпался под песни матросов, бежал к окну и видел удаляющиеся барки, потом шел к морю.
Есть чудесные жилища; но ни в одном я не хотел жить долго, боясь дверей, которые имеют обыкновение захлопываться, как капканы; одиночных камер, которые закрываются в нашем сознании. Кочевая жизнь - это жизнь пастухов. (Натанаэль, я вложу в твои руки пастушеский посох, и ты в свой черед станешь стеречь моих овец. Я устал. Теперь твоя очередь отправляться в путь; перед тобой открыты все края, и стада, которые никогда не могут насытиться, снова блеют после каждого нового пастбища.)
Иногда, Натанаэль, меня привлекали странные жилища. Посреди леса или у кромки воды; одиноко стоящие. Но как только, в силу привычки, я переставал замечать их, восхищаться ими и как только начинал осознавать это - я уезжал.
(Я не могу объяснить тебе, Натанаэль, эту обостренную жажду новизны; но она вовсе не казалась мне связанной с мимолетным впечатлением, потерей свежести восприятия, однако внезапное ощущение этой новизны, первое потрясение бывало столь велико, что никакие повторы не могли его усилить; и если мне случалось часто возвращаться в одни и те же города или места, то лишь затем, чтобы ощутить, как изменилась жизнь или время года; знакомые очертания чувствительней к таким переменам; и если, живя в Алжире, я проводил каждый вечер в одном и том же маленьком мавританском кафе, то делал это, чтобы почувствовать неуловимое отличие одного вечера от другого, каждого мгновения бытия от другого, чтобы заметить, как, пусть медленно, меняется время даже в самом маленьком пространстве.)
В Риме, возле Пинчо, через мое зарешеченное окно, похожее на тюремное и находившееся вровень с улицей, торговки цветами пытались предлагать мне розы; весь воздух был пропитан их ароматом. Во Флоренции я мог, не вставая из-за стола, видеть желтые, выходящие из берегов воды Арно. На террасы Бискры при свете луны в бездонной тишине ночи приходила Мерием29. Она была вся целиком закутана в большое белое покрывало с разрезами, которое сбрасывала, смеясь, на пороге стеклянной двери. В моей комнате ее ожидали лакомства. В Гренаде в моей комнате на камине место подсвечников занимали два арбуза. В Севилье есть патио; дворики, вымощенные светлым мрамором, полные тени и прохладной воды; воды, которая течет, струится и плещется в фонтане посреди двора.
Толстая стена - от северного ветра, пористая - от южного солнца; движущийся дом, путешественник, открытый всем милостям юга... Какой будет наша комната, Натанаэль? Убежище в пейзаже.
*
Я расскажу тебе еще об окнах: в Неаполе беседы на балконах, мечтания по вечерам возле светлых женских платьев; полуспущенные шторы отделяли нас от блестящего бального общества. Там бывал обмен колкостями - деликатес столь малоприятный, что, отведав его, человек на какое-то время терял дар речи; потом из сада доносился нестерпимый аромат апельсиновых деревьев и пение птиц в летней ночи; через мгновение птицы замолкали, и тогда слышался слабый шум волн.
Балконы; корзины роз и глициний; вечерний отдых; нежность.
(Сегодня вечером ветер жалобно рыдает и плещется о мое стекло; я стараюсь предпочесть его всему.)
*
Натанаэль, я расскажу тебе о городах.
Я видел Смирну, спавшую как маленькая девочка; Неаполь, похожий на похотливую банщицу, и Загван, разлегшийся, как кабильский пастух, чьи щеки розовеют с приближением зари. Алжир дрожит от любви днем и изнемогает от нее ночью.
Я видел на севере деревни, спавшие под лунным светом; стены домов были то желтыми, то голубыми; вокруг них простиралась равнина; в полях повсюду виднелись огромные стога сена. Выходишь в пустынное поле, возвращаешься в спящий город.
Есть города и города; иногда не понимаешь, кто мог построить их здесь. О! Восточные и южные города; города с плоскими крышами, белыми террасами, куда по ночам приходят помечтать безумные женщины. Развлечения; праздники любви; фонари на площадях, которые представляются, когда смотришь на них с соседних холмов, ночной фосфоресценцией.
Города Востока! Праздник объятий; улицы, которые там называют священными, где кафе переполнены куртизанками, которых заставляет танцевать чересчур пронзительная музыка. Там прогуливаются арабы, одетые в белое, и дети, которые часто казались мне слишком юными (понимаешь?), чтобы познать любовь. (Губы у некоторых были жарче, чем у только что вылупившихся птенцов.)
Северные города! Дебаркадеры; заводы; города, дым которых скрывает небо. Памятники; изменчивые башни; высокомерие арок. Вереницы экипажей на дорогах; спешащая толпа. Асфальт, лоснящийся после дождя; бульвары, где томятся каштаны; всегда поджидающие вас женщины. Бывали ночи, настолько томные, что от малейшего призыва я чувствовал, что изнемогаю.
Одиннадцать часов. - Конец дня; резкий скрип железных калиток. Старые кварталы. Ночью на пустынных улицах, где я прохожу, крысы разбегаются по сточным канавам. Через подвальные окошки видно, как полуголые люди месят хлеб.
- О кафе! - где наше безумие длилось до глубокой ночи; опьянение напитками и словами наступало наконец на пороге сна. Кафе! Полные картин, зеркал, роскоши, где бывала лишь изысканная публика; и другие, маленькие, где пели смешные куплеты и женщины во время танцев чересчур высоко поднимали свои юбки.
В Италии кафе выплескивались летними вечерами на площади, там ели прекрасное лимонное мороженое. В Алжире было одно, где курили гашиш и где меня чуть не убили; через год его закрыла полиция, потому что там бывало слишком много подозрительных лиц.
Еще кафе... О мавританские кафе! - иногда поэт-рассказчик развлекал там публику длинными историями; сколько ночей я провел в них, ничего не понимая, только слушая. Но всем другим я предпочитаю тебя - прибежище тишины и вечеров, маленькое кафе Баб-эль-Дерба, глиняная лачуга на границе оазиса, за которым начиналась пустыня - где я наблюдал, как после задохнувшегося дня наступает величавая ночь. Рядом со мной впадали в экстаз от монотонной игры флейтиста. И я мечтал о тебе, маленькая кофейня в Ширазе, кофейня, прославленная Гафизом; Гафизом, пьяным от вина, которое подливал ему виночерпий, и от любви, безмолвным на террасе, где до него дотягивались розы, Гафизом, который рядом с виночерпием ждет, слагая стихи, всю ночь ждет, когда наступит день.
(Я хотел бы родиться в то время, когда поэт должен был петь, просто перечисляя все, что есть вокруг. Мое восхищение последовательно простиралось бы на каждый предмет, и хвала ему наглядно свидетельствовала о том, что он существует. Это было бы достаточным доказательством.)
Натанаэль, мы еще не рассмотрели с тобой листья. Все изгибы листьев...
Древесная листва; зеленые гроты, просветы входов; глубины, перемещающиеся при малейшем дуновении; движение, водовороты веток; плавное качание; чешуйки и ячейки...
Деревья, взволнованные каждое по-своему... это потому, что гибкость веток неодинакова, стало быть, различна сила их сопротивления ветру, и ветер сообщает каждой иной импульс и т. д. - Перейдем к другому сюжету... Какому? Поскольку нет композиции, нет нужды в выборе... Несвязанность! Натанаэль, несвязанность! - и благодаря внезапной синхронной концентрации всех чувств исхитриться сотворить (это трудно выразить) из ощущения собственной внутренней жизни острое чувство соприкосновения со всем, что во вне... (или наоборот). Я есмь; здесь, я закрываю эту брешь, где погружаются:
мой слух: в этот непрерывный шум - воды; порыви
стый - усиливающийся и ослабевающий
шум этого ветра в этих соснах; в стрекот
этих кузнечиков и т. д.
мое зрение: в солнечное сияние ручья; движение этих
сосен (вот те на - белка!)... моей ноги,
под которой прогнулся мох и т. д.
моя плоть: (ощущение) в эту влажность, в эту мягкость
мха (ой, какая ветка меня уколола?); мой
лоб под моей рукой; моя рука на моем лбу
и т. д.
мое обоняние: ...(Тсс! Белка приближается) и т. д.
И все это вместе, и т. д., в маленьком свертке - называется жизнь. - И это все? - Нет! Всегда есть еще что-то.
Не думаешь ли ты теперь, что я - это всего лишь место свидания чувств? Моя жизнь - всегда ЭТО плюс я сам. - В другой раз мы поговорим обо мне самом. Сегодня я не буду тебе петь ни
ПЕСНЮ О РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ РАЗУМА,
ни
ПЕСНЮ О ЛУЧШИХ ДРУЗЬЯХ,
ни
БАЛЛАДУ О ВСЕХ ВСТРЕЧАХ,
где среди других есть такие строки:
В Комо, в Лекко созрел виноград. Я поднялся на огромный холм, где рушился старый замок. Запах винограда там был так сладок, что я с трудом переносил его; он проникал, как вкус, в самую глубь ноздрей, и потом, когда я ел этот виноград, я уже не сделал для себя никаких открытий. - Однако я так хотел пить и был так голоден, что нескольких гроздей оказалось достаточно, чтобы я опьянел.
...Но в этой балладе речь шла в основном о мужчинах и женщинах, и если я не пересказываю ее тебе теперь, то лишь потому, что не хочу в этой книге говорить о личностях. Ибо, заметил ли ты, что в ней нет ни одного лица. И я сам, я в этой книге не более чем Образ. Натанаэль, я страж башни, Линкей. Ночь длилась достаточно долго. С высоты башни я так взывал к тебе, заря! Вечно лучезарная заря!
Я до конца ночи сторожил надежду на новый день, теперь я еще не вижу его, но надеюсь; я знаю, с какой стороны рассветет.
Конечно, весь народ готовится: с высоты башни я слышу гул на улицах. День родится! Люди, празднуя это, уже движутся навстречу солнцу.
- Что ты говоришь из ночи? Что ты говоришь из ночи, часовой?
- Я вижу подрастающее поколение и поколение, которое уходит. Я вижу прекрасное растущее поколение, растущее во всеоружии, во всеоружии радости жизни.
- С высоты башни что ты видишь? Что ты видишь, Линкей, брат мой?
- Увы, увы. Пусть плачет другой пророк; приходит ночь, и день тоже.
Их ночь приходит, наш день тоже. И тот, кто хочет спать, засыпает.
- Линкей! Спускайся теперь со своей башни. День рождается. Спускайся вниз. Посмотри внимательней на все, что есть на земле. Линкей, приходи, приблизься. Вот он, день, и мы в него верим.
КНИГА СЕДЬМАЯ
Quid tum si fuscus Amyntas.
Virgile*30
Морской переход. Февраль 1895
Отъезд из Марселя.
Неистовый ветер; ослепительный воздух. Раннее тепло; качание мачт.
Прославленное море, украшенное султанами. Судно, освистанное волнами. Впечатление подавляющей славы. Воспоминания обо всех предыдущих отъездах.
Морской переход
Сколько раз я ждал рассвета...
...на невозмутимом море...
и я видел рассвет, когда море бурлило.
Пот на висках. Слабость. Беспомощность.
Ночь на море
Море в ярости. Потоки воды на палубе. Хлопанье винта...
О холодный пот страха!
Подушка под моей разбитой головой...
В этот вечер луна над палубой была полной и сияющей - но меня там не было, чтобы ее увидеть.
- Ожидание нового шквала. - Внезапный взрыв массы воды; удушье; дурнота; новые приступы. - Мое безразличие; чт?о я здесь? - Поплавок. - Бедный поплавок на волнах.
Уход в забытье от волн; наслаждение отрешенностью; быть вещью.
Конец ночи
Утром, чересчур прохладным, моют палубу морской водой, которую достают ведрами; взбивание пены. - Из своей каюты я слышу скрип щеток на неровностях древесины. Сильные толчки. - Я хотел открыть иллюминатор. Слишком резкий порыв морского ветра ударил мне в лоб, влажные виски. Я попытался закрыть его... Койка; упасть на нее. Ах, все эти чудовищные падения до самого порта! Калейдоскоп отблесков на белой стене каюты. Теснота.
Мои глаза, уставшие видеть...
Через соломинку я тяну холодный лимонад...
Проснуться потом на новой земле, как после выздоровления... - Об этом нельзя было и мечтать.
Алжир
На берегу проснуться утром рано,
Всю ночь проспав под бормотанье волн.
Плато, где отдохнуть стремится холм,
Закат, где день беспамятствует пьяно.
И берег, где смиряется прибой,
И ночи, где любовь уснуть готова.
Ночь простирается, как рейд сторожевой,
От света здесь скрываются дневного
И мысль, и птица, и последний луч.
И в зарослях здесь замирают тени,
Вода лугов, ключи и родники.
...А впереди - обратная дорога.
Спокойны реки - корабли в порту.
И на волнах притихших дремлет птица,
На якорь встала лодка вдалеке
И вечер открывает рейд бескрайний
И дружелюбия и тишины.
Пора пришла - все на земле уснуло.
Март, 1895
Блида! Цветок Сахеля! Зимой лишенная благодати и поблекшая, весной ты предстала передо мной прекрасной. Это было дождливое утро; небо серое, нежное и грустное; запах твоих деревьев в цвету переполнял длинные аллеи; струя воды в твоем спокойном водоеме; издалека звук военной трубы.
Вот другой сад. Заброшенная роща, где под оливами слабо светится мечеть. Священная роща! В это утро здесь пытаются отдохнуть мои бесконечно усталые мысли и моя плоть, изнуренная тревогами любви. Лианы, увидев вас зимой, я не представлял, как чудесно ваше цветение. Лиловые глицинии среди колышущихся веток, гроздья, похожие на свисающие кадильницы, и лепестки, осыпающиеся на золотой песок аллеи. Шум воды; влажный шум, плеск воды у края водоема, купы сирени, заросли терновника, кусты роз. Прийти сюда одному, и вспоминать о зиме, и чувствовать себя таким усталым, что даже весна (увы) не радует; и даже хочется большей суровости, ибо такая благодать, увы, манит и зовет к одиночеству, и только желания, раболепная свита, заполняют пустые аллеи. И, несмотря на шум воды в этом слишком спокойном водоеме, внимательная тишина вокруг громко напоминает об отсутствующих.
*
Я знаю, есть ручей в священной роще.
Его вода прозрачно холодна,
Мне веки сможет освежить она,
Когда приду под вечер, и одна
На всей поляне будет тишина,
А воздух не к любви - ко сну лишь манит.
Источник чистоты, где дремлет ночь
И где забрезжит белизна под утро.
Быть может, там почувствую я вновь
Тот привкус у зари, что был когда-то,
В те времена еще, когда на мир
Смотрел я со счастливым изумленьем?
Когда омою влагой ледяной
Свои огнем пылающие веки.
Письмо Натанаэлю
Ты не представляешь, Натанаэль, во что может в конце концов превратиться это поглощение света; и чувственный экстаз, к которому ведет это долгое тепло... Оливковая ветвь в небе, небо над холмами; мелодия флейты на пороге кафе... Алжир показался мне таким жарким и праздничным, что я хотел уехать через три дня; но в Блиде, где я укрылся, апельсиновые деревья были все в цвету.
Я выхожу утром, гуляю; ни на что не смотрю и все вижу; во мне возникает и выстраивается чудесная симфония из впечатлений, которых не замечаешь. Проходит время; мое волнение постепенно стихает, как замедляется движение солнца, прошедшего зенит. Потом я выбираю существо или предмет, которые меня привлекают, - они обязательно должны быть в движении, ибо мое ощущение, коль скоро оно зафиксировано, перестает быть живым. Мне кажется тогда в каждое новое мгновение, что я еще ничего не видел, ничего не пробовал. Я растворяюсь в беспорядочной погоне за убегающими явлениями. Я бежал вчера на вершину холмов, возвышающихся над Блидой, чтобы подольше видеть солнце; чтобы видеть заходящее солнце и пылающие облака, окрашивающие белые террасы. Меня поражает тень и тишь под деревьями; я брожу при свете луны; мне часто кажется, что я плыву, - так обволакивает меня, так мягко приподнимает горячий и светящийся воздух.
...Я верю, что дорога, на которой я нахожусь, - моя дорога, и я должен идти именно по ней. Я сохраняю привычку к огромному доверию, которое можно было бы назвать верой, если бы это было скреплено клятвой.
Бискра
Женщины ожидали на пороге домов; позади них вились узкие лестницы. Они сидели тут, у дверей, важные, раскрашенные, как идолы, надев на голову диадемы из мелких монет. Ночью эта улица оживлялась. Вдоль лестниц горели лампы; каждая женщина сидела в нише света на своей лестничной клетке; их лица оставались в тени блестящих золотых диадем; и каждая, казалось, ждала меня, именно меня; чтобы подняться к ним, нужно было прибавить золотые монетки к диадеме; проходя, куртизанки гасили лампы; войдя в ее тесные апартаменты, пили кофе из маленьких чашек, потом занимались любовью на низких диванах.
В садах Бискры
Ты писал мне, Атман31: "Я пасу стада под пальмами, которые ждут вас. Возвращайтесь! Весна разбудит ветки: мы будем гулять и ни о чем не думать..."
- Тебе не придется больше, Атман, овечий пастух, ждать меня под пальмами и смотреть, близко ли весна. Я приехал; весна разбудила ветки, мы гуляем и ни о чем не думаем.
В садах Бискры
День сегодня пасмурный; благоухающие мимозы. Влажное тепло. Капли толстые или широкие, формирующиеся в воздухе... Они задерживаются на листьях, отягощая их, потом падают с шумом.
...Я вспоминаю один летний дождь; - но можно ли это назвать дождем? - Эти нежные капли, которые падали, такие большие и тяжелые, на этот пальмовый сад, в этот свет, зеленый и розовый, такие тяжелые, что листья и ветки крутились, как отвергнутый любовный дар из множества гирлянд крутится на воде. Ручьи уносили вдаль пыльцу для оплодотворения, их воды были мутными и желтыми. Рыбы млели в водоемах. У самой воды было слышно, как хлопают ртами карпы.
Перед дождем завывавший южный ветер хорошо прокалил землю, и теперь аллеи переполнялись испарениями, мимозы склоняли ветки, словно укрывая скамейки, где творилось настоящее празднество. - Это был сад наслаждений; и мужчины в одежде из белой шерсти, и женщины в расписных покрывалах ждали, чтобы их пропитала влага. Они, как и раньше, сидели на скамейках, но все голоса замолкли, и каждый слушал, как ливень роняет капли, оставляя влагу - случайную спутницу середины лета, - утяжелявшую ткани и омывавшую подставленные тела. - Воздушные испарения, влажность листьев были столь велики, что я остался сидеть на скамейке рядом с ними, не сопротивляясь чувству любви. - И, когда дождь прошел и только с веток стекали струйки воды, тогда каждый, сняв свои туфли или сандалии, пощупал босыми ногами влажную землю, мягкость которой создавала ощущение блаженства.
*
Войти в сад, где никого нет; двое детей в белой шерстяной одежде сопровождают меня. Сад очень большой, в глубине его открывается проход. Деревья высокие; небо, низкое, цепляется за верхушки. - Стены. - Целые деревни под дождем. - А там - горы; нарождающиеся ручьи; корм для растений; оплодотворение, торжественное и приводящее в восторг, блуждающие ароматы.
Занесенные ручьи; водостоки (листья, смешанные с цветами) - которые называют "оросительными каналами", потому что их воды тут медленные.
Бассейны Гафсы с опасными чарами: - Nocet cantantibus umbra*32 - Ночь теперь безоблачная, глубокая, слегка туманная.
(Очень красивый ребенок, одетый в белую шерсть на манер арабов, по имени Азус, что значит: возлюбленный. Другого зовут Уарди, что значит: рожденный во время цветения роз.)
- И воды, теплые, как воздух,
В них наши губы погрузились...
Темная вода, которая не была отчетливо видна, пока луна ее не посеребрила. Она казалась родившейся среди листвы, и ночные звери рыскали тут.
Бискра утром
Заря восходит, брызжет в воздух, целиком обновленный.
Ветка олеандра будет дрожать в трепещущей руке.
Бискра вечером
На этом дереве пели птицы. Ах, они пели громче, чем, как я думал, могут петь птицы. Казалось, что само дерево кричит - что оно кричит всеми своими листьями, - потому что птиц не было видно. Я подумал: они сейчас умрут, эта страсть слишком сильна; но что же случилось с ними сегодня вечером? Неужели они не знают, что вслед за ночью снова приходит утро? Может, они боятся заснуть навсегда? Или хотят исчерпать всю свою любовь за один вечер? Как будто, если они замолчат, наступит бесконечная ночь. - Коротка ночь в конце весны! - Ах! Радость, что летняя заря разбудила их, да так, что они и не вспомнят о своем сне до следующего вечера, испытывая чуть меньше страха умереть.
Бискра ночью
Молчаливые кусты; но пустыня вокруг дрожит от любовных песен кузнечиков.
Шетма
Удлинившиеся дни. - Растянуться тут. Листья смоковниц еще не свернулись; они пахнут, если помять их в руках; их стволы сочатся млечным соком.
Усиливающаяся жара. - Ах! Вот возвращается стадо моих коз; я слышу флейту пастуха, который мне нравится. Подойдет ли он? Или я сам должен буду сделать шаг навстречу ему?
Медлительность времени. - Сухой прошлогодний гранат еще висит на ветке; он совсем растрескался и затвердел; и на этой же самой ветке уже набухают новые цветы. Горлицы снуют среди пальм. Пчелы усердствуют на лугу.
(Я вспоминаю один колодец возле Энфиды, куда приходили очень красивые женщины; неподалеку огромная серая и розовая скала; на ее вершине, как мне говорили, обитали пчелы; да, там гудел пчелиный народ; ульи находились прямо в скале. Когда наступало лето, ульи таяли от жары, освобождая мед, который медленно стекал по скале; мужчины Энфиды собирали его.) - Пастух, приди! - (Я жую лист смоковницы.)
Лето! Золотой потек; щедрость; растущее сияние света; огромное половодье любви! Кто хочет попробовать меда? Восковые ячейки растаяли.
Самое прекрасное, что я видел в этот день, - стадо овец, которых вели обратно в хлев; перестук их маленьких ножек был похож на шум ливня; солнце садилось в пустыне, и они поднимали пыль.
*
Оазисы! Они всплывали в пустыне, как острова; зелень пальм вдалеке была обещанием воды, которая поила их корни; иногда источник бывал обильным, и там цвели олеандры. - В этот день, когда мы добрались туда примерно часам к десяти, я поначалу отказывался двигаться дальше; очарование цветов в этих садах было так велико, что я не желал их покидать. Оазисы! (Ахмет сказал мне: следующий будет еще прекрасней.)
Оазисы! Следующий был еще прекрасней, еще более полон цветов и шелеста. Более высокие деревья склонялись над более обильными водами. Был полдень. Мы купались. - Потом нужно было покинуть и его.
Оазисы! Что сказать о следующем? Он был еще более прекрасен, и там нас застал вечер.
Сады! Я не устану повторять, какой отрадой было ваше предвечернее затишье. Сады! Одни как бы омывали тебя, другие были обычными фруктовыми садами, где зрели абрикосы; в третьих, полных цветов и пчел, блуждали ароматы столь сильные, что они могли заменить пищу, и мы хмелели от них, как от ликера.
Назавтра я любил только пустыню.
Умаш
В этот оазис, затерянный среди песка и камня, мы пришли в полдень под таким палящим солнцем, что изнемогавшая деревушка совсем не ждала нас. Пальмы не склонялись перед нами. Старики беседовали в дверных проемах; мужчины спали; дети щебетали в школе; женщины... их не было видно.
Улицы этой деревушки, розовые днем, лиловые на закате, пустынные в полдень, вы оживаете к вечеру; тогда заполняются кафе, дети возвращаются из школы, старики беседуют на пороге домов, лучи засыпают, и женщины, вышедшие на террасы, раскрывшие лицо и похожие на распустившиеся цветы, долго рассказывают друг другу о своих огорчениях.
Эта алжирская улица к полудню наполнялась запахами анисовой и абсента. В мавританских кафе Бискры пили только кофе, лимонад или чай. Арабский чай; пряная сладость; имбирь; питье, воскрешающее в памяти Восток в самых крайних, чрезмерных его проявлениях - и безвкусное; - невозможно допить чашку до конца.
На площади Туггурта располагались торговцы благовониями. Мы безропотно покупали разные сорта. Одни - нюхают, другие - жуют, третьи - сжигают. Те, которые нужно жечь, часто бывали в виде лепешек; зажженные, они обильно распространяли едкий дым, к которому примешивался тонкий аромат; этот дым способствует религиозному экстазу, и именно такие лепешки жгут во время службы в мечетях. Те, которые принято жевать, вскоре наполняли рот горечью и неприятно липли к зубам; еще долго потом приходилось отплевываться от этого привкуса. Те, которые нюхают, просто нюхают.
У марабута33 из Темассина в конце обеда нам предложили пироги с различными ароматами. Они были украшены золотыми, серыми или розовыми лепестками и казались сделанными из размягченного хлебного мякиша. Они рассыпались во рту, как песок; но я находил в них некую прелесть. Одни пахли розами, другие гранатами, третьи, казалось, совсем выдохлись. - При такой еде опьянеть можно было только от ароматов. Блюда приносили в удручающем количестве, и тема разговора менялась с каждой переменой блюд. - Затем негр проливал на ваши пальцы душистую воду; вода стекала в бассейн. И так же местные женщины омывают вас после любви.
Туггурт
Арабы, разбившие лагерь на площади; зажженные костры; дым, почти невидимый вечером.
- Караваны! - Караваны, прибывшие на закате; караваны, уходящие утром; караваны, смертельно уставшие, захмелевшие от миражей и теперь отчаявшиеся. Караваны! Зачем я не ушел с вами, караваны!
Одни из них отправлялись на восток за сандаловым деревом и жемчугом, медовыми сотами из Багдада, слоновой костью, кружевом.
Другие держали путь на юг за амброй и мускусом, золотым песком и страусовыми перьями.
Третьи, отправлявшиеся вечером и пропадавшие из виду в солнечном сиянии, шли на запад.
Я видел, как караваны возвращались, измученные; верблюдов, упавших на колени на площадях; наконец-то с них сняли груз. Это были мешки из толстого холста, и никто не знал, что там может быть внутри. Другие верблюды несли женщин, укрытых в нечто вроде паланкинов. На третьих было все необходимое для палаток, и их ставили по вечерам. - О прекрасные тяготы, огромные в бесконечной пустыне! - На площадях зажигают костры для вечернего отдыха.
*
Ах, сколько раз, обратясь к рассвету и алеющему востоку, более богатому лучами, чем слава, сколько раз на границе оазиса, где чахли последние пальмы и жизнь больше не побеждала пустыню, как бы склоняясь перед этим источником света, уже слишком ослепительным и нестерпимым для глаз, я тянул к тебе свои желания, огромная равнина, вся целиком залитая светом. Тропическая жара, какой восторг так пылок, какая неистовая любовь так жгуча, чтобы победить жар пустыни?
Суровая земля; земля благодати и ласки, земля страданий и служения, земля, любимая пророками, - мученическая пустыня, пустыня славы - я страстно тебя люблю.
Я видел на поверхности шоттов34, таящих миражи, белую соляную корку, принявшую обличье воды. - То, что на ней отражается голубизна небес, - я понимаю - шотты, голубеющие, как море, - но откуда заросли тростника и дальше - обрывистые сланцевые берега? Откуда эти видения плывущих лодок и дворцов за ними - все эти слегка искаженные картины на воображаемой глубине набегающей воды?
(Запах на берегу шотта был отвратительный, это был ужасный мергель, смешанный с солью и обжигающий.)
Я видел, как розовели под косыми утренними лучами и казались горящими горы Омара Каду.
Я видел ветер, вздымавший на горизонте песок и заставлявший задыхаться оазис, который казался кораблем, содрагающимся от ужаса перед бурей; он весь был изрыт ветром. И на улочках маленькой деревушки великая лихорадочная жажда скручивала бледных голых людей.
Я видел вдоль скорбных дорог выбеленные скелеты верблюдов, верблюдов, брошенных караванами, слишком измученных, чтобы передвигаться; сначала они гнили, покрытые мухами, распространяя ужасающее зловоние.
Я видел вечера, у которых не было других песен, кроме пронзительного стрекотанья насекомых.
- Я хочу еще говорить о пустыне:
Пустыня алжирского ковыля, полная ужей: зеленая равнина, волнуемая ветром.
Каменная пустыня; засушливая; блестящий сланец; порхающие скакуны; высохшие травы; все растрескивается от солнца.
Глинистая пустыня; здесь все может жить, если только есть хоть немного воды. От дождя все зеленеет; земля, слишком сухая, кажется отвыкшей от улыбки; трава там кажется более нежной и более пахучей, чем в других местах. Она спешит поскорее расцвести, благоухать, боясь из-за солнца увянуть, прежде чем успеет дождаться семян; ее любовь стремительна. Солнце снова принимается за работу; земля трескается, рассыпается, теряя воду со всех сторон; земля страшно растрескавшаяся; во время ливней вся вода сливается в потоки. Земля, пренебрегаемая и бессильная удержать; земля, безнадежно терзаемая жаждой.
Песчаная пустыня. - Зыбучие пески, колышущиеся, как морские волны; барханы, непрестанно перемещающиеся; песчаные пирамиды иногда указывают путь караванам; поднявшись на вершину одной, видишь на горизонте следующую.
Когда дует ветер, караван останавливается; погонщики укрывают верблюдов от ветра.
Песчаная пустыня - необычная жизнь; в ней нет ничего, кроме порывов ветра и зноя. Песок мягко сглаживается в тени, разгорается вечером и превращается в пепел утром. Между барханами есть ложбины, совсем белые; мы пересекаем их верхом; песок смыкается над нашими следами; от усталости у каждого нового бархана думаешь, что не сможешь его преодолеть.
Я страстно любил тебя, песчаная пустыня. Ах! Пусть самая маленькая твоя песчинка вберет на своем единственном месте всю вселенную!
- О какой жизни ты вспоминаешь, пылинка? От какой любви ты осталась? Прах хочет, чтобы ему воздали хвалу.
Скажи, душа, что ты видела в песках?
Белеющие кости - пустую скорлупу...
Утром мы остановились у одной довольно высокой дюны, чтобы спрятаться от солнца. Сели. Тень была почти прохладной, и здесь росли изящные тростники.
Но ночь, ночь... Что скажу тебе?
Это медленное плаванье.
Волны - менее голубые, чем пески; они были более освещены, чем небо. - Я помню такой вечер, когда каждая звезда, одна за другой, предстала передо мной особенно прекрасной.
*
Саул, искавший в пустыне своих ослиц35, - ты нашел не их, но царскую власть, которой не искал.
Удовольствие кормить собой вшей.
Жизнь была для меня
СТИХИЕЙ - СКОРОТЕЧНО-СЛАДОСТНОЙ
и мне нравится, что счастье здесь
похоже на радужный налет на смерти.
КНИГА ВОСЬМАЯ
Наши поступки связаны с нами, как
свечение с фосфором; они создают
наше сияние, это правда, но лишь
за счет нашего разрушения.
Разум, ты был необычайно пылким во время наших баснословных прогулок.
Cердце! Я щедро питал тебя.
Плоть, я пресытил тебя любовью.
Теперь, успокоившись, я напрасно пытаюсь подсчитать свое богатство. У меня ничего нет.
Я ищу иногда в прошлом некий ряд воспоминаний, чтобы выстроить наконец свою историю, но не узнаю в них себя, и моя жизнь не укладывается в них. Мне сразу кажется, что живу все время в новое мгновение. То, что называют "сосредоточиться" - для меня невозможное требование; я совсем не понимаю, что это за слово: одиночество; быть одному для меня означает совсем не быть собой; я слишком заселен, заполнен, к тому же я чувствую себя дома, только когда я повсюду, и желание вечно гонит меня вперед. Самое прекрасное воспоминание предстает передо мной лишь как осколок счастья. А самая маленькая капля влаги, будь это слеза, стоит ей упасть мне на руку, становится для меня самой подлинной реальностью.
*
Я мечтаю о тебе, Менальк!
Скажи, по каким морям плывет твой корабль, омытый пеной волн?
Не вернешься ли ты теперь, Менальк, развращенный роскошью, счастливый, чтобы снова разбудить жажду у моих желаний. Если я даю себе теперь отдых, то не от твоих щедрот... Нет; - Ты научил меня никогда не отдыхать. - А ты сам не устал еще от этой ужасной бродячей жизни? Что касается меня, то иногда я мог кричать от боли, но не от усталости; - и когда мое тело устает - это слабость, которую я осуждаю; мои желания считали меня более стойким. - Конечно, если я о чем-то сожалею сегодня, то лишь о том, что позволил вянуть, не вкусив от них, отдаляться от меня плодам, которые ты послал мне, Бог любви, питающий нас. Ибо то, чего ты лишаешься сегодня, завтра воздастся тебе стократ - сказано в Евангелии36... Ах! Что же мне было делать со всем обилием этих благ, воспринять которое я уже не мог? Ибо я знал уже наслаждения столь сильные, что еще немного, и я больше не смог бы их вкушать.
Издалека дошли слухи, что я принял
покаяние... Но что бы я стал делать
с раскаянием?
Саади
Да, молодость моя, ты была мрачной.
Я решил тебя перекрасить.
Я не пробовал соль земли
И соль великих морей.
Я верил, что сам был солью земли.37
И боялся утратить свой вкус.
Соль морей не теряет своего вкуса; но мои губы слишком состарились, чтобы чувствовать его. Ах! Зачем я не дышал морским ветром, когда моя душа его алкала? Где же взять теперь такое вино, от которого я опьянею?
Натанаэль! Иди навстречу своей радости, когда твоя душа смеется, - и своему желанию, пока твои губы еще хороши для поцелуя, а твои объятия - сама радость.
Ибо ты подумаешь и скажешь потом: - Плоды были тут; под их тяжестью сгибались ветки; - и мой рот был рядом, полный желания; - но он оставался сжатым, и я не мог протянуть свои руки, ибо они были сложены для молитвы - и моя душа и моя плоть остались безнадежно жаждущими. - Время безвозвратно упущено.
(Возможно ли это? Возможно ли это, Суламита?
Чтобы ты ждала меня, а я ничего не знал!
Чтобы ты искала меня, а я не почувствовал, что ты рядом?)
Ах, молодость! - Ты дана человеку на краткий миг, и всю оставшуюся жизнь он зовет тебя.
(Наслаждение стучит в мою дверь; желание отвечает ему в моем сердце; я продолжаю стоять на коленях, не открывая.)
Вода, которая сходит, может еще, конечно, оросить поля, но множество губ уже не утолят ею свою жажду. - Однако что я могу знать о ней? Чт?о она для меня, если ее свежесть проходит? Иссушающая, когда она прошла.
Неиссякающая свежесть рек, бесконечное струение ручьев, вы не то, что пойманная капля воды, втиснутая в трубы, которой я недавно смочил руки и которую выливают потом, поскольку она утратила свою свежесть. Пойманная вода похожа на человеческую мудрость, в которой тоже нет неиссякающей свежести рек.
Бессонницы
Ожидания. Ожидания; лихорадка; ушедшее время молодости. Жгучая жажда ко всему, которую вы называете грехом.
Собака жалобно воет на луну.
Кошка кажется пищащим младенцем.
Город наконец собирается хлебнуть немного покоя, чтобы завтра обрести все свои обновленные надежды.
Я вспоминаю ушедшее время; босые ноги на плитках пола; я прижимаю лоб к мокрому железу балкона; мое тело, освещенное луной, похоже на чудесный сорванный плод... Перезревшие плоды! Мы ели вас, лишь когда наша жажда была слишком сильной, и мы не могли больше выдержать ее жара. Подгнившие плоды! Вы наполняли мой рот безвкусной отравой, вы замутили мою душу. - Счастлив тот, кто еще молодым попробовал вашу еще юную плоть и пил ваше молоко, пахнущее любовью, не ожидая больше... чтобы потом бежать, освежившись, на дорогу - где мы окончим наши печальные дни.
(Конечно, я делал что мог, чтобы воспрепятствовать чудовищному разрушению своей души, но только за счет изнурения чувств мне удалось отвратить ее от Бога; она была занята весь день и всю ночь; она изощрялась в тяжких молитвах; она изнуряла себя усердием.)
Из какой могилы я вырвался в это утро? - (Морские птицы купаются, расправляя крылья.) Такая картина жизни, Натанаэль, как раз для меня: плод, полный сока, на губах, полных желания.
Бывают ночи, когда невозможно заснуть.
Бывали иногда слишком большие ожидания - ожидания, часто неизвестно чего на постели, где я тщетно искал сна, с утомленными членами и словно ослабевший от любви. И порой я искал за наслаждением плоти какое-то другое, более тайное наслаждение.
...Моя жажда росла час за часом, по мере того как я пил. Под конец она стала такой жгучей, что я мог бы заплакать от желания.
...Мои чувства были изношены до прозрачности, и, когда я утром выходил в город, синь небес проникала в меня.
...Зубы, которым страшно надоело откусывать кожу моих губ, казались вконец сточенными. И впалые виски, будто втянутые внутрь. - Запах луковых полей в цвету легко мог вызвать у меня рвоту.
Бессонницы
...И ночью слышался голос, который кричал и плакал: ах - плакал он - вот плод от этих цветов, распространявших зловоние: он сладок. Теперь я поведу по дорогам смутную тоску своего желания. Твои закрытые комнаты заставляют меня задыхаться, и твои постели больше не нравятся мне. - Впредь не ищи цели в своих бесконечных скитаниях...
Моя жажда сделалась столь велика, что эта вода, целый стакан которой я уже выпил, ничего не заметив... Увы! Как она была тошнотворна.
...О Суламита! Ты могла быть для меня этими плодами, созревшими в тени в тесных закрытых садах. - Ах, думал я, все человечество томится между жаждой сна и жаждой наслаждения. - После страшного напряжения, жгучей концентрации, полета плоти хочется только спать - ах, сон! - ах, что, если нас не разбудят для жизни, для нового прилива желаний.
И человечество, все целиком, - всего лишь больной, который ворочается в кровати, чтобы уменьшить страдания.
...Потом, после нескольких недель напряженного труда - бесконечный отдых.
...Как будто можно сохранить какую-то оболочку после смерти! (Упрощение.) И мы умрем, как человек раздевается перед сном.
Менальк! Менальк, я мечтаю о тебе!
Я говорил, да, я знаю: не все ли равно - здесь - там - мне везде одинаково хорошо.
...Теперь там наступил вечер...
...О! Если бы время могло вернуться к своим истокам! Если бы вернулось прошлое! Натанаэль, я хотел бы увести тебя за собой, к тем очаровательным часам своей молодости, когда жизнь текла в моих жилах, как мед. - Вкусив такого счастья, душа, сможешь ли ты когда-нибудь утешиться? Ибо я был там, в этих садах, я, и никто другой; я слушал пение тростника; я дышал этими цветами, я видел, я прикасался к этому ребенку - и, конечно, каждой из этих игр сопутствовала новая весна - но тот, которым был я, - это другой, ах, как мне вернуть его! - (Теперь над городскими крышами идет дождь; моя комната опустела.) Это время, когда стада вернулись с Лассифа; они спустились с гор; желание было полно закатного золота; вечерний покой... теперь (теперь).
Париж - июньская ночь
Атман, я мечтал о тебе; Бискра, я мечтал о твоих пальмах, - Туггурт, - о твоих песках... - Оазисы, волнует ли еще засушливый ветер пустыни ваши шелестящие пальмы?
Шетма, я вспоминаю свежесть твоих бегущих вод, и твой горячий источник, возле которого парятся - Эль-Кантара, золотой мост, я вспоминаю твои звонкие утра и восторженные вечера. - Загван, я снова вижу твои смоковницы и олеандры; Кайруан, - твои опунции, Сус - твои оливы. - Я мечтаю о твоей скорби, Умаш, разрушенный город, стены, окруженные болотом, - и о твоей, угрюмая Дро, посещаемая орлами, ужасная деревушка, хрипящая ложбина.
Вершина Шегги, смотришь ли ты, как всегда, на пустыню? - Мрайер, купаешь ли ты свой хрупкий тамариск в соленой воде шотта? - Мегарин, хорошо ли ты поишь себя грязной водой? - Темассин, вянешь ли ты, как всегда, на солнце?
Я вспоминаю голую скалу в окрестностях Энфиды, по которой стекал мед; рядом был колодец, куда приходили набрать воды очень красивые женщины, почти обнаженные.
Стоишь ли ты там, освещенный луной, маленький, всегда полуразрушенный дом Атмана, - где твоя мать ткала; где твоя сестра, жена Амхура, пела или рассказывала истории, где выводок горлиц ликовал по ночам совсем низко над серой и сонной водой?
О желание! сколько ночей я не мог спать, захваченный мечтой, которая заменяла мне сон. О, если есть еще вечерние шорохи, звуки флейты под пальмами, белые одежды на дорогах, мягкая тень по соседству со жгучим светом... я иду!
Маленькая масляная лампа! Ночной ветер отклоняет твое пламя; окно исчезло; просто амбразура неба; тихая ночь над крышами домов; луна.
Слышно, как в глубине опустевших улиц иногда проезжает омнибус или экипаж; и совсем вдали, покидая город, свистят поезда, убегающие поезда; огромный город ждет пробуждения.
Тень от балкона на потолке комнаты, колеблющийся свет на белой странице книги. Дыхание.
Луна теперь скрылась; сад передо мной кажется зеленым водоемом... Рыдание; сжатые губы; слишком глубокие раздумья; тревоги мысли. Что мне сказать? Правду! - ДРУГОЙ! - Значение его жизни; говорить с ним...
ГИМН ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
М. А. Ж.38
Она подняла глаза к нарождающимся звездам. "Я знаю названия всех, сказала она, - каждой из множества; у всех разные свойства. Их движение, кажущееся нам невозмутимым, на самом деле стремительно, а их излучение обжигающе. Беспокойное горение - причина их быстрого бега, а сияние следствие этого. Тайная воля подталкивает и направляет их; чрезмерное рвение сжигает и разрушает; и все это во имя лучезарности и красоты.
Они держатся одна за другую, все, связанные узами свойств и притяжения, так что одна зависит от другой, а та, в свою очередь, - от остальных. Путь каждой определен, и каждая находит свою дорогу. Она не может отклониться от нее, не помешав при этом другой, поскольку все дороги заняты. И каждая выбирает свою дорогу, потому что она должна следовать по ней; но нужно, чтобы долг превратился в желание, и эта дорога, которая кажется нам неизбежной, для каждой из них становится избранной, ибо воля каждой из них совершенна. Ослепительная любовь сопровождает их; их выбор определяет законы, и мы тоже зависим от них; нам от них никуда не скрыться".
ПОСЫЛКА
Натанаэль, теперь брось мою книгу. Освободись от нее. Оставь меня; ты надоел мне; ты мне мешаешь; любовь к тебе, которой я придавал чрезмерное значение, слишком завладела мной. Я устал притворяться, что кого-то воспитываю. Разве я говорил, что хотел видеть тебя похожим на меня? - Я люблю тебя именно за то, что ты не такой, как я; я люблю в тебе только то, что отлично от меня. - Воспитывать! Кого я смогу воспитать, кроме самого себя? Да, знаешь ли, Натанаэль? Я непрерывно воспитываю себя. Все время. Я ценю в себе только то, что мог бы сделать.
Натанаэль, брось мою книгу; не довольствуйся ею. Не верь, что кто-то другой может найти твою правду; стыдись этого больше всего. Если я найду для тебя пищу, у тебя пропадет аппетит, и ты не сможешь съесть ее; если я приготовлю тебе постель, ты потеряешь сон и не сможешь заснуть на ней.
Брось мою книгу; скажи себе, что в ней лишь одна из тысяч возможных жизненных позиций. Ищи свою. Никогда не делай того, что кто-то другой смог бы сделать так же хорошо, как ты. Никогда не говори и не пиши того, что кто-то другой смог бы сказать или написать так же хорошо, как ты. - Берись лишь за то, что, как ты чувствуешь, не сможет сделать никто, кроме тебя, и, терпеливо или нетерпеливо, делай себя самым неповторимым из всех созданий.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1927 ГОДА
Это руководство к освобождению, бегству, а меня часто замыкают в его рамках. Пользуясь настоящим переизданием, хочу предложить новым читателям ряд размышлений, которые позволят сузить значение книги, более точно определив ее место и ее мотивы.
1) "Яства земные" - это книга, написанная если не больным, то по меньшей мере выздоравливающим, находящимся на пути к исцелению - тем, кто был болен. В самом ее лиризме есть некоторое преувеличение, возникающее, когда человек рассматривает жизнь как нечто, чего он едва не лишился.
2) Я написал эту книгу в тот момент, когда литература насквозь была пропитана затхлостью и фальшью; когда я почувствовал самым важным заново прикоснуться к земле и просто пройти по ней босиком.
Тотальный неуспех этой книги показал, до какой степени она оскорбила тогдашний вкус. Ни один критик ничего не сказал о ней. За десять лет было продано ровно пятьсот экземпляров.
3) Я написал эту книгу в тот момент, когда только что закрепил свою жизнь женитьбой, когда я добровольно отказался от свободы, право на которую моя книга - произведение искусства - отстаивала прежде всего. Разумеется, я был абсолютно искренним, когда ее писал, но столь же искренним было опровержение, данное моим сердцем.
4) Добавлю, что я не намеревался останавливаться на этой книге. Состояние неустойчивости и пустоты, которое изображено в ней, я показал как автор, отражающий черты своего характера в герое, который похож на него, но которого он придумал; сегодня мне даже кажется, что я не мог изобразить эти черты, не оторвав их, если так можно выразиться, от себя или, если хотите, не оторвав себя от них.
5) Обо мне судят обычно по этой юношеской книге, как будто этика "Яств" это этика всей моей жизни, как будто я сам первый не следовал совету, который я даю своему молодому читателю: "Брось мою книгу и оставь меня". Да, я очень скоро расстался с тем, кем был, когда писал "Яства"; до такой степени, что, когда я оглядываю свою жизнь, главная черта, которую я в ней замечаю, весьма далека от непостоянства, напротив - это верность. По-моему, такая верность сердца и мысли бывает чрезвычайно редко. Пусть назовут мне тех, кто при жизни смог увидеть свершившимся то, что намеревался совершить, и я займу свое место рядом с ними.
6) Еще одно слово: некоторые не могут или не хотят увидеть в этой книге ничего, кроме восхваления желаний и инстинктов. Мне кажется, что это слишком поверхностный взгляд. Когда я перечитываю эту книгу, то скорее вижу в ней апологию бедности. Именно это я извлек из нее, отбросив остальное, и именно благодаря этому я остаюсь верным себе. Это же заставило меня, как я расскажу впоследствии, принять Евангельскую доктрину, чтобы в отречении от себя обрести самое совершенное свое воплощение, самое высокое призвание и самое безграничное обещание счастья.
"Пусть моя книга научит тебя интересоваться собой больше, нежели ею, но потом - всем остальным больше, чем собой". Вот слова, которые ты мог уже прочесть в предисловии и последних строках "Яств". Зачем заставлять меня повторять их?


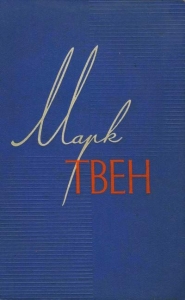


Комментарии к книге «Яства земные», Андре Жид
Всего 0 комментариев