Змитрок Бядуля Избранные рассказы
Письмописец
Она была одинока. Ее дочери и сыновья жили в Америке. Присылали ей аккуратно деньги, и она спокойно доживала свой век в маленьком домике. Здесь же в домике жила с нею дойная коза. Старший бабушкин внук из Америки был одного возраста со мной и одного имени. Это ее очень трогало. Она часто доставала из старого комода пачку писем, фотографий всех ее детей и внуков. Я читал и перечитывал письма вслух, а она, неграмотная, слушала с большим наслаждением.
Она приглашала меня приходить к ней по вечерам. Я охотно выполнял ее просьбу. Бабушка угощала меня коржиками и орехами в меде. Время от времени поила меня цикорием с козьим молоком. Добрая бабушка была верующая. Часто просила меня читать разделы со святой книги в переводе на живой еврейский язык. Такая книга называется «тайч-хумеш»[1]. Она печаталась исключительно для женщин. Я читал, а старая Бейля слушала и шептала за мной слово в слово.
После каждой читки на столе появлялись угощения…
Я перебрался к старухе на квартиру. Она за мной смотрела, как родная. Часто под ее диктовку я писал в Америку письма. При написании я применял все красноречие Библии. Старая раструбила обо мне в десять труб по городку.
Ко мне начали приходить «американки» с просьбой написать их мужьям в Америку. Через каких-то полгода я за свой первый литературный гонорар купил себе сапоги. Еще через полгода я приобрел немало еврейских и русских книг.
Моими клиентами были в большинстве бедные неграмотные женщины и невесты. Передо мной разворачивались ужасные картины жизни городской нищеты. Горем и слезами были переполнены их сердца. Пока не привыкли ко мне, некоторые из них смущались диктовать мальчишке то, что наболело у них на душе. От стыда они бледнели, краснели, заслоняли ладонями глаза, словно перед зажженными шабасовыми[2] свечами; отворачивались от меня и говорили сдавленным голосом. А как привыкли, без малейшего стеснения диктовали мне такие слова, от которых меня иногда страх пронизывал. Таким образом они понемногу протаптывали для меня тропы в самые недра народной беды.
В их разнообразных голосах и выражениях лиц звучали и отражались злость, гнев, обида, жалость. Печаль, скорбь, благодарение и проклятия. Видимо, они представляли себе, что перед ними не мальчишка, а их «американты» — мужья и женихи. Иногда такие письма-исповеди волновали меня до того, что я по ночам не мог спать. Горестные женщины взваливают на мои слабые мальчишеские плечи свои тяжелые жернова непрестанного страдания. Я, пишущий письма под их диктовку, находился под гипнозом их беды. Я вдохновлялся их чувствами. Словно податливая почва, впитывал в себя чужие жизни, горел искренним гневом, тосковал великой грустью и радовался маленькими радостями своих клиенток.
Пишущий под их диктовку, я на лету отшлифовал чужие фразы, придавая им блеск красноречия. Слова становились моими. Иногда я вдавался в риторику, а иногда ярко подчеркивал своим пером трагедию жизни-бытия этих женщин.
Бывало, прибежит ко мне запыхавшись тетка с радостной новостью:
— Помогло!
— Что помогло?
— Твое письмо…
— Умею писать?
— О-го-го! Чтобы так мои дети умели! Спасибо, сынок… В ответ на письмо, написанное тобой, мой Самуэль-Меер прислал десять долларов и письмо. Вот оно! Читай!
Поглядывая на ее посветлевшее лицо, мне становилось легче на сердце. Женщина мелькала у меня перед глазами и вдруг спохватилась:
— Я тогда дала тебе только одну копейку… Вот тебе еще три! Не три, а еще две копейки…
А то придет черная, как земля, бабушка и обижается и вопит в большом отчаянии:
— Ой, и написал ты!
Я с беспокойством спрашиваю:
— А что?
— Уже прошло два месяца, а мой еще не ответил на письмо. Видно, что ты, сынок, неудачно написал…
— Это неправда, я написал удачно, — оправдывался я. — У вашего сына, видимо, такое дубовое сердце, что ничем его не пробуришь.
— Напиши, изволь, второе письмо.
— Хорошо.
— Сейчас я тебе ничего платить не буду. Я же тогда заплатила без всякой пользы…
— Хорошо.
Если на письмо, написанное мною, не отвечали, виновным оставался я. Я сам бывал уверен в своей виновности. Я же должен был уделять письму такую силу, чтобы художественные слова колдовали адресата, чтобы они вбивались в его сердце, как острые гвозди. Я уподобился адвокату, которому клиенты поручают свои кровные интересы на суде. А когда дело проваливалось, виновным в глазах клиентуры бывает только адвокат. Я должен был своим художественным словом в письмах так воздействовать на совесть мужей и сыновей-американтов, чтобы все требования и просьбы жен и матерей сразу выполнялись.
Так требовала от меня моя клиентура. За это и платили копейку или две за письмо.
Иногда обращались ко мне и грамотные. С моего черновика они переписывали письма своей рукой. Таким образом я своеобразно и рано начал понимать значение художественного слова.
И каждое мое словесное произведение, направленное к одному конкретному человеку, сразу бралось на пробный камень живого сердца: ну, зазвенит ли моя писанина? Вызовет ли она нужный отклик?
Ко мне приходили писать письма многие, но ярче всех остались в моей памяти двое — измученные непосильным трудом и тяготами Голда с вечным выражением гнева в глазах и стройная, черноглазая, красивая Рахиль. Я часто писал от имени Голды мужу, а от имени Рахили жениху.
Вот одно из моих писем от имени Голды:
«Уважаемому мужу моему, знатному и славному Самуэль-Мееру. Пусть долго светится звезда его жизни!
Во-первых, сообщаю тебе, что я, преданная жена твоя Голда, и наши детки — Гитка, Мотл, Ёська, Зорахка и Цыпочка — спасибо святому имени, живы и здоровы. Дай Бог слышать от тебя новости не хуже.
Во-вторых, я удивляюсь твоему длинному молчанию. Ты молчишь, как рыба. Или я тебе не жена? Или мои дети не твои дети? Или океан смыл с твоей памяти родную семейку? Уже почти год, как от тебя ни письма, ни денег. А дети не молчат. «Где наш папа?» — спрашивают они. Маленькая Цыпочка вместо «папа» говорит «тятя» и ручками при этом воздух ловит. Голосок у нее, как у птицы. Сам понимаешь, что дети не куклы, а живые существа. Глаза у них бдительны. Многое видят, многое просят. Дай им картошки, мяса, селедки, супа, молока. Дай им башмачков, костюмчиков, платьиц, маечек, шапочек, платочков. Хоть ты для них лавочку открывай! Им многое нужно — даже врачей и фельдшеров, хотя они и не царские дети.
От голода и холода они вечно болеют. То животик болит у Гитки. То Ёська босую ногу гвоздем насквозь пробьет. А у Цыпочки коклюш. Вечно она одно дело делает — кашляет и кашляет. А Мотл кашляет и без коклюша. А у Зорахки и поныне кривые ножки. Годы его идут вперед, а он сиднем сидит на одном месте уже скоро пять лет. За Мотале нужно заплатить ребе пять рублей. Я вырвала бы из своего рта пять зубов и отдала бы ребе, но за мои пять зубов в магазине не дадут и отравы для мышей. Вот такое, как видишь, мое хозяйство. Бьюсь как рыба об лед, а жизнь моя — полынь, а не мед.
Дети наши отца имеют, а растут, как безотцовщина. Горожанам и пожаловаться нельзя — глаза выцарапают, заклюют! Обо мне они говорят так:
— Голда живет, как графиня-монархиня. Голде горевать то же, что богатой Па-Леи попрошайничать. Шуточки, муж Голды — бывший балагула[3] Самуэль-Меер — в Америке золото собирает и бриллиантами заправляет. А она, Голда, бублики из лозовой корзины продает да еще на свою долю жалуется.
Вот так горожане о нас говорят и едят меня без хлеба. Ай-яй, ох! Они же не видят, что в моем горшке на комарином смальце горе варится, бедой и слезою солится.
Самуэль-Меер, ты слышишь или нет? Скажи хоть, что мне делать? Через океан к тебе рукой не достану. Плача моего не услышишь и слез моих не увидишь. Сидишь себе в американском кабачке со шляпой на голове, с золотыми часиками в кармане — точно магнат — да пьешь американскую водку рюмка за рюмкой. Ты же стал, как чужой. О, горе мое! О, беда моя! Слава тому мужу, который не сидит в компании с бездельниками, в кабаках не бывает, да злых путей не познаёт, не знает. Слава тому мужу, который с пустыми людьми не дружит и с хитрецами не лукавит.[4]
Но это не про тебя, Самуэль-Меер, сказано, ведь ты совесть потерял в Америке. Жалость и милосердие к родной семье ты утопил в луже, как слепых щенят. Ты водку пьешь, а я смолу пью. Одумайся, разбойник без ножа, живодер без веревки… Помилуй, лютый человек… Извини, Самуэль-Меерка, за такие слова. Не я говорю — мое горе говорит. Не я сержусь — скорбь мая гневается. Если бы ты хоть разок взглянул на похудевших детей, на их тонкие, как бы соломинки, ручки и ножки, — твое окаменевшее сердце стало бы хорошим, как золото, и мягким, как воск…
А дети твои хорошие, вышколенные. Перед тем как выходить из дома, я всегда считаю бублики. Прихожу — опять считаю. Все целы — один в один! Дети не трогают. Зорахка любит сидеть у самой корзины да нюхать бублики. А рукой никогда не тронет — упаси Боже! Глаза у него блестят. Слюнки он пускает. Весь он дрожит. Ручки тянутся к корзине. Он шепчет: «Баранки… бублики…», а рукам воли не дает. Сердце у меня кровью обливается, а я не даю детям бубликов. Это же каждый бублик — грош! А ты, Самуэль-Меер, там корзины с бубликами пропиваешь. Знаю! Хорошие люди мне о тебе написали.
Я напугала детей такими словами: «Если кто из бедных ест бублики, то глохнет и слепнет».
— Кому же можно есть бублики? — интересуется Зорахка.
— Свиньям! — говорю.
— Почему же богатые едят? — не успокаивается Зорахка.
— Ведь они свиньи!
Зорахка очень умный мальчик. Он смеется. Личико его серьёзненькое и старенькое, как у дедушки…
Каждое утро несу бублики в самый богатый дом — к Либэ-Леи Грингауз, хозяйки стекольного завода. Я своими глазами видела, как она каждое утро крошит баранки в молоко и кормит на коленях двух рябеньких щенков. Чтобы я так видела детей наших здоровыми, счастливыми и радостными.
Заработок от продажи бубликов дает мне только жижу для супа, и я стираю белье у богатых людей. Если я полощу чужое белье на речке, то плачу в три ручья, как возле рек Вавилона под ивами[5].
Посоветуй, Самуэль-Меер, что мне с детьми делать? Что будет лучше — или бросить детей в речку, или их головки о камень разбить? Но я, Голда, не такая мать, как ты, Самуэль-Меерка, папаша. Последнюю кровь свою пролью для родных цыпляток. И волчица, и медведица, и коршун своих детей любят, кормят и поят, одевают и обувают. И я не хочу этим хвалиться.
А ты, Самуэль-Меерка, хуже звериной породы… Я и дети целуем тебя.
Твоя на этом и на том свете Голда Померанец».Когда я прочитал Голде это письмо, продиктованное ею и отшлифованные мною, Голда обхватила мою голову руками и начала вопить немым голосом без слов. Потом она освободила мою голову и сказала:
— Знаешь, сынок? Ты немного пересолил мой суп. Но пусть. Пошлем Самуэль-Мееру это письмо. Вот тебе конверт. Пиши адрес. В этом письме моя скорбь красуется, как плохой портрет в хорошей раме.
Я вытер ладонью волосы на голове, потому что они стали влажными от слез Голды, словно от росы. Потом написал на конверте адрес.
А вот письмо от Рахили своему любимому Борису:
«Мой милый, мой дорогой, мой драгоценный Борис. Пусть пламя жизни твоей светится во веки веков!
Когда я читаю твои письма, мне кажется, что вижу твое милое лицо и слышу твой милый голос. Твои сладостные письма я читаю и перечитываю по сто, а может, тысячу раз. Ты мне сообщаешь, что еще не заработал на шифскарту[6], а мне почти каждую ночь снится один и тот же сон. Словно ты мне прислал шифскарту, а я уже плыву на корабле таком красивом, как раскрашенный дом Па-Леи — мадам Грингауз. Вокруг корабля синие волны. Над кораблем трубы, дым и небо. А на корабле чужие люди. Я доплыла до Америки, а ты не встретил меня на берегу. И я хожу по улицам Нью-Йорка и ищу тебя. Туда и сюда ездят и ходят пешком люди, одетые в чудесную одежду, и говорят на изумительном языке. Я потерялась в людском море, словно горошина, и зову-зазываю тебя:
— Где ты, брат моего сердца? Где ты, золотая печать моих мыслей? Где ты, корона моей жизни? Приди ко мне с солнечных гор и долин. Приди ко мне с росой утра, с солнцем юга, с тенью вечера. Приди… Приди…[7]
Просыпаюсь. Подушка влажная от слез. Сходила я к старой татарке погадать на картах, то она мне наговорила девять возов слов про казенный дом, про дальнюю дорогу и про брюнета с нежным сердцем.
Что тебе еще писать?
От темна до темна работаю у дамского портного Соломона. Под гул швейной машины я думаю и думаю, как сложить песню про голубку и голубка — песню про свою собственную жизнь, песню о нашей любви. Вот ее содержание:
Голубок на одном берегу моря. Голубка — на втором. Они стремятся друг к другу. Они в полете. А море подбрасывает разъяренные волны в самое небо. Буря гонит голубков в противоположные стороны. Крылья их не могут бороться с яростной непогодой. Так проходят дни, месяцы, годы. Голубок с голубкой встретиться не могут. И они, каждый на своем берегу, поглядывают в даль огорченными глазами — одинокие в горе и беде.Под звук швейной машины я думаю над красивыми словами для этой песни. Ломаю голову над рифмами. А пока что, еще ничего не придумала. Однажды я задумалась над этой песней и не заметила, как игла пробила мне палец. Кровь из пальца залила белое Шелковое платье, которое я шила для Па-Леи Грингауз. Я едва очнулась от боли и тряпочкой завязала палец. Мой хозяин Соломон потянул меня за черные косы. Я от злости толкнула его локтем в грудь так сильно, что он оторвался от меня, как насыщенная пиявка. Он грохнулся затылком в стену. Три работницы — мои подруги — грохнули таким громким смехом, аж стекла зазвенели.
— Вон отсюда! — крикнул на меня Соломон.
— Отдайте мне семь золотых за неделю работы, тогда пойду!
— Ты же, гадюка, испортила мне белый шелк, — снова крикнул Соломон. — Не дам тебе ни копейки!
— Мало я горевала от вас, рабби Шолом? — сказала я. — Вы съели мою работу, мое здоровье, мои годы не на золотые, а на десятки и сотни рублей! Отдайте мои семь золотых!
Соломон бросился ко мне с кулаками. За меня заступились работницы. На прощание я сказала ему:
— Пусть мои семь золотых будут тебе, Соломон, и мадам Грингауз на саваны[8]. А этот шелк лихо не возьмет: помыть, погладить, и следа не будет!
На следующий день я пошла к швее Симе. Там такое же счастье, как у Соломона.
Что тебе еще писать?
Я все думаю о тебе, милый Борис. Я вечно скучаю. Теперь у нас весна. За речкой зеленеют березки. Цветут сады. Такой запах, что можно захмелеть. А соловей так сладко поет, что можно заслушаться. Где бы я ни стояла, где бы я ни сидела, куда бы я ни ходила — я постоянно думаю о тебе, родной мой, милый мой… Я часто плачу.
— Чего плачешь? — спрашивают у меня.
— Только что хрена натерла.
— Вечно ты хрен трешь. Пудами его трешь, что ли?
Я молчу.
— Ты больна?
Я опять молчу. Стыдно сказать, что мое сердце болит от любви. Они же меня засмеют. Панская болезнь, — скажут. Посмотрела я на себя в зеркало, и страх меня взял — бледная, худая, впавшие глаза. Зато как приеду к тебе в Америку, снова маком-цветом закрасуюсь.
Что тебе еще писать?
Когда уж дождусь счастливой минуты? Или, может, мое счастье на дне моря рыбкой плавает? Или, может, оно орлом в сыр-бор полетело?
Спасибо, дорогой Борис, за твои частые письма. Это пока что единственное утешение в моей безутешной жизни! Целую тебя тысячи раз. Пиши! Пиши! Пиши!
Ваша Рахиль».Рахиль строго редактировала свои письма, писанные моей рукой. Заставляла меня переписывать их по два, по три раза. Ей почему-то не нравились мои выдумки и мое вычурное красноречие. Она муштровала меня до тех пор, пока я не наловчился писать одно, а ей читать совсем другое. Ведь моя писанина очень нравилось ее бывшему жениху. Я говорю «бывшему», так как после того как я написал Борису, что Рахиль очень осунулась, он нашел в Америке вторую Рахиль и женился на ней, как он писал в последних письмах… Я хотел вызвать жалость в сердце Бориса, а вышло наоборот…
Я все это скрывал от неграмотной Рахили. Я читал ей слова о большой любви к ней Бориса, придуманные мною тут же; однажды я чуть не засыпался. Рахиль удивилась:
— Ты же смотришь не на письмо, а в окно! Как это ты так читаешь?
— У меня глаза такие большие, что могу смотреть в окно и видеть, что в письме написано, — сказал я.
Мне страшно было говорить Рахили правду. Она, чуткая и хрупкая, могла бы покончить жизнь самоубийством. Я боялся, чтобы Борис вовсе не бросил писать Рахили. Сидя в синагоге над Талмудом, я придумал новое письмо Борису, которое написал измененным почерком на древнееврейском языке:
«Моему сыну Дайв-Беру, что вымыслил себе нееврейское имя Борис. Живи в Божьем благословении и счастьи, и пусть цветет твоя жизнь, словно виноградная лоза около серебряного Божьего источника, аминь!
Я, ильский раввин, Иаков бен Мордехай[9], беру перо в руки и пишу тебе, сын мой. Что ты сделал с Рахилью? Ты, учитель древнееврейского языка, задумал удрать в Америку от воинской повинности, забрал у круглой сироты Рахили деньги на дорогу — деньги, которые она кровавым потом зарабатывала себе на приданое, обещал ей, что и ее заберешь в Америку, уехал из городка женихом Рахили, а теперь нашел себе другую. Это противно, это злодеяние, это большой грех перед Богом. Повелеваю тебе, я, духовный раввин, сейчас же развяжись с американской невестой, вышли Рахили на дорогу ее же собственные деньги, женитесь там по закону Моисея и Израиля и живите, размножайтесь и плодитесь, как весь наш народ. А если, мой сын, не послушаешь меня, я прокляну семисвечник твоей жизни и твой род до десятого поколения.
Мой суд земной утвердиться судом небесным, аминь!
Так говорит раввин городка Ильи на реке Слязанцы Иаков бен Мордехай».
При этом я сделал небольшую приписку:
«Поскольку все это дело находится в большом секрете и чтобы не осквернить честного имени сироты Рахили, даю тебе чужой адрес».
Я написал свой адрес, подделал раввинскую печать, поставил на письме и послал Борису.
Ответ от Бориса я получил ровно через месяц. Вот что он написал:
«Святому ковчегу мудрости, великолепному венку роз из цветущего сада нашей торы, известному во всем мире златоусту, раввину местечка Ильи Иакову бен Мордехаю, пусть славится его благотворительность во всех шатрах и кущах[10] Израиля.
Меня поражает, великий раввин, что Вы лезете не в свои дела. Это хорошо, что вы хотите стать миротворцем, как старинный Аарон. Но я вас знаю: за три рубля вы подписываете разводы между мужьями и женами, не задумываясь. Уважая Вас, я скрываю свой гнев за Ваши страшилки, которых я не боюсь. Рахиль мне сама писала, что она стала некрасивой и больной, поэтому я нашел другую невесту, тоже Рахиль. Деньги Рахили я отошлю. Прошу Вашего святого благословения. При этом письме прилагаю три доллара».
Читая письмо Бориса, у меня дрожали руки и ноги. Я виноватый в несчастье Рахили. Ее погубило мое красноречие. Я в письмах рисовал ее больной, худой и бледной от любви. Я хотел этим вызвать жалость в сердце Бориса, а вышло, как с поломанным дышлом…
Деньги, как угли, жгли мне руки. Пока что я спрятал их в своей коробке на самом дне и написал Борису новое письмо:
«Мой духовный сын! Все Рахили на свете одинаковы. Видимо, ильская Рахиль не твоя суженая. Поэтому благословляю тебя на брак с американской Рахилью. Одну просьбу имею к тебе, Дайв-Бер, пиши нашей Рахили ласковые письма еще около года, пока я не уговорю ее выйти замуж за другого. Тогда отправишь ей долг. За доллары благодарю. Раздам бедным».
Я представлял себе, как погладил бы меня по головке за такие фокусы ильский раввин Иаков бен Мордехай. Раньше, когда я еще спал в синагоге, он каждую пятницу звал меня к себе домой и приказывал снимать пыль с его «святых» книг. При этом он со мной шутил каждый раз на один лад: поведет указательным пальцем по моему носу сверху вниз, после зацепится пальцами за мой нос снизу вверх и задерет мою голову вверх до того внезапно и больно, аж искры сыпались из глаз. При этом он говорил: «Вниз легко, вверх тяжело».
Если бы раввин узнал о моем фокусе, он взял бы себе три доллара и стал бы моим лучшим приятелем…
Дело с Рахилью закончилось благополучно прежде, чем я думал. Она перестала ко мне приходить. Переписка с Борисом прекратилась. Рахиль вышла замуж за молодого красивого кузнеца Симона и жила счастливо.
Я об этом написал Борису снова от имени раввина и приказал ему выслать немедленно Рахили ее деньги, которые она дала ему на дорогу в Америку.
Борис выполнил мой приказ, так как я сочинил такое письмо от имени раввина, которым раввин Иаков бен Мордехай мог бы гордиться.
Однако на моей совести еще лежал один камень: три доллара… Они же не мои, не мне присланные, а раввину. Они же и раввину не принадлежат, так как он в этом деле перед Богом душой не виноват. Они же и Рахили не принадлежат. Ей Борис отослал долг. Отправить три доллара назад Борису? Глупость! Он их раввину прислал в подарок. То есть мне… А они мне очень пригодятся — костюм… сапоги… Я ж хожу, как ободранная липка. Так и сделаю — в первую очередь сапоги. Но… досадно. Что делать? Что делать?
Я сидел в синагоге над Талмудом и думал-думал. Я смотрел через окно на синагогальный двор, где разрасталась полынь, и думал-думал.
В моей разгоряченной голове стучали-стучали молотки:
— Три доллара. Три доллара… Три доллара…
И я додумался.
Полковник
Наша семья обносилась до того, что стыдно было на людях показываться. Мать об этом горевала уже два года. Понемногу она скупала шерсть, промывала, терзая и целыми ночами пряла на топчане возле печи. Красивую прялку и несколько веретен, выточенных, изящных, словно старинные стрелы для лука, принес бондарь Данила. Мать пряла нити, ровные и тонкие, как струны. Они были седые, цвета тумана над нашими озерцами. Гул материнского веретена был добродушный и приятный, как песня о счастье. Под этот гул постоянно ткались мои мечты о другой жизни — радостной, блестящей, красивой… В щелях потрескавшейся глинобитной печи играл на стеклянной свирели сверчок.
Мать напряла полный ящик нитей в клубках и мотках. Это был самый большой ящик в нашем комоде, поврежденный когда-то долгиновскими погромщиками. Комиссионеры привезли из Минска много черных хлопчатобумажных нитей. Мать берегла это добро, как зеницу ока. «Чтобы хотя мыши не погрызли».
Мать пригласила на дом из близкого села знаменитую ткачиху Язэпиху. Отец привез на лошади ее холсты. Они занимали почти весь дом от стола до печки. Черноглазая и черноволосая песенница Язэпиха ткала сукно для нашей семьи. Ловкие худые руки ткачихи так порывисто пускали челнок туда и сюда, что я не мог насмотреться. При этом Язэпиха пела грудным слабым голосом старинные грустные песни: про сиротскую судьбу, о девушке, которая обнимала калину и ждала милого с войны, о сыне Даниле, который пошел на турецкую войну, про злого пана. Напевая, она не сводила глаз с холстов. Глаза ткачихи были опущены. Выделялся высокий лоб, порезанный тонкими морщинками, черные шнурки бровей, нежные и правильные черты лица. Простая белорусская крестьянка напоминала портреты женщин итальянских мастеров эпохи Ренессанса.
Мать кормила ткачиху всем лучшим, что было в доме, покупала для нее в магазине различные сладости. Язэпиха поднимала на мать черные как ночь глаза и говорила нежным, мягким голосом:
— Не надо, моя ты Хаимиха. Лучше деткам дашь. Я, слава Богу, сыта.
Я смотрел, как рождалась сукно. Трубка ткани росла с каждым днем. Сукно в седые и черные полоски было гладкое и красивое.
После ткачихи у нас работал бродячий портной. Мне и отцу он пошил костюмы из этого же сукна. Кроме того, мне сшили из коричневого бобрика ватное пальто с капюшоном, с широким поясом и четырьмя карманами. Впервые мне шил одежду портной, а не мать.
После портного мать сшила мне несколько белых манишечек из магазинного полотна и галстук со своего старого шелкового платка. У сапожника Израэля заказали камаши[11]. Отец привез мне из Долгиново за двадцать копеек шапку в виде кастрюли с бриликом[12], с золотым оленем впереди. Я сразу стал «женихом», как шутила мама.
Были забыты мои грехи: пистолетики, упорство, сопротивление наставнику, побег из хедера[13]. Даже строгий отец смотрел на меня спокойным хорошим глазом.
Почему так внезапно моя злая доля сменила свой гнев на милость?
Отец хотел вывести меня в люди. Предполагал отправить в этом году в «университет» — в долгиновский иешива[14]…
В Долгинове жила моя тетя — родная сестра матери. У ее мужа был хедер и он учил детей. Теперь, когда я был в хорошей одежде, отец не стыдился взять меня с собой в Долгиново. Я очень обрадовался, так как ни разу еще там не был.
Дядя мой жил в одном доме со своим отцом-жестянщиком. Старого жестянщика Рувима Либермана я знал хорошо. Он был странствующим жестянщиком. Ходил по деревням с мешком на спине. Часто ночевал у моего деда. Они же были сватами.
За несколько дней до моего приезда произошло в Долгинове странное происшествие. Приехал старый полковник и остановился в самом лучшем доме для приезжих. Горожане насторожились. Испугался долгиновский царь и бог — становой пристав:
— Какое дело может быть в Долгинове у полковника?
Старый полковник с каким-то подозрительным интересом прогуливался по улицам с палкой в руках, обходил все закоулки, заглядывал во все углы, прохаживался по старым могильникам. Он чего-то и кого-то искал, выведывал. Пристав и чиновники забегали ему вперед и отдавали честь. Пристав спрашивал, нужны ли какие услуги, пригласил в гости — полковник отказался.
Это еще больше напугало пристава. Он велел каждый день подметать улицы, проверил пожарную команду, перечитал все бумаги в своей канцелярии, стал строгим, арестовывал людей больше, чем прежде, бил их нагайкой сильнее, чем прежде, и не спал ночами от страха. Появление старого полковника его смутило не на шутку.
Становой пристав узнал, что полковник позвал к себе старосту мещанской управы и сторожа еврейского могильника. Это обеспокоило его еще больше.
— Наверное, я проворонил какую-то крамолу, о которой узнали в городе и прислали полковника для расследования.
Пристав пригласил к себе хозяина постоялого дома, старосту мещанской управы, могильного сторожа. У каждого из них он расспрашивал о полковнике. Они улыбались и говорили одно:
— Пока что нельзя сказать. Так приказал господин полковник. Дело очень серьезное.
Пристава объяло отчаяние. Он начал вспоминать свои грехи и грешки за все годы службы: взятки, пытки людей, дележ добычи с конокрадами и разбойниками, аресты невиновных людей и освобождение преступников-уголовников.
«Наверное, кто-то подал на него, пристава, донос в губернию», — думал он. Местные жители также были встревожены. Может, новый погром готовится в Долгинове?.. Кагал[15] хотел объявить трехдневный пост для всех евреев городка и для грудных малюток…
Тогда в кагал пришел хозяин постоялого дома, где жил полковник. После него появился туда и староста мещанской управы. Наконец прибежал и сторож могильника. Кагал от них ничего конкретного не узнал. Но пост не был объявлен.
В такое напряженное время мы с отцом оказались в Долгинове. У жестянщика Рувима Либермана мы остановились на день. Все в доме говорили о полковнике и боялись его не меньше, чем пристава. Старый Рувим — худой, семидесятилетний дед с редкой бородкой, сутулый, в кортовом халате — сидел в углу и говорил сам с собой.
— Хотя бы все было хорошо… Чего сюда приехал полковник? При моей памяти в Долгинове никаких полковников ни бывало…
Рувим стонал глубоко и продолжительно. В это самое время моя тетя посмотрела в окно, стремительно отскочила назад и пискнула, как заяц:
— К нам идет полковник… Боже мой… Что ему у нас нужно?
Мы все рванулись в кладовую дяди. На своем месте остался один старый Рувим. Мы услышали, как открылась дверь и как кто-то вошел старческим шагом, кашлянул и старческим голосом сказал:
— Здравствуйте!
— Здрасте, — ответил Рувим.
— Здесь живет Рувим Либерман? — спросил басовый голос.
— Здесь, — ответил Рувим. — А что господину начальнику нужно?
— Прекрасно! Мне необходимо знать о вас все!.. Скажите, будьте добры, Рувим Либерман, как звали вашего отца?
— Моего отца? Сейчас скажу господину начальнику. Моего отца звали Абрам.
— Да… Абрам. Потрясающе! А маму?
— Мать? Мать называли Рахиль.
— Прекрасно! Где они похоронены?
— Похоронены? На старом могильнике, у самой ограды. А что?
— Да! Потрясающе! Скажите, будьте добры, Рувим Либерман, у вас был старший брат?
— Старший брат? Да, да! Был, барин, был. А как же! Был! Гершаль назывался.
— Очень хорошо! — обрадовался полковник.
Мы в каморке слушали, навостривши уши. Я не выдержал и посмотрел в щель двери. Наискосок, рядом с Рувимом, сидел старенький полковник, в длинной шинели с блестящими пуговицами и золотыми погонами, с палочкой в трясущихся руках. Белые как снег брови, бакенбарды и усы светились на его сморщенном сероватом лице с гладко выбритым подбородком. Руки у него так дрожали, что трость, которую он не выпускал из рук, отбивала на полу легкую дробь.
Смущенный Рувим поднимался и снова садился, срывал с головы ермолку и снова надевал.
Полковник немного помолчал. Вытер платком вспотевший лоб. Потом продолжил свой допрос:
— А скажите, будьте добры, Рувим Либерман, ваш брат умер?
— Не знаю, господин начальник. Мне мать, светлый ей рай, говорила, что его маленького в солдаты забрали.
— Да… Да… — поддакивал полковник.
— Схватили, надели ему кандалы на руки и ноги, бросили в телегу и повезли. Мать, светлый ей рай, волосы на себе рвала, вопя кричала и бежала за телегой.
— Да… Да…
— Мать, светлый ей рай, бросалась на землю, поднималась, снова бежала за телегой и все причитала: «Гершалэ… Гершалэ… Гершалэ…»
— Да… Да… Еще… Еще… — сказал полковник и положил руку на плечо Рувима.
— А кучер гнал коня кнутом изо всех сил. Конь мчался так быстро, что Гершаль, сидевший на телеге, плача, сильно ударился лбом о свои железные кандалы. Мать, светлый ей рай, видела, как лицо Гершалэ залилось кровью.
Полковник покивал головой, вытер платком лоб, глаза и сказал:
— Да… Еще…
— Мать, светлый ей рай, обомлела и рухнула в лужу. Как проснулась, то уже воза не видно было. Гершалэ увезли в солдаты. Тогда, господин начальник, у бедных родителей ловили маленьких мальчиков и отдавали в солдаты.
— Скажите, Рувим Либерман, долго мать-покойница плакала по Гершалэ?
— Всю жизнь, дорогой панок… Как только вспомнит, так и заливается слезами.
— Прекрасно… Досконально… Посмотри, Рувим, на мой лоб… Вот рубец! Это я тогда сильно поранил лоб. На всю жизнь знак остался. Родной… Это было семьдесят лет тому назад.
Отец в субботу при обеде пел:
Оса а-Адер лейсудо-осо Беца-а-аафро дэйшаба-ато, Веазмин-бо гашто… Веазмин-бо гашт…[16]Рувим не сводил глаз с полковника. Слушал, как завороженный.
— Родной… Рувим…
— Гершалэ… Братец мой…
Старые бросились друг другу на шею и оба захлипали, как малые дети.
Мы все выскочили из кладовки, ошеломленные, пораженные, взволнованные. Нам всем казалось, что это сон. Полковник познакомился со всеми нами. Тетя сняла с него шинель. Сверкнули золотые эполеты, пуговицы, медали… Все это было необычно и очень интересно.
Полковник гладил нежно натруженные руки родного брата, его обросшее сморщенное лицо и заглядывал ему глубоко в глаза.
— Перед смертью пришлось увидеться, — говорил он. — Теперь зовут меня Александр Петрович Либеров. Но в душе я прежний Герш Абрамович Либерман. Будучи мальчиком, били меня, пока не согласился креститься. Потом меня отдали в школу: я был способный мальчишка, хорошо учился. Стал военным и за много лет службы дошел до чина полковника. Теперь я в отставке. Живу в Вильнюсе. Дети, внуки. И всю жизнь из сердца тянулась ниточка сюда, в Долгиново. Нашелся браток. О, господи…
И полковник снова бросился Рувиму на шею. Оба деда снова захлипали. Старческие слезы лились из их глаз тоненькими мутными струйками.
Мы все были очень взволнованы. Тетя плакала вслух — больше чем старые.
Пытливым детским глазом я искал сходства двух старых Либерманов. Сходство было большое в чертах лиц, в голосе, в фигурах.
Вдруг открылась дверь, и три человека: хозяин постоялого дома, староста мещанской управы и могильный сторож внесли три корзины, набитые чем-то тяжелым. Они попросили у тети свежую скатерть на стол и начали доставать из корзин бутылки с вином и разнообразные закуски. Старый Рувим, дядя и тетя оделись в праздничное, а полковник почувствовал себя в доме хозяином. Рассадил нас всех вокруг стола и что-то шепнул на ухо могильному сторожу. Тот вышел и позвал в дом городскую капеллу: цимбалиста, бандуристов и скрипача. Они ждали на улице. Старинная субботняя застольная песня на древнееврейского языке.
Музыканты заиграли, как на свадьбе.
— Зачем было так пугать весь городок? — спросил жестянщик Рувим брата.
Полковник обратился к старосте мещанской управы:
— Объясните!
Староста пояснил, что в Долгинове много Либерманов. Нужно было досконально разведать обо всех Либерманах, копаться в старых архивах, иначе несколько десятков Либерманов запутали бы дело. Каждому хотелось бы иметь родственника господина полковника.
Полковник перебрался к Рувиму на квартиру и жил здесь целую неделю. Тетя уступила ему свою каморку. О старом кантонисте[17] начали распространяться легенды по всем окрестным городкам.
Становой пристав целую неделю никуда не показывался. Ему было стыдно за свой страх. Он был обижен на старого полковника: приехал к какому-то оборванцу Рувиму на кугель[18]…
Иешива
В ту же осень меня отдали в долгиновский иешива. Три года плавал я в мертвом море талмудичных наук. Талмуд давно омертвел. Нам, подросткам, было скучно читать тексты, написанные две тысячи лет тому назад на древнееврейском и халдейском языках.
Иешива помещался в огромной синагоге, где три раза в день молились местные обитатели. Здесь же находилось до пятидесяти иешивотников в возрасте от 12 до 20 лет. Каждый сидел перед специальным «штэндером»[19], на котором лежал фолиант[20] Талмуда. Глава Иешивы («рош-гашива») определял каждый день новый раздел текста для самостоятельной читки. По четвергам рош-гашива проверял, как хорошо иешивотники усвоили текст. Останавливались над каждым абзацем. Происходили длинные рассуждения, дискуссии. Рош-гашива задавал закавыристые вопросы. Изучать Талмуд мне приходилось самостоятельно по многочисленным комментариям к главному тексту. Комментарии создавались на протяжении долгих веков учеными талмудистами. Между собой они вели споры, противоречили друг другу. Главный текст обрастал комментариями. Штэндер напоминает по виду пюпитр для нот, только более массивный и с коробкой, словно толстое бревно. Кроме того, главный текст не имел знаков препинания. Язык Талмуда лаконичный и очень тяжелый. Все вместе взятое создавало большие трудности для иешивотников. Кроме того, комментаторы Талмуда по несколько раз на каждой странице делали ссылки на другие тома Талмуда.
Таким образом иешивотник при изучении какого-либо раздела должен был переворачивать каждый день пять или десять томов.
Штудирование Талмуда насильственно отдаляло нас от жизни, травило предрассудками и звериным шовинизмом. От несуразной «науки» голова ходила ходуном.
Многие из иешивотников, и я в том числе, жили в синагоге. Мы спали на жестких скамьях, словно пассажиры в жестких вагонах поезда. Под скамьями стояли наши коробочки с имуществом. Мы вечно находились под присмотром старого «машгиаха»[21] (инспектора). Его звали ребе Шмарье. Это был высокий худой еврей цыганского типа, с узкой черной бородой. Прищуренные, черные, как смоль, глаза всегда сыпали молнии. На каждого иешивотника он смотрел подозрительно. Редко улыбался. Одно счастье, что он не каждый день бывал в синагоге. Он делал на иешивотников периодические налеты. Он, например, мог появляться в любую минуту дня и ночи, и не показывался по несколько дней подряд. Время от времени он делал обыски по нашим коробкам. Словно царский жандарм, перебрасывая, прощупывая каждый лоскуток, каждую тряпочку из имущества юных талмудистов. Иешивотники дрожали от страха. Хозяин наших душ стерег нас от безбожной литературы. Светская книга даже на древнееврейском языке считалась крамолой.
Я всегда чувствовал свою зависимость от каждого из них. Это ощущение было очень неприятное, унижающее человеческую пригодность, честь и достоинство. При встрече с Субботой, Вторником или Пятницей я всегда низко кланялся, говорил: «Здравствуй». Мне все казалось, что мой день в образе человека сейчас обзовет меня «дармоедом». Бывали и такие случаи. Случалось, что хозяйка — жена Воскресенья или Понедельника приказывала мне выносить на двор помои, приносить из колодца ведро воды или покачать ребенка.
Любой работе в доме своего кормильца я был всегда рад. Хоть чем-нибудь отплатить за обед… Между прочим, у какого-нибудь портного или сапожника я всегда чувствовал себя лучше, чем у богатого торговца. Бедный человек всегда принимал иешивотника, как гостя, и от всего сердца угощал самым лучшим, что было в его доме. Богатый хозяин кормил чаще на кухне, как нищего, остатками со своего стола.
Армия дармоедов в 50–60 иешивотников была для небольшого городка немалой обузой. Кормили их в большинстве только обедом. Каждому иешивотнику приходилось выкручиваться, кто как может, чтобы доставать себе бублик с яблоком на завтрак и ужин. Многие голодали, а некоторые умудрялись иметь по десять и больше дней в неделю, то есть, иметь по несколько пятниц на одну неделю.
Мальчишки местных жителей относились к нам, иешивотникам, с презрением. Иногда даже кулачные бои устраивали против нас. Это происходило главным образом летом у реки, куда мы ходили купаться.
Если иешивотников поражали до крови, никто за нас не заступался. Зато, если кто-то из иешивотников расквасит нос местному, тогда его родители приходили в синагогу и жаловались рош-гашиве. От него все узнавал ребе Шмарье, который за это всегда всыпал «малкес»[22].
Мариамь
Письма от невест к женихам в Америку и прочтение писем от женихов из Америки подтолкнули меня писать стихи на тему любви. Каждый день — новое стихотворение. За столом в домике, когда старая Бейля уже спала, я вписывал эти стишки начисто в красивую записную книжку, которую купил в магазине. Книжечку я назвал «Мариамь». Она была вся заполнена гимнами несуществующей девочке Мариами. Девочка моего возраста, пятнадцати лет, жила только в моей фантазии. Часто Мариамь меняла свой образ, то она была с волосами черными, как ночь, то — золотистыми, как солнце. Глаза ее были то зрелыми вишнями, то васильками. Голос ее звучал, как арфа. Смех — журчание ручейка. Дыхание — шепот цветов и колосьев под ветерком. Ее песни — пение соловушки. Все радости и печали своего сердца я посвящал прекрасной — Мариамь… Она была добрая и мудрая. Она затмевала в моих глазах мудрецов Талмуда.
Однажды в августовский день, когда через цветные стекла в синагогу пробивались солнечные лучи и превратили синагогу в фантастическое подземелье времен древнего Египта, когда ожили деревянные львы и орлы на ковчеге, я читал под печальное пение юных талмудистов гимны своей Мариамь. Книжечка со стихами лежала у меня на толстом фолианте. Я читал с увлечением вслух:
— Мариамь… Мариамь… Перед твоими глазами пятнадцать раз цвела черемуха и зеленела молодая пшеница. Я поцелую золотистую прядь твоих волос и от наслаждения умру у ног твоих. Нет! Не умру. Позволь мне жить и пить наслаждение из твоих голубиных глаз. Хочу играть с тобой, как с родной сестрой. Мариамь… Мариамь… Ты мне ближе отца и матери. Ты мне дороже жизни. Ты — мое небо. Ты — моя земля. Ты — мое счастье. Ты свила навеки гнездо в моем сердце. Мариамь… Мариамь… Над полем стоит белый, как молоко, туман. У реки пасутся телята. Пастушок играет на свирели, а я сижу на камне и пою песню. И каждое слово моей песни — любовь к тебе. И каждое слово моей песни — хвала красоте твоей. Мариамь… Мариамь… Я забуду молитвы вечному небу. Позволь утром и вечером произносить твое имя в песне… Я смотрю на звезды и думаю, что это твои глаза. Я слушаю песни соловушки и думаю, что это твой голос. Я смотрю на цвет маков и думаю, что это твои губки. Мариамь… Мариамь…Вдруг надо мной заметалась тень. Я встрепенулся.
У моего штэндера[23] стоял высокий, грозный, чернобородый аскет — инспектор ребе Шмарье…
Руки и ноги у меня омертвели. Мне стало холодно и жарко.
Ребе Шмарье взял из моих рук книжечку под названием «Мариамь». Читать было легко, потому что я для большей красоты писал печатными буквами. Он углубился в книгу. Я, словно загипнотизированный, смотрел на него и не мог сдвинуться с места. Он читал долго. Вокруг моего штэндера собрался весь юный народ, все мои товарищи. Закончив читать «Мариамь», ребе Шмарье закусил бороду, пронзил меня насквозь двумя острыми кинжалами черных глаз и заговорил не ко мне, а к моим товарищам:
— Сыны Израиля… Рвите на себе одежду. Осыпайте головы пеплом в знак траура. Этот заезжий шэйгец[24] предал еврейство. Написал книжечку под названием «Мариамь». Ни разу имя Бога не вспоминает в книге. Его книжка — стыд и соблазн. Его книжка — восхваление матери бесов — Лилит[25]. Утонула в смоле пекла душа молодая… Она пропала, пропала для святой торы, для родителей. Погасла искра из пламени Адоная[26]…
Аскет ребе Шмарье не бил меня. В его глазах стояли слезы — крокодиловы слезы.
Мою книжечку сожгли на каменном полу в прихожей синагоги…
Ребе Шмарье так напугал юных талмудистов, что они от меня отступились.
— Уходи из этого святого здания, — сказал ребе Шмарье со строго поднятой рукой. — Уходи! Хозяевам твоих дней я скажу, чтобы они тебя больше не кормили. Уходи из этого города, потому что если я увижу тебя на улице, не миновать тебе «малкес».
Я вышел из синагоги в последний раз. Старой Бейли сказал, что иду пешком в Посадец. Я взял с собой только книжки. Бейля дала мне на дорогу кусок хлеба.
Прощайте навсегда, тонов и амайроим[27] — профессора и доктора Талмуда! Ваши старинные рыцари, Гилель и Шаммай, Попай и Гуна, умерли в моем сердце. Словно туман, растаяли под солнцем жизни воздушные замки Иерусалима и Вавилона.
Одно имя олицетворяет мою новую мечту — Мариамь…
Хотел увидеть Эли, рассказать ему правду о трех долларах и извиниться, но не удалось встретиться с ним. Я решил написать ему об этом письмо дома и переслать почтой.
Иду лесной дорогой. Пахнет смолой, багульником и грибами. Поют жаворонки. Может, это играет на лютне моя Мариамь? Издалека плывут ко мне звуки жатвенных песен. Поют несколько женщин. Пленят меня животворные силы земли — ее радости и печали. Может, это грустит и радуется Мариамь? Новости посада мне известны. Умерла моя бабушка. Умерли столетние деды Устин и Мирон. Мои товарищи по хедеру[28] помогают работать родителям. Дети трактирщика торгуют. Пани Чапковская судится с деревней за луг. Мои товарищи-пастушки́ проходят свой батрацкий талмуд. Нудно ползет жизнь. Веками она стоит на месте. Иду домой и думаю: «Такая в доме теснота, что мне придется спать на полу».
Я приближаюсь к родным местам.
Как меня встретит отец? Знаю. Он спросит:
— Что из тебя будет?
После этого мучительно на меня посмотрит и сообщит:
— У меня ведь и без тебя шесть человек детей. Было восемь, но пару Бог забрал. С тобой было бы как раз девять… Тебе уже пятнадцать лет. Сам должен понимать.
Он смолкнет на минуту, посмотрит на меня, как утопающий на лодку, и добавит шепотом:
— Такие сыновья, как ты, уже помогают родителям… Знаешь. Я же вечно горюю об одном, чтобы только хлеб был в доме.
Да. Мои детские годы закончились. (Нужно работать и учиться! Это было в 1902 году).
Счастье и несчастье ребе Эли
Так. Я додумался. Мне стало легко-легко. Я нашел теплое гнездо для искалеченной ласточки. Я нашел место для трех долларов. Я написал письмо и положил в карман шамеса[29] синагоги — «Ребе Эли с гусиными лапками». Он в то время подметал березовым веником синагогу.
Талмуд в голову мне не лез. Я все время следил за Эли. Вот он кончил работу, откашлялся от пыли, поднятой с пола, и начал трепаться. На это он был большой мастер. На его лице разливалось необычное наслаждение. Отмороженными пальцами он теребил голову. Ладонью старательно тер затылок, бороду, пейсы[30]. Прислонился к острому углу стола и с воодушевлением чесал спину. Костлявыми локтями быстро и ритмично перебирал свои собственные ребра, как музыкант струны балалайки. При этом он задумчиво и радостно улыбался. Словно что-то очень вкусное ел и прислушивался к вкусу.
На этот раз я с нетерпением просмотрел всю драматическую деятельность его теребления. Теребить локтями бока всегда было его последним номером. Вот он и сейчас начал локтями наступать на свои бока, начал наступать и услышал небывалые звуки. В его кармане зашуршала бумага. Он удивленно сунул руку в карман и вытащил оттуда белый конверт. Подошел к окну, прочел адрес — ему! Он с удивлением распечатал конверт, вынул письмо и уткнулся в него носом:
«Мы с тобой тезки. Ты — Эли шамес. Я — Илья пророк. Я все время следил за твоей праведной жизнью, за страданиями твоей бедной семьи. Ты — самый лучший Эли из всех Элев на свете. Я сейчас нахожусь в Америке и присматриваюсь к людям, которые носят мое имя. Тебе, лучшему Эли, шлю три доллара. Такую сумму буду тебе присылать каждую неделю на шабат[31]. Эти деньги найдешь в синем конверте в ковчеге под Торой. В каждую пятницу после утренней молитвы найдешь на этом самом месте такую же сумму».
Эли скомкал письмо, положил в карман и пробормотал:
— Какой-то шалохвост[32] надо мной шутит. Чтобы его поганое имя стёрлось из памяти добрых людей! Не надо мне таких писем из святого ковчега! Не пойду… Не пойду… Не пойду…
«Придется забрать назад из ковчега эти три доллара, — подумал я. — Эли упрямый человек. Сказал, что не пойдет, значит не пойдет. Заберу назад деньги». Я теперь твердо решил забрать их себе, потому что они мне позарез нужны.
Но уже было поздно.
Интерес Эли взял верх. Он, крадучись, чтобы никто не заметил, подошел к ковчегу, достал оттуда синий конверт. При этом забормотал:
— Шалохвосты! И святой ковчег не уважают!
Он с грустью покачал головой, зачмокал губами и подошел к окну. Осторожно распечатал конверт и достал оттуда ассигнацию в три доллара. Он проверял ее на свет долгое время.
С американскими долларами Эли был знаком. Ему не раз их показывал его племянник, отец которого жил в Америке и время от времени присылал деньги.
Убедившись, что это настоящие три доллара, Эли задрожал с головы до ног. Спрятал за пазуху деньги и начал бить себя кулаками в грудь. Потом он зашептал:
— Илья-пророк… Илья-пророк… Илья-пророк…
Смущенный Эли всхлипнул от радостного волнения, снова подошел к ковчегу, распахнул дверцу, сунул туда голову и долго молился. В его глазах светилось большое, как море, счастье. Словно на крыльях, Эли помчался из синагоги. Крылья, правда, не были орлиные, так как он упал вниз с высокого каменного крыльца. Быстро поднялся и, держась обеими руками за пазуху, побежал домой изо всех сил. Люди оглядывались ему в след. Он не обращал на них внимания.
Назавтра Эли пришел в синагогу в новой шапке. Сам он, по-видимому, помылся в бане. Волосы его были гладко причесанные, борода и пейсы в порядке. Словом, совсем не тот, а новорожденный Эли… Однако я на его лбу заметил хмурость недовольства. Человек был чем-то обижен.
Я удивился. В чем дело?
Причина его недовольства проявилась сейчас же. Эли подошел к ковчегу, на этот раз не совсем осторожно. Он был возбужден. Распахнул дверцу и начал говорить громким шепотом. Я осторожно подошел к ковчегу и слышал каждое слово:
— Спасибо, святой пророк, за три доллара! Но моя жена сказала, что ты мог бы дать больше. У нас большая семья и большая недостача. Прошу тебя, святой пророк, поверь моей искренности и жертвуй мне по тридцать долларов в неделю. Ты же такой хороший. Я, святой пророк, во всех молитвах вспоминаю тебя с почетом и любовью. Я уверен, что ты выполнишь мою маленькую просьбу. Не скупись в своей благотворительности. Аминь! Аминь! Аминь!
Эли вышел из синагоги, а я вошел в ярость.
Мало того что я по глупости своей выбросил ему эти три доллара, у него еще наглость и жадность появилась. Он еще обижается! Дай ему по тридцать долларов в неделю. Захотел сразу паном стать! Да еще верит искренне, что это раскошелился Илья-пророк. Ну, погоди же, ребе Эли! Я тебя очеловечу! Покажу тебе, что Илья-пророк не такой заторможенный мямля, как я. Буду бороться за честь древнего пророка…
На следующую неделю я снова положил в ковчег письмо на адрес Эли. Он был чрезвычайно аккуратный. В назначенное время подошел к ковчегу, словно к своему собственному шкафу, и достал оттуда письмо. Он сразу положил конверт за пазуху со словами «спасибо, дорогой пророк Илья» и счастливый и спокойный вышел из синагоги, как банкир из банка.
Я, конечно, понял, в чем дело. Эли был уверен, что в конверте лежат тридцать долларов. Он даже чинно вытер нос новым платком, как это делает самый богатый лавочник в городке, реббе Носан.
Ой, быстро, ребе Эли, перенял ты манеры богача! Ах, как деньги портят человека! Эли даже возгордился. Если раньше он был со всеми иешивотниками на короткой ноге, то в течение одной недели ни с кем из нас уже и говорить не захотел. Некоторые иешивотники даже замечали:
— Эли стал смотреть на нас сверху вниз…
И я решил:
«Я искалечил Эли — я и вылечу его. Вся его душа сейчас в моих руках, как пойманный воробей…»
И я тоже немного возгордился своей силой над синагогальным шамесом. Но тогда я еще не понял, что тот самый посох, который бил Эли одним концом, бил вторым концом и по моему лбу. Я ходил по синагоге деловым петухом и уже радовался, что подбросил Эли эти три доллара. Зато теперь вымуштрую человека. Такое дело стоит дороже тысячи долларов. Возможно, что этим я хотел заглушить печаль по потерянным трем долларам. Я хорошо не помню. В то время я наблюдал только за другими, а не за самим собой.
Дома Эли читал:
«Ты, Эли, стал сразу жадным, рассчитывая на большие деньги. Это твой первый грех. Ты, Эли, возгордился. Это твой второй грех. Вот за что я не выполнил своего обещания. Назначаю тебе на целую неделю пост днем и молитвы ночью. Если все это будет выполнено не так себе для вида, а искренне, тогда дам тебе новую награду. Так говорит пророк Илья».
Всю неделю после этого письма Эли не выходил из синагоги. Постился днем и молился ночью. Опустился, высох. Каждый день приходила в синагогу его жена и со слезами на глазах упрашивала его:
— Пойдем, Эли, кушать…
Эли молча отталкивал ее от себя локтем. Эли ходил всю эту неделю, как тень. Иешивотники смотрели на него и удивлялись. Часто кто-то из них обращался к нему:
— Ребе Эли, что с вами?
— Ребе Эли, вы нездоровы?
— Ребе Эли, вы очень похудели.
Эли молчал, и на его лице виднелись огромные страдания и большие надежды.
Ровно через неделю Эли вынул из ковчега мой новый конверт. Дома он читал вот что:
«Эли, ты большой дурак! Не верь в суеверия. Скажи спасибо за первые три доллара и больше ничего не жди. Нет пророка Ильи и нет Бога. Все это ложь. Аминь! Когда-нибудь я тебе расскажу».
Эли несколько недель не заходил в синагогу. Он заболел нервной горячкой и долгое время в своем бреду что-то рассказывал об Илье-пророке. А когда вернулся в синагогу, то поглядывал на всех недоверчиво.
Тем временем я продолжал дальше заниматься написанием писем в Америку. В доме старой Бейли я ожил. Надо мной не висел вечный страх перед инспектором ребе Шмарье. Я мог читать на частной квартире хоть целыми ночами. Произведения Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Некрасова вытеснили схоластический Талмуд с его мертвой философией, с его скучными рассуждениями о добре и зле, с его мелкими урывками разнообразных старинных наук, с приспосабливанием вавилонского быта и мудрости к условиям жизни совсем другой земли и других людей.
Я начал писать стихи на древнееврейском языке. Писал днем в синагоге, заслоняясь фолиантами Талмуда. Ночью я читал книги. Так продолжалось больше года.
Пять ложек затирки
— Агата! Агата!
— Ну чего глотку дерешь?
— Скоро затирка приготовится?
— Не можешь подождать немного времени? Я не понесу ее продавать на рынок!
Еще не успела она ответить своему Антону, который лежал на припечке и стонал, — не то от боли, не то от голода, — как со всех сторон заполонили ее дети — едва ли, мальчики или девочки, так как они были одеты все в длинные до пят маечки… Они запели все в один голос:
— Мамка зацильку готовит!
И давай прыгать вокруг матери и тянуть за фартук и юбку, как голодные волчата.
— Мамка, мне дашь!
— Мамка, мне дашь!
И блестели их голодные глаза от радости…
— Ти-и-хо, чтоб вы скисли! — крикнула Агата. — Приготовить не дают, хоть ты тут на части разорвись! — И отогнала их ухватом от печи…
Это было весной, как раз в ту пору, когда голодуха царит по деревням, когда нечем и муху накормить. Последний запас вышел, хоть зубы на полку ложи; щавеля еще нет… Горькая сейчас жизнь у больного Антона. Он сам работать не может. Одна только жена работает на него и детей.
Вчера ей — Агате повезло. Она выклянчила у соседа фунт муки на затирку.
Вот и готовит она для семейки завтрак… В темном малом домике большой праздник…
Смотрел Антон на шесток и тихо ворчал. Он знал, что сейчас Агата управительница.
Смотрели детки из-под темного топчана на веселый огонек в печи и шушукались.
Агата все подливала воды и помешивала затирку большой ложкой. Наконец поставила на стол.
— Готово! — крикнул весело Антон и давай карабкаться с припечка.
— Готово! Готово! — запели детки и прыгали, как зайчики, к столу, где уже стояла большая поливная миска, в которую Агата перелила затирку из горшка. Густой пахучий пар клубился над миской и увеличивал голодный аппетит счастливой в этот момент семьи.
Счастье не имеет своей отдельной мерки для всех людей на свете, но каждый человек имеет свою отдельную мерку к счастью и свой отдельный взгляд на самое счастье…
И счастливая семейка схватилась за ложки.
— Ай! Ай! — запели детки.
Антон вытаращил глаза и молча давился горячей похлебкой.
— А чтобы вас горюшко не взяло. Я же вам говорила — не хватайте, так как горячая еще! — ругала их Агата.
Глядели, глядели они на горячую похлебку и не вынесли — снова давай кушать… Слезы катились из глаз. Не съели еще и третьей части, как в дом вошла соседка Стёпчиха.
— Добрый день!
— Добрый день!
— Хлеб да соль!
— Где здесь хлеб, — затирку едим, просим на завтрак! — говорит Агата.
— Ого! На затирку и я желающая! — ответила Стёпчиха, и ее голодные глаза заблестели. Взяла ложку и ловко подсела к миске…
Помрачнел Антон и только ниже опустил голову.
«Нам и самим мало», — подумал он.
Съела Сцёпчыха одну ложку и принялась за другую.
«О, чтоб тебя!» — хотел сказать Антон и едва сдержался. Дети тоже почуяли опасность и, искоса поглядывая на Стёпчиху, ловко заработали ложками…
«Три» — чуть не крикнул Антон, как Стёпчиха зачерпнула ложкой в третий раз.
«На помощь! Спасите!» — чуть не плакал он, как она опустила ложку в миску в четвертый раз. А как съела пятую, то уже миска была пуста…[33]
— Разбойница! — крикнул Антон своей Агатке, когда Стёпчиха уже поблагодарила и ушла. — Разбойница!..
— Разве я виновата, что она такая свинья! — вопила Агата.
И испортился праздник бедной семейки. Помрачнели лица.
Каждый думал: «О-го! Лучше бы я съел эти пять ложек похлебки…»
Несчастье не имеет своей отдельной мерки для всех людей на свете, но каждый человек имеет свою отдельную мерку к несчастью и свой отдельный взгляд на самое несчастье.
1912
Примечания
1
Тайч-хумеш — букв. «Пятикнижие на языке тайч» (то есть на идише).
(обратно)2
Шабасовые — субботние.
(обратно)3
Балагула — еврейский возница.
(обратно)4
Ср. с характеристикой мужчины в Псалме Давида. Книга «Псалтирь», Пс. 1.
(обратно)5
Ср. с историей о вавилонском пленении из книги «Псалтирь», Пс. 136.
(обратно)6
Шифскарта — проездной документ, дающий право на проезд на пароходах компаний РУСКАПА из СССР в Америку (как правило оплачивался приглашающей стороной).
(обратно)7
Ср. с библейской историей Суламиты, описанной царем Соломоном в книге «Песни Песней».
(обратно)8
Саван — одежда или покрывало для усопшего.
(обратно)9
Иаков сын Мордохея.
(обратно)10
Кущи — шалаши.
(обратно)11
Камаши — род штиблет. Обувь из сукна или кожи.
(обратно)12
Имеется в виду шляпу.
(обратно)13
Хедер — еврейская школа.
(обратно)14
Иешива — институт, высшее религиозное учебное заведение, для изучения устного закона, гл. обр. Талмуда. Служит для подготовки ученых к званию раввина.
(обратно)15
Кагал — орган общинного самоуправления, в широком смысле слова община у евреев, в узком — административная форма самоуправления общиной у евреев.
(обратно)16
Старинная субботняя застольная песня на древнееврейском языке.
(обратно)17
Кантонисты — еврейские мальчики, силой вырванные из родной среды и отданные в солдаты.
(обратно)18
Кугель (кугол, кугл) — одно из коренных блюд ашкеназской кухни. Буквально на идише означает «круглый».
(обратно)19
Штэндер — подставка наподобии подставки для нот.
(обратно)20
Фолиант — старинная книга.
(обратно)21
Машгиах — наблюдатель за процессом обучения (смотритель).
(обратно)22
«Малкес» (малкос или малкот в сефрадском произношении) букв. — 39 ударов палками по спине. Сами малкот, как и все остальные наказания, запрещены с момента разрушения храма. Зд. им. ввиду — «взбучка», не искл. наказание розгами.
(обратно)23
Штэндер — стойка.
(обратно)24
Шэйгец — плут.
(обратно)25
Лилит — первая жена Адама в кабалистической теории.
(обратно)26
Адонай — Господь.
(обратно)27
Тонов и амайроим — мудрецы, передававшие устную Тору.
(обратно)28
Хедер — еврейская школа.
(обратно)29
Шамес — служитель синагоги у евреев.
(обратно)30
Пейсы — длинные узкие пряди волос, спускающиеся от висков.
(обратно)31
Шабат — суббота.
(обратно)32
Шалохвост — озорник.
(обратно)33
Ложки в то время были деревянные, глубокие и большие, и ели ими из общего большого горшка или миски. — Прим. переводчика.
(обратно)


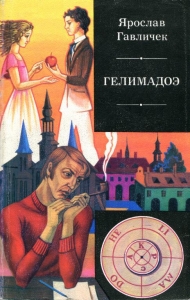
Комментарии к книге «Избранные рассказы», Змитрок Бядуля
Всего 0 комментариев