Глава I, в которой описывается наша деревня и впервые сверкает знаменитый бриллиант
Когда, проведя дома свой первый отпуск, я возвращаелся в Лондон, моя тетушка, миссис Хоггарти, подарила мне бриллиантовую булавку; вернее, в ту пору это была не булавка, а большой старомодный аграф (сработанный в Дублине в 1795 годе), который покойный мистер Хоггарти нашивал на балах у лорда-наместника и в иных прочих местах. Дядюшка, бывало, рассказывал, что аграф на нем был и в битве при Винегер-Хилле, когда не сносить бы ему головы, если бы не косичка, — но это к делу не относится.
В середине аграфа помещался портрет самого Хоггарти в алом ополченской мундире, а вокруг тринадцать локонов, принадлежавших чертовой дюжине его сестриц; но так как в семье Хоггарти волосы у всех были ярко-рыжие, то человеку с воображением портрет мог показаться большим свежим куском говяжьей вырезки, окруженным тринадцатью морковками. Морковки эти были выложены на покрытое синей глазурью блюдо; и казалось, все они вырастают из знаменитого бриллианта Хоггарти (как его называли в нашем семействе).
Нет нужды разъяснять, что тетушка моя — женщина богатая; и я считал, что не хуже всякого другого мог бы сделаться ее наследником.
Во время месячного моего отпуска она была чрезвычайно мною довольна; часто приглашала выкушать с ней чаю (хотя в деревне нашей была некая особа, с которой я предпочел бы в эти золотые летние вечера прогуливаться по скошенным лугам); всякий раз, как я послушно пил ее скверный черный чай, обещала, что, когда я буду уезжать в город, не оставит меня своими милостями; мало того, три, а то и четыре раза приглашала на обед, а обедала она в три часа пополудни, а потом на вист или крибедж. Карты — это бы еще ничего, потому что, хоть мы и играли по семи часов кряду и я всегда оставался в проигрыше, потери мои составляли не более девятнадцати пенсов за вечер; но в обед и в десять часов к ужину у тетушки подавали кислющее черносмородинное вино; отказаться от него я не смел, но, поверьте, испив его, всякий раз терпел адские муки.
Таково угождая тетушке да наслушавшись ее обещаний, я решил, что она пожалует мне по меньшей мере двадцать гиней (у ней их было в ящике комода несчетно); и так я был уверен в этом подарке, что молодая особа по имени Мэри Смит, с которой я об этом беседовал, даже связала кошелечек зеленого шелка и подарила его мне (за скирдой Хикса — это если за кладбищем свернуть по тропинке направо), — да, и подарила его мне, обернутым в папиросную бумажку. Если уж говорить всю правду, кошелечек был не пустой. Перво-наперво, там лежал крутой локон, такой черный и блестящий, каких вы в жизни не видывали, а еще три пенса, вернее, половинка серебряного шестипенсовика на голубой ленточке, чтобы можно было носить на шее. А вторая половинка… ах, я знал, где находится вторая половинка, и как же я завидовал этому талисману!
Последний день отпуска я, разумеется, должен был посвятить миссис Хоггарти. Тетушка пребывала в самом милостивом расположении духа и в качестве угощения поставила две бутылки черносмородинного вина, каковые и пришлись главным образом на мою долю.
Вечером, когда все ее гостьи, надев деревянные галоши, удалились в сопровождении своих горничных, миссис Хоггарти, которая еще раньше сделала мне знак остаться, первым долгом задула в гостиной три восковые свечи, а затем, взяв четвертую, подошла к секретеру и отперла его.
Поверьте, сердце мое отчаянно колотилось, но я прикинулся, будто и не смотрю в ту сторону.
— Сэм, голубчик, — сказала она, отыскивая нужный ключ, — выпей еще стаканчик Росолио (так она окрестила это окаянное питье), оно тебя подкрепит.
Я покорно стал наливать вино, и рука моя так дрожала, что горлышко позвякивало о край стакана. К тому времени, как я наконец осушил стакан, тетушка перестала рыться в бюро и подошла ко мне; в одной руке у ней мигала восковая свеча, в другой был объемистый сверток. "Час настал", — подумал я.
— Сэмюел, дражайший мой племянник, — сказала она, — тебя назвали в честь твоего святого дяди, моего супруга — благословенна память его, — и своим благонравием ты радуешь меня больше всех моих племянников и племянниц.
Ежели вы примете во внимание, что у моей тетушки шесть замужних сестер, что все они вышли замуж за ирландцев и произвели на свет многочисленное потомство, вы поймете, что я с полным основанием мог счесть слова ее за весьма лестный комплимент.
— Дражайшая тетушка, — вымолвил я тихим взволнованным голосом, — я часто слыхал, как вы изволили говорить, что нас, племянников и племянниц, у вас семьдесят три души, и, уж поверьте, я почитаю ваше обо мне высокое мнение чрезвычайно для себя лестным; я его не стою, право же, не стою.
— Про этих мерзких ирландцев и не поминай, — осердясь, сказала тетушка, — все они мне несносны, и мамаши их тоже (нужно сказать, что после смерти мистера Хоггарти не обошлось без тяжбы из-за наследства); а из всей прочей моей родни ты, Сэмюел, оказал себя самым преданным и любящим. Твои лондонские хозяева очень довольны твоей скромностию и благонравием. При том, что получаешь ты восемьдесят фунтов в год (изрядное жалованье), ты, не в пример иным молодым людям, не потратил сверх этого ни одного шиллинга, а месячный отпуск посвятил своей старухе тетке, которая, уж поверь, высоко это ценит.
— Ах, сударыня! — только и молвил я. И более уже ничего не сумел прибавить.
— Сэмюел, — продолжала тетушка, — я обещала тебя одарить, вот мой подарок. Спервоначалу хотела я тебе дать денег; но ты юноша скромный, и они тебе ни к чему. Ты выше денег, милый мой Сэмюел. Я дарю тебе самое для меня драгоценное… по… пор… по-ортрет моего незабвенного Хоггарти (слезы), вставленный в аграф с дорогим бриллиантом, — ты не раз от меня о нем слышал. Носи этот аграф на здоровье, любезный племянничек, и помни о нашем ангеле и о твоей любящей тетушке Сьюзи.
И она вручила мне эту махину: аграф был величиной с крышку от бритвенного прибора, надеть его было бы все равно что выйти на люди с косицей и в треуголке. Меня такая взяла досада, так велико было мое разочарование, что я поистине слова не мог вымолвить.
Когда я наконец опомнился, я развернул аграф (аграф называется! Да он огромный, что твой амбарный замок!) и нехотя надел его на шею.
— Благодарствую, тетушка, — сказал я, ловко скрывая за улыбкой свое разочарование. — Я всегда буду дорожить вашим подарком, и всегда он будет напоминать мне о моем дядюшке и о тринадцати ирландских тетушках.
— Да нет же! — взвизгнула миссис Хоггарти. — Не желаю, чтоб ты носил его с волосами этих рыжих мерзавок. Волосы надо выкинуть.
— Но тогда аграф будет испорчен, тетушка.
— Бог с ним с аграфом, сэр, закажи новую оправу.
— А может, лучше вообще вынуть его из оправы, — сказал я. — По нынешней моде он великоват; да отдать его, пусть сделают ранку для дядюшкиного портрета — и я помещу его над камином, рядом с вашим портретом, любезная тетушка. Это ведь премилая миниатюрка.
— Эта миниатюрка, — торжественно изрекла миссис Хоггарти, — шефдевр великого Мулкахи (этим "шефдевром" вместе с "бонтонгом" и "а ля мод де пари" и ограничивались ее познания во французском языке). Ты ведь знаешь ужасную историю этого несчастного художника. Только он кончил этот замечательный портрет, а писал он его для покойницы миссис Хоггарти, владелицы замка Хоггарти, графство Мэйо, она сейчас его надела на бал у лорда-наместника и села там играть в пикет с главнокомандующим. И зачем ей понадобилось окружить портет Мика волосами своих ничтожных дочек, в толк не возьму, но уж так она сделала, сам видишь. "Сударыня, — говорит генерал, — провалиться мне на этом месте, да это же мой друг Мик Хоггарти!" Так прямо его светлость и сказал, слово в слово. Миссис Хоггарти, владелица замка Хоггарти, сняла аграф и показала ему. "Как имя художника? — спрашивает милорд. — В жизни не видал такого замечательного портрета!" — "Мулкахи, с Ормондской набережной". — "Клянусь богом, я готов оказать ему покровительство! — говорит милорд; но вдруг потемнел лицом и с неудовольствием вернул портрет. — Художник совершил непростительный промах, — сказал его светлость (он был весьма строг по части воинского устава). — Ведь мой друг Мик человек военный, как же он проглядел эдакое упущение?" — "А что такое?" — спрашивает миссис Хоггарти. "Да ведь он изображен без портупеи, сударыня". И генерал с сердцем взял карты и уж до самого конца игры не проронил ни слова. На другой же день все передали мистеру Мулкахи, и бедняга тот же час повредился в уме! Он ведь все свое будущее поставил в зависимость от этой миниатюры и объявил во всеуслышанье, что она будет безупречна. Вот как подействовал упрек генерала на чувствительное сердце художника! Когда, миссис Хоггарте приказала долго жить, твой дядюшка взял портрет и уже не снимал его. Сестрицы его говорили, что это ради бриллианта, а на самом-то деле, — у, неблагодарные! единственно из-за их волос он и носил этот аграф, да еще из любви к изящным искусствам. А что до бедняги художника, любезный мой племянник, кое-кто говаривал, будто он выпивал лишнее, оттого с ним и приключилась белая горячка, но я этому веры не даю. Налей-ка себе еще стаканчик Росолио.
Всякий раз, как тетушка рассказывала эту историю, она приходила в отличное расположение духа, и сейчас она пообещала заплатить за новую оправу для бриллианта и приказала мне, по приезде в Лондон, сходить к знаменитому ювелиру мистеру Полониусу, а счет переслать ей.
— Золото, в которое оправлен бриллиант, стоит самое малое пять гиней, сказала она, — а в новую оправу тебе его могут вставить за две гинеи. Но разницу ты оставь, голубчик, себе и купи все, что твоей душеньке угодно.
На том тетушка со мною распрощалась. Когда я выходил из дому, часы били двенадцать, ибо рассказ о Мулкахи всегда занимал ровным счетом час, и шел я по улице уже не в таких расстроенных чувствах, как в ту минуту, когда мне вручен был подарок; "В конце концов, — рассуждал я, — бриллиантовая булавка — вещь красивая и прибавит мне изысканности, хоть платье мое совсем износилось. — А платье мое и вправду износилось. — Что ж, — рассуждал я далее, — на три гинеи, которые я получу, я смогу купить две пары невыразимых", — а, между нами говоря, у меня в них была большая нужда, я ведь в те поры только что перестал растя, а панталоны были мне сшиты за добрых полтора года перед тем.
Итак, шел я по улице, руки в карманы, а в кармане у меня был кошелечек, который накануне подарила мне малютка Мэри; для милых вещиц, что она в него вложила, я нашел другое место, какое — говорить не стану; но видите ли, в те дни у меня было сердце, и сердце пылкое; в кошелек же я собирался положить тетушкин дар, которого так и не дождался, вместе с моими скромными сбережениями, которые после пикета и крибеджа уменьшились на двадцать пять шиллингов, так что по моим подсчетам, после того как я оплачу проезд до Лондона, у меня еще останется две монетки по семь шиллингов.
Я только что не бежал по улице: я так спешил, что, будь это возможно, я бы догнал десять часов, которые прошли мимо меня два часа назад, когда я сидел за мерзким Росолио и слушал нескончаемые тетушкины рассказы. Ведь в десять мне следовало быть под окошком некоей особы, которая должна была в тот час любоваться луною, высунув из окна свою прелестную головку в папильотках и в премиленьком плоеном чепчике.
Но окно было уже закрыто, и даже свеча не горела; и чего только я не делал, стоя у садовой ограды: и покашливал, и посвистывал, и напевал песенку, которая так нравилась некоей особе, и даже кинул в заветное окно камешком, который угодил как раз в оконный переплет, — все одно никто не проснулся, только громаднейший дворовый пес принялся рычать, лаять, да кидаться на ограду против того места, где я стоял, так что чуть было не ухватил меня за нос.
И пришлось мне поскорее убраться восвояси; а на другое утро в четыре часа моя матушка и сестры уже собрали завтрак, а в пять под окнами загромыхал лондонский дилижанс "Верный Тори", и я взобрался на империал, так и не повидавшись с Мэри Смит.
Когда мы проезжали мимо ее дома, мне показалось, что занавеска на ее окне чуть отодвинута. Зато окошко уж вне всякого сомнения стояло настежь, а ночью оно было затворено; но вот уже ее домик остался позади, а вскорости и деревня наша, и церковь с кладбищем, и скирда Хикса скрылись из виду.
* * *
— Ух ты, какая штуковина! — вытаращив на меня глаза и попыхивая сигарой, сказал конюх кучеру, и беззастенчиво ухмыльнулся.
Дело в том, что, воротясь от тетушки, я так и не раздевался; на душе у меня было неспокойно, да еще следовало уложить все мое платье, и мысли были заняты другим, вот я и, позабыл про аграф миссис Хоггарти, который с вечера прицепил к рубашке.
ГЛАВА II Повествует о той, как бриллиант был привезен в Лондон и какое удивительное действие оказал он в Сити и в Вест-Энде
События, о коих рассказывается в этой повести, произошли лет двадцать назад, когда, как, вероятно, помнит любезный читатель, в лондонском Сити вошло в моду учреждать всякого рода компании, благодаря которым многие нажили себе изрядное состояние.
Надобно сказать, что в те поры я исправлял должность тринадцатого конторщика из числа двадцати четырех молодых людей, на которых лежало все делопроизводство Западно-Дидлсекского независимого страхового общества, каковое помещалось в великолепном каменном доме на Корнхилле. Моя матушка вложила в это общество четыреста фунтов, и они приносили ей ежегодно не менее тридцати шести фунтов доходу, тогда как ни в каком другом страховом обществе она не получила бы более двадцати четырех. Председателем правления был знаменитый мистер Брафф из торгового дома "Брафф и Хофф. Торговля с Турцией", что на Кратчед-Фрайерз. То была новая фирма, но она, как никакая другая фирма в Сити, преуспела в торговле фигами и губками и в особенности зантской коринкою.
Брафф был известным лицом среди диссидентов, и в списке любого благотворительного общества, учреждаемого этими добрыми христианами, всякий раз оказывался среди самых щедрых жертвователей. В его конторе на Кратчед-Фрайерз трудились девять молодых людей; он принимал к себе на службу лишь тех, кто мог предъявить свидетельство учителя и священника своего родного прихода, ручавшихся за его нравственность и веру; и столько было желающих поступить к нему на место, что всякий молодой человек, которого он заставлял в поте лица трудиться по десяти часов в день, а в награду за это обучал всем хитростям торговли с турками, при вступлении в должность вкладывал в дело четыреста, а то и пятьсот фунтов. На бирже Брафф тоже был человек известный; и наши молодцы не раз слыхали от биржевых служащих (мы обыкновенно вместе обедали в "Петухе и Баране", заведении весьма добропорядочном, где всего за шиллинг подавали изрядный кусок говядины, хлеб, овощи, сыр, полпинты пива да пенни на чай), какие грандиозные операции Брафф совершал с испанскими, греческими и колумбийскими акциями. Хофф ко всему атому касательства не имел, он сидел в конторе и занимался единственно делами торгового дома. Это был молодой, тихий, степенный квакер, и Брафф взял его в компаньоны ради тридцати тысяч фунтов, которые тот вложил в фирму, — тоже недурная сделка. Мне сказали, вод строжайшим секретом, что из года в год прибыль фирмы составляла добрых семь тысяч фунтов; из них Брафф получает половину, Хофф — две шестых и одну шестую — старик Тадлоу, который был первым помощником Браффа еще до того, как в дело вошел Хофф. Тадлоу всегда ходил в самом убогом платье, и мы считали его скрягой. Один из наших конторщиков, по имени Боб Свинни, уверял, что никакой доли Тадлоу не получает и что вообще все получает один Брафф; но Боб был известный враль и ловкач, щеголял в зеленом сюртуке и бесплатно ходил в театр "Ковевт-Гарден". В заведении, так мы называли нашу контору, хотя она ни в чем не уступала самым великолепным конторам на Корнхилле) он вечно соловьем разливался об Лючии Вестрис и мисс Три и напевал:
Ежевика, ежевика, Что за чудо ежевика!хорошо известную песенку Чарли Кембла из пьесы "Девица Мэриен" — самой модной в том сезоне, — она взята из книги рассказов некоего Пикотса, конторщика в управлении "Ост-Индской Ко" (а ведь какое место завидное занимает).
Когда Брафф проведал, как Боб Свинни его поносит, да еще про то, что он бесплатно ходит театр, он пришел в контору, где все мы сидели — все двадцать четыре, — и такую произнес прекрасную речь, каких я отродясь не слыхивал. Он сказал, что никакое злословие его не заботит, уж таков удел человека строгих правил, ежели он печется о благе людском и при этом строго держится этих своих правилу но зато его очень даже заботит нрав и поведение каждого, кто служит в Западно-Дидлсекском страховом обществе. Им доверено благосостояние тысяч людей; через их руки что ни день проходят миллионные суммы; Лондон, какое там — вся страна ждет от них рачительности, честности, доброго примера. А ежели среди тех, кого он почитает, за своих детей, кого любят, точно родную плоть и кровь, найдется такой, кто исполняет свою должность без усердия, кто позабыл о честности, кто перестал являть добрый пример, ежели его дети преступили спасительные правила нравственности, религии и благопристойности (мистер Брафф всегда изъяснялся возвышенно), кто бы это ни был — самый первый человек в его конторе или самый последний, главный ли конторщик с жалованьем шестьсот фунтов в год или швейцар, подметающий крыльцо, — ежели он хоть на малый шаг сойдет со стези добродетели, — он, мистер Брафф, отторгнет его от себя, да, отторгнет, будь то даже его родной сын!
И, сказавши так, мистер Брафф разразился слезами; а мы все, не зная, что за этим воспоследует, переглядывались друг с другом и дрожали, как зайцы, — все, кроме Свинни, двенадцатого конторщика, которому все это было как с гуся вода. Когда мистер Брафф осушил слезы и пришел в себя, он оборотился и — ох, как у меня заколотилось сердце! — поглядел мне прямо в глаза. И с каким облегчением, однако же, я перевел дух, когда он воззвал громовым голосом:
— Мистер Роберт Свинни!
— К вашим услугам, сэр, — как ни в чем не бывало отозвался Свинни, и кое-кто из конторщиков захихикал.
— Мистер Свинни! — еще громче провозгласил Брафф. — Мистер Свинни, когда вы вошли в эту контору, в эту семью, сэр — ибо я с гордостью утверждаю, что это поистине семья, сэр, — вас встретили здесь двадцать три молодых человека — других таких благочестивых и усердных сослуживцев и не сыщешь, и им вверено богатство нашей столицы и нашей славной империи. Здесь царствовали, сэр, трезвость, усердие и благопристойность; в этом храме, в храме… деловых операций, не было места богохульным куплетам; здесь не злословили шепотком о своих начальниках — но я не стану отвечать на это злословие, сэр, я могу позволить себе пренебречь им; никакие легкомысленные разговоры, никакие грубые шутки не отвлекали внимание этих джентльменов, не оскверняли мирную картину их труда. Вас встретили, сэр, добрые христиане и джентльмены!
— Я, как и все, заплатил за свое место, — сказал Свинни. — Разве мой родитель не купил ак…
— Ни слова больше, сэр! Конечно же, ваш почтенный батюшка купил акции этого предприятия, и в один прекрасный день они его обогатят. Да, сэр, он купил акции, иначе эти двери не раскрылись бы перед вами. Я с гордостью заявляю, что у каждого из моих юных друзей есть кто-нибудь — отец ли, брат, близкий родственник или друг, — кто теми же узами связан с нашей процветающей фирмой, и что каждый, кто здесь служит, получает комиссионные за то, что привлекает к нам новых акционеров. Однако же, сэр, глава этого дела я. Я в свое время утвердил вас в должности, и, как вы сейчас убедитесь, я же, Джон Брафф, вас от нее отрешаю. Оставьте нас, сэр!.. Уходите, покиньте нашу семью, в лоне ее уже нет более для вас места! Я не сразу решился на этот шаг, мистер Свинни; я лил слезы, сэр, я возносил молитвы; я советовался, сэр, и теперь решение мое твердо. Оставьте нас, сэр!
— Только сперва заплатите мне жалованье за три месяца. Я ведь стреляный воробей, мистер Брафф.
— Деньги будут выплачены вашему батюшке, сэр.
— К черту батюшку! Я вам вот что скажу, Брафф; я совершеннолетний, и, если вы не отдадите мне мое жалованье, я упеку вас за решетку… вот провалиться мне на этом месте! Вы у меня узнаете, почем фунт лиха, это уж как пить дать!
— Выпишите этому бессовестному молодому человеку чек на трехмесячное жалованье, мистер Раундхэнд.
— Двадцать один фунт пять шиллингов, Раундхэнд, и никаких вычетов за гербовую марку! — крикнул нахал Свинни. — Вот так, распишемся в получении. И не нужно передаточной надписи на моего банкира. А если кто из вас, джентльмены, пожелает нынче в восемь вечера бесплатно выпить по стаканчику пунша, Боб Свинни к вашим услугам! Может быть, и мистер Брафф окажет мне честь, погуляет с нами вечерок? Ну-ну, только не говорите "нет"!
Мы больше не могли молча слушать его дерзости и принялись хохотать, как сумасшедшие.
— Вон отсюда! — весь побагровев, взревел мистер Брафф; Боб снял с крючка свою белую шляпу — колпак, как он ее называл — и, лихо заломив ее, неспешным шагом удалился.
Когда дверь за ним затворилась, мистер Брафф прочел нам еще одну рацею, которую все мы решили намотать на ус; потом он подошел к конторке Раундхэнда и, обнявши его за плечи, заглянул в гроссбух.
— Каковы сегодня поступления, Раундхэнд? — весьма благодушно осведомился он.
— Та вдова, сэр, принесла деньги — девятьсот четыре фунта десять шиллингов шесть пенсов. Капитан Спар полностью оплатил свои акции, сэр; поворчал, правда, говорит, совсем обезденежел; пятьдесят акций, два взноса итого сто пятьдесят фунтов, сэр.
— Он всегда ворчит.
— Говорит, у него ни гроша за душой не осталось, вся надежда, мол, на дивиденды.
— Еще что-нибудь есть?
Мистер Раундхэнд углубился в гроссбух и через несколько времени объявил, что всего поступила одна тысяча девятьсот фунтов. Дело росло, как на дрожжах, и последнее время мы трудились в поте лица; а ведь когда я вступил в должность, мы целыми днями били баклуши — пересмеивались, перешучивались, читали газеты, и только ежели забредал случайный клиент, разбегались к своим конторкам. В те поры Брафф спускал нам и смех и песенки, и казалось, с Бобом Свинни их водой не разольешь; но то все было на самой заре, пока еще нас не запрягли как следует.
— Тысяча девятьсот фунтов, и еще тысяча фунтов в акциях. Браво, Раундхэнд, браво, джентльмены! Помните: каждая акция, приобретенная благодаря вашему усердию, приносит вам пять процентов наличными. Берите пример друг с друга, будьте прилежны, добропорядочны. Надеюсь, все вы исправно посещаете церковь. Кто займет место мистера Свинни?
— Мистер Сэмюел Титмарш, сэр.
— Поздравляю вас, мистер Титмарш. Жму вашу руку, сэр; отныне вы двенадцатый конторщик нашего общества, и ваше жалованье соответственно повышается на пять фунтов в год. Как поживает ваша почтенная матушка, сэр, ваша дорогая, бесценная родительница? Надеюсь, она в добром здравии? Я горячо молюсь, чтобы еще долгие, долгие годы наша фирма могла выплачивать ей ежегодную ренту! Если у нее есть свободные деньги, ей теперь еще больше смысла вложить их в наше дело, — ведь она стала на год старше; а вы, мой дорогой, получите пять процентов, помните об этом. Чем вы хуже других? Молодой человек — он молодой человек и есть, и десять фунтов ему никак не помешают. А то, может, помешают, а, мистер Абеднего?
— Как можно, сэр! — воскликнул Абеднего, третий конторщик, тот самый, что донес на Свинни, и захихикал, как хихикали все мы всякий раз, как мистер Брафф изволил шутить; не то чтобы это были смешные шутки, но по лицу его мы всегда понимали: это он шутит.
— Да, кстати, — вдруг говорит он, — у меня к вам дело, Раундхзнд. Миссис Брафф желает знать, что это вы никогда не заглянете к нам в Фулем.
— Да неужто, как любезно с ее стороны! — воскликнул польщенный Раундхзнд.
— Назначьте день, дорогой! Ну, скажем, субботу, и прихватите с собой ночной колпак.
— Вы очень любезны, сэр, очень. Я бы с восторгом, но…
— Но?.. Никаких "но", дорогой! Слушайте! Мой обед почтит своим присутствием сам министр финансов, и я хочу с ним вас познакомить; ибо, по правде говоря, я похвастался вами перед его светлостью, сказал, что другого такого страхового статистика не сыщешь в целом королевстве.
Ну, как мог Раундхэнд отказаться от такого приглашения! А ведь он рассказывал нам, что субботу и воскресенье собирается провести с женой в Патни; и мы, которые знали, что за жизнь у бедняги, не сомневались, что, услыхавши про это приглашение, супруга нашего старшего конторщика разбранит его на чем свет стоит. Она сильно не жаловала миссис Брафф: разъезжает в собственной карете, а говорит, что ведать не ведает, где это Пентонвилл, и даже не соблаговолила нанести ей визит. А ведь уж как-нибудь ихний кучер нашел бы дорогу.
— Ах да, Раундхэнд! — продолжал наш хозяин. — Выпишите-ка мне чек на семьсот фунтов. Ну-ну, нечего пялить на меня глаза, любезный, я не собираюсь удрать! Вот именно, семьсот, ну, скажем, семьсот девяносто, раз уж вам все равно выписывать. В субботу заседает правление, так что не бойтесь, я отчитаюсь перед ними за эти деньги еще до того, как повезу вас в Фулем. За министром мы заедем в Уайтхолл.
И с этими словами мистер Брафф сложил чек и, очень сердечно пожав руку мистеру Раундхэнду, сел в свою карету, запряженную четверкой лошадей, которая поджидала его у дверей конторы (он всегда ездил четверкой, даже в Сити, где это было нелегко).
Боб Свинни говаривал, что двух его лошадей оплачивала компания; но Боб такой был пустобрех да насмешник, что его россказням и вполовину нельзя было верить.
Уж не знаю, почему так вышло, но в тот вечер и мне, и джентльмену по имени Хоскинс (одиннадцатому конторщику), с которым мы снимали очень уютные комнатки на третьем этаже в доме на Солсбери-сквер, близ Флит-стрит, вдруг прискучили наши дуэты на флейте, и так как погода была отменная, мы отправились к Вест-Энду прогуляться. Через несколько времени мы очутились напротив театра "Ковент-Гарден", неподалеку от кабачка "Глобус", и тут только вспомнили радушное приглашение Боба Свинни. Мы, конечно, почитали все это за шутку, но решили все же на всякий случай заглянуть туда.
И там, хотите верьте — хотите нет, как и было обещано, в дальней зале во главе стола, в густом табачном дыму, восседал Боб, а с ним восемнадцать наших джентльменов, и они говорили все сразу и стучали стаканами по столу.
Слышали бы вы, какой они подняли крик, увидевши нас!
— Ур-р-ра! — прокричал Боб. — Еще двое! Еще два стула, Мэри, еще два стакана, еще на двоих горячей воды и две порции джина! Господи боже, кто бы подумал, что и Титмарш к нам припожалует?
— Так мы ж тут по чистой случайности, — сказал я.
При этих словах поднялся оглушительный хохот: оказалось, что положительно все говорили, будто их привел сюда случай. Так или иначе, случай подарил нам превеселый вечерок; и радушный Боб Свинни заплатил за всех нас все до единого шиллинга.
— Джентльмены! — провозгласил он, расплатившись. — Выпьем за здоровье Джона Браффа, эсквайра, и поблагодарите его за подарок, который он преподнес мне нынче утром, — двадцать один шиллинг пять пенсов. Да нет, какие там двадцать один шиллинг пять пенсов? К этой сумме прибавьте еще жалованье за месяц — мне пришлось бы его выложить за то, что я ухожу без предупреждения, ибо завтра утром я все равно намеревался уйти… Я нашел местечко первый сорт, скажу я вам. Пять гиней в неделю, шесть поездок в год, к моим услугам лошадь и двуколка, а ездить надобно на запад Англии, собирать заказы на масло и спермацет. Так что да сгинет газ и за здоровье господ Ганн и компания, Лондон, Темз-стрит!
Я так подробно рассказываю о Западно-Дидлсекском страховом обществе и об его директоре-распорядителе мистере Браффе (вы, надо думать, понимаете, что и имя директора, и название общества вымышленные), потому что, как я намереваюсь показать, и моя собственная судьба, и судьба моей бриллиантовой булавки непостижимым образом переплелись и с тем и с другим.
Не скрою от вас, что в нашей конторе я пользовался известным уважением, оттого что происходил из лучшей семьи против семей большинства наших джентльменов и получил классическое образование, в особенности же оттого, что у меня была богатая тетушка, миссис Хоггарти, чем я, надо признаться, похвалялся направо и налево. Как я успел убедиться, в нашем мире совсем не лишнее, когда вас уважают, и ежели сам не станешь выставлять себя, уж будьте уверены, среди ваших знакомых не найдется ни одного, кто бы снял с вас эту заботу и поведал бы миру о ваших достоинствах.
Так что, возвратясь в контору после поездки домой и занявши свое место напротив запыленного окна, глядящего на Берчин-лейн, и раскрыв бухгалтерский журнал, я вскорости поведал всей честной компании, что хотя моя тетушка не снабдила меня изрядной суммой, как я надеялся, а я, не скрою, уже пообещал дюжине своих товарищей, что, ежели стану обладателем обещанных богатств, устрою для них пикник на реке, — я поведал, повторяю, что хоть тетушка и не дала мне денег, зато подарила великолепнейший бриллиант, которому цена по меньшей мере тридцать гиней, и что как-нибудь на днях я надену его, идучи в должность, и каждый сможет им полюбоваться.
— Что ж, поглядим, поглядим! — сказал Абеднего, чей папаша торговал на Хэнуэй-стрит дешевыми драгоценностями и галунами, и я пообещал, что он увидит бриллиант, как только будет готова новая оправа. Так как мои карманные деньги тоже кончились (я заплатил за дорогу домой и обратно, пять шиллингов дал дома нашей служанке, десять шиллингов — тетушкиной служанке и лакею, двадцать пять шиллингов, как я уже говорил, проиграл в вист и пятнадцать шиллингов шесть пенсов отдал за серебряные ножнички для милых пальчиков некоей особы), Раунд-хэнд, человек весьма доброжелательный, пригласил меня пообедать и к тому же выдал мне вперед месячное жалованье семь фунтов один шиллинг восемь пенсов. У него дома, на Мидлтон-сквер, в Пентонвилле, за обедом, состоящим из телячьего филе, копченой свиной грудинки и портвейна, я убедился собственными глазами в том, о чем уже раньше говорил, — как плохо с ним обходится его жена. Бедняга! Мы, младшие служащие, воображали, будто это бог весть какое счастье — занимать одному целую конторку и каждый месяц получать пятьдесят фунтов, но теперь мне сдается, что мы с Хоскинсом, разыгрывая дуэты на флейте у себя в комнатке на третьем этаже на Солсбери-сквер, чувствовали себя куда, непринужденнее нашего старшего конторщика, и согласия и ладу у нас тоже было побольше, хотя музыканты мы были никудышные.
Однажды мы с Гасом Хоскинсом испросили у Раунд-хэнда разрешение уйти из конторы в три часа пополудни, сославшись на весьма важное дело в Вест-Энде. Он знал, что речь идет о знаменитом бриллианте Хоггарти, и отпустил нас; и вот мы отправились. Когда мы подошли к Сент-Мартинс-лейн, Гас купил сигару, чтобы придать себе, как говорится, благородный вид, и попыхивал ею всю дорогу, пока мы шли по узким улочкам, ведущим на Ковентри-стрит, где, как всем известно, помещается лавка мистера Полониуса.
Двери стояли настежь, к ним то и дело подъезжали кареты, в которых восседали нарядные дамы. Гас держал руки в карманах — панталоны в те времена носили очень широкие, в глубоких складках, с небольшими прорезами для сапог или башмаков (франты носили башмаки, а мы, служащие в Сити, живущие на восемьдесят фунтов в год, довольствовались старомодными сапогами); держа руки в карманах панталон, Гас оттягивал их как мог шире на бедрах, попыхивал сигарой, постукивал подбитыми железом каблуками, и при том, что бакенбарды у него были не по возрасту густые и пышные, выглядел он весьма внушительно и всякий принимал его за личность незаурядную.
Однако же в лавку он не зашел, а стоял на улице и разглядывал выставленные в витрине золотые кубки и чайники. Я вошел в лавку; несколько времени я переминался с ноги на ногу, покашливал, — ведь я никогда еще не бывал в таком модном месте, — и наконец отважился спросить одного из приказчиков, нельзя ли мне поговорить с мистером Полониусом.
— Чем могу служить, сэр? — спросил мистер Полониус, который, как оказалось, стоял тут же и занимался с тремя дамами, одной совсем старой и двумя молодыми, с большим вниманием. рассматривавшими жемчужные ожерелья.
— Сэр, — начал я, доставая из кармана свое сокровище, — сколько мне известно, этот камень уже побывал в ваших руках, он принадлежал моей тетушке, миссис Хоггарти, владелице замка Хоггарти.
При этих моих словах старая дама, стоявшая поблизости, оборотилась.
— В тысяча семьсот девяносто пятом году я продал ей золотую цепь и часы с репетицией, — сказал мистер Полониус, который положил себе за правило все помнить, — а также серебряный черпак для пунша капитану. Скажите, сэр, как нынче поживает майор… или полковник… а может, генерал?
— Генерал, — ответил я, — мистера Хоггарти, к великому моему сожалению, уже нет среди нас. — Однако же очень гордый, что сей господин так охотно со мной беседует, я продолжал: — Но тетушка подарила мне этот… эту безделушку; в ней, как вы изволите видеть, заключен портрет ее супруга, и я буду весьма признателен вам, сэр, если вы сохраните его для меня в неприкосновенности; и тетушка желает, чтобы вы сделали подобающую для этого бриллианта оправу.
— А как же, сэр, подобающую и показистее.
— Подобающую и в нынешнем вкусе; а счет благоволите послать ей. Тут немало золота, вы, конечно, примете это в расчет.
— До последней крупицы, — с поклоном ответствовал мистер Полониус, разглядывая мое сокровище. — Диковинная вещица, что и говорить, хотя бриллиант, конечно, достоин внимания. Не угодно ли взглянуть, миледи. Вещица сработана ирландскими мастерами, помечена девяносто пятым годом, она, быть может, напомнит вашей светлости времена вашей ранней юности.
— Стыда у вас нет, мистер Полониус! — сказала старая дама, маленькая, сухонькая, с лицом в тысячах мелких морщинок. — Да как вы осмелились, сэр, болтать эдакий вздор такой старухе? Да в девяносто пятом году мне уж пятьдесят стукнуло, а в девяносто шестом я сделалась бабушкой. — Она протянула высохшие дрожащие ручки, поднесла медальон к глазам, с минуту внимательно его разглядывала, а затем, рассмеявшись, промолвила: — Чтоб мне не сойти с этого места, это ж знаменитый бриллиант Хоггарти!
Боже милостивый! Да что ж это за талисман попал мне в руки?
— Посмотрите-ка, девочки, — продолжала старая дама, — это самый знаменитый драгоценный камень во всей
Ирландии. Вот этот краснолицый господин посредине — несчастный Мнк Хотгарти, мой родич, он был влюблен в меня в восемьдесят четвертом году, когда я только что схоронила вашего дорогого дедушку. А вот эти тринадцать рыжих прядей — это волосы его тринадцати прославленных сестриц — Бидди, Минни, Тедди, Уидди (сокращенное от Уильямина), Фредди, Иззи, Тиззи, Майзи, Гриззи, Полли, Долли, Нелл и Белл — все замужем, все уродины и все рыжие. Так чей же вы сын, молодой человек? Хотя, надо отдать вам справедливость, фамильного сходства в вас не заметно.
Две хорошенькие молоденькие девицы оборотились, подняли на меня две пары хорошеньких черных глазок и ждали ответа, кажовой бы они непременно получили, да тут старая дама принялась громким головом рассказывать одну историю за другой про вышеназванных дам, про их обожателей, про все их обманутые надежды и про дуэли Мика Хоггарти. Она помнила наперечет все скандальные сплетни за полвека. Наконец поток ее красноречия был прерван отчаянным кашлем; а когда она откашлялась, мистер Полониус почтительно осведомился, куда следует прислать булавку и угодно ли мне сохранить эти волосы.
— Нет, — отвечал я, — бог с ними с волосами.
— А куда прикажете доставить булавку, сэр?
Мне совестно показалось назвать свой адрес. Но тот же час я подумал: "Да пропади оно пропадом, чего мне совеститься?
Король лакея своего Назначит генералом, Но он не может никого Назначить честным малым.Что это я стесняюсь сказать, где живу?"
— Когда все будет готово, cэp, будьте так добры отошлите пакет мистеру Титмаршу, в дом номер три, на Белл-лейн, Солсбери-сквер, подав церкви святой Бригитты, что на Флит-стрит, — сказал я. — Звонить в звонок третьего этажа, сэр.
— Как, сэр, как вы изволили сказать? — переспросил мистер Полониус,
— Кхак! — взвизгнула старая дама. — Мистер Кхак? Mais, ma chere, c'est impayable [1]. Едемте, карета ждет! Дайте мне вашу руку, мистер Кхак, садитесь в карету и расскажите мне об ваших тринадцати тетушках.
Она ухватила меня за локоть и резво заковыляла к выходу; молодые спутницы, смеясь, последовали за ней.
— Ну, влезайте, что же вы? — сказала она, высунувши свой острый нос из окошка кареты.
— Не могу, сударыня, — сказал я. — Меня ожидает друг.
— Эка выдумал! Плюньте на него и влезайте. — И не успел я слова вымолвить, как огромный малый в пудреном парике и в желтых плюшевых штанах подтолкнул меня по лесенке и захлопнул дверцы.
Карета тронулась, и я только мельком успел взглянуть на Хоскинса, но его изумленное лицо никогда не изгладится из моей памяти. Прямо как сейчас его вижу — стоит, разинувши рот, глядит во все глаза, держит в руке дымящуюся сигару и никак не возьмет в толк, что это со мной приключилось.
— Да кто он такой, этот Титмарш? — спрашивает себя Гас. — На карете-то графская корона, вот ей-богу!
ГЛАВА III Повествует о том, как обладателя бриллианта унесла великолепная колесница, и об его дальнейших удачах
Я поместился на переднем сиденье кареты, подле премиленькой молодой особы, примерно тех же лет, что моя дорогая Мэри, а именно семнадцати и три четверти; напротив нас сидела старая графиня и другая ее внучка — тоже очень пригожая, но десятью годами старше. Помнится, в тот день на мне был синий сюртук с медными пуговицами, нанковые панталоны, белый, расшитый веточками жилет и шелковый цилиндр а ля Дандо, какие в двадцать втором году только что вошли в моду и в каких блеску было куда больше, чем в самолучшей касторовой шляпе.
— А кто это мерзкое чудище с подбитыми железом каблуками и с фальшивой золотой цепью, — спросила миледи, — еще у него рот до ушей, и он так вытаращился на нас, когда мы садились в карету?
И когда она углядела, что цепочка у Гаса не чистого золота, ума не приложу; но это верно, мы купили ее неделю назад у Мак-Фейла, что в переулке Святого Павла, за двадцать пять шиллингов шесть пенсов. Однако я не желал слушать, как поносят моего друга, и тот же час вступился за него.
— Сударыня, — сказал я, — этого джентльмена зовут Огастес Хоскинс. Мы с ним вместе квартируем, и я не знаю человека лучше и добросердечнее.
— Вы совершенно правы, что не даете в обиду своих друзей, сэр, сказала вторая леди, которую звали леди Джейн.
— Что ж, скажу по чести, он молодец, леди Джейн. Люблю, когда молодые люди не пугливы. Так, стало быть, его зовут Хоскинс, вот оно что? Дорогие мои, я знаю всех Хоскинсов, сколько их есть в Англии. Есть Хоскинсы Линкольнширские и есть Шропширские — говорят, дочка адмирала Хоскинса, Белл, была влюблена в чернокожего лакея, не то в боцмана, не то еще в кого-то такого; но ведь свет так злоязычен. Есть еще старый доктор Хоскинс из Вата, он пользовал моего бедняжку Бума, когда тот приболел ангиной. И еще есть бедняжка Фред Хоскинс, генерал, что мается подагрой; помню, каков он был в восемьдесят четвертом году — худой как щепка и шустрый как паяц, он в те поры был в меня влюблен, уж так влюблен!
— Как видно, бабушка, в молодости у вас не было отбою от поклонников, сказала леди Джейн.
— Да, моя милая, их были сотни, сотни тысяч. В Бате все по мне с ума сходили, поглядела бы ты, какая я была красавица. Ну-ка, скажите по совести, мистер как-вас-там-величают, только без лести, можно сейчас в это поверить?
— По правде сказать, сударыня, никогда бы не поверил, — отвечал я, ибо старая графиня была страшна, как смертный грех; и при этих моих словах обе внучки залились веселым смехом, и на запятках заухмылялись оба лакея в густых бакенбардах.
— Уж больно вы простодушны, мистер как-вас-там… да, уж больно простодушны; однако же в молодых людях я люблю простодушие. И все-таки я была красавица. Вот спросите у генерала — дядюшки вашего приятеля. Он из линкольнширских Хоскинсов, я сразу признала — уж очень он с лица на них на всех походит. Он что же, старший сын? У них изрядное состояние, правда, и долгов многонько; ведь старик сэр Джордж был отчаянная голова — водил дружбу с Хэнбери Уильямсом и с Литлтоном, со всякими негодяями и греховодниками. Сколько же ему достанется после смерти адмирала, любезный?
— Да где ж мне знать, сударыня, адмирал-то ведь не отец моему другу.
— Как так не отец? А я говорю — отец, я никогда не ошибаюсь. А кто тогда его отец?
— Отец Гаса торгует кожаными изделиями на Скиннер-стрит, Сноу-Хилл, сударыня, весьма почтенная фирма. Но Гас всего лишь третий сын, так что на большую долю в наследстве ему рассчитывать не приходится.
При этих словах внучки улыбнулись, а старая дама воскликнула: "Кхак?"
— Мне нравится, сэр, что вы не конфузитесь своих друзей, каково бы ни было их положение в обществе, — сказала леди Джейн. — Доставьте нам удовольствие, мистер Титмарш, скажите, куда вас подвезти?
— Да, собственно, я никуда не тороплюсь, миледи, — сказал я. — Мы сегодня свободны от занятий в конторе, — во всяком случае, Раундхэнд отпустил нас с Гасом; и если это не чересчур смело с моей стороны, я был бы весьма счастлив прокатиться с вами по Парку.
— Ну, что вы, мы будем… очень рады, — ответила леди Джейн, однако же лицо у нее стало словно бы озабоченное.
— Ну конечно, мы будем рады! — подхватила леди Фанни, захлопав в ладоши. — Ведь правда, бабушка? Покатаемся по Парку, а потом, если мистер Титмарш не откажется нас сопровождать, погуляем по Кенсингтонскому саду.
— Ничего подобного мы не сделаем, Фанни, — промолвила леди Джейн.
— А вот и сделаем! — пронзительным голосом воскликнула старая леди Бум. — Мне же до смерти хочется порасспросить его про его дядюшку и тринадцать теток. А вы так трещите, ну, сущие сороки, рта раскрыть не даете ни мне, ни моему молодому другу.
Леди Джейн пожала плечами и больше уже не произнесла ни слова. Леди Фанни, резвая, как котенок (ежели мне будет дозволено эдак выразиться об девице из аристократического семейства), засмеялась, вспыхнула, захихикала, — казалось, дурное настроение сестры очень ее веселит. А графиня принялась перемывать косточки тринадцати девицам Хоггарти, и вот мы уже въехали в Парк, а конца ее рассказам все не было видно.
Вы не поверите, сколько разных джентльменов верхами подъезжали к нам в Парке и беседовали с дамами. У каждого была припасена шуточка для леди Бум, которая, видно, была в своем роде оригиналка, поклон для леди Джейн и комплимент, особенно у молодых, для леди Фанни.
И хотя леди Фанни кланялась и краснела, как и подобает молодой девице, она, видно, думала об чем-то своем, ибо поминутно высовывалась из окошка кареты и нетерпеливо оглядывалась, словно в толпе всадников искала кого-то взглядом. Вот оно что, милая леди, уж я-то знаю, отчего это молоденькая хорошенькая барышня вдруг впадает в рассеянность и все будто кого-то ждет и едва отвечает на вопросы. Уж поверьте, Сэму Титмаршу хорошо известно, что обозначает это самое слово кто-то. Поглядевши на все эти ухищрения, я не мог не намекнуть леди Джейн, что понимаю, в чем тут дело.
— Сдается мне, барышня кого-то дожидается, — сказал я.
Тут у ней, в свой черед, лицо сделалось какое-то странное и она покраснела как маков цвет, но уже через минуту, добрая душа, поглядела на сестру, и обе уткнулись в платочки и засмеялись… Так засмеялись, будто я отпустил препотешную шутку.
— Il est charmant, votre monsieur [2] — сказала леди Джейн старой графине.
Услыхав эти слова, я отвесил ей поклон и сказал:
— Madame, vous me faites beaucoup d'honneur [3], - ибо я знал по-французски и обрадовался, что пришелся по душе этим любезным особам. — Я человек простой, сударыня, к лондонскому свету непривычен, но я очень даже чувствую вашу доброту — что вы эдак подобрали меня и прокатили в вашей распрекрасной карете.
В эту самую минуту к карете подскакал джентльмен на вороном коне, лицом бледный и с бородкой клинышком; по тому, как леди Фанни неприметно вздрогнула и в тот же миг отворотилась от окошка, я понял, что это он и есть, кого она ждала.
— Приветствую вас, леди Бум, — сказал он. — Я только что катался с неким господином, который едва не застрелился от любви к красавице графине Бум, было это в году… впрочем, неважно, в каком году.
— Уж не Килблейзес ли это? — спросила старая графиня. — Он очень мил, и я хоть сейчас готова с ним бежать. Или вы это про нашего очаровательного епископа? Когда он был капелланом у моего батюшки, я дала ему свой локон, и, скажу я вам, нелегкая была бы задача, пожелай я сейчас одарить кого-нибудь таким же знаком внимания.
— Помилуй бог, миледи! — удивился я. — Не может этого быть!
— А вот и может, милейший, — возразила она. — Между нами говоря, голова у меня лысая как коленка — вот хоть у Фанни спросите. Как же она, бедняжка, перепугалась, когда маленькая была: зашла ко мне в комнату, а я без парика!
— Надеюсь, леди Фанни оправилась от испуга, — сказал кто-то, взглянув сперва на нее, а потом уж на меня — да такими глазами, будто готов был меня съесть. И, поверите ли, леди Фанни только и сумела вымолвить:
— Да, милорд, благодарю вас.
И сказала она это с таким трепетом, вся залившись краской, совсем как мы отвечали в школе Вергилия, когда, бывало, не выучим урока.
Милорд, все еще испепеляя меня взглядом, пробормотал, что надеялся на место в карете леди Бум, ибо верховая езда его утомила; а леди Фанни в ответ пробормотала что-то насчет "бабушкиного доброго знакомого".
— Да уж скорее это твой добрый знакомый, — поправила леди Джейн, — мы только потому здесь и очутились, что Фанни непременно хотелось прокатить мистера Титмарша по Парку. Позвольте мне познакомить вас с мистером Титмаршем, граф Типтоф.
Однако же вместо того, чтобы, как и я, снять шляпу, его сиятельство проворчал, что готов подождать до другого раза, и тотчас ускакал на своем вороном коне. И чем это я его обидел, ума не приложу.
Но в тот день мне суждено было обижать всех мужчин подряд, ибо как вы думаете, кто подъехал к карете в скором времени? Сам достопочтенный Эдмунд Престон, один из министров его величества (как я знал доподлинно из календаря, висящего у нас в конторе) и супруг леди Джейн. Достопочтенный Эдмунд Престон сидел на приземистом сером жеребце, и был он так тучен и бледен, словно всю жизнь свою провел в четырех стенах.
— Кого это еще нелегкая принесла? — спросил он жену, хмуро глядя на нее и на меня.
— Это добрый знакомый бабушки и Джейн, — тотчас отозвалась леди Фанни с видом лукавым и проказливым и хитро поглядела на сестру, а та, в свой черед, казалось, была очень испугана и, не смея вымолвить ни слова, только умоляюще поглядела на нее.
— Да-да, — продолжала леди Фанни, — мистер Титмарш бабушке родня с материнской стороны, со стороны Хоггарти. Разве вы не встречались с семейством Хоггарти, когда ездили в Ирландию с лордом Бэгуигом, Эдмунд? Позвольте познакомить вас с бабушкиным родичем мистером Титмаршем. Мистер Титмарш, это мой зять, мистер Эдмунд Престон.
Тем временем леди Джейн изо всех сил нажимала кончиком башмака на ногу сестры, однако же маленькая плутовка будто и не замечала ничего, а я, слыхом не слыхавший про такое родство, не ведал, куда деваться от смущения. Но хитрая баловница знала свою бабку леди Бум куда лучше меня; ибо старая графиня, которая совсем недавно назвала своим родичем беднягу Гаса, видно, воображала, что целый свет состоит с нею в родстве.
— Да, — отозвалась она, — мы родня, и не такая уж дальняя. Бабушка Мика Хоггарти, Миллисент Брейди, родня моей тетки Таузер, это всякий знает; а как же: Децимус Брейди из Боллибрейди женился на Белл Свифт, кузине матери моей тетки Таузер, — нет-нет, милочка, она не из тех Свифтов, которые в родстве с настоятелем, он-то не бог весть какого рода. Да ведь это же все ясно, как день!
— Ну разумеется, бабушка, — со смехом отвечала леди Джейн, а достопочтенный джентльмен все ехал подле кареты мрачнее тучи.
— Да неужто вы не знаете семейство Хоггарти, Эдмунд!.. Тринадцать рыжих девиц… девять граций и четыре лишку, как их называл бедняга Кленбой. Бедняга Клен… он наш с вами родич, мистер Титмарш, он тоже был от меня без ума. Ну, теперь вспомнили, Эдмунд? Вспомнили? Помните — Бидди, Минни, Тидди, Уидди, Майзи, Гриззи, Полли, Долли и все остальные?
— К черту девиц Хоггарти, сударыня, — сказал достопочтенный джентльмен, да так решительно, что его серый конь взбрыкнул и чуть не сбросил седока.
Леди Джейн взвизгнула, леди Фанни рассмеялась, а старая леди Бум и ухом не повела.
— Поделом вам, сквернавец, будете в другой раз знать, как браниться!
— Может быть, вы сядете в карету, Эдмунд… мистер Престон, — с тревогой воскликнула его супруга.
— Ну разумеется, я сию минуту выйду, сударыня, — сказал я.
— Эка выдумал, — возразила леди Бум, — никуда вы не выйдете, это моя карета, а ежели мистеру Престону угодно браниться при даме в моих летах, эдак грубо и: мерзко браниться, да, да, грубо и мерзко, так с какой стати моим добрым знакомым из-за него беспокоиться. Пусть его едет на запятках, ежели хочет, а то пусть залезает сюда и втискивается между нами.
Я понял, что милейшая леди Бум терпеть не может своего внучатного зятя; и должен сказать, мне случалось замечать подобную ненависть и в других семействах.
По правде говоря, мистер Престон, один из министров его величества, сильно опасался своей лошади и был бы рад скорей слезть с этого брыкливого, норовистого животного. Когда он спешился и передал поводья лакею, он был еще бледнее прежнего и руки и ноги у него дрожали. Я невзлюбил этого молодчика я имею в виду хозяина, а не лакея — с первой же минуты, как он к нам подъехал и эдак грубо заговорил со своей милой, кроткой женой и счел его трусом, каковым он себя и показал в приключении с лошадью. Боже мой милостливый, да с эдакой лошадкой ребенок справился бы, а у него, стоило ей взбрыкнуть, душа ушла в пятки.
— Да скорей же, залезайте, Эдмунд, — смеясь, говорила леди Фанни. Спустили подножку, и, поглядевши на меня зверем, он вошел в карету и хотел было потеснить леди Фанни (уж поверьте, я и не думал уступить ему место).
— Нет-нет, ни за что, мистер Престон, — вскинулась, эта проказница. Закроите дверцу, Томас. Ох, как будет весело прокатиться и чтобы все видели, что министр оказался у нас в карете зажат между дамами!
Ну и мрачен же был наш министр, можете мне поверить!
— Садитесь на мое место, Эдмунд, и не сердитесь на Фанни за ее ребячество, — робко сказала леди Джейн.
— Нет-нет, прошу вас, сударыня, не беспокойтесь. Мне удобно, весьма удобно; надеюсь, и мистеру… этому джентльмену тоже.
— Чрезвычайно удобно, благодарю вас, — сказал я. — Я хотел предложить вам доставить домой вашу лошадь, мне показалось, она вас напугала, но, по правде сказать, мне здесь так удобно, что я просто не могу двинуться с места.
Ух, как усмехнулась при этих словах старая графиня! Как заблестели у ней глазки, как хитро сморщились губы! А я не мог спустить ему, — кровь во мне так и кипела.
— Мы всегда будем рады вам, дорогой Титмарш, — сказала леди Бум, протягивая мне золотую табакерку; я взял понюшку табаку и чихнул с видом заправского лорда.
— Ежели вы изволили пригласить сего джентльмена в вашу карету, леди Джейн Престон, почему бы уж вам заодно не пригласить его отобедать с вами? сказал мистер Престон, багровый от злости.
— Это я пригласила его в свою карету, — возразила старая графиня, — а поскольку обедаем мы нынче у вас и вы настаиваете на приглашении, я буду рада сидеть с ним за одним столом.
— Весьма сожалею, но у меня деловое свидание, — сказал я.
— Скажите на милость, вот незадача! — произнес достопочтенный Нэд, все еще свирепо глядя на свою супругу. — Какая незадача, что сей джентльмен, не упомню его имени, — что ваш друг, леди Джейн, уже занят. Я уверен, дорогая, вы были бы на седьмом небе от счастья, ежели бы могли принять своего родича у себя на Уайтхолле.
Конечно, леди Бум слишком поспешила причислить меня к своей родне, однако же достопоченный Нэд преступил все дозволенные границы. "Ну, Сэм, сказал я себе, — будь мужчиной и покажи, на что ты способен".
И не медля ни минуты я сказал:
— А впрочем, сударыни, раз достопочтенный джентльмен так настаивает, я отложу свидание и с искренним удовольствием отобедаю с ним. К какому часу прикажете пожаловать, сэр?
Он не удостоил меня ответом, но мне было все равно, потому что, надобно вам сказать, я вовсе и не собирался обедать у этого господина, а лишь хотел преподать ему урок вежливости. Потому что хоть я и простого звания и слыхал, как люди возмущаются, если кто так дурно воспитан, что ест горошек с ножа, или просит третью порцию сыру, или иными подобными способами нарушает правила хорошего тона, но еще более дурно воспитанным почитаю я того, кто оскорбляет малых сих. Я ненавижу всякого, кто себе это позволяет; равно как презираю того, кто рожден плебеем, а строит из себя светского господина; по всему по этому я и решился его проучить.
Когда карета подъехала к его дому, я со всей вежливостью помог дамам выйти и прошел в сени; у дверей, — взявши мистера Престона за пуговицу, я сказал — при дамах и при двух дюжих лакеях — да, да, так и сказал:
— Сэр, эта любезная старая дама пригласила меня к себе в карету, и я согласился в угоду ей, а не ради собственного удовольствия. Когда вы, подъехавши, спросили, кого это принесла нелегкая, я подумал, что вы могли бы выразиться и повежливей, но вы обратились не ко мне и не мое дело было вам отвечать. Когда вы, желая надо мной подшутить, пригласили меня на обед, я решил ответить на шутку шуткой — и вот я у вас в доме. Но не пугайтесь, я не намерен с вами обедать; однако же если вам придет охота сыграть ту же шутку с кем другим — ну, хоть бы с любым из наших конторщиков, — мой вам совет, поостерегитесь, не то вас поймают на слове.
— Вы кончили, сэр? — вне себя от ярости спросил мистер Престон. — Если это все, не соизволите ли вы покинуть мой дом, или вы предпочтете, чтобы вас выставили за дверь мои слуги? Выставьте этого малого! Слышите! — Тут он оттолкнул меня и в бешенстве удалился.
— Экий сквернавец твой муженек, экий изверг! — сказала леди Бум, ухватив старшую внучку за локоть. — Терпеть его не могу. Идемте скорее, не то обед простынет.
И, не прибавив более ни слова, она потащила леди Джейн прочь. Но эта добрая душа сделала шаг в мою сторону и, бледная, вся дрожа, сказала:
— Не гневайтесь, прошу вас, мистер Титмарш, и прошу вас, забудьте все, что здесь произошло, ибо, поверьте, мне очень-очень…
Что "очень-очень" — я так никогда и не узнал, ибо тут глаза бедняжки наполнились слезами, и леди Бум, закричавши: "Вот еще! Чтоб я этого не видела", — потащила ее за рукав вверх по лестнице. Но леди Фанни храбро подошла ко мне, своей маленькой ручкой изо всех сил стиснула мою руку и так мило сказала: "До свидания, дорогой мистер Титмарш", — что, вот не сойти мне с этого места, я покраснел до ушей и весь затрепетал.
Едва она ушла, я живо нахлобучил шляпу и вышел из дверей, чувствуя себя гордым, как павлин, и храбрым, как лев, и одного мне хотелось, чтобы который-нибудь из этих спесивых, ухмыляющихся лакеев позволил бы себе малейшую неучтивость, тогда бы я с наслаждением влепил ему оплеуху да велел бы нижайше кланяться хозяину. Но ни один из них не доставил мне этого удовольствия; и я ушел и мирно пообедал тушеной бараниной с репой у себя дома в обществе Гаса Хоскинса.
Я не счел приличным рассказывать Гасу (который, между нами говоря, весьма любопытен и большой охотник посплетничать) подробности семейной размолвки, коей я был причиной и свидетелем, и лишь сказал, что старая леди ("Они пэры Бум, — ввернул Гас. — Я сразу пошел и поглядел в книге пэров"), что старая леди оказалась мне родней и пригласила меня прокатиться по Парку. На завтра мы, как обыкновенно, отправились в должность, и уж, можете быть уверены, Хоскинс рассказал там все, что произошло накануне, да еще порядком присочинил; и странное дело, хотя случай этот как будто ничуть не заставил меня возгордиться, скажу по совести, мне все же льстило, что наши джентльмены кое-что прослышали об этом моем приключении.
Но вообразите, как я был изумлен, воротившись ввечеру домой, когда, едва увидев меня, моя квартирная хозяйка миссис Стоукс, ее дочь мисс Селина и ее сын Боб (юный бездельник, который дни напролет играл в камешки на ступенях церкви св. Бригитты на Солсбери-сквер), все они торопливо кинулись вперед меня по лестнице на третий этаж и прямиком в наши комнаты, где посреди етола, между наших флейт, с одной стороны, и моего альбома, Гасова "Дон-Жуана" и Книги пэров с другой, я увидел вот что:
1. Корзину с огромными персиками, румяными, как щечки моей милой Мэри Смит.
2. Таковую же с большущими, отборными, ароматными, тяжелыми на вид гроздьями винограда.
3. Гигантский кусок сырой баранины, как мне показалось; но миссис Стоукс сказала, что это олений окорок, да преотличный, такого она и не видывала.
И три визитные карточки:
Вдовствующая графиня Бум
Леди Фанни Рейкс
Мистер Престон
Леди Джейн Престон
Граф Типтоф.
— А карета-то какая! — воскликнула миссис Стоукс, — Карета какая… вся как есть в коронах! А ливреи-то… и два эдаких франта на запятках, бачки у них рыжие, а штаны в обтяжку из желтого плюша; а в карете старая-престарая леди в белом капоре, а с ней молоденькая в большущей шляпке из итальянской соломки и с голубенькими лентами, а еще эдакий рослый, статный джентльмен, сам бледный и бородка клинышком. "Не откажите в любезности, сударыня, сказать, здесь ли живет мистер Титмарш?" — спрашивает молоденькая эдаким звонким голоском. "Как же, как же, миледи, — говорю я, — да только сейчас он в должности. Западно-Дидлсекское страховое общество, на Корихилле. "Чарльз, — эдак важно говорит джентльмен, — выносите провизию". — "Слушаю, милорд", говорит Чарльз и выносит мне эту самую оленью ногу, обернутую в газету, на фарфоровом блюде, вон как она и сейчас лежит, и две корзины с фруктами в придачу. "Будьте добры, сударыня, — говорит милорд, — отнесите все это в комнату мистера Титмарша и скажите ему, что мы… что леди Джейн передает ему поклон и просит его принять это". И протянул мне эти самые карточки, и БОТ это письмо, запечатанное, и на печати корона его светлости.
И тут миссис Стоукс протянула мне письмо, которое, к слову сказать, моя жена хранит по сей день:
"Леди Джейн Престон поручила графу Типтофу выразить ее искреннее сожаление и огорчение оттого, что вчера она лишена была удовольствия отобедать в обществе мистера Титмарша. Леди Джейн в самом скором времени покидает Лондон и уже не сможет в этом сезоне принять своих друзей у себя на Уайтхолле. Но лорд Типтоф льстит себя надеждой, что мистер Титмарш соблаговолит принять скромные плоды сада и угодий ее сиятельства и, быть может, угостит ими своих друзей, чье достоинство он умеет столь красноречиво защищать".
К письму была приложена записочка следующего содержания: "Леди Бум принимает в пятницу вечером, 17 июня". И все это свалилось на меня оттого, что тетушка Хоггарти подарила мне бриллиантовую булавку!
Я не отослал назад оленину, да и с чего бы я стал ее отсылать? Гас предлагал тут же преподнести ее Браффу, нашему директору, а виноград и груши послать моей тетушке в Сомерсетшир.
— Нет, нет, — сказал я. — Мы пригласим Боба Свинни и еще с полдюжины наших джентльменов и в субботу вечером повеселимся на славу.
И субботним вечером мы и в самом деле повеселились на славу; и хотя у нас в буфете не нашлось вина, зато было вдоволь эля, а после и пунша из джина. И Гас сидел в самом конце стола, а я во главе; и мы распевали песни и шуточные и чувствительные — и провозглашали тосты; и я говорил речь, но воспроизвести ее здесь нет никакой возможности, потому что, сказать по совести, наутро я совершенно позабыл все, что происходило накануне вечером после известного часа.
ГЛАВА IV О том, как счастливый обладатель бриллиантовой булавки обедает в Пентонвилле
В понедельник я пришел в контору с опозданием на полчаса. Ежели говорить всю правду, я нарочно дал Хоскинсу меня опередить и рассказать нашей братии про то, что со мной приключилось, — ведь у каждого из нас есть свои слабости, и мне очень хотелось, чтобы мои товарищи были обо мне высокого мнения.
Когда я вошел в контору, по тому, как все на меня посмотрели, особенно Абеднего, который первым делом предложил мне понюшку табаку из своей золотой табакерки, я тотчас понял, что дело сделано. А Раундхэнд, подойдя просмотреть мою конторскую книгу, с чувством потряс мне руку, объявил, что почерк у меня превосходнейший (скажу, не хвастаясь, так оно и есть), и пригласил меня отобедать у него на Мидлтон-сквер в следующее воскресенье.
— У нас, конечно, нет того шику, что у ваших друзей в Вест-Энде. Последние слова он произнес с особенным выражением. — Но мы с Амелией всегда рады принять друга и попотчевать его от души — херес, старый портвейн, скромно, зато вволю! Так как же?
Я сказал, что приду непременно и прихвачу с собою Хоскинса.
Он отвечал, что я его разодолжил и что он будет весьма рад видеть Хоскинса; и в назначенный день и час мы, как и было условлено, припожаловали на Мидлтон-сквер; но хотя Гас был одиннадцатый конторщик, а я двенадцатый, я заметил, что мне подносили первому, да к тому же лучшие куски. В тарелке с телячьим супом, которую поставили передо мной, оказалось против Хоскинсовой вдвое больше фрикаделей, и мне же выложили из сотейника чуть не все устрицы. Какое-то блюдо Раундхэнд предлог жил было Гасу прежде меня. Но тут его дородная, свирепая на вид супруга, в платье красного крепа и в тюрбане, сидящая во главе стола, прикрикнула: "Энтони!" — и бедняга Раундхэнд торопливо поставил тарелку на место и покраснел до корней волос. А слышали бы вы, как миссис Раундхэнд разливалась соловьем об Вест-Энде! У ней, сами понимаете, имелась Книга пэров, и она столько всего знала про семейство Бум, что я просто опомниться не мог от изумления. Она спрашивала меня, каков доход лорда Бума, сколько у него выходит в год — двадцать тысяч, тридцать, сорок, а то, может, и все сто пятьдесят? Приглашают ли меня в замок Бумов? Как одеваются молодые графини, и неужто они носят эти ужасные рукава с буфами, какие нынче входят в моду? И тут миссис Раундхэнд бросила взгляд на свои толстые, все в веснушках, обнаженные руки, которыми она очень гордилась.
— Сэм, мой мальчик! — воскликнул посереди нашей беседы Раундхэнд, который успел уже осушить не один стакан портвейну. — Надеюсь, вы не упустите такой случай и всучите им парочку-другую акций Западно-Дидлсекского… а?
— Вы снесли графины вниз, мистер Раундхэнд? — гневно вскричала хозяйка дома, желая прекратить этот неуместный, на ее взгляд, разговор.
— Нет, Милли, я их опорожнил, — отвечал Раундхэнд.
— Никаких Милли, сэр! Извольте спуститься вниз и велите Ленси, моей горничной (взгляд в мою сторону), чтоб она сбирала чай в кабинете. Мы сегодня потчуем джентльмена, который не привычен к пентонвиллским обычаям (опять взгляд в мою сторону); но он не погнушается обычаями друзей.
Тут тяжелый вздох всколыхнул могучую грудь миссис Раундхэнд, и она в третий раз поглядела на меня, да так, знаете, грозно, что я прямо рот разинул. А что до Гаса, так с ним она за весь вечер и двух слов не сказала; но он утешался горячими сдобными булочками, которые поглощал без счету, и чуть не весь вечер (а жара стояла непомерная) прохлаждался на балконе, посвистывая да болтая с Раундхэндом. Уж лучше бы мне тоже сидеть с ними больно душно да тесно было в одной комнате рядом с дородной миссис Раундхэнд, которая расположилась подле меня на диване.
— А помните, какой веселый вечерок у нас выдался прошлым летом? донесся до меня голос Хоскинса, который, облокотясь о перила, бросал нежные взгляды на девиц, возвращавшихся из церкви. — Миссис Раундхэнд была в Маргете, а мы с вами скинули сюртуки, рому у нас было вдоволь и целый ящик манильских сигар…
— Шш-ш! — испуганно оборвал его мистер Раундхэнд. — Милли услышит.
Но Милли не слыхала; Милли с увлечением рассказывала мне нескончаемую повесть о том, как она вальсировала с графом де Шлоппенцоллерном на городском балу, который давали в честь союзных монархов, и какие у графа были густые длинные белоснежные усы, и как ей было чудно кружиться по зале в объятиях столь знатного кавалера.
— Но с тех пор, как я вышла за мистера Раундхэнда, он мне ничего такого не позволял… ни разу не позволил, а в четырнадцатом годе так полагалось принимать особ королевской крови. И вот двадцать девять молодых девиц из лучших лондонских семейств, уж поверьте, мистер Титмарш, самых лучших семейств: там были дочери самого лорд-мэра, и олдермена Доббина, три дочки сэра Чарльза Хоппера, это у которого громаднейший дом на Бейкер-стрит; ну, и ваша покорная слуга, которая в те поры была постройней против нынешнего, двадцать девять нас было, и нам для этого случая наняли учителя танцев, и мы учились танцевать вальс, и для такой надобности нам отвели Египетскую залу в доме лорд-мэра. Да, он был великолепный кавалер, этот граф Шлоппенцоллерн!
— Но зато и дама у него была великолепная, сударыня, — сказал я и покраснел как рак.
— Подите вы, проказник! — хихикнула миссис Раундхэнд и игриво шлепнула меня по руке. — Все вы в Вест-Энде на один покрой, все обманщики. Вот и граф был в точности как вы. Ах, да что говорить! До свадьбы вы сахары-медовичи, так и рассыпаетесь в, комплиментах, а как завоюете девичье сердце, так куда девался прежний пыл. Вон погладите хоть на Раундхэнда, прямо как дитя малое, все норовит бабочку носовым платком изловить. Ну, где ж такому человеку меня понять, где уж ему заполнить мое сердце? — И она прижала руку к своей пыль ной груди. — Увы1 Неужто и вы станете когда-нибудь пренебрегать своей супругой, мистер Титмарш?
Так она говорила, а по городу плыл колокольный звон, кончилась служба, а я представил себе, как моя милая, милая Мэри Смит в скромной серенькой мантильке возвращается из сельской церкви в дом своей бабушки, а колокола перекликаются, и в воздухе пахнет душистым сеном, и река блестит на солнце алая, багряная, золотая, серебряная. Моя милая Мэри за сто двадцать миль от меня, в Сомерсетшире, возвращается из церкви домой с доктором Снортером и его семейством, она всегда ходит с ними в церковь; а я сижу тут и слушаю эту противную сластолюбивую толстуху.
Я не удержался и нащупал половинку шестипенсовика, о которой, вы помните, уже говорил, и, привычным движением прижав руку к груди, оцарапал пальцы об мою новую бриллиантовую булавку. Мне доставили ее от мистера Полониуса накануне вечером, и, отправляясь на обед к Раундхэндам, я ее обновил.
— Что за прекрасный бриллиант! — сказала миссис Раундхэнд. — Я весь обед с него глаз не сводила. Каким же надо быть богачом, чтоб носить такие драгоценности, и как вы можете оставаться в этой противной конторе при ваших-то знатных знакомствах в Вест-Эйде?
Эта особа так меня допекла, что я вскочил с дивана и, не ответивши ей ни слова, кинулся на балкон, на свежий воздух, где пребывали джентльмены, и при этом чуть не разбил голову о косяк.
— Гас, — выпалил я, — мне что-то нездоровится, пойдем домой.
А Гасу только того и надо было — он уже успел проводить нежным взглядом всех до одной девиц, что возвращались из всех до одной церквей, и на дворе стало смеркаться.
— Как! Да что это вы? — воскликнула миссис Раунд-хэнд. — Ведь сейчас подадут омара. Надо немножко подкрепиться. Мистер Титмарщ, конечно, не к такому привык, но все же…
Стыдно признаться, но я чуть не сказал: "К черту омара!" — да тут Раундхэнд подошел к своей супруге и шепнул, что мне нездоровится.
— Да-да, — с многозначительным видом подтвердил Гас. — Не забудьте, миссис Раундхэнд, что только в четверг он был в Вест-Энде, и его звали обедать с самыми что ни на есть сливками высшего света. Вест-эндские обеды даром не проходят, верно я говорю, Раундхэнд?
— Ежели бы вы играли в кегли… вы бы, наверно, не отказались от роббера, — мигом нашелся Раундхэнд.
— В воскресенье, в моем доме — не позволю, — гневно отрезала миссис Раундхэнд. — И слышать не хочу ни об таких картах. Или уж мы не протестанты, сэр? Не христиане?
— Ты не поняла, дорогая. Мы говорили совсем об другом роббере, не об висте.
— И слышать не желаю ни об каких играх у себя в доме в воскресенье, заявила миссис Раундхэнд и, даже не попрощавшись с нами, выскочила за дверь.
— Не уходите, — промолвил ее до крайности напуганный супруг, — не уходите. Покуда вы здесь, она не появится. Сделайте милость, не уходите!
Но мы все же ушли, а когда оказались у себя дома на Солсбери-сквер, я попенял Гасу за то, что он проводит воскресенья в безнравственных развлечениях, и на сон грядущий прочел вслух одну из проповедей Блейра. А улегшись в постель, я невольно подумал о том, какую удачу принесла мне. бриллиантовая булавка; причем, как вы узнаете из следующей главы, на этом мои удачи не кончились.
ГЛАВА V, повествующая о том, как бриллиант вводит его счастливого обладателя в еще более высокие круги
Говоря по правде, хотя в предыдущей главе я уделил бриллианту всего несколько слов, в мыслях моих он занимал далеко не последнее место. Как я уже упомянул, булавку доставили от мистера Полониуса в субботу вечером; нас с Гасом не было дома, мы за полцены наслаждались жизнью в Сэдлерс-Уэлз; а на обратном пути, должно быть, еще и выпили подкрепляющего; впрочем, это к делу не относится.
Так вот, на столе лежала коробочка от ювелира; я вынул булавку, и боже мой! — как засверкал, заиграл бриллиант при свете нашей единственной свечи.
— Да при нем и без свечи будет светло! — сказал Гас. — Это бывает, я читал про это в истории…
Я не хуже него знал историю Хаджи-Гасана-Альгабала из "Тысячи и одной ночи". Но мы все равно решили попробовать и задули свечу.
— Он освещает всю комнату, вот ей-богу! — воскликнул Гас; на самом же деле напротив нашего окна стоял газовый фонарь, и, я думаю, потому-то в комнате и было светло. Во всяком случае, в моей спальне, куда мне пришлось идти без свечи и окно которой смотрело на глухую стену, стояла кромешная тьма, хотя бриллиант был при мне, и пришлось ощупью отыскать подушечку для булавок, которую мне подарила некая особа (я не прочь признаться, что это была Мэри Смит), и в эту-то подушечку я воткнул его на ночь. Но странное дело, я столько думал о своем бриллианте, что почти не сомкнул глаз и проснулся ни свет ни заря; и если уж говорить всю правду, сразу же, как дурак, нацепил его на ночную рубашку и стал любоваться на себя в зеркале.
Гас любовался бриллиантом не меньше моего; ведь с тех пор как я воротился в Лондон, и особливо после обеда из оленины и прогулки в карете леди Бум, он решил, что лучше меня нет человека на свете, и к месту и не к месту хвастал "своим приятелем из Вест-Энда".
В тот день мы были приглашены на обед к Раундхэндам, и, так как у меня не было черного атласного галстуха, пришлось воткнуть булавку в муслиновое жабо моей лучшей рубашки, отчего в ней, как ни печально, образовалась дыра. Однако же, как вы видели, булавка произвела впечатление на хозяев дома, на одного из них даже, пожалуй, чересчур сильное; а назавтра Гас уговорил меня надеть ее, когда мы шли в контору; правда, рубашка моя, которая после домашней стирки в Сомерсетшире прямо слепила белизною, на второй день несколько помялась, так что вид у меня был уже не тот.
В конторе все несказанно ею восхищались, все, кроме ворчливого шотландца Мак-Виртера, четвертого конторщика, — он не мог мне простить, что я не оценил крупный желтый камень, который был вделан в его табакерку и который он называл не то карум-гарум, не то что-то в этом духе; да, так все, кроме Мак-Виртера, были от нее в восторге; и сам Абеднего сказал, что бриллиант стоит фунтов десять, не меньше, и что его родитель может хоть сейчас выложить эти деньги, а уж он-то знает в этом толк, ведь отец его ювелир.
— Стало быть, бриллиант Тита стоит по меньшей мере тридцать фунтов, заключил Раундхэнд. И мы все весело с ним согласились.
Должен признаться, что от всех этих похвал, от уважения, какое мне стали выказывать, у меня малость закружилась голова; и так как все сослуживцы в один голос заявили, что я должен купить черный атласный галстух, такая, мол, булавка непременно этого требует, я сдуру послушался их, отправился в магазин Ладлема, что на Пикадилли, и выложил за этот самый галстух двадцать пять шиллингов; а все оттого, что Гас сказал, чтоб я и не думал покупать какую-нибудь нашу ист-эндскую дешевку, а шел бы в самый лучший магазин. Я вполне мог бы купить в точности такой же галстух на Чипсайд, и он обошелся бы мне всего в шестнадцать шиллингов шесть пенсов; но когда молодого человека обуревает тщеславие и ему втемяшилось в голову заделаться франтом, он — сами понимаете — не может удержаться от сумасбродных поступков.
Слух об истории с оленьим окороком и о моем родстве с леди Бум и достопочтенным Эдмундом Престоном дошел и до ушей нашего хозяина, мистера Браффа, — только Абеднего, который сообщил ему эту новость, сказал, что я прихожусь ее светлости двоюродным братом, после чего Брафф стал ценить меня больше прежнего.
Мистер Брафф, как всем известно, был членом парламента от Роттенборо; он считался одним из самых богатых дельцов лондонского Сити, у него в Фулеме бывали самые видные в Англии господа, и мы нередко читали в газетах, какие он там задавал шикарные приемы.
Что и говорить, бриллиант творил чудеса: мало того что он одарил меня поездкой в графской карете, оленьим окороком, двумя корзинами фруктов и вышеописанным обедом у Раундхэнда, он припас для меня еще и иные почести: благодаря ему я был удостоен приглашения в дом нашего хозяина — мистера Браффа.
Раз в году, в июне месяце, сей почтенный джентльмен давал в собственном доме, в Фулеме, грандиозный бал, и по рассказам двух или трех наших сослуживцев, которые? там бывали, балы эти отличались редкостным великолепием. Членов парламента — хоть пруд пруди, а лордов в леди видимо-невидимо. Все и вся там было самый что не на есть первый сорт; говорили, сам мистер Гантер с Баркли-сквер поставлял мороженое, ужин и лакеев; лакеев, правда, у Браффа и своих было хоть отбавляй, но гостей собиралось такое множество, что их не хватало. Надо вам сказать, что бал этот давал не мистер Брафф, а его супруга, ибо сам он был диссидентом и навряд ли одобрял подобные увеселения; но друзьям в Сити он признавался, что во всем покоряется супруге; и обычно большинства из них, получив приглашение, везли дочерей на эти балы, ибо у нашего хозяина собиралось великое множество титулованной знати; мне известно, к примеру, что миссис Раундхэнд готова была лишиться уха за честь оказаться там, но, как я уже упоминал, никакая сила не заставила бы Браффа ее пригласить.
Из всех наших служащих на бал были приглашены только двое — сам Раундхэнд и Гатч — девятнадцатый конторщик, племянник одного из директоров Ост-Индской компании, и все мы прекрасно, это знали, потому что приглашения они получили за много недель до великого события и вовсю этим похвалялись. Но за два дня до бала, после того, как бриллиант произвел фурор в конторе, Абеднего, выйдя от хозяина, подошел ко мне и, ухмыляясь до ушей, сказал:
— Мистер Брафф велел, чтоб в четверг ты приходил на бал вместе с Раундхэндом, Тит.
Я решил, что он надо мной смеется, — уж больно странное это было приглашение; мне не доводилось слышать, чтобы кого-нибудь приглашали так нелюбезно и повелительно; но вскорости появился сам мистер Брафф и, проходя через контору, подтвердил слова Абеднего.
— Мистер Титмарш, — сказал он, — в четверг вы приедете на бал к миссис Брафф, там вы встретите кое-кого из ваших родственников.
— Опять он едет в Вест-Энд! — сказал Гас Хоскинс; и я в самом деле поехал вместе с Раундхэндом и Гатчем — в кебе; который нанял Раундхэнд и за который он великодушно заплатил восемь шиллингов.
Не стану описывать этот великолепный прием, не стану рассказывать ни про бесчисленные фонари, что зажжены были в саду, ни про поток карет, устремлявшихся в ворота, ни про толпы любопытных за оградой; ни про мороженое, музыку, цветочные гирлянды и холодный ужин в самом доме. Превосходное описание этого приема появилось в одной светской газете; оно принадлежало перу какого-то репортера, который видел все собственными глазами из окна трактира "Желтый Лев", что напротив, и описал туалеты приглашенных господ совершенно точно — со слов их лакеев и кучеров, кои, наскучив ожиданием, заходили в трактир вывить кружку эля. Имена гостей тоже, конечно, попали в газету, и в числе всякого рода титулованных особ, которые были там названы, среди весьма почтенной публики затесалось и мое имя, что немало насмешило всю контору. На другой день Брафф поместил в газете следующее объявление: "Нашедшему изумрудное ожерелье, потерянное на приеме у Джона Браффа, эсквайра, в Фулеме, будет вручено вознаграждение в размере ста пятидесяти гиней". Кое-кто из наших конторщиков утверждал, что все это выдумки, никто на приеме ничего не терял, а просто Брафф хочет, чтобы все знали, какое у него собирается изысканное общество; но слух этот пустили люди, не приглашенные на прием и потому, без сомнения, снедаемые завистью.
Я, разумеется, надел бриллиантовую булавку и облачился в свое лучшее платье, а именно в синий сюртук с медными пуговицами, о котором я уже упоминал, нанковые панталоны, шелковые чулки, белый жилет и белые перчатки, купленные нарочно для этого случая. Но у моего сюртука, сшитого в провинции, талия была чересчур высока, а рукава коротки, и в глазах собравшейся там знати он выглядел, должно быть, престранно, ибо многие смотрели на меня с недоумением, а когда я танцевал, по всем правилам, с тщанием и живостью исполняя все фигуры в точности так, как нас учил наш сельский учитель танцев, вокруг собралась толпа.
И с кем бы, вы думали, мне выпала честь танцевать? С самой леди Джейн Престон, которая, как оказалось, вовсе не уехала из Лондона и, увидев меня на балу, весьма любезно поздоровалась со мной за руку и пригласила на танец. Милорд Типтоф и леди Фанни Рейке били нашими vis-a-vis.
Видели бы вы, сколько было желающих посмотреть на нас! А как все восхищались моим искусством: ведь я выделывал самые замысловатые па, не то что прочие кавалеры (в том числе и сам милорд), которые танцевали кадриль словно бы нехотя и надивиться не могли на мои прыжки и выкрутасы. А я уж люблю танцевать — так танцевать в свое удовольствие, и Мэри Смит не раз говорила, что на наших сельских балах нет танцора лучше меня. За танцами я поведал леди Джейн, как мы втроем, не считая кучера, — Раундхэнд, Гатч и я, — ухитрились приехать сюда в одном кебе; и, можете мне поверить, рассказ мой рассмешил ее светлость. Мне не пришлось возвращаться в том же экипаже, и это было очень хорошо, ибо кучер напился в "Желтом Льве" и на обратном пути вывалил Гатча и нашего старшего конторщика, да к тому же затеял драку и подбил Гатчу глаз, — надел, дескать, красный жилет, вот лошадь и испугалась.
Случилось так, что леди Джейн избавила меня от этой неприятной поездки: она сказала, что в ее карете свободно четвертое место, и предложила его мне; и вот ровно в два часа ночи, отвезши обеих дам и милорда, я прикатил к себе на Солсбери-сквер в огромной карете с ярко горящими фонарями и с двумя высоченными лакеями на запятках; и когда мы подъехали к моему дому, они так ретиво заколотили в дверь, что чуть не разнесли не только, ее, но и всю нашу улочку. Видели бы вы Гаса, когда в белом ночном колпаке он высунулся из окна! Он всю ночь не дал мне сомкнуть глаз, расспрашивал про бал да про знатных особ, которых я там видел; а на другой день пересказал все мои рассказы в конторе, по своему обыкновению, изрядно их приукрасив.
— Кто такой этот высокий, толстый, любопытный человек, хозяин дома? со смехом сказала мне леди Фанни. — Знаете, он спрашивал, не родственники ли мы с вами? И я сказала: "О да, конечно!"
— Фанни! — с упреком молвила леди Джейн.
— А что, — возразила мисс Фанни, — ведь бабушка говорила, что мистер Титмарш ей родня.
— Но ты же знаешь, что у бабушки не очень хорошая память.
— Вы не правы, леди Джейн, — сказал милорд. — Я нахожу, что память у нее на диво.
— Да, но иной раз… иной раз она бабушку подводит.
— Да, подводит, миледи, — сказал я. — Ведь если помните, ее светлость графиня Бум сказала, что мой друг Гас Хоскинс…
— Тот, которого вы так храбро защищали, — перебила меня леди Фанни.
— …что мой друг Гас тоже приходится ее милости родней, а этого уж никак не может быть, я знаю всех его родных, они живут на Скиннер-стрит и на Сент-Мэри Эйкс, и они… они не такой хорошей фамилии, как мы.
Тут они все рассмеялись, и милорд сказал не без надменности:
— Можете мне поверить, мистер Титмарш, что леди Бум связана с вами узами родства не больше, чем с вашим приятелем Хоскинсоном.
— Хоскинсом, милорд. Я так прямо и сказал Гасу. Но видите ли, он ко мне очень привязан, и ему уж так хочется верить, будто я родич леди Бум, что, как я ни спорю, а он всем про это рассказывает. Правда, — со смехом прибавил я, — это послужило к моей выгоде.
И я рассказал им про обед у миссис Раундхэнд, на который меня пригласили только ради моей бриллиантовой булавки и ради слухов о моем аристократическом родстве. Потом я весьма красноречиво поблагодарил леди Джейн за великолепный подарок — за фрукты и олений окорок — и сказал, что ее дарами насладилось множество моих добрых друзей и все они с величайшей признательностию пили за ее здоровье.
— Олений окорок! — в крайнем изумлении воскликнула леди Джейн. — Я, право, не знаю, как вас понять, мистер Титмарш.
Мы как раз проезжали мимо газового фонаря, и я увидел, что леди Фанни, по своему обыкновению, смеется и большие черные глаза ее, обращенные на лорда Типтофа, горят лукавством.
— Если уж говорить правду, леди Джейн, — сказал он, — то шутку с оленьим окороком затеяла сия молодая особа. Надо вам сказать, что я получил упомянутый олений окорок из угодий лорда Готлбери и, зная, что Престон не прочь отведать готлберской оленины, сказал леди Бум (в тот день для меня нашлось место в карете графини, так как мистера Титмарша поблизости не случилось), что намерен отослать олений окорок к столу вашего супруга. И тут леди Фанни всплеснула ручками и сказала, что нипочем не допустит, чтобы оленина пошла Престону, ее надо послать джентльмену, о чьих недавних приключениях мы как раз перед тем беседовали, — мистеру Титмар-шу, с которым, как заявила Фанни, Престон обошелся весьма жестоко, и потому наш долг вознаградить пострадавшего. Итак, леди Фанни настояла, чтобы мы сразу же отправились ко мне, в Олбени (вы ведь знаете, я останусь на своей холостой квартире еще всего только месяц)…
— Вздор! — перебила леди Фанни.
— …настояла, чтобы мы сразу же отправились ко мне в Олбени и извлекли оттуда упомянутый олений окорок.
— Бабушке очень не хотелось с ним расставаться! — воскликнула леди Фанни.
— А потом она распорядилась ехать к дому мистера Титмарша, где мы и оставили олений окорок, присовокупив к нему две корзины фруктов, которые леди Фанни самолично купила у Грейнджа.
— И более того, — прибавила леди Фанни, — я уговорила бабушку зайти в комнаты к Фрэн… к лорду Типтофу и сама продиктовала ей письмо и завернула олений окорок, который принесла его ужасная экономка — имейте в виду, я к ней ревную! — завернула этот олений окорок в газету "Джон Буль".
Помню, в том номере напечатано было одно из "Писем Рэмсботтома"; мы с Гасом прочли его в воскресенье за завтраком и едва не померли со смеху. Когда я рассказал про это дамам, они тоже посмеялись, и добросердечная леди Джейн сказала, что прощает сестру и надеется, что и я ей прощу; и я пообещал прощать ее всякий раз, как ей вздумается вновь нанести мне подобную обиду.
Больше я уже никогда от них не получал оленьих окороков, зато получил нечто другое. Эдак через месяц посыльный доставил мне визитную карточку "Лорд и леди Типтоф" и огромный кусок свадебного пирога, львиную долю которого, увы, съел Гас.
ГЛАВА VI О Западно-Дидлсекском страховом обществе и о том, какое действие оказал на него бриллиант
Но чудеса, творимые бриллиантом, не кончились и на этом. Вскорости после большого приема у миссис Брафф, наш ГЛАВА вызвал меня к себе в кабинет и, просмотрев мои счета и порассуждав некоторое время о делах, сказал:
— У вас прекрасная бриллиантовая булавка, Титмарш, и именно о ней я и хотел с вами побеседовать. (Он говорил важно, снисходительно.) Я не против того, чтобы молодые люди в нашей конторе хорошо и красиво одевались, но на свое жалованье они не в состоянии покупать подобные драгоценности, и я глубоко опечален, что вижу на вас столь дорогую вещь. Вы ведь заплатили за нее, сэр, надеюсь, что заплатили, ибо пуще всего, мой дорогой… мой дорогой юный друг, надлежит остерегаться долгов.
Я не мог взять в толк, почему это Брафф читает мне наставление- и опасается, что, купив булавку, я залез в долги, ведь я знал от Абеднего, что он уже осведомился о булавке и о том, как она ко мне попала.
— Прошу прощенья, сэр, — сказал я, — но мистер Абеднего говорил мне, что он уже говорил вам, что я ему говорил…
— Ах да, да… припоминаю, мистер Титмарш… да, в самом деле. Но, надеюсь, сэр, вы понимаете, что у меня есть дела поважнее, о которых мне приходится помнить.
— Ну как же, сэр, — ответил я.
— Кто-то из конторщиков и вправду говорил про булавку… что у одного из наших джентльменов завелся бриллиант. Так, стало быть, вам ее подарили, да?
— Да, сэр, мне ее подарила моя тетушка, миссис Хоггарти из замка Хоггарти, — сказал я, несколько возвысив голос, ибо я чуточку гордился тем, что имею отношение к замку Хоггарти,
— Должно быть, она очень богата, если делает такие подарки, а, Титмарш?
— А как же, сэр, благодарю вас, — ответил я, — Она и правда женщина большим достатком. После смерти супруга ей досталось четыреста фунтов годового дохода, потом у ней ферма в Слоппертоне, сэр; три дома в Скуош-тейле; да еще, как мне стало известно, три тысячи двести фунтов в банке, — вот какое у ней состояние, сэр.
Видите ли, мне это в самом деле было известна, так как, когда я гостил в Сомерсетшире, агент тетушки в Ирландии, мистер Мак-Манус, уведомил ее письмом, что закладная, которая была у ней на недвижимость лорда Брэллегена, полностью оплачена и деньги положены в банк Кутса. В те поры в Ирландии то и дело происходили беспорядки, и тетушка мудро решила не вкладывать более там деньги, а приискать, куда бы их можно было надежно и выгодно поместить в Англии. Однако же, получая со своего капитала в Ирландии шесть процентов годовых, она нипочем бы не согласилась на меньший процент; и, так как я пошел по коммерческой части, просила меня, когда я возвращался в Лондон, подыскать, куда бы ей поместить деньги, чтобы они давали ей доходу никак не менее прежнего.
— А откуда же вам с такою точностью известно состояние миссис Хоггарти? — спросил мистер Брафф, что я ему тотчас же и сообщил.
— Боже милостивый, сэр! Неужто вы хотите сказать, что у вас, служащего Западно-Дидлсекского страхового общества, почтенная дама спросила совета, куда ей поместить свой капитал, и вы не назвали ей страховое общество, в котором имеете честь служить? Неужели, сэр, вы хотите сказать, что, зная о пятипроцентной премии, полагающейся вам с вложенного капитала, вы не уговорили миссис Хоггарти купить наши акции?
— Я честный человек, сэр, — сказал я, — и не стал бы брать премию от своей родственницы.
— Ваша честность мне известна, мой дорогой… дайте я пожму вашу руку! Я тоже честный человек… у нас все служащие честные. Но мы должны быть еще и благоразумны. Как вам известно, по нашим книгам у нас числится пять миллионов капиталу, это значит, что нам внесено пять самых настоящих миллионов самых настоящих соверенов, сэр, — и все честь по чести. Но отчего бы нам не стать богатейшей Компанией в мире? И к тому оно и придет, сэр, непременно придет, сэр, не будь я Джон Брафф, пусть только господь благословит мою честность и усердие. Но неужто вы полагаете, что это возможно, если каждый из нас не будет всемерно споспешествовать процветанию нашей фирмы? Отнюдь, сэр… отнюдь. И, что до меня, я заявляю об этом всем и каждому. Я горжусь делом рук своих. В какой дом я ни войду, я всюду оставляю проспект нашего страхового общества. Любой из моих поставщиков становится владельцем хотя бы нескольких наших акций. Мои слуги, сэр, мои собственные лакеи и конюхи — и те связаны с Западно-Дидлсекской. И когда человек приходит ко мне просить места, мой первый вопрос: "А застрахованы ли вы, сударь, в нашей Компании, и есть ли у вас ее акции?" И второй вопрос: "А хорошие ли у вас рекомендации?" И если на первый свой вопрос я получаю отрицательный ответ, я говорю: "Прежде чем просить у меня места, приобретите наши акции". Разве вы не видели, как я, — я, Джон Брафф, который пользуется миллионным кредитом, — приехав сюда в карете четверней, вошел в контору и вручил мистеру Раундхэнду четыре фунта девятнадцать шиллингов — стоимость половины акции — за моего привратника? Обратили ли вы внимание, что я удержал шиллинг из пяти фунтов?
— Как же, сэр, это было в тот день, когда вы выписали себе восемьсот семьдесят три фунта десять шиллингов и шесть пенсов, — это было в прошлый четверг, — ответил я.
— А почему я удержал шиллинг, сэр? Потому что это были мои комиссионные, пять процентов комиссионных Джона Браффа, честно им заработанные и взятые у всех на виду. Разве я что-либо скрывал? Ничуть не бывало. А может быть, я поступил так из сребролюбия? Ничуть не бывало, повторил Брафф, прижав руку к сердцу, — я сделал это единственно из принципа; лишь это движет всеми моими поступками, и я с чистой совестью могу повторить это перед лицом всевышнего. Я бы желал, чтобы все мои молодые люди следовали моему примеру… я бы желал… я молюсь, чтобы им это оказалось под силу. Подумайте о моем примере, сэр. У моего привратника больная жена и девять малолетних детей; сам он тоже слаб здоровьем и не жилец на этом свете; у меня на службе он заработал деньги — шестьдесят фунтов с лишком, и больше его детям не на что рассчитывать; если бы не эти деньги, в случае смерти они оказались бы нищими, без крыши над головой. Что же я сделал для этой семьи, сэр? Я забрал эти деньги у Роберта Гейтса и поместил их так, что, когда он умрет, они составят счастье его семьи. Каждый его фартинг вложен в акции нашей Компании; а стало быть, мой привратник Роберт Гейтс сделался держателем трех акций Западно-Дидлсекского страхового общества, и в этом качестве он вам и мне хозяин. Уж не думаете ли вы, что я хочу обмануть Гейтса?
— Как можно, сэр! — возразил я.
— Обмануть беззащитного бедняка и его невинных малюток! Нет, вы не считаете меня на это способным, сэр. Будь у меня такое намерение, я бы опозорил род человеческий. Но что проку от всех моих усилий, от моего усердия? Что, если я и вложил в это дело деньги своих друзей, своих родственников, свои собственные деньги, все мои надежды, мечты, желания, честолюбивые стремления? Вы, молодые люди, не следуете моему примеру. Вы, которых я дарю своей любовью, и доверием, точно собственных детей, чем вы мне отвечаете взамен? Я тружусь в поте лица, а вы сидите сложа руки; я бьюсь как рыба об лед, а вы и ухом не ведете. Скажите сразу: вы мне не верите! О господи, так вот она, награда за всю мою любовь и заботы!
При этих словах мистер Брафф так растрогался, что заплакал настоящими слезами, и тут, признаюсь, я увидел в истинном свете свою преступную нерадивость.
— Я… я очень виноват, сэр, — сказал я, — но тому причиною одна только моя деликатность, не позволявшая мне заговорить с тетушкой о Западно-Дидлсекском обществе!
— Деликатность, мой милый… да какая же тут может! быть деликатность, когда речь идет о том, чтобы приумножить состояние вашей тетушки! Скажите лучше, равнодушие ко мне, скажите лучше, неблагодарность, скажите, неразумие… но только не говорите мне о деликатности, нет, нет, нет, что угодно, только не деликатность. Будьте честны, мой мальчик, вещи надо всегда называть их именами… всегда.
— Да, это и вправду неразумие и неблагодарность, мистер Брафф, — сказал я. — Теперь я это понимаю, и я отпишу тетушке с ближайшей же почтой.
— Не делайте этого, — с горечью сказал Брафф, — наши акции идут по девяносто, и миссис Хоггарти получит со своего капитала всего лишь три процента.
— Нет, сэр, я непременно напишу… вот вам честное благородное слово.
— Что ж, раз уж дали слово, Титмарш, видно, придется написать, слово никогда не надобно нарушать, даже по мелочам. Когда напишете письмо, отдайте его мне, я его пошлю бесплатно, честное благородное слово, — со смехом сказал мистер Брафф и протянул мне руку.
Я протянул свою, и он сердечно ее пожал.
— А отчего бы вам не написать прямо здесь? — сказал он, все не выпуская мою руку. — Бумаги у меня вдоволь.
И вот я сел за стол, очинил прекрасное перо и принялся за письмо.
"Западно-Дидлсекское страховое общество, июнь 1822 года, — вывел я как мог красивее. И далее: — Дражайшая тетушка…" Потом приостановился и задумался, что же писать дальше, ибо письма мне всегда давались с трудом. Написать число и обращение не хитрость, а вот дальше дело помудренее; покусывая перо, я откинулся на спинку стула и принялся размышлять.
— Да что это вы, мой дорогой! — воскликнул мистер Брафф. — Неужто вы собираетесь потратить на это письмо весь день? Давайте я вам его продиктую.
И начал:
"Дражайшая тетушка, рад сообщить Вам, что с тек пор, как я воротился из Сомерсетшира, наш директор-распорядитель и наше правление так мною довольны ж были так добры, что назначили меня третьим конторщиком…"
— Сэр! — воскликнул я.
— Пишите, пишите. Вчера на заседании правления было решено, что мистер Раундхэнд повышается в должности и становится секретарем и статистиком. Его место занимает мистер Хаймор, на место мистера Хаймора садится мистер Абеднего, а вас я назначаю третьим конторщиком. Пишите: "…третьим конторщиком с жалованьем сто пятьдесят фунтов в год. Я знаю, новость сия порадует мою дорогую матушку и Вас, дражайшая тетушка, Вас, которая вею мою жизнь была мне второй матерью.
Когда я в последний раз был дома, Вы, помнится, спрашивали моего совета, как Вам лучше поместить капитал, который, без всякой для Вас пользы, находится у Вашего банкира. С тех пор как я воротился, я не упускал случая осведомиться на сей счет; и как я тут нахожусь в самой гуще деловой жизни, то и полагаю, что, хотя и не вошел еще в настоящий возраст, могу дать Вам совет не хуже иного старше меня по летам и положению.
Я частенько подумывал присоветовать Вам нашу Компанию, но от сего шага удерживала меня деликатность, Я не желал, чтобы на меня легла хотя бы тень подозрения, будто действую я из личных видов. Однако же я нимало не сомневаюсь, что Западно-Дидлсекское общество — самое надежное место для помещения капитала, и притом обеспечивает самый высокий процент.
Из надежнейших источников (это слово подчеркните) мне известно, что положение дел в Компании следующее:
Основной акционерный капитал Компании составляет 5 миллионов фунтов.
Члены правления Вам известны. Достаточно сказать, что наш директор-распорядитель — Джон Брафф, эсквайр, из фирмы "Брафф и Хофф", член парламента, известен в Сити не менее самого мистера Ротшильда. Как мне доподлинно известно, его личный капитал составляет полмиллиона; а дивиденды, в последний раз выплаченные акционерам Западно-Дидлсекского общества, составили 6 1/8 процента за год. (Мы и вправду объявили такой дивиденд.) Хотя на бирже спрос на наши акции до чрезвычайности велик, четыре старших конторщика располагают правом разместить некоторое количество акций по номиналу — до 5000 фунтов каждый; и ежели Вы, дражайшая тетушка, пожелаете приобрести наши акции на сумму 2500 фунтов, Вы, надеюсь, позволите мне воспользоваться моими новыми правами и оказать Вам эту услугу.
Отвечайте мне немедля по получении сего письма, ибо мне уже предлагают продать все мои акции по рыночной цене".
— Но мне никто этого не предлагает, сэр, — возразил я.
— Нет, предлагают, сэр. Я готов взять ваши акции, но я хочу, чтобы они достались вам. Я желаю привлечь в нашу фирму возможно больше достойной уважения публики. Я хлопочу об вас, потому что питаю к вам добрые чувства и потому — не стану этого скрывать, — что надеюсь соблюсти при том и свой собственный интерес; я человек честный и не таю своих намерений, так что я скажу вам, почему я в вас заинтересован. По уставу нашей Компании я располагаю ограниченным числом голосов, но ежели акции покупает ваша тетушка, я вправе надеяться, — и я не стыжусь в том признаться, — что она будет держать мою сторону. Теперь вы меня понимаете? Моя цель — иметь решающий голос в делах Компании; а добившись этого, я приведу ее к такому процветанию, какого в лондонском Сити еще не видывали.
Итак, я подписал письмо и оставил на столе, чтобы мистер Брафф его отправил.
На другой день мистер Брафф подвел меня к столу третьего конторщика, не упустив при этом случая обратиться к нашим джентльменам с речью, и под ропот пашей братии, недовольной, что их так опередили по службе, я занял свое новое место; хотя, должен сказать, заслуги наши перед Компанией были примерно одинаковые: ведь существовала она всего три года, и самый первый из конторщиков служил в ней всего на полгода долее меня.
— Берегись! — сказал мне завистник Мак-Виртер. — У тебя что, завелись денежки? Или у твоих родственничков? Или, может, они вознамерились вложить их в это предприятие?
Я счел за благо не отвечать ему, а вместо этого взял понюшку из его настольной табакерки и всегда обходился с ним со всяческой добротою; и должен сказать, что он стал относиться ко мне с неизменной учтивостью. Ну, а Гас Хоскинс с той поры уверовал в мое превосходство; прочие же мои сослуживцы в общем приняли мое повышение спокойно, сказавши, что уж если не миновать, чтобы кто-то получил повышение вне очереди, то уж лучше пусть это буду я, чем кто-нибудь другой, ведь я никому из них не причинил вреда, а иным даже оказывал небольшие услуги.
— Я знаю, почему тебе досталось это место, — заметил Абеднего. — Это я тебе удружил. Я рассказал Браффу, что ты родня Престону, лорду-казначею, что он прислал тебе олений окорок и все такое; и теперь Брафф надеется, что ты будешь ему полезен в высших сферах.
Абеднего, вероятно, был недалек от истины, ибо наш хозяин — как мы его называли — частенько заговаривал со мною о моем родиче, велел мне продвигать наше предприятие в Вест-Энд, вербовать в число наших клиентов побольше титулованной знати и прочее в том же роде. Напрасно я уверял его, что не имею никакого влияния на мистера Престона.
— Те-те-те, — говорил мистер Брафф, — так я вам и поверил. Ни с того ни с сего олений окорок в подарок не присылают.
И я уверен, он посчитал меня за человека весьма опасливого и осмотрительного; ведь я не похвалялся своей знатной родней и помалкивал о своих высоких связях. Разумеется, он мог бы узнать всю правду у Раса, с которым я делил комнаты, но Гас его уверял, что я со всей этой знатью на дружеской ноге, и хвалился этим куда больше меня самого.
Сослуживцы мои прозвали меня аристократом.
Подумать только, размышлял я, чего я достиг благодаря бриллианту, который мне подарила тетушка Хоггарти! Какая удача, что она не дала мне денег, которые я так надеялся от нее получить! Не будь у меня этой булавки, отдай я ее не мистеру Полониусу, а любому другому ювелиру, леди Бум никогда бы меня не приметила; а если бы не она, и мистер Брафф никогда бы меня не приметил, и не бывать бы мне третьим конторщиком Западно-Дидлсекского.
От всего происшедшего я взыграл духом и, получивши повышение по службе, в тот же вечер отписал моей драгоценной Мэри Смит и предупредил ее, что "некое событие", которого один из нас жаждет всем сердцем, может произойти скорее, нежели мы надеялись. А почему бы и нет? Годовой доход мисс Смит составлял семьдесят фунтов, мой — сто пятьдесят, и у нас давно было решено, что, когда наш доход достигнет трехсот фунтов, мы обвенчаемся. "Ах, — думал я, — ежели бы мне можно было сейчас оказаться в Сомерсетшире, я бы смело подошел к дверям старика Смита (Мэри жила у дедушки, отставного лейтенанта флота), постучал бы дверным молотком и встретился бы с моей любимой Мэри в гостиной, и не надо было бы мне прятаться за стогами сена и подстерегать, когда она выйдет из дому, или в полночь кидать камешки в ее окно".
Вскорости от моей тетушки пришел очень милостивый ответ. Она еще не надумала, как распорядиться своими; тремя тысячами, гласило письмо, но она поразмыслит над моим предложением и просит меня придержать акции некоторое время, покуда она не придет к окончательному решению.
А что тем временем предпринимал мистер Брафф? Я узнал об этом много спустя, в году 1830-м, когда и он; сам, и Западно-Дидлсекское страховое общество исчезли без следа.
— Кто в Слоппертоне юристы? — спросил он меня однажды, словно бы мимоходом.
— Мистер Рэк, сэр, — ответил я. — Он адвокат тори, и мистеры Ходж и Смизерс, либералы.
Этих последних я знал как нельзя лучше, ибо не стану скрывать, что до того, как в наших местах поселилась Мэри Смит, я был неравнодушен к мисс Ходж и к ее пышным золотым локонам. Но приехала Мэри и, как говорится, наставила ей нос.
— А каких политических взглядов придерживаетесь вы?
— Мы-то, сэр, либералы.
Мне было немного совестно в этом признаться, ибо мистер Брафф был завзятый тори. Однако же "Ходж и Смизерс" фирма весьма почтенная. Я даже как-то доставил от них пакет поверенным нашей фирмы Хиксону, Диксону, Пэкстону и Джексону, которые ведут ее дела в Лондоне.
— Ах, вот как! — только и сказал мистер Брафф и, переменив разговор, принялся восхищаться моей бриллиантовой булавкой.
— Титмарш, дорогой, — сказал он, — у меня в Фулеме есть некая молодая особа, на которую, поверьте, стоит поглядеть, а она от папаши так про вас наслышана (а все оттого, что я люблю вас, мой дорогой, и не хочу этого скрывать), что ей не терпится вас увидеть. Почему бы вам не приехать к нам на недельку, а вашу работу будет пока исполнять Абеднего?
— Что вы, сэр! Вы так добры, — сказал я.
— Значит, решено, вы приезжаете к нам, и, надеюсь, мой кларет придется вам по вкусу. Но послушайте, мой дорогой, боюсь, вас франтом не назовешь… вы не довольно придерживаетесь моды. Понимаете, что я хочу сказать?
— У меня есть еще синий сюртук с медными пуговицами, сэр.
— Что?! Тот самый, у которого талия чуть не под мышками, тот, в котором вы были на балу у миссис Брафф? (Талия у моего сюртука и в самом деле была высоковата, ведь его шили в провинции, да к тому же два года назад.) Нет, нет, это не годится. Вам нужно новое платье, сэр… два новых сюртука и все прочее.
— Сэр! — возразил я. — Ежели говорить правду, я и так нахожусь в весьма стесненных обстоятельствах и еще очень не скоро смогу позволить себе новый сюртук.
— Эка выдумали! Пусть вас это не тревожит. Вот вам десять фунтов, держите, а впрочем, нет, лучше вам отправиться к моему портному. Я сам вас к нему свезу, голубчик, а счет не ваша печаль!
И он и вправду отвез меня в своей великолепной карете четверкой на Клиффорд-стрит, к мистеру фон Штильцу, который снял с меня мерку и прислал мне на дом два преотличнейших сюртука (один парадный, другой попроще), бархатный жилет, жилет шелковый и три пары панталон отменного покроя. Брафф велел мне купить башмаки и лакированные туфли да шелковых чулок для званых вечеров; так что, когда мне пришла пора ехать в Фулем, я ничуть не уступал любому аристократу, и Гас сказал, что я, "ну ей-богу, завзятый великосветский щеголь".
А тем временем Ходжу и Смизерсу было послано следующее письмо:
"Рэм-Элли Корнхилл,
Лондон, июль, 1822.
Глубокоуважаемые господа!
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(Эту часть письма, касающуюся личных обстоятельств, относящихся к судебным делам Диксона против Хаггерстони и Снодграсса против Раббеджа и Кь, я не получил разрешения предавать гласности.)
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Кроме того, берем на себя смелость приложить при сем еще несколько проспектов Западно-Дидлсекского страхового общества, какового общества мы имеем честь быть поверенными в Лондоне. В прошлом годе мы обращались к вам с предложением быть агентами общества по Слоппертону и Соммерсету и надеялись, что вы порекомендуете нам клиентов или акционеров.
Как вам известно, капитал Компании составляет пять миллионов фунтов стерлингов, и мы вполне в состоянии предложить нашим представителям комиссию более высокую, чем обычно.
Мы будем счастливы вручить вам 6 % комиссионных за акции на сумму 1000 фунтов стерлингов, и 6 1/2 за акции на сумму свыше 1000 фунтов стерлингов, подлежащих уплате немедленно после покупки акций.
Примите, уважаемые господа, уверения в совершенном почтении моем и моих компаньонов.
Преданный вам Сэмюел Джексон".
Как я уже говорил, письмо это попало ко мне в руки долго спустя. В 1822 же году, когда, надевши свое новое платье, я отправился в Фулем погостить недельку в "Ястребином Гнезде" — резиденции Джона Браффа, эсквайра, члена парламента, — я о нем и ведать не ведал.
& ГЛАВА VII Как Самюэл Титмарш достиг головокружительных высот
Обладай я красноречием Джорджа Робинса, я, пожалуй, сумел бы достойным образом описать "Ястребиное Гнездо"; довольно сказать, однако же, что это прекрасное загородное имение: прекрасные газоны, полого спускающиеся к реке, прекрасные боскеты и оранжереи, отличные конюшни, службы, огороды, все высший сорт, rus in urbe [4], как выразился несколько лет назад сей знаменитый аукционист, продавая это имение с молотка.
Я приехал в субботу за полчаса до обеда; важный господин в черном провел меня в мою комнату; человек в шоколадной куртке с золотым галуном и с гербом Браффов на пуговицах принес мне на серебряном подносе серебряную мисочку для бритья и горячую воду; в шесть часов был подан великолепный обед, и я имел честь явиться вниз во фраке от фон Штильца, в новых шелковых чулках и лакированных туфлях.
Когда я вошел, Брафф взял меня за руку и представил своей супруге, дородной белокурой даме в голубом атласном платье, потом дочери, высокой тощей темноглазой девице лет восемнадцати с густыми нависшими бровями, на вид весьма дурного нрава.
— Белинда, душенька, — обратился к ней папаша, — этот молодой человек один из моих конторщиков, он был у нас на бале.
— Ах, вот как! — отозвалась Белинда, надменно вскинув голову.
— Но он не простой конторщик, мисс Белинда, так что сделай милость, не вороти от него нос. Он приходится племянником графине Бум и, надеюсь, скоро займет весьма высокое положение и в нашем предприятии, и в Сити.
Услыхав имя графини (а я уже раз десять говорил, что вовсе не состою с нею в близком родстве), мисс Белинда низко присела, поглядела на меня в упор и сказала, что постарается, чтобы друг papa остался доволен пребыванием в "Ястребином Гнезде".
— Сегодня у нас не слишком много monde [5], - продолжала мисс Брафф, — и мы en petit comite [6], но, я надеюсь, до отъезда вы еще увидите у нас кое-какое societe [7], которое сделает ваше sejour [8] весьма приятным.
По тому, как она пересыпала свою речь французскими словечками, я сразу понял, что она девица весьма светская.
— Правда, мила? — шепнул мне Брафф, который, видимо, без меры гордился дочкой. — Правда, мила, а?.. Признавайтесь, хитрец? Разве в Сомерсетшире увидишь такое воспитание?
— Ну что вы, сэр! — отвечал я не без лукавства, думая между тем, что "некая особа" в тысячу раз красивей, безыскусственней и куда лучше воспитана.
— А как моя дорогая душенька провела день? — спросил папаша.
— О papa! Мы с капитаном Физгигом немного музицировали, капитан Физгиг на флейте, а я — j'ai pince [9] арфу. Ведь правда, капитан?
— Да, Брафф, ваша прелестная дочь a pince арфу, — отвечал достопочтенный капитан Физгиг, — и louche [10] фортепьяно, и egratigne [11] гитару, и ecorche [12] парочку романсов; и мы имели удовольствие совершить promenade a l'eau прогулялись по воде.
— Да что вы, капитан! — воскликнула миссис Брафф. — Как это вы гуляли по воде?
— Перестаньте, maman, вы не знаете по-французски! — насмешливо оборвала ее мисс Белинда.
— Это печальное упущение, сударыня, — серьезно произнес Физгиг, — я очень бы советовал вам и Браффу взять несколько уроков: ведь вы бываете в высшем свете, а то просто выучите десяток-другой французских выражений и нет-нет да и вставляйте их в разговор. Надо полагать, мистер как-вас-там, у вас в конторе вы обычно изъясняетесь по-французски?
И он посмотрел на меня через лорнет.
— Мы изъясняемся по-английски, сэр, — отвечал я, — ибо английский язык вам знаком лучше французского.
— Не у всех были ваши возможности, мисс Брафф, — продолжал капитан. Не всякий имел возможность voyagez [13], как мы с вами, не так ли? Mais que vonlez-vous [14], мой дорогой сэр, вам надо держаться ваших проклятых гроссбухов и прочего. А как будет по-французски гроссбух, мисс Белинда?
— Ну что вы спрашиваете? let n'en sais rien [15].
— А не худо бы выучить, мисс Брафф, — сказал ее папаша. — Дочери английского коммерсанта не пристало стыдиться отцовского занятия. Я-то не стыжусь сказать, чем зарабатываю на хлеб, меня гордыня не обуяла. Кто знает Джона Браффа, тем известно, что десять лет назад он был простым конторщиком без гроша за душой, вот как мой друг Титмарш, а нынче у него полмиллиона. Кого в парламенте слушают с таким вниманием, как Джона Браффа? А сыщется ли в целой Англии хоть один герцог, чтоб задавал такие обеды, как Джон Брафф? И чтоб давал за дочкой такое приданое, как Джон Брафф? Да-с, дорогой сэр, ваш покорнейший слуга может купить дюжину немецких герцогов со всеми потрохами! Но меня гордыня не обуяла, нет, сэр. Вот она, моя дочь — взгляните, — после моей смерти она будет хозяйкой всего моего состояния; но разве я возгордился? Нисколько! Пусть на ней женится тот, кто сумеет завоевать ее сердце, вот и весь сказ. Вы ли это будете, мистер Физгиг, сын пэра, или вы, Билл Тидд, герцог ли, чистильщик сапог — мне все равно! Все равно, ясно?
— Ах-ах, — тяжко вздохнул тот, кого назвали Билл Тидд, до крайности бледный молодой человек с черной лентой вместо шейного платка и с открытым воротом, точно у Байрона. Он стоял, опершись на каминную полку, я томными зелеными глазищами пожирал мисс Брафф.
— Ах, Джон, дорогой мой Джон! — воскликнула миссис Брафф и, схвативши руку супруга, поцеловала ее. — Ты ангел, настоящий ангел!
— Не льсти мне, Изабелла, я обыкновенный человек, простой честный лондонец, и нет во мне ни крупицы гордыни, единственный предмет моей гордости — ты и дорогая моя дочь — две мои красавицы! Вот так мы и живем, Титмарш, мой дорогой: живем счастливо и скромно, как и подобает добрым христианам. Отпусти мою руку, Изабелла.
— Maman, как можно при гостях, это гадко! — визгливым голосом укорила свою мамашу мисс Белинда; и maman тихонько выпустила руку супруга, и из ее объемистой груди вырвался громкий и тяжкий вздох. Я проникся расположением к этой простодушной женщине и еще большим уважением к Браффу. Нет, не может быть дурным человеком тот, кого так боготворит собственная жена.
Вскорости объявили, что кушать подано, и мне выпала честь вести к столу мисс Белинду, которая довольно сердито, как мне показалось, поглядела на капитана Физгига, ибо сей джентльмен предложил руку миссис Брафф. Он сел справа от миссис Брафф, а мисс поспешила занять место рядом с ним, предоставив мне и мистеру Тидду расположиться напротив них, по другую сторону стола.
За обедом сперва подали тюрбо и суп, а вслед за тем, разумеется, индейку. И почему это ни один званый обед не обходится без индейки? Впервые мне довелось отведать настоящего черепахового супу; и я заметил, что миссис Брафф, которая сама его разливала, все зеленые звездочки жира положила супругу и несколько кусочков птичьей грудинки тоже приберегла для него.
— Я человек простой, — говорил Джон Брафф, — пища у меня простая. Мне не по вкусу все эти ваши разносолы, но для любителей полакомиться я держу французского повара. Я, знаете ли, не себялюбец, я человек без предрассудков; и ежели моей мисс по вкусу всякие там бешемели и прочие фокусы, я не препятствую, пусть ее. Отведайте вулеву, капитан.
За обедом было вволю шампанского и старой мадеры, а для любителей подавали черное пиво в больших серебряных кружках. Брафф особливо гордился своей приверженностью к пиву; и, когда дамы удалились, сказал: "Господа, пейте, сколько вашей душеньке угодно, Тиггинз подаст, только скажите, у нас этого добра вдосталь", — потом расположился в креслах и уснул.
— Он всегда спит после обеда, — шепнул мне мистер Тидд.
— Подайте-ка мне вон того вина с желтой печатью, Тиггинз, распорядился капитан. — В тот вчерашний кларет что-то намешано, у меня от него дьявольская изжога!
Должен признаться, желтая печать пришлась мне куда больше по вкусу, нежели тетушкино Росолио.
В самом непродолжительном времени я уже знал, кто таков мистер Тидд и о чем он мечтает.
— Не правда ли, она восхитительна? — обратился он ко мне.
— Вы о ком, сэр? — спросил я.
— О мисс Белинде, о ком же еще! — воскликнул Тидд. — В целом мире не найдете других таких глаз, такой воздушной фигурки!
— Ей бы побольше жирку, мистер Тидд, — сказал капитан, — и поменьше бровей. Не к лицу девице такие грозные брови. Qu'en dites-vous [16], мистер Титмарш, как сказала бы мисс Белинда?
— Кларет, по-моему, отменный, сэр, — отвечал я.
— Э, да вы, оказывается, молодчина! — сказал капитан. — Volto sciolto [17], а? Вы слишком уважаете хозяина дома, который изволит так сладко почивать?
— Да, сэр, я высоко чту его как первого человека в лондонском Сити и нашего директора-распорядителя.
— Я тоже, — подхватил Тидд, — и ровно через две недели, в день моего совершеннолетия, докажу делом свое к нему доверие.
— Каким же это образом? — осведомился я.
— Видите ли, сэр, надобно вам сказать, что четырнадцатого июля я стану… э-э… обладателем солидного капитала, который мой батюшка нажил своими занятиями.
— Да скажите прямо, что он был портной, Тидд.
— Да, он был портной, сэр, но что же из этого? А я учился в университете, сэр, и чувства у меня возвышенные; да, столь же возвышенные, как у иных отпрысков отжившей свой век аристократии, а быть может, и более того.
— Не будьте так суровы, Тидд! — сказал капитан, осушая десятый стакан кларета.
— Видите ли, мистер Титмарш, достигнув совершеннолетия, я войду во владение солидным капиталом; и мистер Брафф был столь добр, что предложил мне тысячу двести фунтов в год с моих двадцати тысяч, так что я пообещал поместить их в его предприятие.
— В наше Западно-Дидлсекское страховое общество, сэр? — спросил я.
— Нет, в другую компанию, мистер Брафф там директором, и она ничуть не хуже. Мистер Брафф старинный друг нашего семейства, сэр, и очень ко мне расположен, он говорит, что при моих талантах я непременно должен войти в парламент, а тогда… тогда, видите ли, распорядившись своим наследством, я смогу подумать и о наследниках!
— А он малый не промах, — сказал капитан. — Вот уж не думал я, когда тузил вас в школьные годы, что наставляю синяки будущему государственному мужу!
— Говорите-говорите, молодые люди, — сказал Брафф, просыпаясь. — Я сплю вполглаза и все слышу. Да-да, Тидд, заседать вам в парламенте, милейший, не будь я Джон Брафф! И вы получите со своего капитала шесть процентов годовых, вот провалиться мне на этом месте! Но вот насчет моей дочери — это уж вы у ней самой справляйтесь, не у меня. Вы ли ее заполучите, капитан ли, Титмарш ли — это уж кто как сумеет. Мне от зятя одно надобно: был бы человек благородный, возвышенного образа мыслей, а вы все таковы.
Тидд выслушал это с самым серьезным видом, но, едва хозяин снова погрузился в сон, лукаво показал на свои брови и, глядя на капитана, хитро покачал головой.
— Эко! — сказал капитан. — Я говорю, что думаю. Если угодно, можете передать мои слова мисс Брафф.
На этом разговор оборвался, и нас пригласили пить кофе, после чего капитан распевал с мисс Брафф романсы, Тидд молча глядел на нее, я рассматривал гравюры, а миссис Брафф вязала чулки для бедных. Капитан откровенно насмехался над мисс Брафф, над ее жеманными речами и ужимками. Но, несмотря на его грубое, бесцеремонное обхождение, она, мне кажется, очень к нему благоволила и на удивленье кротко сносила его дерзости.
В полночь капитан Физгиг отбыл в казармы в Найтс-бридж, а мы с Тиддом разошлись по своим комнатам. Назавтра было воскресенье, в восемь часов утра нас разбудил настойчивый звон колокола, а в девять мы все сошлись в столовой, и мистер Брафф прочитал вслух молитвы, главу из Библии и еще произнес проповедь, обращенную ко всем нам — гостям, чадам и домочадцам; не слушал ее один только француз-повар, мсье Трепетен, — со своего места за столом я видел, как он бродит по саду в белом ночном колпаке я покуривает сигару.
По будням мистер Брафф тоже собирал своих домашних на молитву, только происходило это в восемь часов утра, минута в минуту; но хотя, как я убедился впоследствии времени, был он отъявленный лицемер, я отнюдь не намерен глумиться над этим домашним обрядом или утверждать, будто мистер Брафф оттого был лицемерен, что читал своему семейству молитвы и проповеди: на свете немало есть людей и дурных и хороших, вовсе не приверженных этому обычаю, — но я ничуть не сомневаюсь, что хорошие люди, соблюдай они этот обряд, стали бы от этого еще лучше, и не считаю себя вправе судить о том, как это сказалось бы на людях дурных, а посему иные выражения его христианских чувств обхожу молчанием, довольно будет упомянуть, что в речах своих он всечасно прибегал к Священному писанию, по воскресеньям, ежели только не принимал гостей, трижды ходил в церковь; и ежели с нами не пускался в рассуждения о вере, то отнюдь не потому, что ему нечего было сказать: в этом я убедился однажды, когда на обед были приглашены квакеры и диссиденты, и он толковал о сем предмете с не меньшей важностью и знанием дела, чем любой из этих священников. Тидда в тот раз за столом не было, ибо ничто не могло заставить его расстаться с байроновекой черной лентой и открытым воротом, — а потому Брафф послал его в кабриолете в цирк Астли.
— И вы, дорогой мой Титмарш, смотрите, — сказал он мне, — не вздумайте надевать бриллиантовую булавку; нашим нынешним гостям все эти безделушки не по вкусу; сам-то я не враг безобидных украшений, однако же не намерен оскорблять чувства тех, кто придерживается более строгих правил. Вы убедитесь, что и супруга моя, и мисс Брафф в подобных делах не выходят из моей воли.
Так оно и было: обе они появились в черных платьях и в палантинах, тогда как обыкновенно платье у мисс Брафф только что не падало с плеч.
Капитан Физгиг наезжал постоянно, и уж его-то мисс Брафф всегда принимала с радостью. Однажды, совершая прогулку в одиночестве, я повстречался с ним у реки, и мы долго беседовали.
— Насколько я мог заметить, мистер Титмарш, — сказал он, — вы малый честный и прямодушный, и я хотел бы кое-что у вас узнать. Первым долгом, не расскажете ли вы мне об этом вашем Страховом обществе? Вот вам. слово чести, что дальше это не пойдет. Вы принадлежите к деловому миру ж разбираетесь в положении вещей. Как вы полагаете, ваше предприятие надежно?
— Скажу вам, сэр, честно и откровенно: полагаю, что так. Оно, правда, учреждено тому всего четыре года, но когда оно было основано, мистер Брафф был уже широко известен в деловых кругах, и у него были весьма обширные связи. Каждый наш конторщик, так сказать, заплатил за свое место: либо он сам, либо его родные приобрели акции нашего предприятия. Меня, к примеру, приняли через то, что матушка моя, женщина без всякого достатка, вложила в это дело скромное наследство, нами полученное, и тем обеспечила годовую ренту себе и службу мне. Шаг этот мы обсуждали всей семьей с нашими поверенными — мистерами Хеджем и Смизерсом, людьми в наших краях известными, и согласились на том, что матушке невозможно было поместить эти деньги с большей выгодою для всего нашего семейства. Капитал одного только Браффа составляет полмиллиона, да имя его само по себе немалое богатство. Более того: третьего дня я писал к своей тетушке, она располагает свободными деньгами и справлялась у меня, как бы ими получше распорядиться, и я ей посоветовал купить наши акции. Могу ли я дать вам лучшее доказательство того, сколь твердо я уверен в нашей платежеспособности?
— А Брафф никак не старался утвердить вас в этом мнении?
— Да, конечно, он со мной беседовал. Но он со всей откровенностью разъяснил мне свои побуждения, и ни от кого из нас их не скрывает. Он говорит: "Джентльмены, цель моя всячески расширять наше дело. Я намерен сокрушить все прочие лондонские страховые общества. Для акционеров наши условия по сравнению с прочими обществами куда как выгодны. Мы в силах выдержать этот риск, и таким-то манером мы достигнем процветания. Но в придачу и каждый из нас должен потрудиться. Все наши служащие — держатели наших акций, все без изъятия, должны, не щадя сил, привлекать к нам новых клиентов, и как бы ни был скромен их вклад, не упускайте его, в этом вся соль". В согласии с этим правилом, наш директор уговаривает всех своих друзей и слуг приобретать, акции нашего страхового общества; даже его здешний привратник — и тот наш акционер; и так он умудряется привлечь к нам всякого, с кем ни столкнется. Вот меня, к примеру, он только что назначил на лучшую должность, а ведь мой черед должен бы прийти еще не скоро. Пригласил меня сюда и принимает по-царски. А все почему? Потому что у моей тетушки есть три тысячи фунтов, и мистер Брафф желает, чтобы она поместила их к нам.
— А ведь это не очень красиво выглядит, мистер Титмарш?
— Но отчего же, сэр? Он ведь нисколько не скрывает своих намерений. Когда дело с тетушкиными деньгами так или иначе разрешится, он, надобно полагать, и думать про меня забудет. Но сейчас у него во мне нужда. Вакансия эта случилась как раз в ту пору, как я ему понадобился; через меня он надеется повлиять на мою родню. Он так прямо и сказал, когда вез меня сюда. "Вы, говорит, человек светский, Титмарш, и сами понимаете, что я повысил вас в должности не оттого, что вы честный малый и почерк у вас хороший. Ежели бы я мог дать вам взятку поменьше, я был бы только рад, да выбирать мне тогда было не из чего, вот я и дал вам, что случилось под рукой".
— Оно, конечно, так. Но отчего бы Браффу так стараться ради такой малости, ради трех тысяч фунтов?
— Ежели бы у тетушки было десять тысяч, сэр, он старался бы ничуть не больше. Вы не знаете, что такое лондонское Сити, не знаете, как наши воротилы готовы в лепешку расшибиться, только бы залучить побольше клиентов. Ежели это фирме на пользу, сэр, мистер Брафф не погнушается и трубочистом, будет его обхаживать да улещивать. Взять хотя бы беднягу Тидда и его двадцать тысяч фунтов. Наш директор и его завлек тем же манером, он всякий грош рад прибрать к рукам.
— Ну, а вдруг да он сбежит со всем этим капиталом?
— Это мистер-то Брафф, сэр, из фирмы "Брафф и Хофф", сэр? Ну, а вдруг да Английский банк сбежит? А вот и сторожка привратника. Давайте-ка спросим Гейтса, он ведь тоже жертва мистера Браффа.
И мы вошли в сторожку и поговорили со стариком Гейтсом.
— Вот какое дело, мистер Гейтс, — начал я с подходцем, — стало быть, у нас в Западно-Дидлсекской компании вы один из моих хозяев?
— И впрямь так, — ухмыляясь, отвечал старик Гейтс. (Он уже отслужил свое в лакеях и на старости лет обзавелся многочисленным семейством.)
— Дозвольте спросить, мистер Гейтс, какое же вы получаете жалованье, что могли столько отложить и приобрести акции нашей Компании?
Гейтс назвал сумму; а когда мы осведомились, всякий ли раз ему платят вовремя, поклялся, что добрей его хозяина нет человека на свете: пристроил в услужение двух его дочек, двух сыновей определил в школу для бедных, одного отдал учиться ремеслу; и старик еще долго повествовал о благодеяниях, которыми осыпало его хозяйское семейство. Леди Брафф одевает половину его детей, хозяин пожаловал им зимой одеяла и теплое платье и круглый год кормит их супом и мясом. С тех пор, как мир стоит, не бывало таких щедрых господ, верьте слову.
— Ну как, сэр, — спросил я капитана, — вы удовлетворены? Мистер Брафф дает этим людям во сто крат больше, нежели получает, и, однако же, добивается, чтобы мистер Гейтс приобрел акции нашей Компании.
— Бы честный малый, мистер Титмарш, и, признаться доводы ваши убедительны. Теперь скажите мне, что вам известно об мисс Брафф и ее приданом?
— Брафф оставит ей все до последнего пенни… по крайности, так он говорит.
Но от капитана, видно, не укрылось выражение моего лица, ибо он рассмеялся и сказал:
— Сдается мне, милый друг, вы находите, что за нее и этого мало? Что ж, на мой взгляд, вы недалеки от истины.
— Да простится мне моя дерзость, капитан Физгиг, отчего же вы тогда ходите за нею как тень?
— У меня двадцать тысяч долгу, мистер Титмарш, — отвечал капитан, после чего отправился прямо в дом и сделал мисс Брафф предложение.
Я так полагаю, что этот джентльмен поступил жестоко и безнравственно, ведь в семейство Браффа его ввел мистер Тидд, его однокашник, а капитан совершенно вытеснил его из сердца богатой наследницы. Услыхав, что дочь приняла предложение капитана, Брафф разбушевался и даже, как сказал мне позднее сам капитан, разбранил дочку, не больно стесняясь в выражениях; и наконец, объяснившись с капитаном, вынудил его дать слово, что тот несколько месяцев будет держать помолвку в секрете. В наперсники капитан взял, по его собственным словам, лишь меня да офицеров своего полка; но это уже после того, как Тидд отдал нашему благодетелю свои двадцать тысяч, что он сделал, едва достиг совершеннолетия. В тот же самый день он просил руки мисс Брафф и, сами понимаете, получил отказ.
Между тем слух о помолвке капитана разошелся довольно широко, и вся его знатная родия побывала у Браффов с визитами — герцог Донкастерский, граф Синкбарз, граф Крэбс и другие; достопочтенный Генри Рингвуд стал акционером нашей Компании, и граф Крэбс сказал, что он тоже не прочь. Наши акции сильно подскочили; наш директор, его супруга и дочь были представлены ко двору; и славная Западно-Дидлсекская компания, того гляди, должна была стать первейшим страховым обществом во всем королевстве.
Вскоре по возращении из Фулема я получил письмо от моей дражайшей тетушки, из коего узнал, что она посовещалась со своими поверенными Хеджем и Смизерсом, и они настоятельно рекомендовали ей послушаться моего совета. И она приобрела акции нашей Компании, да притом на мое имя, и не поскупилась на похвалы моей честности и талантам, о которых мистер Брафф отозвался ей весьма лестно. При сем тетушка сообщила, что после ее смерти акции перейдут в полную мою собственность. Это, как вы сами понимаете, придало мне немало весу в Запад-но-Дидлсекском обществе. На следующем годовом собрании пайщиков я присутствовал в качестве акционера и имел удовольствие слушать превосходнейшую речь мистера Браффа, объявившего дивиденд в шесть процентов, каковой мы все тут же и. получили.
— Ах вы, везучий мошенник! — сказал мне Брафф. — Знаете, отчего я повысил вас в должности?
— А как же, сэр. — ответил я. — Ради тетушкиных денег.
— Ничуть не бывало. Неужто, по-вашему, я нуждаюсь в этих жалких трех тысячах? Мне сказали, что вы племянник леди Бум, а леди Бум приходится бабушкой леди Джейн Престон, а мистер Престон для нашей Компании человек неоценимый. Я знал, что они послали вам дичь и еще всякого добра; а на моем приеме я увидел, что леди Джейн пожимает вам руку и беседует с вами весьма любезно, ну я и решил, что все россказни Абеднего — чистая правда. Вот почему вы получили это место, так и знайте, а вовсе не ради этих несчастных трех тысяч. Так вот, cэp, две недели спустя после вашего отъезда из Фулема я встретил в парламенте мистера Престона и, думая сделать ему приятное, сообщил, что повысил его родича в должности. "Ах негодяй, ах мошенник! отвечал мистер Престон. — Это он-то мой родич! Вы, видно, приняли, за чистую монету россказни старухи Бум, — так ведь она на этом помешана, приятель. Кого ей ни представишь, она мигом сыщет не родство, так свойство, ну и с этим невежей Титмаршем тоже, конечно, случая не упустила". Что ж, посмеялся я в ответ, невежа Титмарш на этом получил тепленькое местечко, и дела уже не поправить. Так что", сами видите, вы обязаны своим местом не тетушкиным деньгам, а…
— Тетушкиной бриллиантовой булавке!
— Везет негодяю! — сказал Брафф, ткнув меня в бок, и пошел своей дорогой,
И, право же, я и сам полагал, что мне повезло.
ГЛАВА VIII Повествует о счастливейшем дне в жизни Сэмюела Титмарша
Уж не знаю, отчего так случилось, но через полгода после описанных событий наш статистик мистер Раундхэнд, который прежде так восхищался и мистером Браффом, и Западно-Дидлсекским страховым обществом, внезапно с ними обоими рассорился, забрал свои деньги, весьма выгодно продал свои акции на пять тысяч фунтов и навсегда с нами распрощался, всячески понося при этом и самое Компанию, и ее директора-распорядителя.
Секретарем и статистиком стал теперь мистер Хаймор, мистер Абеднего сделался первым конторщиком, а ваш покорный слуга — вторым и получил оклад двести пятьдесят фунтов в год. Сколь неосновательны были клеветы мистера Раундхэнда, выяснилось со всей очевидностью на собрании акционеров в январе 1823 года, когда наш директор в блистательнейшей речи объявил полугодовой дивиденд четыре процента из расчета восьми процентов годовых, и я отослал тетушке сто двадцать фунтов стерлингов — проценты с ее капитала, помещенного на мое имя.
Моя достойная тетушка, миссис Хоггарти, безмерно этим восхищенная, отослала мне обратно десять фунтов на карманные расходы и осведомилась, не следует ли ей продать недвижимость в Слоппертоне и Скуоштейле и все деньги поместить в наше замечательное предприятие.
К кому же тут было мне обратиться за советом, как не к мистеру Браффу. Мистер Брафф отвечал мне, что акции можно приобрести нынче лишь по цене выше номинальной; а когда я напомнил, что в продаже имеется на пять тысяч акций по номиналу, он сказал: что ж, раз так, он готов продать на пять тысяч своих акций по этой цене, ибо западно-дидлсекских у него избыток, а для других его предприятий ему потребны наличные. К концу нашей беседы, о сути которой я обещал уведомить миссис Хоггарти, хозяин расщедрился и заявил, что решил учредить должность личного секретаря директора-распорядителя и что место это он предоставляет мне с дополнительным окладом в пятьдесят фунтов.
У меня и без того было доходу двести пятьдесят фунтов годовых, да у мисс Смит семьдесят. А как у меня положено было поступить, едва у нас будет триста фунтов в год?
Разумеется, Гас, а от него и все мои сослуживцы знали о моей помолвке с Мэри Смит. Папаша ее был офицер военного флота и притом весьма заслуженный; и хотя Мэри принесла бы мне, как я уже говорил, всего семьдесят фунтов в год, а я при нынешнем моем положении в фирме и в лондонском Сити вполне мог, по общему мнению, сыскать себе невесту и побогаче, однако же все мои друзья согласились на том, что семья эта почтенная, а сам я был рад-радешенек соединиться с милочкой Мэри, да и кто бы не радовался на моем месте. Уж конечно, я не променял бы ее на дочку самого лорд-мэра, будь у той даже сто тысяч приданого.
Мистер Брафф, разумеется, знал о предстоящей свадьбе, как знал решительно все обо всех своих конторщиках; Абеднего, кажется, докладывал ему и про то, чем мы каждый день обедаем. Поистине, о наших делах он был осведомлен на диво.
Он спросил меня, как помещены деньги Мэри. Они были вложены в трехпроцентные консоли — всего на сумму две тысячи триста тридцать три фунта шесть шиллингов и восемь пенсов.
— Не забывайте, голубчик, — сказал он, — будущая миссис Титмарш может получать со своих денег по меньшей мере семь процентов, и не менее надежных, чем в Английском банке; ведь Компания, во главе которой стоит Джон Брафф, куда лучше всех прочих компаний в Англии, не так ли?
И я, право же, думал, что он недалек от истины, и обещал еще до женитьбы потолковать с опекунами Мэри. Поначалу лейтенант Смит, дедушка Мэри, был очень против нашего с нею союза. (Должен признаться, что в день, как он застал меня с нею наедине, когда я целовал, помнится, кончики ее милых пальчиков, он сгреб меня за ворот и выставил вон из дому.) Но Сэм Титмарш с жалованьем в двести пятьдесят фунтов в год, да еще с обещанными пятьюдесятью фунтами за новую должность, правая рука самого Джона Браффа это совсем не то, что бедный конторщик Сэм, сын нищей вдовы священника; так что старый джентльмен отписал мне весьма благожелательно, попросил купить для него в магазине Романиса шесть пар чулок из овечьей шерсти да четыре вязаных жилета той же шерсти и принял их от меня в подарок, когда в июне, счастливом июне 1823 года, я приехал за своей драгоценной Мэри.
Мистер Брафф с обычной своею добротой был по-прежнему озабочен делами моей тетушки, которая все еще ее продала, хотя и обещалась, недвижимость в Слоппертоне и Скуоштейле; и, по его словам, некоей особе, в которой он принимает такое участие, как, впрочем, и во всех родных его дорогого юного друга, просто грешно получать со своих денег жалких три процента, когда в другом месте она могла бы иметь все восемь. Теперь он не называл меня иначе, как Сэм, ставил меня в пример прочим служащим (о чем они мне неукоснительно сообщали), повторял, что в Фулеме мне всегда рады, и время от времени отвозил меня туда. Когда я там бывал, народу собиралось немного, и Мак-Виртер говаривал, что меня туда приглашают лишь в те дни, когда ждут знакомых самого простого покроя. Но сам я не знатного роду и не охоч был до общества знатных господ, а если уж говорить начистоту, то и до приглашений к Браффу. Мисс Белинда была мне вовсе не по вкусу. После ее помолвки с капитаном Физгигом и после того, как мистер Тадд поместил свои двадцать тысяч фунтов в Компанию Браффа, а знатные родственники Физгига стали акционерами других его предприятий, Брафф высказал подозрение, что капитан Физгиг действовал из корыстных видов, и тут же испытал его, поставивши такое условие: либо капитан возьмет за себя мисс Брафф без гроша приданого, либо вовсе ее не получит. После чего капитан Физгиг исхлопотал себе назначение в колонии, а нрав мисс Брафф вовсе испортился. Но я не мог отделаться от мысли, что она избегла весьма незавидной участи, я жалел беднягу Тидда, который вновь воротился к ногам мисс Белинды, влюбленный пуще прежнего, и вновь был ею безжалостно отвергнут. А тут и ее папаша без обиняков сказал Тидду, что его визиты Белинде неприятны и что, хотя сам он будет по-прежнему любить и ценить Тидда, он просит его больше не бывать в "Ястребином Гнезде". Несчастный! Выкинуть на ветер двадцать тысяч фунтов! Ведь что ему были шесть процентов в сравнении теми же шестью процентами вкупе с рукою мисс Белияды Брафф?
Ну-с, мистер Брафф так сочувствовал "влюбленному пастушку", как он меня прозвал, и до того пекся о моем благополучии, что настоял на скорейшем моем отъезде в Сомерсетшир и отпустил меня на два месяца со службы, и я отправился с легким сердцем, прихватив две новеньких с иголочки пары платья от фон Штильца (я заказал их загодя в предвкушении некоего события), а еще у меня в дорожном чемодане лежали шерстяные чулки и жилеты для лейтенанта Смита, а также пачка проспектов нашего Страхового общества и два письма от Джона Браффа, эсквайра — одно — к моей матушке, нашей достойной клиентке, другое — к миссис Хоггарти, нашей глубокочтимой пайщице. По словам мистера Браффа, на такого сына, как я, не нарадовался бы самый взыскательный отец, и он, мистер Брафф, любит меня, как родного, а потому настоятельно советует почтеннейшей миссис Хоггарти не откладывать в долгий ящик продажу ее скромной земельной собственности, ибо цены на землю нынче высоки, но непременно упадут, тогда как акции Западно-Дидлсекского стоят сравнительно низко, но в ближайшие год или два всенепременно поднимутся вдвое, втрое, вчетверо против их теперешней стоимости.
Таковы были мои приготовления, и так расстался я с моим дорогим Гасом. Когда мы прощались во дворе кофейни "Затычка в Бочке" на Флит-стрит, я чувствовал, что никогда уже не ворочусь на Солсбери-сквер, а потому поднес семейству нашей квартирной хозяйки небольшой подарок. А она сказала, что из всех джентльменов, находивших приют в ее доме, я самый добропорядочный; но ее похвала недорого стоила, — ведь Белл-лейн входит в границы Флитской тюрьмы, и квартиранты ее были по большей части тамошними узниками. Что касаемо Гаса, бедняга, расставаясь со мною, плакал и рыдал и даже не мог проглотить ни кусочка сдобной булочки и жареной ветчины, которыми я его угощал в кофейне, и, когда "Верный Тори" тронулся, он изо всей силы махал мне платном и шляпой, стоя под аркою напротив конторы; мне даже показалось, что колеса нашей кареты проехались ему по ногам, ибо, проезжая под аркой, я услыхал его отчаянный вопль.
Да, теперь, когда я гордо восседал на козлах рядом с кучером Джимом Уордом, меня обуревали совсем иные чувства, нежели те, какие испытывал я, когда в прошлый раз уезжал из дому, расставшись с душенькой Мэри и увозя в Лондон свой бриллиант!
Прибыв в Грампли (от нашей деревни это всего в трех милях, и дилижанс обыкновенно останавливаемся здесь, чтобы можно было опрокинуть кружку эля в "Гербе Поплтонов"), мы увидели у гостиницы такое стечение народу, словно ждали нашего члена парламента, самого мистера Поплтона. Тут был и хозяин гостиницы, и все жители Грампли. Тут же оказался Том Уилер, форейтор из почтовой конторы, которую держала в нашем городке миссис Ринсер, он погонял старых почтовых гнедых, а они — господи боже мой! — они тащили желтую колымагу моей тетушки, в которой она выезжала не чаще трех раз в год и в которой восседала сейчас собственной персоной в шляпке с пером, накинув на плечи великолепную кашемировую шаль. Она махала из окна кареты белоснежным носовым платочком, а Том Уилер кричал "ура", и ему вторила целая орава маленьких негодников, которые рады покричать по всякому случаю. Как, однако же, переменился ко мне Том Уилер! Помнится, всего несколько лет назад, когда я прицепился как-то сзади к почтовой карете, чтобы немножко прокатиться, он, перегнувшись с козел, огрел меня кнутом.
За каретой тетушки катил фаэтон отставного моряка лейтенанта Смита, он сам правил своей толстой старой лошадкой, а рядом восседала его супруга. Я глянул на переднее сиденье фаэтона и опечалился, не увидев там некоей особы. Но — о, глупец! — вот же она, в желтой карете моей тетушки, раскраснелась как маков цвет, и сразу видно — счастлива! Ах! Так счастлива и так хороша. На ней было белое платье и небесно-голубой с желтым шарф тетушка уверяла, что это цвета Хоггарти, хотя, какое касательство имели Хоггарти к небесно-голубому и желтому, я не знаю по сей день.
А затем оглушительно затрубил почтовый рожок, четверка резво взяла с места, и дилижанс укатил; мальчишки вновь заорали во все горло, меня втиснули между миссис Хоггарти и Мэри; Том Уилер вытянул гнедых кнутом; лейтенант Смит (он сердечно пожал мне руку, и его громадный пес на сей раз не проявил ни малейшего желания меня цапнуть) принялся так нахлестывать свою лошадку, что вскорости на ее толстых боках выступила пена; и во главе такой-то, смею сказать, невиданной процессии я торжественно въехал в нашу деревню.
Моя дорогая матушка и сестрицы, — благослови их бог! — все девять в своих нанковых жакетках (у меня в чемодане для каждой был припасен подарочек) не могли позволить себе нанять экипаж и ждали у дороги при въезде в деревню, изо всех сил махая руками и носовыми платочками; и хотя тетушка едва их заметила и лишь величественно кивнула, что вполне простительно владелице столь солидного состояния, зато Мэри Смит старалась, пожалуй, еще более моего и махала ручками не меньше, чем они вдевятером. Ах, как плакала, как благословляла меня дорогая моя матушка, когда я подошел к ней, и называла меня своим утешением и любезным сыночком, и глядела на меня, будто я являл собою образец ума и добродетели; а меж тем я был просто счастливчик, который с помощью добрых людей вдруг заделался чуть ли не богачом.
Ехал я не к себе домой — это было условлено заранее, ибо, хотя матушку с миссис Хоггарти и не связывала особливая дружба, матушка сказала, что для моей же пользы мне лучше остановиться у тетушки, и сама отказалась от удовольствия лицезреть меня ежечасно, и хотя дом ее был куда скромней тетушкиного, я, нечего и говорить, поселился бы в нем куда охотнее, нежели в более роскошном жилище миссис Хоггарти, не говоря уж об ужасном Росолио, которое мне предстояло теперь пить галлонами.
Итак, мы подкатили к дому миссис Хоггарти; по случаю моего приезда она заказала великолепный обед и наняла на вечер лишнего лакея, а выйдя из кареты, дала Тому Уилеру шесть пенсов, сказавши, что это ему на чай, а за лошадей она расплатится с миссис Ринсер после. Выслушав эти слова, Том в сердцах швырнул монету наземь и яростно выругался, за что тетушка по справедливости назвала его грубияном.
Тетушка воспылала ко мне такой нежностью, что с большой неохотой отпускала меня от себя. Что ни утро, мы сидели с нею над счетами и час за часом рассуждали о том, что сейчас бы самое время продать ферму в Слоппертоне, но никаких решительных шагов все не делали, потому что Ходж и Смизерс никак не могли найти покупателя за цену, которую назначила тетушка. И сверх всего она поклялась, что на смертном одре откажет мне все до последнего шиллинга.
Ходж и Смизерс тоже задали обед в мою честь и обходились со мной весьма уважительно, как, впрочем, все и каждый у нас в деревне. Кому не по средствам было задавать обеды, те приглашали нас на чай, и все поднимало бокалы за здоровье жениха и невесты; не раз в конце обеда или ужина мою Мэри бросало в краску от намеков на близкую перемену в ее жизни.
Счастливый день был наконец назначен, и двадцать четвертого июля тысяча восемьсот двадцать третьего года я стал счастливейшим супругом прелестнейшей девушки Сомерсетшира. Мы отправились под венец из дому моей матушки, которая уж в этом-то отказать себе не пожелала, и мои девять сестриц были подружками невесты. Да! А из Лондона приехал Гас Хоскинс, нарочно чтобы быть шафером, и поселился в моей прежней комнате в доме матушки, и гостил у нее неделю, и, как мне стало после известно, бросал влюбленные взгляды на мисс Уинни Титмарш, мою четвертую сестрицу.
По случаю свадьбы тетушка моя проявила чрезвычайную щедрость. Еще за несколько недель до этого события она велела мне заказать для Мэри в Лондоне у знаменитой мадам Манталини три великолепных платья, а у Хоуэляа и Джеймса кое-какие изящные безделушки и вышитые платочки. Все это было прислано мне, и я от себя должен был поднести это невесте; но миссис Хоггарти дала понять, что мне нет нужды беспокоиться об оплате счета, и я нашел это весьма великодушным с ее стороны. Сверх того она одолжила нам для свадебного путешествия свою колымагу и собственноручно сшила для своей любезной племянницы, миссис Сэмюел Титмарш, ридикюль красного атласа. В ридикюль вложен был мешочек с набором иголок и прочего, что потребно для шитья, ибо тетушка надеялась, что миссис Титмарш не станет пренебрегать рукоделием; и кошелечек с несколькими серебряными пенни; и еще старинная монетка на счастье. "Покуда ты будешь хранить эти мои подарки, милочка, ты не узнаешь нужды, — сказала миссис Хоггарти. — И я молюсь, я горячо молюсь, чтобы ты навсегда их сохранила". В карете, в кармашке на боковой стенке нас ожидал пакетик печений и бутылка Росолио. Мы рассмеялись и передали бутылку Тому Уилеру, но он, кажется, тоже не оценил ее по достоинству.
Надобно ли упоминать, что под венцом я стоял во фраке от мистера фон Штильца (это было уже четвертое его изделие за год — господи помилуй!) и что на груди у меня сверкал знаменитый бриллиант Хоггарти.
ГЛАВА IX Возвращает Сэма с супругой, тетушкой и бриллиантом в Лондон
Весь медовый месяц мы тешились, строили планы своего лондонского житья-бытья и выстроили для себя сущий рай! Что ж, ведь нам обоим вместе было всего сорок лет, притом, на мой взгляд, постройка воздушных замков никому не приносит вреда, напротив того, нет занятия приятнее.
Сказать по правде, перед отъездом моим из Лондона я положил подыскать жилище, которое нам было бы по средствам; и после службы мы с Гасом часами бродили по городу, пока наконец не присмотрели в? Кемден-Тауне нре-уютный домик, где был садик, в котором со временем сможет играть детвора; каретный сарай, в котором со временем можно держать двуколку, ежели мы ее заведем, а почему бы и не завести через несколько лет? — хороший здоровый воздух, и до биржи не так чтобы уж больно далеко; и все это за тридцать фунтов в год. Я описал это местечко Мэри так же восторженно, как Санчо описал Лиси аду Дон-Кихоту, и моя милая женушка с радостью предвкушала, как станет вести там хозяйство, и поклялась, что сама будет стряпать наивкуснейшие блюда (особенно пудинг с вареньем, до которого, признаюсь, я большой охотник), и пообещала Гасу, что всякое воскресенье он будет обедать у нас в Сиреневой Беседке, пусть только не курит эти свои ужасные сигары. Гас же поклялся, что приищет себе комнату где-нибудь поблизости, ибо он просто не в силах воротиться на Белл-лейн, где мы так хорошо жили с ним вдвоем; а добросердечная Мэри сказала, что пригласит погостить у нас мою сестру Уинни. При этих словах Хоскинс весь залился краской и сказал: "Вон что выдумали!"
Но когда мы воротились из недолгого свадебного путешествия, все наши надежды на счастливое житье в Сиреневой Беседке рассыпались в прах, так как миссис Хоггарти объявила нам, что ей прискучило жить в провинции и она положила ехать в Лондон вместе с милыми племянником и племянницей, вести их хозяйство и познакомить их со своими столичными друзьями.
Что нам было делать? Мы бы с радостью послали ее… на воды в Бат, только бы не в Лондон. Но выбирать нам не приходилось; мы должны были взять ее с собой; потому что, как сказала моя матушка, ежели мы ее обидим, не видать нашему семейству ее денег, а разве нам, молодым, не хочется разбогатеть?
И вот, изрядно приуныв, мы покатили в Лондон на перекладных в тетушкиной карете, ибо как же было не взять с собой карету: ведь не может такая важная особа, как моя тетушка, ездить попросту в почтовом дилижансе. И мне пришлось заплатить четырнадцать фунтов за лошадей, что почти полностью истощило мой кошелек.
Сперва мы поселились в меблированных комнатах и за три недели трижды их меняли. С первой хозяйкой мы рассорились оттого, что тетушка поклялась, будто хозяйка эта отрезала ломтик от бараньей ноги, которая была у нас к обеду; со второй квартиры мы съехали оттого, что тетушка поклялась, будто служанка ворует свечи; с третьей мы съехали оттого, что, когда наутро после нашего водворения на новом месте тетушка спустилась к завтраку, лицо у ней распухло до неузнаваемости, так ее искусали… не станем разъяснять, кто именно. Короче говоря, я совсем потерял голову от бесконечных перемен и переездов, нескончаемых рассказов и брани моей тетушки. Что до ее знатных знакомых — никого из них в Лондоне не оказалось; и она постоянно затевала со мной ссоры — зачем, мол, я не знакомлю ее с Джоном Браффом, эсквайром, членом парламента, и с ее родственниками, лордом и леди Типтоф.
Когда мы приехали в Лондон, мистер Брафф был в Брайтоне, а когда он воротился, я поначалу не осмелился ему сказать ни об том, что привез с собою тетушку, ни об моих денежных затруднениях. Когда же мне волей-неволей пришлось к нему обратиться и попросить об авансе, на лице его выразилось неудовольствие, но, услыхавши, что я очутился в стесненных обстоятельствах через то, что привез в Лондон тетушку, он мигом переменил тон.
— Это совсем другое дело, мой дорогой. Миссис Хоггарти уже в таких летах, что ей ни в чем нельзя отказывать. Вот вам сто фунтов. И прошу вас, всякий раз, как у вас будет нужда в деньгах, обращайтесь ко мне.
Это дало мне возможность спокойно дожидаться часу, когда тетушка наконец внесет свою долю на расходы по хозяйству. И на другой же день мистер и миссис Брафф в своей роскошной карете четверней пожаловали с визитом к миссис Хоггарти и моей супруге.
Было это в тот самый день, когда лицо моей бедной тетушки все распухло; и она не преминула объяснить гостье причину сего бедствия и заявила, что ни в замке Хоггарти, ни в своем доме в Сомерсетшире она и ведать не ведала про этих гнусных, отвратительных тварей.
— Боже милостивый! — воскликнул Джон Брафф, эсквайр. — Чтобы особа столь высокопоставленная так страдала! Почтеннейшая родственница моего дорогого Титмарша! Нет, сударыня, нет, покуда у Джона Браффа есть дом скромный мирный очаг доброго христианина, пусть не столь роскошный, к какому вы привыкли по вашему высокому положению в обществе, — никто не посмеет сказать, что миссис Хоггарти из замка Хоггарти терпит подобное унижение. Изабелла, душенька! Белинда! Просите миссис Хоггарти. Скажите ей, что дом Джона Браффа, весь, от чердака до погреба, к ее услугам. Да, весь, от чердака до погреба. Я желаю… я требую… я приказываю, чтобы сундуки миссис Хоггарти из замка Хоггарти были сейчас же снесены в мою карету! Будьте столь добры, миссис Титмарш, займитесь этим сами и уж позаботьтесь, чтоб вперед вашей любезной тетушке не чинили никаких неудобств.
Мэри вышла, дивясь его приказанию. Но ведь мистер Брафф великий человек да к тому же еще благодетель ее Сэма; и хотя, складывая вещи тетушки в огромные чемоданы, глупышка заливалась слезами, она, однако же, исполнила все, что требовалось, и с улыбкой предстала перед тетушкой, которая занимала мистера и миссис Брафф неторопливым, обстоятельным рассказом о балах, что давались в замке Хоггарти в Дублине во времена лорда Шарлевиля.
— Я уложила сундуки, тетушка, но снести их вниз мне не под силу, сказала Мэри.
— Да, да, конечно, — сказал Джон Брафф, пожалуй, несколько пристыженный. — Эй! Джорж, Фредерик, Огастес, подите немедля наверх и снесите в карету сундуки миссис Хоггарти из замка Хоггарти, молодая леди вам их укажет.
И мистер Брафф снизошел даже до того, что, когда его разодетые лакеи отказались тащить сундуки, он сам, собственными руками, ухватил два чемодана и понес их в карету, провозглашая на всю Лэмс-Кондуит-стрит, что "Джон Брафф не гордец, нет-нет. И ежели его лакеи задирают нос, он им преподаст урок смирения".
Миссис Брафф тоже было кинулась вниз по лестнице и хотела выхватить у супруга один из чемоданов, но они оказались для нее чересчур тяжелы, и она успокоилась на том, что, севши на один из них, принялась вопрошать всех и каждого, не сущий ли ангел ее Джон Брафф.
Вот таким-то манером и покинула нас моя тетушка. Я не знал об ее отъезде, ибо находился в тот час в конторе, и, подходя к дому в шестом часу вместе с Гасом, я увидел улыбающееся личико милой моей Мэри, которая нетерпеливо выглядывала из окошка и манила нас обоих в дом. Мне это показалось весьма удивительно, потому что миссис Хоггарти не выносила Хоскинса и не раз заявляла мне, что я должен сделать между ними выбор. Итак, мы вошли в дом, и Мэри, которая уже успела осушить слезы, встретила нас самой что ни на есть радостной улыбкой и засмеялась, захлопала в ладоши, закружилась по комнате и пожала Гасу руку. И что, по-вашему, предложила эта маленькая негодница? Провалиться мне на этом месте, если она не сказала, что не прочь поехать в Воксхолл.
К обеду стол был накрыт всего на три персоны. Гас, дрожа от страха, уселся с нами; и тогда миссис Сэм Титмарш поведала все, что тут приключилось, и как мистер Брафф умчал миссис Хоггарти в Фулем в своей роскошной карете четверней.
— Ну, и бог с ней, — со стыдом признаюсь, сказал я; и мы наслаждались своим обедом — телячьими отбивными и пудингом с вареньем — куда больше, нежели миссис Хоггарти, обедавшая в тот день на серебре и золоте в "Ястребином Гнезде".
Мы превесело провели время в Воксхолле, причем Гас пожелал сам уплатить за угощение; и смею вас уверить, мы от души желали, чтобы тетушка подольше не возвращалась, — те три недели, что ее не было, нам жилось куда веселей и уютней. По утрам, перед тем как мне идти в контору, милочка Мэри стряпала завтрак; по воскресеньям мы отдыхали; глядели, как прелестные малютки в Воспитательном доме ели вареную говядину с картофелем, и слушали прекрасную музыку; но как ни хороша была музыка, малютки эти, по-моему, были еще прекрасней, и глядеть, на их невинные счастливые личики было лучше, нежели слушать самую наилучшую проповедь. В будние дни в пять часов пополудни миссис Титмарш совершала прогулку по левой стороне Лэмс-Кондуит-стрит (ежели идти к Холборну) и иной раз доходила до самого Сноу-Хилл, и уж тут-то непременно встречали ее два молодых джентльмена из Западно-Дидлсекского страхового общества; и как же весело мы все вместе шли обедать! Однажды мы увидели, что неподалеку от фабрики Дэя и Мартина по производству ваксы (которая в ту пору была не в пример скромнее нынешней) какой-то франд на высоких каблуках, при трости с золотым набалдашником и в пышных бакенбардах, ухмыляясь во весь рот, заглядывает Мэри под шляпку и пытается с нею заговорить, да, пытается заговорить с Мэри и пожирает ее взглядом, — кто же, вы думаете, как раз тут и появился? Мы с Гасом. И в мгновение ока сей господин был схвачен за ворот, и вот он уже растянулся на земле у стоянки наемных экипажей, на потеху ухмыляющимся конюхам. А лучше всего было то, что его шевелюра и бакенбарды остались у меня в руке; но Мэри сказала: "Будь к нему снисходителен, Сэмюел, это всего лишь француз". Тогда мы отдали парик, и один из ухмыляющихся конюхов напялил его на себя и так доставил растянувшемуся на соломе французу.
Тот выкрикнул что-то касаемо "arretez", в "Francais", и "champ d'honneur" [18], но ми пошли своей дорогой, и на прощанье Гас показал господину французу нос. Все вокруг захохотали, и на этом приключение наше кончилось.
Эдак дней через десять после отъезда тетушки от нее пришло письмо, каковое я и привожу здесь:
"Любезный племянник, я всем сердцем стремлюся в Лондон, уж, наверно, и у тебя, и у моей племянницы Мэри большая во мне нужда; ведь у ней, бедняшки, совсем нету опыта жизни в столице, она не умеет икономнячать, нет у ней качеств, потребных доброй жене и хозяйке дома, так что я уж и не знаю, как она там без меня управляется.
Вели ей, штоп не вздумала платить более шести с половиною пенсов за вырезку и по четыре и три четверти за говядину для супу, и что наилутчее лондонское масло нельзя брать дороже восьми с половиною пенсов, а для пудингов и в готовку надобно брать масло подешевле. Миссис Титмарш уложила мои сундуки без всякого старания, и дужкой замка проткнула мое желтое атласное платье. Я его заштопала и уже два раза надевала, на два изысканных (хотя и скромных) вечера, кои устраивал гостеприимный хозяин дома, а зеленое бархатное надевала в субботу на званый обед, на котором меня вел к столу лорд Скарамуш. Все было на самый что ни на есть шикарный лад. Подавали суп двух сортов (куриный и мясной), потом тюрбо и лосося, а к ним соус из омаров в огромных соусниках. А ведь за одни омары надо отдать пятнадцать шиллингов. Да за тюрбо три гинеи. Лосось весил никак не меньше пятнадцати фунтов, и уж на другой день его к столу не подавали, всю неделю ни кусочка маринованного лосося. Эдакое расточительство как раз пришлось бы по нраву миссис Сэм Титмарш, ведь она, как я не устаю говорить, есть настоящая прожигательница жизни. Да, ваше счастье, мои милые, что есть у вас старуха тетка, которая знает, что к чему, и кошелек у ней набит туго, ежели бы не он, не постесняюсь сказать, кое-кто рад бы выставить ее за дверь. Это я не об тебе, Сэм, ты, надобно признать, был мне покорным племянником. Что ж, скорей всего я на свете не заживусь, и некоторые не станут горевать над моей могилкой.
А в воскресенье я, конечно, маялась животом, и все, видать, соус из омаров виноват; но ко мне пригласили доктора Блога, и он сказал, что боится, уж не чахотка ли это, однако же дал мне питье и белой доны, и мне полутшело. Пожалуста, побывай у него, — он живет в Пимлико, и ты можешь зайти к нему после службы, — и вручи ему один фунт и один шиллинг, да смотри не забудь передать мой поклон. У меня здесь нет других денег, один только билет в десять фунтов, а все прочее заперто в моей шкатулке у вас на Лэмс-Кондуит-стрит.
Надобно тебе сказать, что хотя в шикарном доме мистера Браффа и угождают грешной плоти, но о духе пекутся не менее того. Всякое утро мистер Брафф не токмо что читает молитвы, но и проповеди; и его наставления перед завтраком дают пищу алчущей душе! Все здесь в самолутшем стиле; завтрак, обед и ужин подают на золоте да на серебре; а его герб и девиз латинское слово "Industria", кое обозначает трудолюбие, и оно выведено повсюду, даже на тазу для умыванья и на прочих фаянсовых предметах у меня в спальне. В воскресенье преподобный Граймс Уошпот из здешней общины анабаптистов весьма нас всех уважил — в домовой часовне мистера Браффа три часа читал нам проповедь. Как вдова Хоггарти, я всегда ревностно поддерживала англиканскую церковь; но надобно сказать, что своей волнующей проповедью мистер Уопшот куда как превзошел преподобного Бленда Бленкинсона от англиканской церкви, каковой после обеда попотчевал нас кратким рассуждением на два часа.
Скажу тебе по секрету, миссис Брафф — полное ничтожество, и ни об чем у ней нет собственного понятия. А дочка ее, мисс Брафф, уж до того дерзка, что я однажды пообещала нахлестать ее по щекам, и сей же час отбыла бы из ихнего дому, да мистер Брафф принял мою сторону, и мисс, как полагается, предо мною извинилась.
Уж и не знаю, когда я ворочусь в город, больно хорошо меня здесь принимают. Доктор Блог говорит, фулемский воздух очень моему здоровью пользителен; а как женская половина семейства с собою на прогулки меня не приглашает, преподобный Граймс Уопшот по доброте своей часто меня сопровождает, и как же это приятно прогуливаться в Патни и Уондсворт, опершись на его руку, да любоваться на красоты природы. Я говорила ему об моем слоппертонском владении, и он не согласен с мистером Браффом, что его надобно продавать, но об этом предмете я сама решу.
Пока суд да дело, надобно вам приискать комнаты полутше; и не забывайте всякую ночь прогревать мою постель грелкою, а в дождь зажигайте камин; да пускай миссис Титмарш достанет мое голубое шелковое платье и перелицует его к моему приезду; а мою фиолетовую жакетку может взять себе; и, надеюсь, она не носит те три великолепных наряда, какие ты ей подарил, а бережет про лутшие времена. Вскорости я введу ее в дома моего друга мистера Браффа и прочих моих знакомых.
Остаюсь всегда тебя любящая тетушка.
Я приказала прислать из Сомерсетшира ящик Росолио. Когда его доставят, пришли, пожалуйста, половину ко мне сюда, только не забудь заплатить за карету. Это будет достойный подарок моему любезному хозяину мистеру Браффу".
Письмо это привез сам мистер Брафф и вручил мне в конторе, извинившись, что по оплошности сломал печать: письмо лежало среди его личной корреспонденции, и он вскрыл конверт, не поглядевши на адрес. Он, разумеется, его не читал, чем весьма меня обрадовал, ибо я не желал бы, чтобы ему стало известно мнение моей тетушки об его дочке и супруге.
На другой день некий господин прислал за мной из кофейни Тома, с Корнхилла, велевши передать, что имеет срочную надобность переговорить со мною; и когда я вошел туда, я тотчас увидел своего старого знакомца Смизерса, из фирмы "Ходж и Смизерс", — он был только что с дилижанса, и у ног его стоял ковровый саквояж.
— Сэм, мой мальчик, — сказал он, — вы наследник своей тетушки, и у меня есть для вас новостишки касаемо вашего наследства, каковые вам надлежит знать. Она написала к нам, чтобы мы прислали ей ящик ее домашнего вина, которое она прозывает Росолио и которое хранится у нас на складе совместно с ее обстановкой.
— Ну что ж, — с улыбкой сказал я, — пусть ее раздаривает это Росолио, сколько пожелает, я не против. Я уступаю на него все свои права.
— Вот еще! — отмахнулся Смизерс. — Дело не в вине, хотя, сказать по правде, ее мебель до черта нам надоела, — нет, дело не в том; дело в приписке: она велела нам немедля объявить, что продает свои слоппертонские и скуоштейлские владения, ибо намеревается иным образом поместить свой капитал.
Я знал, что слоппертонские и скуоштейлские владения тетушки приносят господам Ходжу и Смизерсу изрядный доход, ибо тетушка беспрестанно затевает тяжбы со своими арендаторами и страсть к сутяжничеству ей дорого обходится, так что тревога мистера Смизерса касаемо этой продажи показалась мне не вовсе бескорыстной.
— Неужто вы приехали в Лондон единственно для того, чтобы мне об этом сообщить, мистер Смизерс? Сдается мне, было чбы куда лучше, ежели вы сразу же исполнили бы тетушкино распоряжение либо ехали в Фулем и посовещались бы с нею об этом предмете.
— Бог с вами, мистер Титмарш! Неужто вы не понимаете, что, ежели она продаст свои земли, она вручит деньги Браффу, а ежели деньги достанутся Браффу, он…
— Он даст ей семь процентов вместо трех — что ж тут плохого?
— Но вы забываете о надежности. Он, конечно, человек денежный, очень даже денежный… И весьма почтенный… без сомнения, весьма почтенный. Но как знать? Вдруг разразится паника, и тогда все эти бесчисленные компании, к которым он причастен, могут его разорить. Вот возьмите Лимонадную компанию, в которой Брафф директором, — об ней поступают тревожные сведения. Или Объединенная компания Баффинова залива "Муфты и Палантины", — акции ее очень упали, а Брафф в ней директором. Или компания "Патентованный Насос" — акции идут по шестьдесят пять, предложение огромное, а никто не покупает.
— Чепуха это, мистер Смизерс! У мастера Браффа на пятьсот тысяч фунтов акций Западно-Дидлсекского страхового общества, а ведь они-то не упали в цене. Хотел бы я знать, кто посоветовал моей тетушке вложить деньги в это предприятие?
Тут-то я его и поймал.
— Ну, конечно же, это превосходное предприятие, и вам, Сэм, мой мальчик, оно уже принесло триста фунтов годовых. И вы должны быть нам благодарны за участие, которое мы в вас приняли (мы ведь любили вас, как сына, и мисс Ходж все еще не пришла в себя после женитьбы некоего молодого человека). Надеюсь, вы не собираетесь нас упрекать за нашу заботу об вашем богатстве, а?
— Нет, нет, провалиться мне на этом месте! — сказал я, и пожал ему руку, и не отказался от хереса и печений, которые он сразу приказал подать.
Впрочем, скоро он опять принялся за свое.
— Послушайтесь моего совета, Сэм, увезите вашу тетушку из "Ястребиного Гнезда". Она написала миссис Смизерс длинное письмо об некоем господине, с которым она там совершает прогулки, о преподобном Граймсе Уопшоте. У этого господина на нее виды. Его судили в Ланкастере в четырнадцатом годе за подлог, и он едва избежал петли. Берегитесь его… у него виды на деньги вашей тетушки.
— Ну, нет, — сказал я, доставая письмо миссис Хоггарти, — прочитайте сами.
Он прочитал письмо с пристальным вниманием, и оно его как будто даже позабавило.
— Что ж, Сэм, — сказал он, возвращая мне письмо. — Я попрошу вас всего об двух одолжениях: одно — не говорите ни одной живой душе о том, что я в Лондоне, и другое — пригласите меня на Лэмс-Кондуит-стрит отобедать с вашей милой женушкой.
— С радостью обещаю вам и то и другое, — смеясь, отвечал я. — Да только, ежели вы будете у нас обедать, об вашем приезде станет известно всем, ибо с нами обедает еще и мой друг Гас Хоскинс; с тех пор как уехала тетушка, он бывает у нас чуть не каждый день.
Смизерс тоже рассмеялся и сказал:
— За бутылкой вина мы возьмем с него слово, что он не проговорится.
И мы разошлись до обеда.
После обеда неутомимый законник возобновил атаку и был поддержан и Гасом, и моей супругой, которая нисколько не была заинтересована в этом деле, даже более того, она бы дорого дала за то, чтобы избавиться от общества моей тетушки. И, однако же, она сказала, что доводы мистера Смизерса справедливы, и я со вздохом с ними согласился. Но все-таки я заупрямился и объявил, что тетушка может распорядиться своими деньгами, как ей угодно: не мне пытаться как-то повлиять на ее решение.
Отпив чаю, гости наши ушли вместе, и Гас говорил мне. после, что Смизерс засыпал его вопросами об нашей фирме, об мистере Браффе, обо мне и моей супруге, обо всех мелочах нашего житья-бытья.
— Вы счастливчик, мистер Хоскинс, и, сдается мне, состоите в дружбе с сей очаровательной парой, — сказал Смизерс. И Гас признался, что да, так оно и есть, и сказал, что за полтора месяца обедал у нас пятнадцать раз и что нет на свете человека лучше и гостеприимнее меня. Я рассказываю это не ради того, чтобы трубить о своих достоинствах, нет, нет; но затем, что Смизерсовы расспросы весьма связаны с последующими событиями, о которых ведется речь в этой небольшой повести.
На другой день, сидя за обедом, состоявшим из холодной баранины, которой накануне так восхищался Смизерс, — Гас, по обыкновению, обедал у нас, — мы услыхали, что у наших дверей остановился экипаж, но не придали этому значения; на лестнице послышались шаги, но мы решили, что это идут к соседу, — и в комнату ворвалась — кто бы вы думали? — миссис Хоггарти собственной персоной! Гас, который сдувал пену с кружки пива, готовясь насладиться сим напитком, и развлекал нас всякими историями и забавными случаями, так что мы помирали со смеху, отставил кружку, сник и побледнел. Да и всем нам стало не по себе.
Тетушка высокомерно поглядела на Мэри, потом яростно — на Гаса и, сказавши: "Так это правда… мой бедный мальчик, так скоро!" — с рыданиями кинулась в мои объятия и, едва не задохнувшись, объявила, что никогда, никогда меня не покинет.
Ни я, ни кто из нас не могли понять причины столь бурного волнения миссис Хоггарти. Она не пожелала опереться на руку Мэри, когда бедняжка не без страху к ней подошла; а когда Гас робким голосом сказал: "Мне кажется, я мешаю, Сэм, пожалуй… я лучше… уйду", — миссис Хоггарти поглядела на него в упор, величественно указала пальцем на дверь и сказала: "Да, сэр, мне-то определенно кажется, что вам лучше уйти".
— Надеюсь, мистер Хоскинс пробудет здесь столько, сколько пожелает, горячо вступилась моя супруга.
— Еще бы вам не надеяться, сударыня, — весьма язвительно ответила миссис Хоггарти.
Но Гас не слыхал ни слов Мэри, ни тетушкиных, он схватился за шляпу, и каблуки его застучали по лестнице.
Ссора окончилась, по обыкновению, слезами Мэри, а тетушка все продолжала твердить свое: она надеется, что еще не поздно и отныне она никогда, никогда меня не покинет.
— Отчего это тетушка вдруг воротилась, да так гневается? — спросил я ввечеру Мэри, когда мы оказались одни у себя в комнате; но супруга моя стала уверять, что ей это невдомек; и лишь много времени спустя я узнал причину этой размолвки и внезапного появления миссис Хоггарти.
Всего несколько лет назад, показывая мне письмо Хиксона, Диксона, Пэкстона и Джексона, которое я уже приводил в сих мемуарах, эта гнусная рожа, этот мелкий пакостник Смизерс открыл мне причину, представив всю историю как забавнейшую шутку.
— Сэм, мой мальчик, — сказал он, — вы положили оставить миссис Хоггарти в "Ястребином Гнезде" в лапах Браффа, а я положил вызволить ее оттуда. Я решил, так сказать, одним ударом убить двух ваших смертельных врагов. Мне было совершенно ясно, что преподобный Граймс Уопшот зарится на богатство вашей тетушки и что у мистера Браффа касаемо нее те же хищные намерения. Хищные — это еще мягко сказано, Сэм; ежели бы я сразу сказал "грабеж", я бы выразился куда как точнее. Не долго думая, я сел в фулемский дилижанс и, приехавши, сразу же направился на квартиру к сему достойному господину.
— Сэр, — сказал я, увидав его; дело было в два часа пополудни, а он пил грог, по крайней мере, вся его комната пропахла сим напитком. — Сэр, сказал я, — вас судили за подлог в четырнадцатом годе в Ланкастере, на выездной сессии суда.
— И оправдали, сэр. Моя невиновность, слава богу, была доказана, отвечал Уопшот.
— Но в шестнадцатом годе, когда вас судили за растрату, вы не были оправданы, — сказал я, — и провели два года в Йоркской тюрьме.
Я все это хорошо знал, ибо когда он был священником в Клифтоне, мне пришлось посылать ему судебную повестку. И, не давши ему опомниться, я продолжал:
— Мистер Уопшот, вы сейчас ухаживаете за весьма достойной особой, проживающей в доме мистера Браффа; ежели вы не пообещаете мне оставить ее в покое, я вас изобличу.
— Я уже пообещал, — удивленно, но с явным облегчением отвечал Уопшот. Я торжественно обещал это мистеру Браффу, он был у меня нынче утром, и бушевал, и изрыгал хулу, и бранился. О сэр, вы бы испугались, услыхавши, как бранился сей невинный агнец.
— У вас был мистер Брафф? — спросил я в изумлении.
— Да. Я так полагаю, вас обоих сюда привел один и тот же след, отвечал Уопшот. — Вы хотите жениться на вдове, владелице Слоппертонских и Скуоштейлских земель, так ведь? Ну и женитесь, бог в помощь. Я пообещал отступиться от вдовы, а слово Уопшота свято.
— Надобно полагать, сэр, мистер Брафф пригрозил, что вышвырнет вас вон, ежели вы опять сунетесь к нему в дом?
— Вот теперь я положительно уверен, что вы у него побывали, — сказал сей господин, пожавши плечами.
И тут-то мне припомнились ваши слова касательно вскрытого письма, и я уж ни минуты более не сомневался, что это Брафф сломал печать и прочел все от первого до последнего слова.
Итак, один заяц был убит: мы оба, и я и Брафф, дали по нему выстрел. Теперь мне предстояло пальнуть по самому "Ястребиному Гнезду"; и я отправился туда во всеоружии, да, сэр, во всеоружии.
Я подошел к имению в девятом часу и, войдя в ворота, увидел в боскете знакомую фигуру — то бишь вашу уважаемую тетушку, сэр; но прежде нее я хотел повстречать, любезных хозяек дома, ибо, видите ли, друг мой Титмарш, по письму миссис Хоггарти я понял, что она с ними на ножах, и понадеялся, что открытая ссора с ними позволит мне тотчас ее оттуда увезти.
Я рассмеялся и не мог не признать, что мистер Смизерс малый весьма ловкий.
— На мое счастье, — продолжал он, — мисс Брафф была в гостиной и, пощипывая струны гитары, дурным голосом тянула какую-то песню; однако же, войдя в комнату, я как мог громче зашипел на лакея "тс!" и стал как вкопанный, а затем осторожно, на цыпочках пошел к ней. Мисс Брафф могла видеть в зеркало каждый мой шаг, но она притворилась, будто ничего не замечает, и как ни в чем не бывало закончила песню руладой.
— Ради бога не сердитесь на меня, сударыня, — сказал я, — что я помешал вам, осмелился ворваться сюда незваный, но можно ли было не послушать столь восхитительное пение!
— Вы к маменьке, сэр? — спросила мисс Брафф со всей любезностию, какую только могла выразить ее неприветливая физиономия. — Я мисс Брафф, сэр.
— Сударыня, — отвечал я, — сделайте милость, не спрашивайте меня об" деле, дайте мне сперва еще насладиться вашим чарующим пением.
Петь она больше не стала, но была явно польщена и сказала:
— Ах, что вы, сэр. Так какое же у вас дело?
— У меня дело до той леди, что гостит в доме вашего уважаемого батюшки.
— А, миссис Хоггарти! — И мисс Брафф схватила сонетку и позвонила. Джон, пошлите за миссис Хоггарти, она в саду; этот господин желает с нею говорить.
— Я не хуже других знаю ее странности, сударыня, — сказал я, — и понимаю, что и нрав ее и манеры не таковы, чтобы она могла составить вам подходящую компанию. Я знаю, она вам не по душе. Она писала к нам в Сомерсетшир, что оказалась вам не по душе.
— Ах, вот как! Так она еще поносит нас перед своими друзьями? вскричала мисс Брафф (именно эту мысль я и старался ей внушить). — Если мы ей не по душе, для чего ж ей оставаться в нашем доме?
— Она и вправду загостилась, — поддакнул я. — И ее племянник и племянница, уж конечно, ждут ее не дождутся. Умоляю вас, сударыня, не уходите, я надеюсь на вашу помощь в деле, ради которого приехал сюда. Дело же, ради которого я приехал сюда, сэр, состояло в том, чтобы вызвать сих двух дам на генеральное сражение, а под конец воззвать к миссис Хоггарти, сказавши, что ей, право же, не подобает оставаться далее в доме, с хозяевами которого у нее возникают столь прискорбные разногласия. И сражение разыгралось, сэр; огонь открыла мисс Белинда, заявив, что, сколько она понимает, миссис Хоггарти клевещет на нее своим друзьям. И хотя под конец мисс в ярости выбежала вон, заявивши, что уйдет из собственного дома, если эта мерзкая особа здесь останется, — ваша дражайшая тетушка засмеялась и сказала: "Знаю я, что замышляет эта скверная девчонка. Но, благодарение богу, у меня доброе сердце, и как истинная христианка я способна ей простить. Я не покину дом ее превосходного папеньки, не стану огорчать своим отъездом сего достойного человека".
Тогда я попытался воззвать к ее сочувствию. "По словам Сэма, сударыня, ваша племянница миссис Титмарш последнее время чувствует нездоровье… по утрам ее поташнивает, сударыня… она бывает угнетена и не в духе… у молодой супруги, сударыня, признаки сии говорят сами за себя".
На это миссис Хоггарти отвечала, что у ней есть отменные укрепляющие капли, она пошлет их миссис Титмарш, и, уж конечно, они пойдут ей на пользу.
С великой неохотою я был вынужден ввести в бой свой последний резерв, и теперь, когда все уже давно позади, могу открыть вам, мой мальчик, что это было. "Сударыня, — сказал я, — мне надобно с вами переговорить еще об одном деле, да не знаю, как и начать. Вчерашний день я обедал у вашего племянника и познакомился у него с молодым человеком… с весьма вульгарным молодым человеком, но он, видно, втерся в доверие к вашему племяннику и, боюсь, сумел произвести впечатление на вашу племянницу. Фамилия его Хоскинс, сударыня. И ежели я скажу вам, что он, который при вас не переступал порога этого дома, за три недели вашего отсутствия обедал у вашего чрезмерно доверчивого племянника целых шестнадцать раз, вы сами вообразите… то, что я и вообразить не смею".
Выстрел попал в цель. Ваша тетушка так и подскочила и уже через десять минут сидела в моей карете, и мы мчались в Лондон. Ну, как, сэр, это ли не хитрый маневр?
— Вы ловко все это разыграли, мистер Смизерс, и моей супруги не пожалели, — сказал я.
— Да, и вашей супруги не пожалел, но это ради вас же обоих.
— Ваше счастье, сэр, что вы пожилой человек и что это дело прошлое, отвечал я, — не то клянусь, мистер Смизерс, я задал бы вам такую трепки, какая вам и не снилась!
Вот каким образом миссис Хоггарти была возвращена к своим родным; и вот почему мы сняли дом на Бернард-стрит, а как мы там жили, об том сейчас и надлежит рассказать.
ГЛАВА X О частной жизни Сэма и о фирме "Брафф и Хофф"
Мы сняли приличный домик на Бернард-стрит, Рассел-сквер; и тетушка выписала из провинции всю свою мебель, которой вполне хватило бы на два таких дома, но нам, молодым хозяевам, она досталась очень дешево, так как нам пришлось оплатить лишь перевозку из Бристоля.
Когда я в третий раз принес миссис Хоггарти ее дивиденд, каковой выплачивался раз в полгода, она, надобно сказать, дала мне пятьдесят фунтов из восьмидесяти (а за четыре месяца, что она прожила у нас, я не видал от нее ни шиллинга) и сказала, что от бедной старой женщины, которая и не ест, а клюет, как воробушек, за квартиру и за стол этого больше чем достаточно.
В Сомерсетшире я видел собственными глазами, как она за один присест уплела девять воробушков, запеченных в пудинг; но она была богата, и мне не приходилось жаловаться. Пусть, живя с нами, она экономит в год по меньшей мере шестьсот фунтов, что ж, все это в один прекрасный день перейдет ко мне же; так что мы с Мэри утешились и только старались как могли лучше сводить концы с концами. Содержать дом на Бернард-стрит да еще откладывать понемножку при нашем доходе в четыреста семьдесят фунтов в год было нелегко. Но как же мне повезло, что у меня все-таки был такой доход!
Когда миссис Хоггарти уезжала со Смизерсом из "Ястребиного Гнезда", в ворота на своей четверке серых въехал мистер Брафф; и я дорого бы дал, чтобы поглядеть на этих двух джентльменов, когда один увозил добычу из-под носу у другого, из его же логова.
Мистер Брафф заявился к нам на другой день и сказал, что уедет отсюда только вместе с тетушкой; ему известно, как постыдно вела себя его дочь, но он застал ее в слезах, "да, в слезах, сударыня, и она на коленях молила бога простить ее"! Однако же ему пришлось уехать из моего дома одному, ибо у тетушки была своя causa major [19] оставаться с нами, не спускать глаз с Мэри, вскрывать все до единого письма, приходившие на ее имя, и следить за тем, кому она пишет. Долгие, долгие годы Мэри таила от меня все эти обиды и, когда муженек возвращался на должности, всегда встречала его улыбкой. Что до бедняги Гаса, тетушка совсем его запугала, и все время, покуда мы жили на Бернард-стрит, он к нам глаз не казал, а лишь довольствовался моими рассказами про Мэри, к которой питал ту же сердечную привязанность, что и ко мне.
Стоило тетушке уехать от мистера Браффа, и он сразу перестал ко мне благоволить. По сто раз на дню придирался ко мне, да во всеуслышание, на глазах у всей конторы; но в один прекрасный день я в самых недвусмысленных выражениях дал ему понять, что я не только его подчиненный, но и держатель акций не из последних, и пусть попробует указать, в чем я плохо исправляю должность, а выслушивать оскорбления я не намерен ни от него, ни от кого другого. Так он и знал, сказал Брафф; всякий раз, как он какого-нибудь молодого человека принимал в свое сердце, тот непременно платил ему черной неблагодарностью; он привык терпеть несправедливости и непокорство своих детей и будет молить бога, чтобы мне простился сей грех. А ведь за минуту до того он бранил и распекал меня и говорил со мною так, будто я какой-нибудь чистильщик сапог. Но, скажу вам, я больше не желал терпеть важничанье мистера Браффа и его супруги. Со мной пусть их обращаются как хотят, но я не желал, чтобы они пренебрегали моей Мэри, как пренебрегли ею, не пригласивши в Фулем.
Под конец Брафф предостерег меня касаемо Ходжа я Смизерса.
— Берегитесь их, — сказал он, — не то, клянусь честью, эти обжоры принесут земли вашей тетушки в жертву своим аппетитам. А когда я, ради ее же блага, чего вы, упрямец, никак не возьмете в толк, хотел избавить ее от земельной собственности, ее поверенные, эти наглецы, эти алчные безбожники, сказал бы я, запросили десять процентов комиссионных.
В словах его есть доля истины, подумал я, во всяком случае, когда жулики ссорятся, честным людям это на руку; а я, как это ни печально, начал подозревать, что и поверенному, и нашему директору свойственна некоторая жуликоватость. Мистер Брафф, тот особенно явно выдал себя, когда дело коснулось до состояния моей супруги; по своему обыкновению, он предложил мне купить на ее деньги акции нашей Компании. Я же отвечал ему, что супруга моя несовершеннолетняя, а посему я не имею права распоряжаться ее скромным состоянием. Он в ярости выбежал из комнаты, и по тому, как стал обходиться со мною Абеднего, я вскорости понял, что хозяин наш махнул на меня рукой. Кончились свободные денечки, кончились авансы; более того, должность личного секретаря была упразднена, я лишился пятидесяти фунтов и вновь оказался при своих двухстах пятидесяти в год. Ну и что ж? Все равно это было прекрасное жалованье, и я честно делал свое дело и только посмеивался над директором.
Примерно в ту же пору, в начале тысяча восемьсот двадцать четвертого года, Ямайская лимонадная компания перестала существовать, — с треском лопнула, как выразился Гас. Акции "Патентованного Насоса" упали до пятнадцати фунтов, хотя приобретены были по шестьдесят пять. Наши же все шли выше номинала, и Западно-Дидлсекское независимое страховое общество по-прежнему высоко держало свою гордую голову. Обвинения Раундхэнда, намекнувшего на махинации с акциями, не прошли для директора бесследно, однако же в нашей Компании по-прежнему не чувствовалось никакого разброда, она стояла нерушимая, как Гибралтарская скала.
Возвратимся же на Бернард-стрит, Рассел-сквер. Тетушкина старая мебель заполнила наши комнатки; а ее громоздкий расстроенный рояль на кривых ножках, в котором половина струн полопалась, занял три четверти тесной гостиной. Здесь-то миссис Хоггарти сиживала часами и разыгрывала нам сонаты, которые были в моде во времена лорда Шарлевиля, и распевала своим надтреснутый голосом, а мы изо всех сил старались удержаться от смеху. Надобно заметить, что в натуре миссис Хоггарти произошли престранные перемены: живя в провинции, среди сливок сельского общества, она бывала вполне довольна, когда в шесть часов к ней собирались на чай гости, после чего они играли в вист по два пенни; в Лондоне же она нипочем не садилась обедать ранее семи, дважды в неделю нанимала на извозчичьем дворе экипаж и выезжала в Парк; укорачивала и удлиняла, порола и снова и снова переделывала свои старые платья, оборочки, чепцы и прочие наряды и украшения, заставляя мою бедняжку Мэри с утра до ночи подгонять их под нынешнюю моду. Более того, миссис Хоггарти обзавелась новым париком; и, с прискорбием вынужден сказать, навела такой румянец, каким никогда не дарила ее природа, так что жители Бернард-стрит, которым подобные обычаи были в диковинку, стали пялить на нее глаза.
Более того, она настояла, чтобы мы завели ливрейного лакея, мальчишку лет шестнадцати; его обрядили в старую ливрею, которую она привезла из Сомерсетшира, украшенную новыми обшлагами и воротниками, а также новыми пуговицами, на коих изображены были соединенные гербы Титмаршей и Хоггарти, то есть синица, вставшая на хвост, и боров в латах. Хотя род мой и вправду очень древний, но ливрея и пуговицы с гербами показались мне затеей весьма нелепой. И боже мой! Какой раздался громовый хохот у нас в конторе, когда однажды там появился тщедушный мальчишка в ливрее с чужого плеча, с огромной булавой, и передал мне записку от миссис Хоггарти из замка Хоггарти! К тому же все письма должны были подаваться на серебряном подносе. Появись у нас ребеночек, тетушка, надобно думать и его тоже велела бы подавать ей на серебряном подносе; но намеки мистера Смизерса на сей счет имели под собой столь же мало оснований, как и другая его гнусная выдумка, о которой я уже упоминал. Тетушка и Мэри теперь всякий день степенно прогуливались по Нью-роуд в сопровождении мальчишки с огромной позолоченной булавой; но несмотря на всю эту торжественность и парадность, несмотря на то, что тетушка все еще толковала о своих знакомствах, неделя проходила за неделей, а к нам никто не заглядывал, и во всем Лондоне навряд ли можно было сыскать другой такой унылый дом.
По воскресеньям миссис Хоггарти ходила в церковь св. Панкратия, в ту пору только еще построенную и по красоте не уступавшую театру "Ковент-Гарден", а по вечерам — в молитвенный дом анабаптистов; и уж хотя бы в этот день мы с Мэри были предоставлены сами себе — мы предпочитали ходить в Воспитательный дом и слушать там пленительную музыку, и женушка моя задумчиво глядела на милые детские личики, и, по правде говоря, я тоже. Однако же лишь через год после нашей свадьбы она сказала мне наконец слова, которые я здесь приводить не стану, но которые наполнили нас обоих несказанной радостию.
Помню, она поделилась со мной этой новостью в тот самый день, когда прогорела компания "Муфты и Палантины", которая поглотила, по слухам, капитал в триста тысяч фунтов и только и могла взамен предъявить договор с какими-то индейцами, вскорости после заключения контракта убившими агента Компании томагавками. Кое-кто говорил, что никаких индейцев не существовало в природе и никакого агента, который мог бы пасть под томагавками, тоже не существовало, а просто все это сочинили в доме на Кратчед-Фрайерз. Что бы там ни было, я пожалел беднягу Тидда, которого встретил в тот день в Сити, на нем лица не было, ведь он таким образом, в первый же год потерял свои двадцать тысяч фунтов. Он сказал, что у него на тысячу фунтов долгу и что ему впору застрелиться; но он всего лишь был арестован и немалое время провел во Флитской тюрьме. Однако же, как вы легко можете вообразить, восхитительная новость, которую мне сообщила Мэри, быстро вышибла у меня из головы и Тидда и компанию "Муфты и Палантины".
В Лондоне стали известны и другие обстоятельства, как будто говорившие о том, что наш директор трещит по всем швам, — в словаре Джонсона вы этого выражения в таком виде не найдете. Три его Компании лопнули, о других четырех было известно, что они несостоятельны; и даже на заседании директоров Западно-Дидлсекского страхового общества имело место бурное объяснение, после чего кое-кто из них хлопнул дверью. Их заменили друзья мистера Браффа; мистер Кукл, мистер Фантом, мистер Ойли и другие почтенные господа предложили свои услуги и вошли в наше правление. Брафф и Хофф разделились, и мистер Брафф заявил, что с него вполне хватит управления Западно-Дидлсекским страховым обществом и что он намерен постепенно отойти ото всех прочих дел. Что и говорить, в такой Компании, как наша, кому угодно было бы работы по горло, а Брафф ведь был еще и член парламента, и в придачу на него, как на главного директора лопнувших Компаний, обрушились семьдесят два иска.
Мне, вероятно, следовало бы описать здесь отчаянные попытки миссис Хоггарти приобщиться к светской жизни. Как ни странно, наперекор словам лорда Типтофа, тетушка продолжала уверять, будто состоит в самом близкое родстве с леди Бум, и едва только узнала из "Морнинг пост" о том, что ее милость вместе с внучками прибыла в Лондон, сей же час велела подать экипаж, о коем я уже упоминал, отправилась к этим особам и в каждом доме оставила карточки: свою — "Миссис Хоггарти из замка Хоггарти", великолепную, с пышным готическим шрифтом и множеством завитушек, а также и нашу — "Мистер и миссис Сэмюел Титмарш", каковую заказала нарочно для такого случая.
Ежели бы ливрейный лакей, которому была вручена карточка миссис Хоггарти, сделал бы ей хоть малое послабление, она штурмом взяла бы дверь дома леди Джейн Престон и прорвалась бы в комнаты, несмотря на все мольбы Мэри не делать этого; но сей страж, по всем вероятиям, пораженный ее странной наружностию, загородил собою дверь и объявил, что ему строго-настрого приказано не допускать к миледи никого незнакомых. В ответ на это миссис Хоггарти погрозила ему кулаком из окошка кареты и пообещала, что его, голубчика, непременно сгонят со двора, уж она этого добьется.
В ответ Желтоплюш только захохотал; и хотя тетушка написала мистеру Эдварду Престону на редкость возмущенное письмо, в котором жаловалась на дерзость его слуг, сей достопочтенный джентльмен оставил ее письмо безо всякого внимания, лишь возвратил его, присовокупивши, что он просил бы впредь не беспокоить его столь назойливыми визитами. Ну и денек же у нас выдался, когда пришло это письмо! Прочитавши его, тетушка была безмерно разочарована и разгневана, ибо, когда Соломон, по обыкновению, подал ей это послание на серебряном чайном подносе, тетушка моя, увидав печать мистера Престона и имя его в углу конверта (что было принято среди лиц, занимавших государственные посты) — так вот, повторяю, увидав его имя и печать, тетушка воскликнула: "Ну, Мэри, кто был прав?" И тут же побилась с моей женушкой об заклад на шесть пенсов, что в конверте содержится приглашение на обед. Шесть пенсов она так и не отдала, хоть и проиграла, а только весь день бранила Мэри да твердила, что я жалкий трус, раз тотчас не отхлестал мистера Престона. Хорошенькие шутки, нечего сказать! В те поры меня за это просто бы повесили, как повесили человека, застрелившего мистера Персиваля.
А теперь я бы с радостью порассказал еще о своем опыте светской жизни, приобретенном благодаря упорству миссис Хоггарти; но надобно признать, что мне представлялось не так уж много случаев познакомиться с высшим светом и все они приходятся на короткие полгода, к тому же светское общество было уже подробно описано многими авторами романов, которых имена нет нужды здесь приводить, но которые, будучи тесно связаны с аристократией, — либо как члены благородных фамилий, либо как лакеи и прихлебатели оных, — знакомы с этим предметом, само собой разумеется, куда лучше, нежели скромный молодой служащий страховой компании.
Взять, к примеру, знаменитое посещение оперы, куда мы отправились с тетушкой по ее настоянию; здесь в особой зале, называемой фойе, после представления леди и джентльмены дожидаются своих экипажей (вообразите, кстати, каково выглядел наш щуплый Соломон с его огромной булавой среди всех этих ливрейных лакеев, столпившихся у дверей) — и в этом фойе, говорю я, миссис Хоггарти кинулась к старой графине Бум, которую я ей показал, и стала настойчиво напоминать ее милости об их родстве. Но графиня Бум помнила, если можно так выразиться, лишь то, что ей было угодно, а на сей раз сочла за благо начисто забыть о своих родственных связях с семейством Титмарш и Хоггарти. Она и не подумала нас признать, напротив того, назвала миссис Хоггарти "мерзкой женщиной" и стала громко подзывать полицейского.
Получив несколько таких щелчков, тетушка, по ее словам, постигла суетность и греховность высшего света и стала искать общества людей истинно серьезного направления мыслей. По ее словам, она приобрела несколько весьма ценных знакомств в анабаптистской церкви; и среди прочих неожиданно повстречала там своего знакомца по "Ястребиному Гнезду" мистера Граймса Уопшота. В те поры мы еще не знали о разговоре, который произошел у него с мистером Смизерсом, и Граймс, разумеется, не счел приличным посвящать нас во все обстоятельства дела; но хотя я не скрыл от миссис Хоггарти, что ее любимый проповедник был судим за подлог, она заявила, что, по ее мнению, это омерзительная клевета, а он заявил, что мы с Мэри пребываем в прискорбном неведении и что рано или поздно мы неминуемо скатимся в некую бездну, которая, похоже, была ему хорошо знакома. Следуя наставлениям и советам сего почтенного джентльмена, тетушка вскорости совсем перестала посещать церковь св. Панкратия, неукоснительно трижды в неделю слушала его проповеди, стала обращать на путь истинный пребывающих во мраке бедняков Блумсбери и Сент-Джайлса и шить пеленки для их младенцев. Однако же для миссис Сэм Титмарш, которой теперь уже, судя по некоторым признакам, пеленки тоже вскорости должны были понадобиться, она ничего такого не шила, предоставив Мэри, и моей матушке, и сестрицам в Сомерсетшире самим позаботиться обо всем, что требовалось для предстоящего события. Я, признаться, не поручусь, что она не возмущалась вслух нашими приготовлениями и не говорила, что надобно думать не об завтрашнем дне, а о спасении души. Так или иначе, преподобный Граймс Уопшот попивал у нас грог и обедал у нас куда чаще, нежели в свое время бедняга Гас.
Но мне было недосуг приглядеться к нему и к его поведению, потому что, признаться, в ту пору я оказался в весьма стесненных обстоятельствах и меня день ото дня все более тревожили и домашние и служебные мои дела.
Что касаемо первых, миссис Хоггарти дала мне пятьдесят фунтов, но из этих пятидесяти фунтов мне надобно было оплатить переезд из Сомерсетшира, перевозку всей тетушкиной мебели, ковры, окраску и оклейку обоями моего дома, коньяк и прочие крепкие напитки, которые употреблял преподобный Граймс и его приятели (ибо сей почтенный джентльмен заявил, что Росолио ему вредно), и, наконец, тысячи мелких счетов и расходов, неизбежных во всяком лондонском хозяйстве.
К тому же в это самое время, когда я испытывал столь острую нужду в деньгах, я получил счета от мадам Манталини, от господ Хоуэлла и Джеймса, от барона фон Штильца, а также от мистера Полониуса за оправу для бриллиантовой булавки. Все они, будто сговорясь, прислали счета на одной и той же неделе; и вообразите мое изумление, когда, принеся их миссис Хоггарти, я услышал от нее:
— Что ж, мой дорогой, ты получаешь весьма порядочное жалованье. Ежели тебе угодно заказывать платье и драгоценности в наилучших магазинах, изволь за них платить. И не надейся, что я стану потакать твоим сумасбродствам или дам тебе хотя бы шиллинг сверх того, что так щедро плачу за стол и квартиру!
Ну мог ли я рассказать Мэри в ее деликатном положении о таком поступке миссис Хоггарти! И самое печальное, что, как ни худо обстояли дела у меня дома, на службе они складывались еще того хуже.
Ушел не только Раундхэнд, теперь нашу контору покинул и Хаймор. Главным конторщиком стал Абеднего; и однажды в нашу контору явился его старик-отец и проведен был в кабинет директора. Вышел он оттуда, весь дрожа и, спускаясь с лестницы, бормотал что-то невнятное и бранился на чем свет стоит.
— Господа, — начал он, видно, желая обратиться ко всем нам, конторским, с речью. Как вдруг из кабинета выскочил мистер Брафф, умоляюще поглядел на старика, вскричал: "Обождите до субботы!" — и кое-как выпроводил его за дверь.
В субботу Абеднего-младший навсегда покинул нашу контору, и я сделался главным конторщиком с жалованьем четыреста фунтов в год. То была роковая неделя и для нашей Компании тоже. В понедельник, когда я пришел в должность, занял место за первой конторкой и первый, как мне теперь полагалось, раскрыл газету, мне сразу же бросилось в глаза следующее сообщение: "Страшный пожар на Хаундсдиче! Сгорела дотла сургучная фабрика мистера Мешаха и соседний с нею склад готового платья мистера Шадраха. На фабрике находилось на двадцать тысяч фунтов стерлингов лучшего голландского сургуча, который в мгновение ока был поглощен ненасытным пламенем. Уважаемый хозяин склада как раз только что заготовил сорок тысяч мундиров для кавалерии его высочества касика Пойесского".
Оба этих почтенных иудея, добрые знакомые Абеднего, были застрахованы в нашей Компании на всю сумму их нынешнего убытка. Виновником несчастья сочли подлого пьяницу ирландца, ночного сторожа, который опрокинул бутылку виски в складе мистера Шадраха и неосторожно зажег свечу в поисках пролитого напитка. Хозяева привели сторожа к нам в контору, и мы имели возможность убедиться собственными глазами, что даже и тогда он был еще вдребезги пьян.
И, словно этого было не довольно, в той же газете был некролог, извещавший о кончине олдермена Пэша, — зная его как гурмана, мы в веселую минуту называли его между собою Пэш-поешь; но в тот час нам было не до шуток. Он был застрахован у нас на пять тысяч фунтов. Тут я понял, как прав был Гас, когда говорил, что общества по страхованию жизни преуспевают первые год или два, а потом застрахованные начинают умирать, и тогда доходу получается куда меньше.
Эти два еврейских пожара оказались тяжелейшим из всех ударов, которые обрушились на нашу Компанию; ибо хотя хлопкопрядильные фабрики Уодингли, сгоревшие в 1822 году, стоили Компании восемьдесят тысяч фунтов, а фабрика патентованных спичек "Герострат", взлетевшая на воздух в том же году, еще четырнадцать тысяч фунтов, поговаривали, что Компания потеряла на этом куда менее, нежели предполагалось, и даже что Компания сама сожгла эти предприятия для собственной рекламы. Но об этих делах я не могу ничего утверждать с определенностию, так как отчеты тех лет через мои руки не проходили.
Вопреки ожиданиям всех наших джентльменов, которые сидели мрачные, как на похоронах, мистер Брафф подкатил к конторе в своей карете четверней с каким-то приятелем, смеясь и перебрасываясь шутками.
— Джентльмены! — сказал он, войдя в контору. — Вы читали газеты. В них сообщается о событии, повергшем меня в глубокую скорбь. Я говорю в кончине нашего клиента, высокочтимого олдермена Пэша. Но если что и может утешить меня, так единственно мысль, что вдова и дети сего достойного человека в субботу, в одиннадцать часов дня, получат из рук моего друга мистера Титмарша, нашего главного конторщика, пять тысяч фунтов. Ну, а касаемо беды, приключившейся у господ Шадраха и Мешаха, тут горевать не о чем. В субботу ли, в другой ли? день, как только все обстоятельства дела будут выяснены и должным образом удостоверены, мой друг Титмарш выплатит им наличными сорок, пятьдесят, восемьдесят, сто тысяч фунтов — смотря по тому, во сколько будут исчислены их убытки. Уж они-то, по крайности, будут вознаграждены; и хотя для наших акционеров издержки, без сомнения, окажутся значительными, мы можем себе позволить такой расход, господа. Если на то пошло, Джон Брафф без особого труда и один мог бы взять на себя такой расход; нам надобно учиться встречать неудачи, так же как до сей поры мы встречали удачи, и сохранять мужество при всех обстоятельствах!
Приводить здесь слова, которыми мистер Брафф заключил свою речь, мне, признаться, не хочется, ибо я всегда полагал непочтительным поминать небеса в связи с обычными нашими мирскими делами, призывать же их в свидетели, изрекая ложь, как поступает пустосвят, уж такой страшный грех, что и говорить-то о нем следует с осторожностию.
Речь мистера Браффа каким-то образом в тот же вечер попала в газеты, и я просто ума не приложу, чьих это рук дело: ведь до самого появления вечерних газет ни один из наших джентльменов не выходил из конторы. Однако же речь была напечатана. И, более того, хотя, по слухам, Раундхэнд на Бирже ставил пять против одного, что деньги олдермена Пэша выплачены не будут, в субботу я выдал поверенному миссис Пэш наличными всю причитающуюся ей сумму, и Раундхэнд, безусловно, проиграл пари.
Рассказать вам, откуда взялись эти деньги? Думаю, что теперь, через двадцать лет, в этом нет беды; и, более того, это послужит к прославлению двух людей, которых ныне уже нет в живых.
В качестве главного конторщика я часто бывал в кабинете Браффа, и теперь он как будто снова был склонен отнестись ко мне с доверием.
— Титмарш, дорогой, — сказал он однажды, поглядев на меня в упор, — вы когда-нибудь слышали об великом мистере Зильбершмидте из Лондона?
Я, разумеется, о нем слышал. Мистер Зильбершмидт, Ротшильд своего времени (говорят даже, что сей прославленный банкир служил поначалу конторщиком в фирме Зильбершмидта) — этот самый Зильбершмидт, вообразивши, будто он оказался несостоятельным, покончил с собою; а меж тем, обожди он до четырех часов того же дня, он узнал бы, что располагает четырьмястами тысячами фунтов.
— Сказать вам откровенно, — промолвил мистер Брафф, — я нахожусь сейчас в положении Зильбершмидта. Мой бывший компаньон Хофф от имени фирмы выдал векселя на огромную сумму, и я вынужден был их покрыть. Четырнадцать кредиторов этой окаянной Лимонадной компании подали в суд; всем известно, что я человек богатый, вот все долги и взвалили на меня. И теперь мне нужна отсрочка, не то я не смогу платить; короче говоря, ежели до субботы я не раздобуду пять тысяч фунтов, наша Компания разорена!
— Как! Западно-Дидлсекская разорена? — воскликнул я, думая об ежегодной ренте моей матушки. — Быть этого не может! Мы же процветаем.
— Ежели в субботу у нас будет пять тысяч фунтов, мы спасены. И ежели вы расстараетесь и достанете их для меня, а вы это можете, я верну вам вдвое!
После чего Брафф подробнейшим образом ознакомил меня со счетами Компании и со своим личным счетом, которые с несомненностию подтверждали, что с этими пятью тысячами наша фирма устоит, а без них рухнет. Как он сумел это доказать, не важно; недаром же один государственный муж сказал, что ежели ему разрешат обратиться к цифрам, — он докажет все, что угодно.
Я пообещал еще раз попросить денег у миссис Хоггарти, и она как будто отнеслась к моей просьбе благосклонно. Так я и сказал Браффу, и в тот же день он сам ее навестил, да не один, а с супругой и с дочерью, и таким образом у наших дверей вновь появилась карета, запряженная четверней.
Но миссис Брафф не справилась со своей ролью: вместо того чтобы держаться гордо и независимо, она расплакалась на глазах у миссис Хоггарти, опустилась перед нею на колени и принялась молить ее спасти дорогого Джона. Тетушка тут же заподозрила неладное и, вместо того чтобы дать деньги взаймы, вызвала к себе мистера Смизерса, потребовала, чтобы я вернул ей квитанции на покупку акций, хранившиеся у меня, обозвала меня отъявленным мошенником и бессердечным обманщиком и заявила, что это я ее разорил.
Откуда же ч все-таки у мистера Браффа взялись деньги? Сейчас узнаете. Однажды, когда я был у него в кабинете, пришел старик Гейтс, фулемский привратник, и вручил ему тысячу двести фунтов от мистера Болса, ростовщика. Хозяйка велела ему, объяснил он, снести мистеру Болсу столовое серебро; и, отдавши деньги, старик Гейтс долго рылся у себя в карманах, пока наконец не вытащил пятифунтовый банковый билет, только что присланный ему дочкой Джейн, которая находилась в услужении, и стал просить у мистера Браффа еще одну акцию Западно-Дидлсекской компании. Он-то уверен, что дело еще уладится наилучшим образом. А как он услыхал, что хозяин, гуляючи со своей хозяйкой по саду, плачет, да клянет все, да говорит — мол, из-за нескольких фунтов, да что там, из-за нескольких шиллингов пойдет прахом первейшее богатство на всю Европу, — тут уж они с женой порешили отдать все, что у них есть, только бы выручить своих добрых хозяев.
Таков был смысл Гейтсовой речи; и мистер Брафф пожал ему руку и… взял у него пять фунтов.
— Гейтс, — сказал он, — вы еще ни разу в жизни не помещали деньги с такою пользою!
И он не ошибся, да только проценты со своей скромной лепты бедняге Гейтсу суждено было получить на небесах.
И это был не единственный случай. Сестра Браффовой супруги мисс Доу, которая с тех самых пор, как наш директор вышел в тузы, сильно его не жаловала, тут явилась к нам в контору, выложила доверенность и объявила:
— Джон, сегодня утром у меня была Изабелла и сказала, что ты нуждаешься в деньгах. Вот я и принесла свои четыре тысячи фунтов; это все, что у меня есть, Джон, и дай бог, чтобы эти деньги тебе помогли… тебе и моей милой Изабелле, ведь она была лучшей в мире сестрой… до… почти до самого последнего времени.
Она положила перед ним бумагу, а меня вызвали ее засвидетельствовать, и Брафф, со слезами на глазах, пересказал мне ее слова, ибо, как он говорил, он полностью мне доверяет. Вот почему я оказался в кабинете Браффа, когда всего лишь час спустя к нему пришел Гейтс.
Превосходнейшая миссис Брафф! Как она старалась ради своего супруга! Хорошая вы женщина, добрая! Но вы-то чистая душа и достойны были лучшей участи! А впрочем, для чего я это говорю? Она ведь по сей день почитает своего супруга ангелом и за все его злоключения любит его во сто крат сильнее.
В субботу, как я уже говорил, я выдал поверенному олдермена Пэша всю сумму полностью.
— Бог с ними, с деньгами вашей тетушки, мой милый Титмарш, — сказал Брафф, — бог с ней, что она отказалась от акций. Вы верный и честный малый. Вы никогда не поносили меня, как вся эта свора там, внизу, и я еще вас озолочу.
* * *
На следующей неделе, когда я преспокойно сидел за чаем со своею супругою, мистером Смизерсом и миссис Хоггарти, в дверь постучали и какой-то джентльмен выразил желание побеседовать со мною с глазу на глаз. То был мистер Аминадаб с Чансери-лейн, и он тут же арестовал меня как держателя акций Западно-Дидлсекского страхового общества по иску фон Штильца с Клиффорд-стрит, портного и торговца сукном.
Я вызвал из столовой Смизерса и заклинал его ничего 'не говорить Мэри.
— Где Брафф? — спросил мистер Смизерс.
— Брафф? Он теперь возглавляет фирму "Брафф и Был Таков", сэр. Нынче утром он завтракал в Кале!
ГЛАВА XI, из которой явствует, что можно обладать бриллиантовой булавкой и, однако же, не иметь денег на обед
В этот роковой субботний вечер, в наемном экипаже, приведенном от Воспитательного дома, увезли меня из моего уютного жилища, от моей дорогой женушки, которую по мере сил предстояло утешать мистеру Смизерсу. Он сказал ей, что я вынужден ехать куда-то по делам фирмы; и моя бедняжка Мэри сложила необходимые вещи в небольшой саквояж, повязала мне шею теплым кашне и попросила моего спутника приглядывать, чтобы окна кареты были закрыты, а негодяй, ухмыльнувшись, пообещал исполнить ее просьбу. Путешествие наше было недолгим; доехать до Кэрситор-стрит, Чансери-лейн, стоило всего шиллинг, туда-то меня и доставили.
Дом, перед которым остановился наш экипаж, ничем не отличался от пяти или шести других домов этой улицы, предназначенных для той же цели. Я думаю, всякий человек, даже первейший богач, невольно содрогнется, проходя мимо этих мрачных домов, мимо забранных решетками окон. Блестящая медная табличка на замызганной двери сообщала, что здесь проживает "Аминадаб, чиновник Мидлсекского шерифа". Когда карета остановилась, рыжий еврей небольшого росточку отворил дверь и внустил меня вместе с моим багажом.
Как только мы вошли, он заложил дверь на засов, и я очутился перед другой массивной дверью, запертой на несколько замков; только миновав и ее, мы попали наконец в прихожую.
Описывать этот дом нет надобности. Таких домов в нашем угрюмом Лондоне не счесть. Был тут грязный коридор, и грязная лестница, и две грязные двери из коридора вели в две неопрятные комнаты с массивными решетками на окнах, но при этом убраны они были до отвращения пышно, так что даже вспомнить противно. На стенах было развешано множество дрянных картин в кричащих рамах (они и в подметки не годятся первоклассным работам моего родича Майкла Анджело!); на каминной полке — громоздкие французские часы, вазы и подсвечники; на буфетах — огромные подносы с серебряной посудой; ибо мистер Аминадаб не только сажал под замок тех, кому нечем было платить, но ссужал деньгами тех, кому платить было чем, и, как водится между его собратьями, успел уже перепродать и вновь откупить эти предметы по нескольку раз.
Я согласился провести ночь в малой гостиной, и пока молодая еврейка стелила мне постель на неприветливом узком диванчике (горе тому, кто обречен на нем спать!), меня пригласили в большую гостиную, где, пожелав мне не падать духом, мистер Аминадаб объявил, что я магу бесплатно отобедать с только что прибывшей компанией. Обедать мне не хотелось, но я боялся остаться один даже на короткое время до прихода Гаса, за которым я послал на его квартиру, расположенную неподалеку отсюда.
Сейчас, в восемь часов вечера, в большой гостиной четверо господ как раз собирались обедать. И подумайте! Там оказался мистер Б., светский франт, который только что прибыл в дилижансе, сопровождаемый мистером Локом, надзирателем Хоршемской тюрьмы. Мистер Б. был арестован следующим образом. Беспечный добряк, он на огромную сумму индоссировал векселя своего друга, человека знатного рода и незапятнанной чести, который умолял его об этом и много раз торжественно клялся уплатить по вышеозначенным векселям. Дав свою подпись на векселях, молодой человек с присущей ему беззаботностью забыл и думать о них, и так же, по странной случайности, поступил и его друг; вместо того чтобы в указанный срок быть в Лондоне и расплатиться, друг сей отправился в заграничное путешествие, ни словом не предупредив мистера Б., что отвечать по векселям придется ему. Юноша находился в Брайтоне, где заболел лихорадкой; бейлиф поднял его с постели и под дождем повез в Хоршемскую тюрьму; там он снова слег, а когда мало-мальски оправился, его препроводили в Лондон, в дом мистера Аминадаба, где я его и застал, бледный, худой и уже явно обреченный, этот добряк лежал на диване и отдавал распоряжения касаемо обеда, на который меня пригласили. На лицо его было больно смотреть, и всякому было ясно, что дни его сочтены.
Надобно признаться, что мистер Б. не имеет никакого касательства к моей скромной повести; но я не могу об нем не рассказать. Он послал за своим поверенным и за доктором; первый поспешно уладил его счета с бейлифом, а второй — все его земные счеты; ибо, вырвавшись из этого страшного дома, он так и не оправился от удара и спустя несколько недель скончался. И хотя все это случилось много лет тому назад, я не забуду его до самой смерти, и часто вижу его погубителя — эдакий преуспевающий господин, вот он катается верхом на прекрасной лошади в Парке, вот небрежно развалился в креслах у окна клуба, и у него, без сомнения, множество друзей и отличная репутация. Неужто он спит спокойно и ест с аппетитом? Неужто он так и не отдал наследникам мистера Б. деньги, которые тот за него заплатил и которые стоили ему жизни?
Ежели история мистера Б. не имеет ко мне никакого касательства и введена сюда единственно ради вытекающего из нее поучения, зачем мне тогда описывать подробно обед, которым угостил меня этот человек в доме на Кэрситор-стрит? Да опять же ради поучения; а потому читатель должен узнать, какой нам подали обед.
Нас было пятеро; а на столе стояли три серебряные миски с тремя супами: из телячьей головы, из воловьих хвостов и из гусиных потрохов. Затем подали огромный кусок лосося, тоже на серебре, жареного гуся, жареное седло барашка, жареную дичь и всевозможные гарниры и соусы. Ежели джентльмену угодно, он вполне может жить подобным образом в доме у бейлифа, и за этой трапезой (к которой, по правде сказать, я не притронулся, ибо, не говоря о том, что я уже обедал, сердце мое было полно тревоги) — за этим пиршественным столом меня и застал мой друг Гас Хоскинс, который пришел сюда тотчас по получении моего письма.
Гас сроду не бывал в тюрьме — и сразу пал духом, когда рыжий Мозес, впустив его, принялся затворять за ним бесчисленные железные двери, а когда он увидел меня за бутылкой кларета, в ярком свете позолоченных ламп, у него язык прилип к гортани; портьеры были сдвинуты и скрывали решетки на окнах, а мистер Б., надзиратель брайтонской тюрьдаы мистер Лок, мистер Аминадаб и еще один богатый господин той же профессии и вероисповедания превесело болтали и с виду ничем не отличались от какой угодно благородной компании.
— Если это друг мистера Титмарша, давайте его сюда, — сказал мистер Б. — Я, черт возьми, не прочь поглядеть на мошенника. И хоть убейте, Титмарш, но, я думаю, вы один из самых отъявленных мошенников во всем Лондоне. Вы и Браффа перещеголяли, право слово, ведь по нему сразу видно, что он мошенник, а вы-то! На вас поглядеть — сама честность!
— Продувная бестия, — сказал Аминадаб и, подмигнув, показал на меня своему приятелю мистеру Иегосафату.
— Хорош, — отвечал Иегосафат.
— На него иск в триста тысяч фунтов, — сказал Аминадаб. — Правая рука Браффа, и это в двадцать три года.
— Ваше здоровье, мистер Титмарш, сэр! — в порыве восторга воскликнул мистер Лок. — Доброго здоровья вам, сэр, и удачи вам в другой раз.
— Ну, ну! Он-то не пропадет, — сказал Аминадаб, — об нем не беспокойтесь.
— Иск на сколько? — ошеломленный, вскричал я. — Помилуйте, сэр, вы же арестовали меня из-за девяноста фунтов.
— Да, но иск на вас в полмиллиона, сами знаете. Мелкие-то долги, все эти счета торговцев я не беру во внимание. Я про дела Браффа. Грязная история, но вы-то выпутаетесь. Знаем мы вас. Даю голову на отсечение, когда с судом будет покончено, окажется, что у миссис Титмарш отложена кругленькая сумма.
— У миссис Титмарш есть кое-какие деньги, сэр, — подтвердил я. — Но что из этого?
Все трое громко расхохотались, объявили, что я "комик", "малый не промах", и отпустили еще несколько шуточек, которые я тогда не понял; но впоследствии времени мне, увы, стало ясно, что эти господа почитали меня за большой руки прохвоста и полагали, будто я ограбил Западно-Дидлсекское независимое страховое общество и, дабы сохранить деньги в неприкосновенности, перевел их на имя своей жены.
Посреди этого-то разговору, как я уже упоминал, и вошел Гас и, увидевши, что тут происходит, ка-ак свистнет!
— Господи боже мой! — вскричал Аминадаб. И все расхохотались.
— Садитесь, — пригласил мистер Б. — Садитесь, милейший свистун, и промочите горло! Право слово, вы такие рулады выводите, не хуже флейтиста, что услаждал слух Моисея! А ну-ка, Даб, распорядитесь подать бутылку бургундского для мистера Хоскинса.
И, не успев опомниться, Гас уже сидел за столом и впервые в жизни пил Кло-Вужо. Он сказал, что ему еще не доводилось пробовать бергамского, на что бейлиф презрительно фыркнул и объяснил ему, как называется вино.
— Значит, господа иудеи тоже выпивают? — спросил Гас, и мы засмеялись, но Аминадаб и его соплеменники к нам не присоединились.
— Полно, полно, сэр! — сказал приятель мистера Аминадаба. — Мы все тут тшентльмены, а тшентльмену не к лицу смеяться над тругим тшентльменом.
На этом пиршество окончилось, и мы с Гасом удалились ко мне в комнату посоветоваться о моих делах. Что касаемо, моей ответственности в качестве держателя Западно-Дидлсекских акций, она меня не пугала; ибо хоть на первых порах это и могло доставить мне некоторые неприятности, я ведь не был акционером, а просто у меня на руках были квитанции о подписке на акции, по которым дивиденды выплачивают подписчику, а тетушка отказалась от своих акций. Из-за этого века я мог не беспокоиться. Но мне было весьма прискорбно оказаться в долгу чуть не на сто фунтов у разных поставщиков, главным образом по милости миссис Хоггарти; а так как она обещала сама оплатить эти счета, я порешил написать ев письмо, напомнить об этом ее обещании и заодно попросить ее вернуть за меня: долг мистеру фон Штильцу, тот самый, из-за которого меня арестовали, хотя сделан он был не по ее желанию, а единственно по настоянию мистера Браффа; ведь ежели бы не его приказ, я нипочем не позволил бы себе такой расход.
Итак, я написал к тетушке, умоляя ее заплатить все эти долги, и уверил себя, что в понедельник поутру ворочусь к моей милой женушке. Гас унес письмо и пообещал доставить его на Бернард-стрит к тому времени, как кончится служба в церкви, озаботясь при этом, чтобы Мэри не узнала, в какое трудное положение я попал. Мы расстались около полуночи, и я постарался с грехом пополам выспаться на грязном диванчике в малой гостиной мистера Аминадаба.
Утро выдалось ясное, солнечное, я слышал веселый перезвон колоколов в церквах, и мне так хотелось вместе с моей женушкой идти сейчас в Воспитательный дом; но от свободы меня отделяли три железные двери, и я сделал единственное, что мне оставалось, — прочел молитвы у себя в комнате, а потом вышел прогуляться во дворике позади дома. Поверите ли? Самый этот дворик подобен был клетке! Железная решетка отгораживала его от всего мира; и здесь-то узники мистера Аминадаба дышали свежим воздухом.
Через окно малой гостиной они видели, что я читаю молитвенник, и когда я вышел прогуляться в клетке, встретили меня громким хохотом. Один крикнул мне "аминь!", другой обозвал шляпой (что на языке улицы означало — круглый дурак); третий — грубый малый, барышник — удивился, что я до сих пор не бросил молитвенник.
— Что значит "до сих пор", сэр? — переспросил я его.
— А то, что вам уж теперь все равно не миновать виселицы, молодой ханжа, вот что, — отвечал он. — Да, Браффовы молодчики все на один покрой. Я раз хотел продать самому четверку серых кобыл — знатное было дельце, да только он не пошел смотреть их к Тэттерсолу, и даже разговаривать не стал, нынче, мол, воскресенье.
— Не следует порицать набожность, сэр, оттого только, что на свете есть ханжи. И ежели мистер Брафф не пожелал торговать у вас лошадей в воскресный день, он лишь исполнил долг христианина.
В ответ на мой укор эти господа еще пуще расхохотались и порешили, видно, что я прожженный мошенник. Появление Гаса и мистера Смизерса избавило меня от их общества, чему я был весьма рад. Но оба мои посетителя были как в воду опущенные. Их провели ко мне в комнату, и тут же, безо всяких моих на то распоряжений, мистер Аминадаб принес бутылку вина и леченья, что, на мой взгляд, было с его стороны крайне любезно.
— Выпейте вина, мистер Титмарш, и прочитайте-ка вот это письмо, сказал Смизерс. — Что и говорить, хорошее письмецо вы прислали вашей тетушке нынче утром, вот она вам и ответила.
Я осушил стакан вина и, трепеща, прочитал следующее:
"Сударь мой!
Тебе известно, что я решила отказать тебе мое имущество, вот ты, видно, и надумал свести меня в могилу, штоп поскорей вступить во владение, да только понапрасну стараешься. Твое злодейство и неблагодарность и впрямь свели бы меня в могилу, да только милостью божьей я нашла себе иное утешение.
Чуть не цельный год я жила из-за тебя сущей мучиницей. Всем-то я пожертвовала, покинула свой мирный очаг, тихий край, где все уважали имя Хоггарти; мои ценные мебели и вина, столовое серебро, хрусталь, посуду, все привезла с собой того ради, штоп твой очаг зделать счастливым и почтенным. Супружница твоя, миссис Титмарш, важничала да дерзила мне, а я все сносила, я осыпала вас с ней подарками да милостями. Ничего-то я не пожалела, распрощалась с наилутшим обществом, к коему привычна, ради того единственно, штоп хранить тебя и наставлять и оберечь, коли можно, от транжирства и мотовства; я уж так и предсказывала, что они тебя погубят. Эдакого транжирства да мотовства я сроду не видывала. Масла нисколько не икономят, будто это грязь какая, угля не напасешься, свечи жгут с обоих концов, а уж про чай и мясо и говорить нечего. Мясник такие счета присылает, будто тут не одна, а шесть семей кормятся.
А теперь вот засадили тебя в тюрьму, и поделом, ведь ты обманом выудил у меня три тысячи фунтов, обобрал родную мать, лишил ее, бедняжку, хоть и малого, но единственного дохода (ей-то, конечно, потеря не так тяжела, она весь век свой только что не побиралась); влез по уши в долги, а знал же, знал, что возвращать не из чего и что так роскошествовать не по средствам, а теперь, бесстыжие твои глаза, требуешь, штоп я уплатила твои долги! Нет уж, голубчик, хватит и того, что твоя родная мать будет кормиться милостью прихода, а супружница твоя пойдет мести улицы, и все по твоей вине; уж я-то, хоть ты и выудил у меня целое состояние и довел меня на старости лет до разорения, я-то, по крайности, могу уехать и не вовсе лишусь комфорту, который подобает мне при моем благородном происхождении. Мебели в доме все мои; а как ты сам пожелал, штоп супружницу твою выкинули на улицу, упреждаю тебя, что завтра же все их вывезу.
Мистер Смизерс подтвердит тебе, что я собиралась отказать тебе все, чем владею, а нынче утром я при нем торжественно разорвала свое завещание; и тем отрекаюсь от тебя и ото всего твоего нищего семейства.
Сьюзен Хоггарти.
P. S. Я пригрела змею на своей груди, и она меня ужалила".
Признаюсь, прочитавши по первому разу это письмо, я пришел в такую ярость, что чуть не позабыл про бедственное положение, в которое оно меня ввергает, и про грозящую мне погибель.
— Ну и дурень же вы были, Титмарш, что написали ей такое письмо! сказал мистер Смизерс. — Сами себя зарезали, сэр… лишились завидного наследства… одним росчерком пера отняли у себя пять сотен годовых. Моя клиентка миссис Хоггарти, в точности как она вам отписала, вышла со своим завещанием из спальни и у нас на глазах швырнула его в огонь.
— Еще, слава богу, жены твоей не было дома, — прибавил Гас. — Она поутру пошла в церковь с семейством доктора Солтса и приказала сказать, что весь день у них пробудет. Ты ж знаешь, она всегда старалась держаться подальше от миссис Хоггарти.
— Она никогда не умела соблюсти свой интерес, — сказал мистер Смизерс. — Вам бы, сэр, всяко потакать тетушке, а денег занять у кого другого. Мне ведь почти удалось уговорить ее, чтоб не убивалась об том, что она потеряла на тех треклятых акциях. Я ей рассказал, как уберег от Браффа все ее прочее состояние, уж он бы, негодяй, непременно пустил его по ветру! Предоставь вы это дело мне, мистер Титмарш, уж конечно, я бы вас помирил с миссис Хоггарти. Я бы все как есть уладил. Я бы сам ссудил вам эти жалкие гроши.
— Да неужто? — воскликнул Гас. — Вот это добрая душа! — И он схватил руку Смизерса и так ее сжал, что у поверенного слезы выступили на глазах.
— Вы благородный человек, — сказал я. — Знаете мои обстоятельства, знаете, что отдавать мне не из чего, и все-таки ссужаете меня деньгами.
— Э, сэр, тут-то и загвоздка! — отвечал мистер Смизерс. — Я сказал: ссудил бы. И так оно и есть; законного наследника миссис Хоггарти я ссудил бы деньгами хоть сейчас. Ведь Боб Смизерс такой человек: для него нет большей радости, как сделать доброе дело. Я бы с превеликим удовольствием вас выручил, и ничего бы мне не надо, только расписочку моей уважаемой клиентки. А теперь, сэр, дело другое. Как вы сами изволили справедливо заметить, нет у вас никакого обеспечения.
— Да, ровным счетом никакого.
— А без обеспечения, сэр, какая может быть ссуда, сами понимаете. Вы человек бывалый, мистер Титмарш, и, я вижу, наши с вами понятия сходятся.
— А женин капитал? — напомнил Гас.
— Что там женин капитал! — отмахнулся Смизерс. — Миссис Сэм Титмарш несовершеннолетняя, она из своих денег и шиллингом распорядиться не может. Нет-нет, с несовершеннолетними я связываться не желаю! Но обождите! У вашей матушки есть в нашей деревне дом и лавочка. Дайте мне на них закладную и…
— Ничего подобного я не сделаю, сэр, — отвечал я. — Матушка и так уже довольно пострадала по моей вине, и ей надо еще заботиться об сестрах. Буду вам очень признателен, мистер Смизерс, ежели вы ни словом не обмолвитесь ей об моем нынешнем положении.
— Вы благородный человек, сэр, — сказал мистер Смизерс, — и я в точности исполню ваше пожелание. Более того, сэр, я сведу вас с весьма почтенной лондонской фирмой, с моими досточтимыми друзьями мистерами Хигсом, Бигсом и Болтунигсом, они сделают для вас все, что возможно. И на этом, сэр, позвольте пожелать вам всего наилучшего.
С этими словами мистер Смизерс взял свою шляпу и удалился; и, как мне стало после известно, посовещавшись с моей тетушкой, в тот же вечер отбыл из Лондона почтовым дилижансом.
А я отрядил моего верного Гаса к себе домой и велел осторожненько рассказать обо всем происшедшем моей Мэри, ибо опасался, что миссис Хоггарти в гневе обрушит на нее эту новость безо всякой подготовки. Но через час он воротился, еле переводя дух, и сказал, что миссис Хоггарти уже уложила и заперла сундуки и отбыла в извозчичьей карете. Зная, что бедняжка Мэри вернется только к вечеру, Хоскинс не захотел до тех пор оставлять меня одного; и, проведя со мною весь этот мрачный день, он в девять часов вновь оставил меня и понес ей эту мрачную весть.
В десять раздался громкий нетерпеливый звонок и стук в наружную дверь, и через минуту бедняжка кинулась в моя объятия; я изо всех сил старался ее утешить, а в уголку тем временем громко всхлипывал Гас Хоскинс.
* * *
Наутро мне оказал честь своим визитом мистер Болтунигс, но, услыхавши, что у меня всего-то денег три гинеи, заявил без околичностей, что законники живут единственно гонорарами. Он присоветовал мне съехать с Кэрситор-стрит, ибо квартира эта мне не по карману. Я совсем приуныл, и тут появилась Мэри (накануне с превеликим трудом удалось уговорить ее покинуть меня на ночь одного).
— Эти грубияны ворвались в дом в четыре часа утра, — сказала она, — за четыре часа до свету.
— Какие грубияны? — спросил я.
— Их прислала твоя тетушка за мебелью, — отвечала Мэри. — Они все упаковали до моего ухода. Все унесли, я им не препятствовала. Даже и глядеть не стала, что наше, что ее, очень уж тяжко у меня на душе. С ними был этот противный мистер Уопшог. Когда я уходила, он провожал последний фургон. Я забрала только твое платье, — прибавила она, — да кое-что из своего, да книжки, которые ты все читал, да еще… еще вещички, которые я шила для-для маленького. Слугам было уплачено по Рождество, и я уплатила им остальное. И подумай только, милый, как раз когда я уходила, пришел почтальон и принес мои деньги за полгода — тридцать пять фунтов. Это ли не счастье?
— А по моему счету вы собираетесь платить, мистер как-вас-там? вскричал в эту минуту Аминадаб, распахивая дверь (он, надо быть, держал совет с мистером Болтунигсом)
— Эту комнату я отвожу для джентльменов. Вашему брату она, видно, не по карману.
И тут — верите ли? — он вручил мне счет на три гинеи за те два дня, что я столовался и жил в этом гнусном доме.
* * *
Когда я выходил, у дверей собралась толпа зевак; и будь я один, я готов был бы провалиться сквозь землю; но сейчас я думал только об моей дорогой, милой женушке которая доверчиво опиралась на мою руку и улыбалась мне ангельской улыбкой, — да, да, словно ангел небесный вошел со мною во Флитскую тюрьму.
О, я и прежде любил ее, и какое же это счастье — любить, когда ты молод, полон надежд, когда все улыбается тебе и само солнце светит для тебя; но лишь когда счастье тебе изменит, поймешь, что значит любовь хорошей женщины! Бог свидетель, изо всех радостей, изо всех счастливых минут, выпавших мне на долю, ни одна не сравнится с этой недолгой поездкой по Холборну в тюрьму, когда щечка моей женушки покоилась на моем плече! Вы думаете; я конфузился бейлифа, что сидел напротив нас? Ничуть не бывало. Я целовал ее, и обнимал, да, да, и вместе с нею лил слезы. Но еще мы не доехали до места, а уж слезы у ней высохли, и она вышла из экипажа и вступила в тюремные ворота раскрасневшаяся и веселая, будто принцесса, явившаяся на прием к королеве.
ГЛАВА XII, в которой бриллиант тетушки нашего героя сводит знакомство с его же дядюшкой
Крах грандиозного Дидлсекского общества сразу стал притчей во языцех, и всех и каждого, кто имел к нему наималейшее касательство, газеты с возмущением выставили на позор как мошенников и негодяев. Говорили, будто Брафф скрылся, прикарманив миллион фунтов. Не погнушались даже такой мелкой сошкой, как я: намекали, что я отослал сто тысяч фунтов в Америку и только жду, чтобы миновал суд, после чего уже до конца своих дней буду жить припеваючи. Мнение это разделял кое-кто и в тюрьме, и, странное дело, это снискало мне почет и уважение, которые, как вы, наверно, понимаете, ничуть меня не радовали. Однако же мистер Аминадаб во время своих частых визитов в тюрьму упорно твердил, что я жалкое ничтожество, всего-навсего игрушка в руках Браффа, и не накопил ни шиллинга. Мнения, однако же, разделились, и, сдается мне, стражи наши почитали меня за отменного лицемера, что прикинулся бедняком, дабы легче ввести публику в заблуждение.
На фирму "Абеднего и Сын" тоже обрушилось всеобщее негодование, и, по совести сказать, я и по сей день не знаю, какие такие дела связывали этих господ с мистером Браффом. По книгам стало известно, что мистер Абеднего получал от Компании крупные суммы, но он предъявил документы, подписанные мистером Браффом, из коих явствовало, что и сам Брафф, и Западно-Дидлсекское общество задолжали ему и того больше. В день, когда меня вызвали на допрос в суд по делам о банкротствах, я повстречал там мистера Абеднего и обоих господ с Хаундсдича, которые показали под присягой, что мистер Брафф и фирма у них кругом в долгу, и подкрепляли свои претензии громким криком и самыми страшными клятвами. Но фирма "Джексон и Пэкстон" выставила против них того самого сторожа-ирландца, который считался виновником пожара, и дала понять, что, если господа иудеи будут настаивать на своих требованиях, у фирмы есть все основания подвести их под петлю. После этого Абеднего с компанией и след простыл, и больше речь об их потерях не заходила. Я склонен думать, что когда-то наш директор взял у Абеднего деньги, дал ему акции в качестве гарантии и обеспечения, а потом вдруг ему пришлось выкупить их за наличные и тем самым он ускорил погибель и свою собственную, и всего предприятия. Нет нужды перечислять здесь все компании, с которыми был связан Брафф. Та, в которую поместил свои деньги злосчастный Тидд, выплатила акционерам менее двух пенсов за фунт, а прочие и того не заплатили.
Что же до нашей Западно-Дидлсекской… когда меня — главного конторщика и бухгалтера в последнюю пору ее существования — доставили из Флитской тюрьмы в суд, чтобы снять с меня показания, ну и сцена же там разыгралась!
Бедная моя женушка, которая была уже на сносях, пожелала непременно меня сопровождать на Бейсингхолл-стрит; и честный Гас Хоскинс, мой преданный друг, тоже. Видели бы вы, какая там собралась толпа, слышали бы, какой поднялся шум и гам при моем появлении!
— Мистер Титмарш, — обратился ко мне судья наиязвительнейшим тоном, мистер Титмарш, вы были доверенным лицом мистера Браффа, главным его конторщиком и держателем весьма солидного пакета акций Компании, так?
— Только номинальным держателем, сэр, — отвечал я.
— Ну, разумеется, только номинальным, — презрительно подтвердил судья, оборотясь к своим коллегам. — Ловко придумано: ухватить свою долю награбленного, то бишь барыша, в этой бессовестной спекуляции, а потом увильнуть от ответственности за потери, отговорясь тем, что акции были ваши только номинально.
— Гнусный злодей! — выкрикнули из толпы. Это оказался разгневанный капитан в отставке Спар, наш бывший акционер.
— К порядку! — возгласил судья.
А тем временем Мэри, бледная как смерть, с тревогой переводила взгляд с него на меня. Гас же, напротив, был красен как рак.
— Мистер Титмарш, — продолжал судья, — я имел удовольствие получить из суда по делам о несостоятельности перечень ваших долгов. И обнаружил, что вы задолжали солидную сумму знаменитому портному мистеру Штильцу; а также известному ювелиру мистеру Полониусу и, кроме того, модным портнихам и модисткам. И все это при жаловании двести фунтов в год. Надобно признать, что для столь молодого человека вы времени не теряли.
— Разве об этом речь, сэр? — спросил я. — Разве я здесь затем, чтобы отвечать за свои частные долги, а не затем, чтобы рассказать, что мне известно о делах Компании? Что до моего в ней участия, сэр, то у меня есть матушка и сестры…
— Чертов висельник! — выкрикнул капитан.
— Призовите к порядку этого молодчика! — распетушился Гас.
Ответом был взрыв хохота, и это придало мне храбрости.
— Моя матушка, сэр, — продолжал я, — четыре года назад получила в наследство четыреста фунтов и спросила совета своего поверенного мистера Смизерса, как ими получше распорядиться; а так как в те поры только что было учреждено Западно-Дидлсекское независимое страховое общество, она и вложила в него эти деньги, дабы получать ежегодную ренту, а я получил там место конторщика. Вы, может статься, почитаете меня закоренелым преступником оттого, что я заказывал платье у мистера фон Штильца. Но навряд ли можно говорить, что девятнадцати лет от роду я был посвящен в дела Компании, в которую меня приняли двадцатым конторщиком, да и то лишь потому, что матушкин вклад пошел как бы в уплату за мое место. Так вот, сэр, процент, предложенный Компанией, был столь соблазнителен, что моя богатая родственница поддалась уговорам и купила некоторое количество акций.
— А кто уговаривал вашу родственницу, нельзя ли узнать?
— Не могу не признаться, сэр, — отвечал я, заливаясь краской, — что я сам написал к ней письмо. Но возьмите в расчет, сэр, что родственнице моей было шестьдесят лет, а мне двадцать один. Она размышляла над моим предложением не один месяц и, прежде чем согласиться, советовалась со своими поверенными. И подстрекнул меня на это мистер Брафф, это он продиктовал мне письмо, а я в те поры почитал его богачом не хуже самого Ротшильда.
— Ваша родственница положила свои деньги на ваше имя, а вас, мистер Титмарш, ежели я не ошибаюсь, в награду за эдакую услугу, за то, что вы помогли их заполучить, спешно перевели, в обход двенадцати ваших сослуживцев, на более высокую должность.
— Все это правда, сэр, чистая правда, — признался я. И бедняжка Мэри принялась утирать слезы, а уши Гаса (лица его мне не было видно) запылали, как уголья. — И теперь, когда все так обернулось, а глубоко сожалею об своем поступке. А в те поры думал, что делаю доброе дело и для тетушки, и для себя самого. Ведь не забывайте, сэр, акции наши стояли очень высоко.
— Итак, сэр, доставив мистеру Браффу своими стараниями эдакую сумму, вы сразу же вошли к нему в доверие. Вас стали принимать в его доме, вскорости произвели из третьих конторщиков в главные, и на этом посту вы и оставались вплоть до исчезновения вашего достойного патрона, так?
— Я уверен, сэр, что вы не вправе учинять мне такой допрос, но здесь собрались десятки наших акционеров, и я с охотою чистосердечно расскажу все, что мне известно, — сказал я, сжимая руку Мэри. — Я и вправду был главным конторщиком. А почему? Да потому, что прочие наши джентльмены ушли со службы. Меня ж вправду принимали в доме мистера Браффа. А почему? Да потому, сэр, что у тетушки были еще деньги, которые она могла бы поместить в наше дело. Сейчас я все это вижу как нельзя лучше, а тогда ничего не понимал. Когда тетушка моя приехала в Лондон, наш директор силком увез ее из моего дома к себе в Фулем, а ни меня, ни мою супругу даже и не подумал туда пригласить, — это ли же доказательство, что у него была нужда не во мне, но в тетушкиных деньгах? Да, да, сэр, уж он бы выудил у ней и эти денежки, но, спасибо, ее поверенный вовремя вмешался. Еще до того, как предприятие наше окончательно лопнуло, едва тетушка прослышала, что оно не совсем надежно, она забрала свои акции — как вам известно, сэр, то были лишь квитанции о подписке на акции — и распорядилась ими по своему усмотрению. Вот, господа, и вся история, — сказал я, — по крайности, все, что тут касается меня. Ради того, чтобы обеспечить своему единственному сыну хлеб насущный, матушка моя вложила свое скромное достояние в наше Страховое общество — и деньги эти потеряны. Тетушка моя вложила куда более крупную сумму, со временем предназначавшуюся мне, — и эти деньги тоже потеряны. И вот, прослуживши в Компании четыре года, я опозорен и остался без гроша. Найдется ли здесь хоть один человек, которому — как бы ни был велик ущерб, причиненный ему крахом нашей Компании, — выпал бы жребий горше моего?
— Мистер Титмарш, — обратился ко мне судья, на сей раз куда дружелюбнее, и покосился при этом на сидящего тут же газетного репортера, рассказ ваш не предназначен для газет, ибо, как вы сказали, это все ваше частное дело, и вы могли бы не говорить об этом, ежели не полагали бы нужным, а потому мы можем счесть это конфиденциальной беседой. Но ежели вы не против сделать ее достоянием публики, она может принести немалую пользу и предупредить многих людей, — буде они только пожелают прислушаться к предостережениям, — чем грозит участие в подобных предприятиях. Из вашего рассказа совершенно ясно, что вы, как и все здесь присутствующие, пали жертвой бессовестного обмана. Но поймите, сэр, ежели бы вы так не гнались за наживой, вы, я полагаю, не поддались бы на обман, сохранили бы деньги вашей родственницы и, согласно вашим же словам, рано или поздно унаследовали бы их. Стоит человеку погнаться за большим барышом — и он будто лишается разума. И, мечтая о прибыли, он уверен, что получит ее, и уже не слушает никаких предостережений, забывает об осмотрительности. Помимо сотен честных семейств, кои были разорены оттого лишь, что доверились вашему Обществу, и кои можно только пожалеть от всего сердца, есть еще и сотни таких, что, подобно вам, вступили в Общество не ради того, чтобы просто поместить свой капитал, но того ради, чтобы нажиться на спекуляциях; и вот они, поверьте мне, заслужили свою горькую участь. Лишь бы выплачивались дивиденды, и никто ни об чем не спросит. Мистер Брафф мог бы добывать деньги для своих акционеров хоть разбоем на большой дороге, они все равно преспокойно клали бы их в карман и ни о чем бы не спрашивали. Но что толку в моих разговорах, — с жаром продолжал судья. — Стоит появиться одному жулику — и к его услугам тысячи простофиль. И коли завтра объявится другой мошенник, через год у этого самого стола соберется тысяча жертв. И так, я полагаю, будет до скончания века. А теперь, господа, перейдем к делу, и прошу прощенья за эту проповедь.
После того как я рассказал все, что знал, а знал я совсем немного, пришел черед других служащих держать ответ; а я отправился назад в тюрьму вместе со своей бедной женушкой. Нам пришлось пройти через толпу, заполнившую комнаты, и сердце мое облилось кровью, когда среди десятков пострадавших я увидел беднягу Гейтса, Браффова привратника, который отдал своему хозяину все до последнего шиллинга и теперь, на старости лет, остался со своими десятью детьми без гроша и без крова. Тут же поблизости оказался и капитан Спар, настроенный отнюдь не столь дружелюбно; в то время, как Гейтс снял передо мною шляпу, точно перед каким лордом, малорослый капитан, выступив вперед, стал размахивать тростью и клясться страшными клятвами, что я злодей не хуже Браффа.
— Будь ты проклят, лицемерный негодяй! — кричал он. — Да как ты смел разорить меня, английского дворянина? — И он опять замахнулся тростью.
Но тут Гас, не глядя, что он офицер, взял его за ворот и оттащил подальше со словами:
— Взгляните на даму, грубиян вы эдакий, и попридержите язык!
Увидевши деликатное положение моей супруги, капитан побагровел от стыда еще пуще, нежели перед тем от гнева.
— Жаль, что она замужем за таким проходимцем, — пробормотал он и скрылся в толпе.
А мы с моей бедной женушкой вышли из суда и вернулись в наше мрачное тюремное жилище.
Для существа столь нежного и хрупкого тюрьма была сейчас неподходящим местом; и я жаждал одного: чтобы, когда придет срок, около нее оказался кто-нибудь из родных. Но бабушка Мэри не могла оставить старого лейтенанта; а моя матушка написала, что раз уж с нами миссис Хоггарти, она лучше побудет дома со своими дочками. "Какое счастье, что при всех бедах, кои на тебя свалились, к твоим услугам щедрый кошелек тетушки!" — писала добрая моя матушка.
Да, как же, щедрый кошелек! И куда она запропастилась, моя тетушка миссис Хоггарти? Ясно было только, что она ни слова не написала никому из своих друзей в провинции и не уехала туда, хоть и грозилась.
Но так как матушка моя через мой несчастный жребий уже и без того потеряла столько денег, и немалых хлопот стоило ей на свои скудные средства прокормить моих сестер, а услыхав об моих невзгодах, она уж непременно продаст с себя последнюю сорочку, дабы мне помочь, — мы с Мэри положили не писать ей, каково нате истинное положение; а бог свидетель, было оно хуже некуда, уж так-то горько и безрадостно. У старого лейтенанта Смита тоже ничего не было, кроме пенсии да ревматизмов; так что оказались мы безо всякой помощи.
Сейчас, когда я вспоминаю эту пору моей жизни, эту постыдную тюрьму, мне кажется, будто все это примерещилось мне в бреду. Ужасное место! ужасное, как ни странно, не унылостию, которую я ожидал там найти, но, напротив того, веселием, ибо длинные тюремные коридоры были, помнится, полны оживления и какой-то гнетущей суеты. Дни и ночи напролет хлопали двери, слышались громкие голоса, брань, топот, хохот. Жилец соседней с нами комнаты торговал джином, и с утра до ночи там не прекращался гнусный разгул, там пили, пели, и что это были за песни, — но моя дорогая женушка, по счастью, не могла понять и малой доли этих непристойностей. Она выходила, лишь когда стемнеет, а все дни напролет шила чепчики и платьица для ожидаемого младенца и, как утверждает по сей час, вовсе не чувствовала себя несчастной. Но жизнь взаперти сказывалась на ее здоровье, она ведь привыкла к вольному воздуху, а тут день ото дня становилась все бледней.
Наше окно выходило во двор; и поначалу с неохотою, а потом, надобно признаться, с увлечением я стал посвящать каждый день два часа игре в мяч. Странное это было место! Там, как и везде, была своя аристократия — среди прочих сын милорда Дьюсэйса; и многие заключенные, что тебе щеголи на Бонд-стрит, наперебой добивались чести пройтись с ним и побеседовать со знанием дела об его семействе. Особливо старался бедняга Тидд. Из всего его богатства остался лишь несессер да цветастый халат; в придачу он обзавелся преотличными усиками; и в таком-то виде несчастный с важностью расхаживал по двору; и хотя он горько сетовал на свою злую участь, но стоило кому-нибудь из друзей ссудить ему гинею — и, я уверен, он чувствовал себя таким же счастливым, как в недолгие дни своего пребывания в свете. Случалось, на водах я встречал разряженных франтов в коротких сюртучках, которые прогуливались по аллеям, пожирая взглядами женщин, и нетерпеливо, словно от этого зависела их жизнь, дожидались пароходов и дилижансов. Так вот, в тюрьме тоже находились такие господа, такие же фатоватые и. безмозглые, только малость поплоше — франты с грязными бородами и продранными локтями.
Я не заглядывал в комнаты так называемой тюремной бедноты, — если говорить не правде, просто не осмелился туда заглянуть. Однако наши деньги были на исходе, и сердце мое сжималось, когда я думал о том, что ждет мою дорогую женушку и на каком ложе будет рождено наше дитя. Но провидение избавило меня от этой муки, — провидение и мой дорогой, верный друг Гас Хоскинс.
Адвокаты, которым меня порекомендовал мистер Смизерс, объяснили мне, что я могу жить в границах Флитской тюрьмы и меня могут выпустить на свободу, ежели я найду себе поручителя на всю сумму предъявленного мне иска; но как я ни вглядывался в лицо мистера Болтунигса, он не предложил внести за меня залог, и во всем Лондоне я не знал ни единого домовладельца, который мог бы за меня поручиться. Однако же такой нашелся, хотя я его и не знал, то был старый мистер Хоскинс, торговец кожами со Скиннер-стрит, добродушный толстяк, который вместе со своей толстухой женой пришел навестить миссис Титмарш, и хотя дама эта сразу взяла весьма покровительственный тон (ее супруг вышел из гильдии кожевников и метил в члены Городского управления, даже в лорд-мэры самого главного города на свете), она, казалось, приняла в нас горячее участие; а ее супруг бегал и суетился до тех пор, покуда не получил требуемое разрешение, и мне дана была относительная свобода.
Что до жилья, оно тоже скоро нашлось. Моя прежняя квартирная хозяйка, миссис Стоукс, прислала Джемайму сказать, что второй этаж ее дома к нашим услугам; и когда мы туда переехали и в конце первой недели я захотел уплатить ей по счету, эта добрая душа со слезами на глазах отвечала мне, что деньги ей сейчас не надобны, а у меня, как ей доподлинно известно, и без того расходов хватает. Я воспользовался ее добротою, ибо у меня и точно оставалось всего пять гиней, и я не вправе был селиться в такой дорогой квартире, но у супруги моей совсем уже подходили сроки, и мне нестерпимо было думать, что во время родов ей будет чего-то недоставать,
Моя несравненная женушка, которую каждый день навещали сестры мистера Хоскинса, — и какие же они добрые, милые женщины, — выйдя из этой ужасной тюрьмы а получивши возможность гулять на свежем воздухе, быстро окрепла. Как весело мы прохаживались по Бридж-стрит и Чатем-плейс, а ведь я был поистине нищий и порою стыдился, что чувствую себя таким счастливым.
Об обязательствах Компании я мог со спокойною совестью не думать, ибо кредиторы теперь вправе были предъявлять требования только директорам, а их не так-то просто было сыскать. Мистер Брафф пребывал по ту сторону Ла-Манша, и к чести его должен сказать, что, хотя все полагали, будто он увез с собою сотни тысяч фунтов, он поселился в Булони на чердаке едва ли не без гроша, и ему предстояло сколачивать себе состояние сызнова. Миссис Брафф, женщина истинно храбрая и великодушная, не бросила его в беде и уехала из Фулема, в чем была, ничего с собою не взявши, и мисс Белинда, хоть и ворчала и выходила из себя, тоже последовала ее примеру. Что до прочих директоров, то когда в Эдинбурге справились об адвокате мистере Малле, оказалось, что некогда там и вправду жил такой господин, вел дела и пользовался безупречной репутацией, но в 1800 году он уехал на остров Скай, а когда к нему обратились, оказалось, что он и слыхом не слыхал ни о каком Западно-Дидлсекском страховом обществе. Генерал сэр Дионисиус О'Хэллорэн внезапно снялся с места и уехал из Дублина в республику Гватемалу. Мистер Ширн был объявлен несостоятельным должником. У мистера Макроу, члена парламента, королевского адвоката, не было ни гроша за душой, если не считать того, что он получал как член нашего правления; и единственный, кого удалось привлечь по этому делу, был мистер Фантом из Чатема, которого мы считали богатым поставщиком военного флота. На поверку же он оказался мелким торговцем судовыми припасами, и товару у него было едва ли на десять фунтов. Еще одним директором был мистер Абеднего, и что произошло с ним, мы уже видели.
— Послушайте, — сказал как-то мистер Хоскинс-старший, — раз уж вы более не в ответе за эту Западно-Дидлсекскую, отчего бы вам не попробовать сговориться с вашими кредиторами? И никто этого не сделает лучше, нежели прелестная миссис Титмарш, чьи милые глазки смягчат самую жестокосердую модистку и портного.
И вот в ясный солнечный февральский день моя дорогая женушка попрощалась со мною и, пожелавши мне не скучать, села с Гасом в экипаж и отправилась по кредиторам. Год назад мне и в голову не могло взойти, что дочка доблестного Смита вынуждена будет явиться просительницей к портным и галантерейщикам; она же, душенька моя, не в пример мне, нисколько не чувствовала себя униженной, по крайности так она уверяла, и безо всякого колебания пустилась в путь.
Она воротилась вечером, и в ожидании новостей сердце мое громко застучало. По лицу ее увидел я, что новости нехороши. Она заговорила не сразу, только сидела бледная как смерть, а целуя меня, заплакала.
— Лучше вы расскажите, мистер Огастес, — всхлипнув, проговорила она наконец.
И тогда Гас поведал мне о событиях этого горестного дня.
— Ты только подумай, Сэм, — сказал он, — твоя проклятая тетка, которая сама велела тебе все это заказывать, написала всем портным и торговцам, что ты жулик и мошенник; ты, мол, объявил, будто это она все заказывала, а на самом деле вот не сойти ей с этого места, она хоть на Библии присягнет, у ней ничего такого и в мыслях не было, и деньги им надо спрашивать с тебя одного. Никто и слышать не хочет об том, чтоб сделать тебе снисхождение; а этот негодяй Манталини вел себя до того дерзко, что я закатил ему оплеуху, чуть было и не убил, да бедняжка Мэри… то бишь миссис Титмарш как вскрикнет и хлоп в обморок. Я ее увез оттуда, и сам видишь, она чуть жива.
В ту же ночь неутомимому Гасу пришлось сломя голову бежать за доктором Солтсом, а утром на свет появился мальчик. Когда мне показали это крошечное слабенькое существо, я, право, не знал, радоваться мне или печалиться; но Мэри объявила, что счастливей ее нет женщины на свете, и, кормя младенца, позабыла все свои горести; и перенесла она все испытания очень храбро, и твердила, что другого такого красавчика не сыщешь в целом свете, и пусть леди Типтоф, о чьем благополучном разрешении от бремени в тот же самый день мы прочли в газете, лежит вся в шелках в роскошном особняке на Гровнер-сквер, все равно ее дитяти нипочем, нипочем не сравниться с нашим милым маленьким Гасом; ибо в чью же честь было нам назвать нашего сына, если не в честь нашего верного доброго друга. Мы скромно отпраздновали крестины, и, уж поверьте, за чаем нам всем было превесело.
Молодая мать, слава богу, чувствовала себя хорошо, и любо было смотреть на нее, когда она сидела с младенцем на руках — в такую минуту, я полагаю, даже самая невзрачная женщина выглядит красавицею. Младенец оказался хилый, но она того не замечала; мы были нищие, но сейчас это ее не заботило. Ей, не в пример мне, недосуг было горевать; а у меня в кармане оставалась последняя наша гинея; и когда и ее не станет… Ах! При мысли об том, что нас ожидает, сердце мое сжималось, и я молил господа, чтобы он ниспослал мне сил и вразумил меня, и, однако же, несмотря на все мои затруднения, был благодарен уже за то, что супруга моя разрешилась от бремени благополучно и, по крайности, тяжкую участь, нам уготованную, встретит в добром здравии.
Я сказал миссис Стоукс, что хотел бы переехать в более дешевое помещение — в мансарду, которая стоила бы мне всего несколько шиллингов, и хотя эта добрая женщина умоляла меня оставаться в наших теперешних комнатах, однако же сейчас, когда жена моя окрепла, я почитал за преступление лишать нашу великодушную хозяйку ее главного дохода; она наконец пообещала отдать мне мансарду и сделать ее по возможности удобной для нас, а Джемайма объявила, что будет страх как рада ухаживать и за миссис Титмарш, и за младенцем.
Вскорости помещение было убрано, и хотя я не вдруг решился сказать Мэри об этих приготовлениях, оказалось, что я напрасно таил от нее и колебался, ибо, когда я наконец сказал — чей, она спросила: "И только-то?" — и, улыбнувшись своей милою улыбкою, взяла меня за руку и пообещала, что у них с Джемаймой комнатка наша будет всегда как игрушечка.
— И я сама буду стряпать тебе обед, — прибавила она, — помнишь, ты говорил, что лучше моего пудинга с вареньем сроду не едал.
Ах, ты, моя душенька! Мне кажется, есть женщины, которым бедность даже мила; но я не сказал Мэри, до какой степени я беден, ей и невдомек было, как изрядно счета адвокатов, тюремщиков да лекарей поубавили ту скромную сумму, что она вручила мне, когда мы отправлялись в заточение.
И, однако же, ей с младенцем не суждено было поселиться в этой мансарде. В понедельник утром мы должны были переезжать, но в субботу вечером у младенца начались судороги, и все воскресенье Мэри не отходила от него и молилась, но, видно, богу угодно было отнять у нас наше невинное дитя, и в воскресенье в полночь мать держала на руках бездыханное тельце. Аминь. У нас есть теперь другие дети, они окружают нас, веселые и здоровые; и в сердце отца след этого крошечного существа почти уже изгладился; но в жизни матери не было, кажется, дня, когда бы она не вспомнила своего первенца, что пробыл с нею так недолго; и много-много раз она водила своих дочек на его могилку у церкви св. Бригитты, и по сей день носит на шее тоненькую золотую прядку, которую отрезала с головки младенца, когда он, улыбаясь, лежал в гробу. Мне случалось забывать день его рождения, с нею же этого не бывало; и нередко посреди разговора по каким-то едва уловимым признакам, по нечаянному слову я вдруг понимаю, что она все еще думает о нем, и это глубоко меня трогает.
Не стану и пытаться описать ее горе, ибо подобные чувства священны и не предназначены для сторонних глаз; никто не вправе доверять их бумаге, напоказ всему свету. Я и вовсе не стал бы упоминать здесь о смерти нашего дитяти, ежели бы не то, что, как нередко со слезами благодарности говаривала моя женушка, даже и эта утрата послужила к нашему благу.
Покуда Мэри оплакивала младенца, меня, стыдно сказать, помимо скорби одолевали еще и иные чувства; и с той поры я не раз думал, как нужда повелевает привязанностями, более того — губит их, и на горьком опыте научился быть благодарным за хлеб насущный. Великая мудрость заключена в том, что в ежедневной молитве нашей мы признаем свою слабость, моля избавить нас от голода и от искушения. Вы, которые сейчас богаты, задумайтесь об этом и не прогоняйте нищего от своего порога.
Младенец лежал в плетеной колыбели, и на личике его застыла тихая улыбка (наверно, ангелам небесным радостно было смотреть на эту невинную улыбку); и лишь на другой день, когда Мэри прилегла, а я бодрствовал подле маленького покойника, вспомнил я, в каких обстоятельствах очутились мы, его родители, и несказанная боль пронзила меня при мысли, что мне не на что похоронить нашего крошку, и в отчаянии я заплакал горькими слезами. Теперь наконец пришла пора воззвать к моей бедной матушке, ибо иначе я не мог бы исполнить свой священный долг; и я взял перо и бумагу и тут же, подле мертвого младенца, написал ей о нашем бедственном положении. Но письмо это, благодарение богу, я так и не отослал, ибо, когда подошел к столу, чтобы достать сургуч и запечатать это скорбное послание, взгляд мой упал на лежавшую в ящике бриллиантовую булавку, об которой я начисто позабыл.
Я заглянул в спальню — бедняжка Мэри спала; три дня и три ночи она не смыкала глаз — и вот в совершенном изнеможении уснула, и тут я бегом кинулся в ссудную лавку, получил за бриллиант семь гиней, отдал их нашей квартирной хозяйке и попросил ее сделать все, что требуется. Когда я воротился, Мэри еще спала; когда же она пробудилась, мы уговорили ее спуститься в хозяйскую гостиную, а тем временем было совершено все необходимое, и бедное наше дитя положили в гроб.
На другой день, когда все было кончено, миссис Стоукс вернула мне три гинеи из этих семи; и тут я не удержался и выплакал ей все мои сомнения и страхи, рассказал, что это последние мои деньги, а когда они кончатся, я уж и не знаю, что станется с моей Мэри, лучшей из жен.
Мэри осталась с миссис Стоукс. А бедняга Гас, который неотлучно был при мне и скорбел не менее всех нас, взял меня под руку и повел на улицу; и, позабыв тюрьму и тюремные границы, мы долго-долго бродили по улицам, перешли Темзу по Блекфрайерскому мосту, и добрый мой друг старался, как мог, меня утешить.
Когда мы воротились, уже наступил вечер. И первая, кого я встретил у нас в доме, была моя матушка, она со слезами упала в мои объятия и стала нежно укорять меня за то, что я не известил ее об моей нужде. Она бы так ничего и не узнала, но с тех пор, как я отписал ей про рождение сына, от меня не было никаких известий, и она затревожилась и, встретивши на улице мистера Смизерса, спросила его обо мне; на что сей господин с некоторою неловкостью сообщил ей, что невестка ее находится как будто в не слишком подходящем месте, что миссис Хоггарти нас покинула и, наконец, что я заточен в тюрьму. Услыхавши все это, матушка тут же отправилась в Лондон и вот только сию минуту явилась сюда из тюрьмы, где ей сообщили мой адрес.
Я спросил матушку, видела ли она Мэри и как она ей показалась. Но, к великому моему изумлению, матушка отвечала, что ни Мэри, ни хозяйки нашей она не застала.
И вот пробило восемь часов, потом девять, а Мэри все не было.
В десять воротилась миссис Стоукс, но не с Мэри, а с каким-то господином, который, войдя в комнаты, пожал мне руку и сказал:
— Не знаю, вспомните ли вы меня, мистер Титмарш. Меня зовут Типтоф. Я принес вам записочку от миссис Титмарш и поклон от моей жены, которая всем сердцем сочувствует вам в вашем горе и просит вас не тревожиться из-за отсутствия вашей супруги. Она была столь добра, что пообещала остаться с леди Типтоф на ночь, и я уверен, вы не будете недовольны ее отлучкой, ибо она утишает страдания больной матери и больного младенца.
После этого милорд распрощался и уехал. А в записке от Мэри говорилось только, что миссис Стоукс мне обо всем расскажет.
ГЛАВА XIII, из которой явствует, что добрая жена дороже всякого бриллианта
— Сейчас я вам все расскажу, миссис Титмарш, — начала миссис. Стоукс, только сперва позвольте сказать вам, сударыня, что ангелы на земле наперечет, и одного-то не в каждом семействе встретишь, а уж двух — и вовсе редкость. А вот ваш сын, сударыня, и невестка ваша сущие ангелы, верно вам говорю.
Матушка отвечала, что она благодарит бога за нас обоих. И миссис Стоукс продолжала:
— Нынче утром после похо… после службы ваша невестка укрылась, бедняжка, в моей скромной гостиной, сударыня, и уж так-то плакала-разливалась, и бесперечь рассказывала про своего херувимчика, которого господь прибрал. Он и прожил-то на свете всего месяц, такого несмышленого, кажется, и помянуть-то нечем. Но мать — она все примечает, сударыня. А ведь и у меня был такой же ангелочек, мой миленький Энтони, он родился еще до Джемаймы, и ежели бы не покинул наш грешный мир, было бы ему теперь двадцать три годочка, сударыня. Но я не об нем, я вам про то расскажу, что у нас тут приключилось.
Надобно вам сказать, сударыня, что покуда мистер Сэмюел толковал со своим дружком мистером Хоскинсом, миссис Титмарш, бедняжка, сидела у нас внизу и к обеду даже не притронулась, хоть мы так старались, чтобы все было как полагается, а после обеда насилу я ее уговорила выпить капельку вина с водой да размочить в леи сухарик. Ведь до этого, сударыня, у ней сколько часов во рту маковой росинки не было.
Ну вот, сидит она эдак молча, и я молчу, думаю, лучше ее не тревожить; младшенькие мои тут же на коврике играют, и она с них глаз же спускает; мистер Титмарш с дружком своим Гасом ушли из дому, и тут как раз мальчишка принес газету — ее всегда приносят часа эдак в три-четыре, сударыня, и стала я ее читать. Читаю, а сама все об мистере Сэме думаю, какой он грустный да унылый из дому выходил, и как рассказывал мне, что деньги у него кончаются; а потом опять же на молодую миссис Титмарш погляжу да принимаюсь ее уговаривать, чтоб не убивалась так, а то и про моего Энтони примусь ей рассказывать.
А она плачет и глядит на моих младшеньких и говорит: ах, говорит, миссис Стоукс, у вас и еще дети есть. А мой-то был единственный. Откинулась в кресле, да как зарыдает, ну, того и гляди, сердце у ней разорвется. А я-то звала, что от слез ей полегчает, и опять принялась читать в газете — мне "Морнинг пост" носят, сударыня, Я завсегда ее читаю, желаю знать, как там живут в Вест-Энде.
И первым делом что же я в газете вижу: "Нужна кормилица с хорошими рекомендациями, обращаться в дом номер такой-то на Гровнер-сквер".
— Господи спаси и помилуй! — сказала я, — Бедняжка леди Типтоф занемогла. Я-то знаю, где живет ее милость и что она родила в один день с молодой миссис Титмарш, и надобно вам сказать, что ее милость тоже знает, где я живу, она сама сюда приезжала.
И вот что мне вдруг взошло в голову.
— Голубушка моя миссис Титмарш, — сказала я, — вы ведь знаете, какой у вас хороший муж и в какой он сейчас крайности.
— Знаю, — отвечает она в удивлении.
— Так вот, моя голубушка, — говорю и гляжу ей прямо в глаза, — его знакомой леди Типтоф надобна кормилица для ее сынка, лорда Пойнингса. Наберитесь-ка храбрости да подите попросите это место, и, может, он заменит вам ваше дитятко, которое бог прибрал.
Она вся задрожала, залилась краской. И тогда я рассказала ей все, что вы, мистер Сэм, рассказали мне третьеводни про ваши денежные обстоятельства. И только она про это услыхала, сейчас схватилась за шляпку и говорит: "Идемте, идемте скорей", — и через пять минут мы с ней шли к Гровнер-сквер. Прогулка ей нисколечко не повредила, мистер Сэм, и за всю дорогу она только разок и всхлипнула, и то когда увидала в саду няньку с младенцем.
Детина в ливрее отворил нам дверь и говорит:
— Вы уже сорок пятая пришли наниматься. Только перво-наперво отвечайте мне на такой вопрос. Вы часом не ирландка?
— Нет, сэр, — отвечала миссис Титмарш.
— Это нам подходит, — говорит лакей. — Да и по говору слыхать, что не ирландка. Стало быть, милости просим, сударыни, пожалуйте. Там наверху ждут еще охотницы до этого места, а еще сорок четыре приходили, так я их и в дом не впустил, потому как они и впрямь были ирландки.
Провели нас наверх, а на лестнице ковер мягкиж-премягкий, а наверху встретила нас какая-то старушка и велела говорить потише, потому как миледи помещается всего за две комнаты отсюда. Я спрашиваю, а как поживают ее милость с младенчиком, и старушка отвечает, — очень, мол, хорошо, да только доктор не велел больше леди Типтоф самой кормить, потому как здоровьем она слабовата. Вот и надобно приискать кормилицу.
Тут же была еще одна молодая женщина — высокая да цветущая, — поглядела она эдак сердито на миссис Титмаршг на меня, и говорит:
— У меня письмо от герцогини, я у ней дочку вскормила. И я вам так скажу, миссис Бленкинсоп, сударыня, не простое это дело сыскать другую такую кормилицу, как я. Росту во мне пять футов шесть дюймов, и оспой уже переболела, и муж у меня капрал королевской гвардии, — отменное здоровье, рекомендация лучше некуда, и спиртного вовсе в рот не беру, а что до ребеночка, сударыня, так будь у ее милости хоть шестеро сразу, у меня на всех бы хватило.
Пока она все это выкладывала, в комнату вошел низенькжй господин весь в черном, н ступал он таково мягко, будто по бархату. Та женщина поднялась, низенько перед ним присела, сложила руки на богатырской груди и повторила опять все то же, слово в слово. Миссис Титмарш осталась сидеть, как сидела, только эдак наклонила голову; я еще подумала, напрасно она ведет себя так невоспитанно, господин-то этот, по всему видать, лекарь. А он строго поглядел на нее и спрашивает:
— Ну, а вы, любезная, тоже об этом местечке хлопочете?
— Да, сэр, — отвечала она и закраснелась.
— Вы на вид очень хрупкая. Сколько вашему ребенку? Сколько их у вас было? Кто вас рекомендует?
А она в ответ ни словечка; тут я выступила вперед и говорю:
— Эта молодая особа только что потеряла своего первенца, сэр, — говорю, — в людях она еще нигде не служила, потому как сама она дочка морского капитана, так что уж вы не взыщите, что она не встала, как вы взошли в комнату.
Тогда доктор подсел к ней и стал ласково с нею беседовать; он сказал, что, пожалуй, она пришла сюда понапрасну, потому как у этой миссис Хорнер прекрасные рекомендации от герцогини Донкастерской, а она с леди Типтоф в родстве; и тут вошла сама миледи, да такая хорошенькая, сударыня, в модном кружевном чепчике и в премиленьком муслиновом капоте. Вместе с ее милостью из комнаты вышла нянюшка, и пока миледи с нами беседовала, она расхаживала взад-вперед по соседней комнате со сверточком на руках.
Сперва миледи заговорила с миссис Хорнер, а уж после с нашей миссис Титмарш; и во все это время миссис Титмарш глядела в ту комнату, — даже невежливо это было, сударыня, не слушает, а знай смотрит и смотрит на ребеночка, глаз не отрывает. Миледи спросила, как ее звать и есть ли у ней какая рекомендация, а она все молчит, тогда я стала говорить заместо нее: она, говорю, замужем за человеком, лучше которого в целом свете не сыщешь; а вашей, говорю, милости, этот джентльмен известен, вы ему привозили олений окорок. Леди Типтоф сильно удивилась, и тут я ей все и рассказала: как вы были в главных конторщиках и как этот мошенник Брафф довел вас до разорения.
— Бедняжка! — сказала миледи.
А миссис Титмарш так ни словечка и не промолвила, только все глядела на дитятю, а эта верзила Хорнер так свирепо на нее уставилась, того гляди, укусит.
— Бедняжка! — говорит миледи и ласково берет миссис Титмарш за руку. Такая молоденькая. Сколько вам исполнилось, милочка?
— Пять недель и два дня! — сквозь слезы отвечает ваша женушка.
Миссис Хорнер как захохочет, а у миледи слезы в глазах: она-то сразу поняла, об чем думает наша бедняжка.
— Замолчите вы! — сердито сказала она этой верзиле.
И тут дитя в соседней комнате возьми да и заплачь, а ваша женушка, как это услыхала, — вскочила со стула, шагнула к той комнате, руки к груди прижала и говорит:
— Ребенок… дайте мне ребенка!
И опять в слезы.
Миледи глянула на нее, да как кинется в ту комнату и принесла ей малютку, и малютка так сразу и прильнул к ней, будто признал; и просто любо было глядеть на нашу милочку с младенцем у груди.
И как по-вашему, что сделала миледи, увидевши это? Поглядела-поглядела, потом обняла вашу Мэри и поцеловала ее.
— Милочка, — говорит, — вы такая прелесть, и я уверена, что сердце у вас такое же доброе, поручаю вам свое дитя и благодарю бога, что он мне вас послал.
Так и сказала, слово в слово. А доктор Бленд стоит тут же рядышком и говорит:
— И сам Соломон не рассудил бы мудрее!
— Выходит, я вам без надобности, миледи? — говорит верзила.
— Вот именно! — гордо отвечала ей миледи, и верзила отправилась восвояси, и тогда уж я все про вас рассказала, и ничего не упустила, и миссис Бленкинсоп напоила меня чаем, и я видала хорошенькую комнатку, где будет жить миссис Титмарш, рядом со спальней леди Типтоф. А когда воротился домой милорд, как по-вашему, что он сделал? Велел кликнуть извозчика и поехал со мною, сказал, ему надобно извиниться перед вами за то, что они оставили у себя вашу супругу.
Удивительное это происшествие, кое случилось в самый горький наш час, словно нарочно, чтобы утешить нас, в нужде нашей дать нам кусок хлеба, невольно навело меня на мысль о бриллиантовой булавке, и мне чудилось, будто именно оттого, что я с нею расстался, для семейства моего отныне наступят иные, лучшие времена. И хотя кое-кто из читателей, пожалуй, сочтет за малодушие с моей стороны, что я позволил своей жене, которую воспитали в благородном семействе и которой впору бы самой иметь слуг, пойти в услужение, должен признаться, что я не испытывал по этому поводу ни малейших угрызений довести и нисколько не чувствовал себя униженным. Ежели кого любишь, неужто не радость быть тому человеку обязанным? Именно это чувство я и испытывал. Я был горд и счастлив, что теперь, когда судьба лишила меня возможности зарабатывать нам на жизнь, моя дорогая супруга трудами своими сумеет добыть мне кусок хлеба. И теперь, вместо того чтобы делиться собственными размышлениями об тюремных правилах, я отошлю читателя к превосходнейшей главе жизнеописания мистера Пиквика, трактующей об том же предмете и показывающей, сколь глупо лишать честных людей возможности заработать как рае тогда, когда это им всего нужнее. Что мне было делать? В тюрьме нашлись джентльмены, которые могли трудиться (то были господа сочинители — один писал здесь "Путешествия по Месопотамии", а другой "Сценки в залах Олмэка"), мне же только и оставалось, что мерить шагами Бридж-стрит да глазеть то на окна олдермена Уэйтмена, то на чернокожего подметальщика улиц. Я ни разу не дал ему ни пенни, но я завидовал, что у него есть дело, завидовал его метле и деньгам, кои падали в его старую шляпу. А мне отказано было даже и в метле.
Раза три моя милая Мэри приезжала в роскошной карете повидаться со мною: приезжать чаще она не могла, так как леди Типтоф не желала, чтобы ее сынок дышал спертым воздухом Солсбери-сквер. То были радостные встречи, и ежели уж говорить всю правду — дважды, когда никого не случалось поблизости, мне удавалось вскочить в карету и прокатиться с нею, а проводивши ее до дому, я вскакивал на извозчика и катил восвояси. Но я осмелился на это лишь дважды, ведь за это меня могли строго наказать, да и обратная дорога от Гровнер-сквер до Ладгет-Хилл обходилась как-никак в три шиллинга.
Здесь я коротал время со своей матушкой; и однажды мы с нею прочитали в газете о бракосочетании миссис Хоггарти и преподобного Граймса Уопшота. Матушка моя и прежде не жаловала миссис Хоггарти, а тут сказала, что никогда себе не простит, как это она допустила, чтобы я столько времени провел в обществе этой мерзкой неблагодарной женщины, и еще прибавила, что мы оба с нею наказаны по заслугам, ибо поклонялись Маммоне и пренебрегли нашими истинными чувствами ради презренной корысти.
— Аминь! — сказал я на это. — Конец всем нашим честолюбивым замыслам. Тетушкины деньги и тетушкин бриллиант — вот что меня погубило, а теперь мне их, слава богу, больше не видать, и я желаю старушке счастья, а только, надобно сказать, преподобному Граймсу Уошпоту я не завидую.
После этого мы и думать позабыли об миссис Хоггарти и зажили как могли лучше при нашем положении.
Богатые и знатные, не то что мы, бедняки, не спешат приобщать своих детей к христианской церкви, так что маленького лорда Пойнингса крестили только в июне. Одним крестным отцом был какой-то герцог, другим — мистер Эдвард Престон, министр; а добрейшая леди Джейн Престон, о которой я уже рассказывал, была крестной матерью своего племянника. Ей уже успели рассказать о бедах, постигших мою супругу, и они с сестрою душевно привязались к Мэри и обходились с нею как нельзя лучше. Да и во всем доме не было такого человека, меж господ ли, меж слуг ли, кто не полюбил бы мою милую, кроткую женушку; и даже лакеи готовы были служить ей с такой же охотою, как самой госпоже.
— Вот что я вам скажу, сэр, вот что, друг мой Тит, — говорил мне один из них, — я человек бывалый, меня на мякине не проведешь, повидал я знатных дам на своем веку, и уж кто-кто, а миссис Титмарш настоящая леди. С ней по-свойски не обойдешься, нет… я было хотел…
— Ах, вы хотели, сэр?
— Не глядите на меня зверем! Я говорю, с ней, мол, не потолкуешь по-свойски, вот как с вами. Есть в ней что-то эдакое, что к ней не подступишься, сэр. И даже камердинер его милости — а уж он первый сердцеед, никакому знатному франту не уступит, — и он то же говорит…
— Мистер Чарльз, — прервал я, — передайте камердинеру его милости, что, ежели он дорожит местом и своей шкурой, пусть почитает эту леди, как собственную госпожу, и заметьте, что сам я тоже джентльмен, хотя и обеднел, и прикончу всякого, кто ее обидит!
— Ну ладно вам! — только и сказал на это мистер Чарльз.
Но что это я, — похваляясь своей храбростью, я чуть не позабыл рассказать, какое великое счастье принесла мне моя милая женушка своим добрым нравом.
В день крестин мистер Престон предложил ей сперва пять фунтов, а затем и двадцать, но она отказалась от того и другого; зато не отказалась она от подарка, который поднесли ей сообща обе госпожи, и подарок этот был освобождение меня из тюрьмы. Поверенный лорда Типтофа оплатил все до единого мои долги, и в счастливый день крестин я опять стал свободным человеком. Ах! Какими словами описать этот праздник, и как весело нам с Мэри было обедать в ее комнатке в доме лорда Типтофа, куда миледи и милорд поднялись, чтобы пожать мне руку!
— Я беседовал об вас с мистером Престоном, — сказал милорд, — с тем самым, с которым у вас произошла достопамятная ссора, и он вам простил, хотя неправ был он, и обещал пристроить вас на место. Мы как раз собираемся к нему в Ричмонд, и, будьте благонадежны, мистер Титмарш, я не дам ему забыть про вас.
— Сама миссис Титмарш не даст ему забыть, — сказала миледи, — сдается мне, Эдмунд без памяти в нее влюбился!
При этих словах Мэри залилась краской, я рассмеялся, и всем нам было хорошо и весело, и вскорости из Ричмонда пришло письмо, извещавшее меня, что мне предоставляется должность четвертого конторщика ведомства Сургуча и Тесьмы с жалованьем восемьдесят фунтов в год.
На этом мне, пожалуй, следовало бы и кончить мою повесть, ибо я наконец-то обрел счастье, и с тех пор, слава богу, уже не знал более нужды; но Гас желает, чтобы я рассказал еще, как и почему я не стал служить в этом ведомстве. Превосходной леди Джейн Престон уже давно нет в живых, скончался и мистер Престон — от апоплексического удара, и теперь никого не заденет, ежели я расскажу эту историю.
Дело в том, что Мэри не просто приглянулась мистеру Престону, как мы полагали, он влюбился в нее не на шутку; и я думаю, он затем единственно пригласил лорда Типтофа в Ричмонд, чтобы поухаживать за кормилицей его сына. Однажды, когда я поспешил приехать в Ричмонд, чтобы поблагодарить его за место, коим был ему обязан, и шел по боскету, спускающемуся к реке, куда меня направил мистер Чарльз, вдруг на дорожке я увидел мистера Престона на коленях перед Мэри, державшей на руках маленького лорда.
— Любезнейшая! — говорил мистер Престон. — Только выслушайте меня, и я сделаю вашего мужа консулом в Тимбукту! Поверьте, он никогда ничего не узнает. Он не сможет узнать! Даю вам слово министра! О, не глядите на меня так лукаво! Клянусь, ваши глазки меня убивают! Тут Мэри увидала меня, звонко рассмеялась и побежала по лужайке, а маленький лорд радостно вскрикнул и протянул вперед свои пухлые ручонки. Мистер Престон, мужчина грузный, медленно поднимался с колен, как вдруг заметил меня, рассвирепевшего, точно вулкан Этна, — отшатнулся, оступился, покатился по траве и тяжело шлепнулся в воду. Место было неглубокое, и, пуская пузыри и отфыркиваясь, он вынырнул разъяренный и испуганный.
— Н… н… неблагодарный негодяй! — выговорил он наконец. — Чему смеетесь? Какого дьявола вам тут надо?
— Жду приказаний, чтобы отбыть в Тимбукту, сэр, — отвечал я и захохотал во все горло, и ко мне присоединились лорд Типтоф с гостями, которые оказались тут же, а лакей Джеймс помог мистеру Престону выбраться из воды.
— Ах вы старый греховодник! — сказал милорд, когда мистер Престон вылез на берег. — Неужто вы до старости останетесь таким влюбчивым романтиком, беспутный вы толстяк?
Мистер Престон, весь багровый от ярости, пошел прочь и после того целый месяц весьма дурно обходился со своей супругой.
— Как бы то ни было, — сказал милорд, — через несчастное увлечение нашего друга Титмарш получил место; а миссис Титмарш только посмеялась над своим поклонником, так что я не вижу в этом беды. Нет худа без добра, сами знаете.
— Позвольте почтительно заметить, милорд, такое добро мне не на пользу. За последние годы я узнал, чем дело кончается, когда сводишь дружбу с Маммоной и что честному человеку сия дружба ничего хорошего не сулит. Никто никогда не сможет сказать, будто Сэм Титмарш получил место, оттого что некий вельможа влюбился в его жену; будь даже должность моя вдесятеро выгодней, я каждый день, приходя на службу, сгорал бы от стыда при одной мысли о презренных путях, которыми достигнуто мое благополучие. вы вернули мне свободу, милорд, и я, слава богу, работы не боюсь; с помощью друзей я без труда найду место конторщика; а с этим да с рентой моей жены мет уж как-нибудь перебьемся, и нам не стыдно будет глядеть людям в глаза.
Эту длинную речь произнес я с некоторой горячностью, ибо, сами понимаете, не так-то приятно мне было, что его милость счел меня способным извлечь какую-то выгоду из жениной красоты.
Сперва милорд весь покраснел и, видно, порядком осерчал, но потом протянул мне руку со словами:
— Ваша правда, Титмарш, а я не прав. И позвольте вам сказать со всей откровенностью, вы честнейший малый. Обещаю вам, что вы не пожалеете о своей честности.
И я в самом деле о ней не пожалел; ибо разве я нынче не управляющий, не правая рука лорда Типтофа, не счастливый отец; и разве жена моя не любима и не уважаема во всей округе; и разве Гас Хоскинс не зять мой, не компаньон своего превосходного батюшки: в скорняжном деле, не любимец племянников и племянниц, коих он неизменно веселит своими шутками?
Что же до мистера Браффа, то рассказов об нем хватило бы на целый том. Он исчез с лондонского горизонта и вскорости прославился на континенте, где выступил в тысяче обличий и испытывая всяческие превратности судьбы, то возносившей его высоко, то повергавшей в ничтожество. Но, по крайности, одним свойством его натуры нельзя не восхищаться, а именно его неистощимым мужеством; и, глядя, с какой верностию следовало за ним его семейство, я не мог не думать, как уже говорил ранее, что было, видно, в этом человеке и что-то хорошее.
И о Раундхэнде мне следует упомянуть с наивозможной деликатностью. Дело Раундхэнда против Тидда еще слишком свежо у всех в памяти, и притом я просто не понимаю, как мог Билл Тидд, натура столь поэтическая, увлечься мерзкой пошлой толстухой миссис Раундхэнд, которая годилась ему в матери.
Едва дела наши пошли на лад, мистер и миссис Граймс Уопшот стали искать примирения с нами, и мистер Уопшот поведал мне, какую недостойную роль в сделке с Браффом сыграл Смизерс. В свою очередь, и Смизерс пытался ко мне подольститься, когда однажды я заглянул в Сомерсетшир, но я пресек все его поползновения.
— Это он склонил миссис Граймс (в ту пору еще миссис Хоггарти) приобрести акции Западно-Дидлсекского общества и, разумеется, получил за это солидную премию, — рассказывал мне мистер Уопшот. — Но едва он обнаружил, что миссис Хоггарти попала в сети Браффа и, стало быть, он лишится дохода, который приносили ему нескончаемые тяжбы ее с арендаторами, а такте управление ее землями, он решил вырвать ее из лап этого негодяя и тот же час отправился в Лондон, Он и меня пытался очернить своей злобной клеветой, прибавил мистер Уопшот. — Но, слава богу, все его подлые замыслы лопнули, как мыльный пузырь. Когда разбиралось дело о банкротстве Браффа, Смизерс вынужден был держаться в тени, не то его собственная роль в сделках Компании непременно обнаружилась бы. Покуда его не было в Лондоне, я стал супругом, счастливым супругом вашей тетушки. Но хотя бог избрал меня своим орудием, дабы привести ее к благодати, не скрою от вас, мой дорогой, что у миссис Уопшот есть некоторые слабости, и, несмотря на все мое пастырское тщание, я не в силах их искоренить. Она скуповата, сэр, весьма скуповата, и я не могу пользоваться ее состоянием в благотворительных целях, как приличествует священнику; у ней на счету каждый грош, она выдает мне на карманные расходы всего полкроны в неделю. При том, осердясь, она не знает удержу. В первые годы нашего брака я противоборствовал ей, да-да, я не спускал ей этого, но, должен признаться, одолеть ее упорство не мог. Я больше ее не корю, я смирился и стал кроток, аки агнец, и она помыкает мною, как ей заблагорассудится.
В заключение своей скорбной повести мистер Уопшот попросил у меня полкроны взаймы (было это в 1832 годе, в Сомерсетской кофейне на Стрэнде, где он предложил мне встретиться), и я видел, как, выйдя отсюда, он зашел в кабачок напротив, а полчаса спустя появился в изрядном подпитии и пошел по улице, выписывая ногами кренделя.
Через год он умер, и тогда вдова его, именовавшая себя миссис Хоггарти-Граймс-Уопшот из замка Хоггарти, объявила, что у могилы своего святого супруга она забыла все земные обиды и готова вновь поселиться у нас, разумеется, выплачивая приличную сумму за стол и квартиру. Однако мы с женою почтительно отклонили эту честь; и тогда она еще раз изменила свое завещание, которое перед тем составила в нашу пользу; она обозвала нас неблагодарными ничтожествами и развращенными прихлебателями и все свое состояние отказала ирландской ветви Хоггарти. Впрочем, увидавши однажды мою жену в кареле вместе с леди Типтоф и прослышав, что мы побывали на большом балу в замке Типтоф и что я теперь богатый человек, она вновь передумала, призвала меня к своему смертному одру и завещала мне свои фермы в Слоппертоне и Скуоштейле и все, что скопила за пятнадцать лет. Мир праху ее, ибо она, право же, оставила мне весьма изрядное наследство.
Хоть сам я не сочинитель, мой родич Майкл (он взял себе за правило, как поиздержится, приезжать к нам и гостить по нескольку месяцев кряду) уверяет, что мемуары мои окажутся не без пользы для читающей публики (под каковою он, видно, разумеет себя самого); а коли так, я рад служить и ему и публике, и на сем я с вами распрощаюсь, а на прощанье пожелаю всем, кто со вниманием прочитает мои записки, обращаться осмотрительно со своими деньгами, ежели деньги у них имеются; еще того осмотрительней обращаться с деньгами своих друзей; помнить, что крупных барышей не наживешь без крупного риску и что крупные да ловкие наши воротилы нипочем но удовольствуются четырьмя процентами со своего капиталу, когда могут ухватить больше; а пуще всего не советую ввязываться во всякие спекуляции, коих механика вам не вовсе ясна и устроители коих не вовсе чисты и надежны.
КОММЕНТАРИИ
"Thy History of Samuel Titmarsh and the Great Hoggarty Diamond" впервые напечатана в "Журнале Фрэзера", 1841, сентябрь — декабрь, под псевдонимом "Майкл Анджело Титмарш".
В битве при Винегер-Хилле в Ирландии в 1798 г. английские войска разгромили силы участников одного из крупнейших ирландских восстаний.
Кембл Чарльз (1775–1854) — актер, брат знаменитой трагедийной актрисы Сары Сиддонс; Пикок Томас, поэт и романист, друг и душеприказчик Шелли, много лет служил в управлении Ост-Индской компании. Речь идет об инсценировке одного из романов Пикока "Девица Мэрией" (1822), героем которого является Робин Гуд.
Фулем — богатый юго-западный район Лондона, в то время еще пригород.
Пентонвилл — скромный жилой район Лондона к северу от Сити.
Король лакея своего… — строфа из стихотворения Роберта Бернса "Честная бедность", перевод С. Маршака.
Дандо — житель Лондона, прославившийся тем, что мог съесть неимоверное количество устриц. Обычно уходил из ресторанов, не заплатив по счету, за что попал в тюрьму, где и умер. Герой множества карикатур, а также самого первого юмористического рассказа Теккерея "Профессор", опубликованного в "Журнале Бентли", 1834, сентябрь.
Настоятель — знаменитый сатирик Джонатан Свифт с 1713 года и до своей смерти был настоятелем (деканом) собора св. Патрика в Дублине.
Проповеди Блейра, шотландского профессора и священника (1718–1800), были изданы в пяти томах еще при его жизни и пользовались большим успехом у читателей.
…за полцены наслаждались жизнью в Сэдлерс-Уэлз… — Сэдлерс-Уэлз один из лондонских театров; билет за полцены можно было купить, придя в театр к девяти часам, к середине представления.
Олбени — тупик на северной стороне Пикадилли, где в XIX в. сдавались квартиры богатым холостякам. В 1814–1815 гг. в Олбени жил Байрон.
"Письма Рзмсботтома" — серия юмористических очерков Теодора Хука (1788–1841), остроумного, но грубого и вульгарного журналиста, редактора еженедельника "Джон Буль", который пользовался огромным успехом у малотребовательной публики: в 1821 году тираж его достиг 10000 экз.
Белл-лейн входит в границы Флитской тюрьмы… — Заключенным в долговую тюрьму разрешалось, внеся определенный залог, жить не в самой тюрьме, а на прилегающих к ней улицах, в так называемых "тюремных границах".
Лондонский Воспитательный дом до сих пор славится своим церковным хором. Композитор Гендель, долго живший в Англии, давал концерты в пользу этого приюта и подарил ему орган.
…человека, застрелившего мистера Персиваля… — В 1812 г. премьер-министр Спенсер Персиваль был убит в кулуарах палаты общин. Стрелявший в него Беллингхем, банкрот, тщетно обращавшийся к правительству за помощью, был помешан, но это не спасло его от виселицы.
Хаунсдич — улица в Сити, издавна заселенная евреями.
Шадрах, Мешах и Абеднего — библейские персонажи, три отрока, брошенные в огненную печь за неповиновение царю Навуходоносору, но благодаря вмешательству ангела спасенные от погибели (Книга пророка Даниила, гл. 3).
"Дядюшкой" в Англии называют ростовщика, владельца ссудной лавки.
Ведомство Сургуча и Тесьмы — правительственное учреждение, выдуманное Теккереем. Тесьма (красная тесьма, которой перевязывают пачки официальных бумаг) стала в Англии синонимом бюрократической волокиты.
М. Лорие
Примечания
1
Нет, какая прелесть
(обратно)2
Да он очарователен, ваш молодой человек (франц.).
(обратно)3
Весьма польщен, сударыня (франц.).
(обратно)4
Деревня в городе (лат.).
(обратно)5
Народу (франц.).
(обратно)6
По-домашнему, в тесном кругу (франц.).
(обратно)7
Общество (франц.).
(обратно)8
Пребывание (франц.).
(обратно)9
Я щипала (франц.).
(обратно)10
Трогала (франц.).
(обратно)11
Царапала (франц.).
(обратно)12
Калечила (франц.).
(обратно)13
Путешествовать (франц.).
(обратно)14
Но что поделаешь (франц.).
(обратно)15
Я таких вещей не знаю (франц.).
(обратно)16
Что вы скажете (франц.).
(обратно)17
Ловко увильнули (итал.).
(обратно)18
Арестовать, француз, поле чести (франц.).
(обратно)19
Важная причина (лат.).
(обратно)

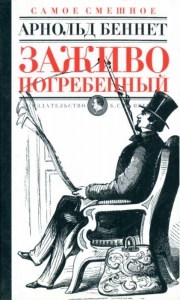
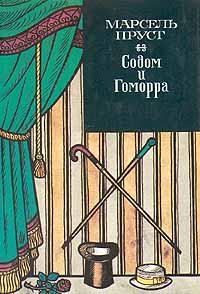
Комментарии к книге «История Сэмюела Титмарша и знаменитого бриллианта Хоггарти», Облонская
Всего 0 комментариев