Борис Верхоустинский Опустошенные сады Повесть и рассказы
Опустошенные сады
1
Рогнеда сидит у окна и смотрит, как плывут по вечернему небу волнистые тучи — тут тигр с отверстою пастью, там — чудовище, похожее на слона, а вот — и белые овечки, испуганно убегающие от них. Но не одни только звери на вечернем небе, есть и замки с башнями, и розовеющие моря, и лучезарные скалы.
Память Рогнеды встревожена. Воскресают светлые поля, поднимаются зеленые холмы, и на холмах вырастают белые стены рыцарского замка… Все это было давно-давно, в милом детстве… Тогда Рогнеда жила в иной стране, в красном домике, покрытом черепицей, у прекрасного озера, расстилавшегося перед замком. И на этом озере жили лебеди, черные, как агат… Никогда больше Рогнеда не встречала таких птиц, в них была царственная величавость; когда им с берега кидали куски булки, они подплывали медленно и спокойно, и в этом были так не похожи на шумных и алчных белых лебедей, живших на том же озере, у стен того же старинного замка.
…Черная коса Рогнеды распущена и спадает на спинку венского стула, на подоконнике перед девушкой лежит гребень, которым она расчесывала волосы, обе руки тоже покоятся на подоконнике.
Тучи алеют, алость темнеет…
За окном сад — малина, яблони, груши, — но плоды уже сняты, а листья помертвели; подует ветер, зашепчутся они, застонут — и желто-оранжевым покровом устелют остывающую землю.
В комнату кто-то тихо стучит:
— Рогнеда Владиславовна, можно к вам?
— Войдите! — отвечает она, не оборачиваясь.
Она знает, кто пришел, — пришел Алексей.
— Вы мечтаете? Я вам не помешал?
— Нет.
Алексей садится в темном углу комнаты на диван и молчит, в тишине слышно лишь его тяжелое дыхание. Он — высокий, широкоплечий, голубые глаза и русая бородка; ходит в черной рубахе, а брюки всегда засунуты в скрипучие сапоги. С тех пор, как его выгнали из университета, он заделался статистиком в родимом городишке и усиленно пьет. Вот и сейчас на Рогнеду пахнуло острым запахом водки; она брезгливо поморщилась и недружелюбно взглянула в его сторону.
— А вы… все околачиваетесь по кабакам?
Из темного угла доносится глухой голос:
— Исполняю свое жизненное назначение.
— Оставьте, Алексей, не говорите так…
Он замолкает, его дыхание переходит почти в сопение.
Тучи темнеют, в саду мрачно и нелюдимо. И вспоминается из времен далекого детства, как на озере перед замком однажды дрались черный лебедь и белый. Они налетали один на другого так яростно, так дики и пронзительны были их возгласы, что маленькой Рогнеде сделалось страшно, но все же она дождалась конца драки, она увидала, как черный лебедь бил по воде крыльями, как он умирал, истекая кровью…
— Рогнеда Владиславовна, я пришел к вам поговорить… Вы меня слушаете?
Рогнеда закрывает окно, потому что уже прохладно, и, завивая косу в жгут, говорит Алексею:
— Слушаю.
Алексей сопит и стучит каблуками сапогов о пол.
— Вот что, Рогнеда Владиславовна, скучно мне. Все вылетело к чертям — идеалы, вера в себя, одним словом, копчу небо. Статистика? Столько-то дворов, столько-то лошадей, итого — столько-то? Да кому нужно все это, а если бы и было кому нужно, так мне-то какое дело до всего этого… Чуете?
— Да! — тихо и печально отвечает Рогнеда.
— Вы, вот, классная дама, вас ваши гимназистки любят… Конечно, из года в год слышать: le père, la mère — тоже порядочный идиотизм, вы уж меня простите, но все-таки, вас хоть любят. Чуете?
Рогнеда отвечает еще тише, еще печальнее:
— Да.
— И хочется мне умереть, потому что жить тяжело и стыдно. Как вы на этот счет?
Из рук Рогнеды гребень выпадает на пол, она наклоняется и поднимает его.
— Умереть?.. Что ж, это хорошо, только трудно.
Алексей встает с дивана, подходит к окну, заглядывает в темноту опадающего сада.
— Рогнеда Владиславовна!
— Что?
— А я пришел к вам еще сказать, что люблю вас.
Она зажигает лампу; от этого сад совсем темнеет, но комната оживает и веселится. Блестит черным лаком и бронзовыми подсвечниками пианино, хохочет гипсовый Мефистофель с маленького столика, где лежит альбом с фотографическими карточками.
Рогнеда садится на винтовой табурет, открывает крышку пианино, берет несколько аккордов.
— Ах, Алексей!.. Пойдемте лучше гулять.
И опять опускает крышку пианино.
Потом закалывает косу шпильками, надевает шляпу и проходит в столовую, где у освещенного висячею лампой стола сидит остроносенькая старушка в белом накрахмаленном чепчике и что-то вяжет.
— Я, мамочка, ухожу.
Старая пани, мать Рогнеды, кивает ей головой, беззвучно шевеля бескровными губами — считает петли и боится сбиться со счета. Глаза у нее тусклые, а руки дрожат.
— До свидания! — говорит ей Алексей. Она и ему кивает головой.
Так она сидит целыми днями, считая про себя:
— Раз — два — три — четыре — пять — шесть — семь — восемь — девять — десять. Раз — два — три — четыре — пять — шесть — семь — восемь — девять — десять. Раз — два — три — четыре — пять…
2
Городок утопает в зелени, весною он кажется сплошным садом, он тогда бел, как стоящая под венцом невеста. За цветами, за нарядными яблонями не видно скромных домиков-особняков.
Весною и летом Рогнеда ходит в голубых кисейных платьях и с красным шелковым зонтиком, им она защищается от знойного солнца, ведь самое красивое в ней — белизна кожи, и жутко, и странно видеть среди молочной белизны ее лица черные, подернутые дымкою глаза. А нос у нее стройный, с горбинкою, а черные брови сурово сошлись у переносицы.
Осенью городок опустошается. Желтый вихрь — осенние дни, черный вихрь — осенние ночи проносятся над садами, срывают с деревьев листву, взметают с дорог тучи желтой пыли, хлопают калитками, скрипят флюгерами и жалобно воют. Тогда обнаженные ветви бьются и качаются над окнами особняков, стараются стукнуть по стеклу…
Осенью Рогнеда наряжается в платья каштанового цвета; в широкополой желтой шляпе ампир, она похожа на девушку прошлых поколений, поры усадеб, липовых парков, Венер, смотрящих в сонные воды зарастающих прудов, разбитых клавесин и чувствительных мадригалов.
— Будем говорить по совести, Рогнеда Владиславовна, что вам не нравится во мне? Я, может, переделаюсь… Ей-Богу!.. Или вам не нравится, что я ношу длинные сапоги и лакаю сивуху? Честное слово, исправлюсь…
Тонкие губы Рогнеды досадливо вздрагивают.
— Алексей, не говорите так… Я вас понимаю, вам хочется оскорбить меня и сделать себе больно, но не надо, милый Алексей, это нехорошо, от этого и вам, и мне будет только тяжелее.
Алексей замолкает.
— Ага! — вдруг раздражается он. — Ну, так я знаю, ей-Богу, знаю…
— Что знаете?
— А вот знаю…
Он хохочет:
— Ха-ха! Теперь все смазливенькие девушки преклоняются перед силой. Насильник, халуй стал идеалом. Конечно, конечно, мне конкурировать трудно с этим меднолобым поручиком… А только — ведь он хам, Рогнеда Владиславовна, поверьте; он даже бьет своего денщика.
Рогнеда с состраданьем заглядывает в глаза Алексею:
— Милый Алексей, как мне вас жалко.
Он вспыхивает:
— А вот же черт с вами со всеми! Пойду сейчас в кабак, напьюсь вдребезги и попорчу блистательную физиономию вашего фон-Книппена, излупцую его, стервеца, суковатою палкой.
— Вы этого не сделаете, Алексей.
— Не сделаю? Дико? А мне наплевать… Впрочем, — голос Алексея слабеет, — ну, конечно, я ему ничего не сделаю. Это я сейчас так только. Вы не сердитесь, Рогнеда Владиславовна.
Они выходят на бульвар. Вековые развесистые липы разрослись двумя величавыми шеренгами по обеим сторонам бульвара, их вершины над головами гуляющих нависли сквозным сводом.
Алексей и Рогнеда садятся на чугунную скамью и молча вглядываются в проходящих мимо. Лица различаются с трудом, на всем лежат густые тени.
— Помните, Рогнеда Владиславовна, весною здесь было людно, весело, а теперь вместо людей, черт знает, одни силуэты… Любо было смотреть на молоденькие парочки, какого-нибудь гимназиста и гимназисточку, как они рады солнцу, весне, шороху листвы, собственной юности, смеются, улыбаются, мелют вздор и, словно невзначай, оглядываются по сторонам, дескать: а? что? вот ведь и мы играем в любовь… А теперь — тьфу! одни силуэты… Гимназист похудел за латынью и тригонометрией, а гимназистка за три с плюсом готова выйти замуж за плешивого историка. Остались мы с вами, да и то дело не клеится.
— Холодно, Алексей, — тихо говорит Рогнеда, — напрасно я не надела накидку. Пожалуй, придется вернуться домой.
— Ну, ладно, не буду…
Вдалеке показывается фон-Книппен, соборный регент Долбня, и с ними Тихий Ужас.
Тихий Ужас — маленькая женщина-врач, стриженная, разочарованная, неаккуратно одетая, с плохо вымытым веснушчатым лицом и с обкусанными ногтями на руках. Тихий Ужас читает толстые журналы, заводит политические, разговоры, следит за газетами, ходит на все лекции и концерты, была несколько раз за границей и обо всем рассказывает так подробно и умно, что один ее взгляд заставляет Алексея мрачнеть.
— Я уйду… Ну ее к бесу, опять примется расписывать про Женевское озеро и Невшательских часовщиков.
Рогнеда удерживает его:
— Подождите, Алексей, я не хочу, чтобы вы уходили.
Он со вздохом опускается обратно на скамью.
— Б-ба! б-ба! б-ба! — гудит Долбня, здоровенный детина, рыкающий, как лев в пустыне. — Мое почтение.
Он до боли пожимает руку Алексея, а Рогнеде отвешивает глубокий поклон. У этого кротчайшего человека облик нескладный и звероподобный — рыжая кудлатая грива до плеч, огромный беззубый рот, широкие желтые глаза и окладистая рыжая борода. Говорит афоризмами:
— В природе все окисляется, вот и мы с вами окислились.
— Женщины — это мозговые предрассудки.
— Любовь, подобно гуммиарабику, склеивает, засыхая.
Фон-Книппен не таков. Лицом суховат, лошадиная челюсть, взглядом надменен, очень следит за своею наружностью, черные усики закручены кверху, всегда тщательно выбрит и сильно надушен. Любит рассказывать анекдоты и балагурить.
— Гутэн абэнд, фрейлин Рогнеда!.. Алексей Ильич!
— Здравствуйте!
— А я, господа, новенький анекдот раздобыл. Чудесия! Рассказать? Сейчас вот им рассказывал.
— Не выношу! — хмурится Алексей.
Фон-Книппен брякает шпорами.
— Да его, Алексей Ильич, выносить и не надо, ибо он не окурок, а я не пепельница. Я — поручик фон-Книппен… Что это вас нигде не видать, Рогнеда Владиславовна, я уж было подумывал, что вы втихомолочку изобрели аэроплан, да и улетели из прекрасных здешних мест.
Долбня гудит:
— Женщина, как и человек, бескрылое насекомое.
Тихий Ужас негодует:
— Напрасно вы думаете, Долбня, что выражаетесь остроумно, все эти ваши шуточки о женщине и человеке очень плоски. Теперь, когда на Западе с суфражистками считаются, как с реальной силой, подобные остроты являются профанацией, выношенной в веках идеи.
Долбня гневается:
— А п-позвольте мне, Елена Семеновна, сморкаться и смеяться тогда, когда мне захочется.
И повертывается спиной к Тихому Ужасу.
— Господа, — говорит фон-Книппен, — а цирк-то уже приехал, завтра открытие, надо будет сходить. Столичные борцы…
— Я не люблю, — тихо отвечает Рогнеда, — очень много зверства в борьбе, неприятно видеть человека в роли прислужника своих мускулов, а все борцы именно такие прислужники. Из года в год, изо дня в день, тренировка, гимнастика, борьба… Нет, не люблю!
— И борьба есть только видоизменение мозговых предрассудков! — мрачно гудит Долбня, еще не позабывший столкновения с Тихим Ужасом. — Идемте куда-нибудь, чего тут кристаллизоваться.
— Идемте! — соглашается Алексей, поднимаясь со скамьи. — Знаете, закатимтесь-ка к Ковалевым, у них много вишневого варенья наварено, а чай с вишневым вареньем…
— Опасен, как философия! — прерывает его Долбня. — Вишневая косточка может попасть в слепую кишку и вызвать воспаление.
Все, кроме Алексея, смеются.
— Алексей, — шепчет ему Рогнеда, отставая от компании, — ну, не мрачнейте, голубчик; ну, возьмите же меня под руку.
— А вы его очень любите? — сквозь зубы цедит Алексей.
— Кого?
— Да Книппена…
— С чего вы взяли? Кто вам сказал?
3
Компания с шумом вваливается в дверь.
— Жорж! Жорж! — звенит женский голос. — К нам кто-то пришел.
Навстречу гостям выплывает сама домоправительница, Пелагея Евтихиевна Ковалева, женщина дородная, с правильными чертами лица, изрытого мелкими морщинками. Она в красном бумазейном пеньюаре, с пустою тарелкой в левой руке.
— Ах, вот обрадовали… Давненько вас не видать, господа. Здравствуйте! здравствуйте! Жорж, вылезай скорее, гости пришли.
Раздеваются, проходят в столовую. Долбня с шумом сморкается в грязный носовой платок; он всегда сморкается, входя в комнату, словно настраивает себя, как музыкант свой инструмент, дескать, не отсырел ли в пути.
Фон-Книппен звенит шпорами, устраиваясь на огромном диване рядом с Тихим Ужасом. Рогнеда и Алексей располагаются в креслах, Алексей у занавешенного белою гардиною окна, Рогнеда под старыми, дребезжащими во время боя стенными часами.
В доме Ковалевых деревянные стены выкрашены масляною краской — столовая голубая, с синею панелью, кабинет Ковалева белый с голубой панелью, а комнаты женщин окрашены в серый и розовый цвет. Розовый любимый цвет жены Ковалева, Серафимы.
С перевальцем, как утка, Серафима выходит к гостям. Сильная, румяная… За нею показывается сам Ковалев — широкие лучистые глаза, черная бородка клином, бледное подвижное лицо, длинные волосы до плеч и синяя рембрандтовская рубаха. В городе только один он носит такую рубаху, ему можно, он художник, его кабинет полон недоконченными этюдами, а на письменном столе валяются мелко исписанные листки бумаги, он — немного и философ, чуть было не прочел в дворянском собрании лекцию на тему: эволюция софистического антропоцентризма в наших днях. Ему можно носить длинные волосы и рембрандтовскую рубаху, — ведь он нигде не служит, Ковалевы живут на доходы с маленького имения.
— Господи! Сколько народищу!.. Ну, ну, что новенького?.. А я ее мазал, — кивает он головой на Серафиму, немножко акварельничали, страшно устал. Очень мило, что вы заглянули. Как поживаете, генерал?
Он всегда с фон-Книппеном слегка заигрывает, при этом щурится на его шашку.
— Новый анекдот раздобыл, хотел, придя к вам, рассказать, да вот, Алексей Ильич по дороге разобидел, говорит: я их не выношу, — а я его и не просил выносить, ибо анекдот не окурок, я же не пепельница. Ха-ха!
— Человек несчастнее пепельницы, — гудит Долбня, — он пустеет лишь тогда, когда разбивается.
Начинаются длинные разговоры. Тихий Ужас ссорится с Долбней…
— А знаете, — улыбается Ковалев, — чем я теперь занимаюсь?
Он оглядывает все общество и останавливает ласковый взор на Рогнеде.
— Я заинтересовался вопросом, что такое мысль, и, так сказать, опытным путем анализирую ее… Удивительно интересно! Однажды, это было года четыре тому назад, со мною произошла душевная катастрофа, и тогда в короткий, как молния, момент, я почувствовал, что малейший толчок, тихое дуновение — и я сорвусь… Было такое чувство, словно бы стоишь на острие грани, по одну сторону которой здравый разум, по другую — безумие… Да… И тогда мысль от меня ускользала.
Горничная вносит самовар и ставит его на стол. Пелагея Евтихиевна и Серафима хлопочут, выкладывая из банки варенье и нарезая рассыпчатый каравай, которыми Пелагей Евтихиевна славится.
Рогнеда удивленно смотрит на Ковалева.
— Мысль, мысль… Но что же такое мысль, — ведь, ее можно познавать только по проявлениям, а не в самом процессе зарождения. Вы что-то странное говорите, Георгий Глебович. Я вас не понимаю.
— Ну да! — волнуется Ковалев. — Это очень трудно определить словами… Но на днях я почти реально ощутил мысль. В период полного оскудения, полного упадка, я лежал у себя в кабинете на диване и собирался заснуть, вдруг в голове что-то стремительно пронеслось, и я с ужасом почувствовал, что теряю мысль, что она выходит из подчинения мне и принимает уродливые, недисциплинированные моею волею формы. Я ее видел то безумно быстро несущимся камнем, то прыщавою отвратительною жабой. И я крикнул в соседнюю комнату Серафиме, что я схожу с ума.
Ковалев мечтательно улыбается, глядя на Рогнеду.
Фон-Книппен звякает шпорами.
— А ведь вы, Георгий Глебович, тю-тю, обдекадентились.
Тихий Ужас фыркает, но ничего не говорит.
— Пустяки, — зевает Алексей, — ты, Жорж, не спишь по ночам, вот потому и видишь жабу. Когда я был в белой горячке, так видел зелененьких чертиков, очень похожих на Книппена, ловил их и давил. Забавно было, да сдуру меня скоро вылечили.
Фон-Книппен опять звякает шпорами.
— Успокойтесь! Если вас лечили не палкою, то выздоровление не полное.
— Дельно отмочено! — гудит Долбня.
Рогнеда строго взглядывает на Алексея, он ежится и замолкает.
— Прошу, господа! — зовет Пелагея Евтихиевна к столу.
4
За чаем разговор возобновляется.
— Вообще, мне кажется, что личность и мысль слабо связаны между собою. Разве вам никогда не приходилось бежать, закрывать лицо ладонями, скрываться от собственной мысли? Или тихо-тихо подкрадываться к ней, как к таинственной Жар-Птице, чтобы схватить ее за хвост и похитить хоть одно лучезарное перо?
Ковалев сидит против Рогнеды и обращается, главным образом, к ней; его лучистые глаза сияют кротко и радостно, и ей за него обидно зачем, зачем он говорит все это при фон-Книппене, Долбне и Тихом Ужасе, когда они выйдут от него, они будут над ним же смеяться — обдекадентился… тю-тю!
— Вы мне покажете потом, Георгий Глебович, ваши новые этюды?
Ковалев тускнеет, в углах рта образуются складки.
— Хорошо, с удовольствием… Только — все дрянь, все дрянь.
Ваза с вишневым вареньем быстро опустошается, ломоть за ломтем съедается и сладкий каравай, — у Долбни неукротимый аппетит. Фон-Книппен выпивает только один стакан и затем откидывается на спинку стула, незаметно для других строя глазки Рогнеде. Она сдерживает свой гнев: глупо вступать с этим хлыщом в объяснения!
Розовая Серафима тщетно пытается завязать с кем-нибудь разговор. На нее все давно привыкли смотреть, как на хорошенького болванчика, милого, доброго, но всегда одинаково мотающего головой. Один Долбня считает своим долгом отпустить ей несколько изысканных комплиментов:
— Ваше варенье, что картечь, пробивает броню моей алчбы.
— А не пересахарено?
— Нет, а буде и так, то только к лучшему.
Пелагея Евтихиевна, сидя за самоваром, расспрашивает Тихий Ужас о родах дочери податного инспектора. Какой скандал: благовоспитанная девица и этакий срам…
Тихий Ужас подробно описывает, как и что было. Роды — из трудных, одно время больная совсем была при смерти. Кстати Тихий Ужас вспоминает удивительную операцию, произведенную за границей в ее присутствии одним знаменитым профессором. Потом она рассказывает о другой удивительной операции и о другом знаменитом профессоре, и наконец, — о Женевском озере и Невшательских часовщиках.
— А ведь ребеночек-то от фон-Книппена, — шепчет ей на ухо Пелагея Евтихиевна.
— Да ну! — настораживается Тихий Ужас. — Вот подлец!
После чая все переходят в кабинет Ковалева. Комната просторная, со стен свешиваются полки с книгами и этюды. Письменный стол в страшном беспорядке, чего-чего тут только нет: рукописи, открытые книги, старые газеты, увядшие цветы в фарфоровых кувшинах, старое проржавевшее ядро вместо пресс-папье, пепельницы, кошельки, ящики с красками, грязные манжеты, разрозненные запонки, гипсовая копия Роденовского Пастера и на ней желтые лайковые перчатки. Около стола старинное резное кресло, крытое тисненным сафьяном, с высокою прямою спинкой. В одном углу стоит пустой мольберт. Мебели немного — диван и низенькие кресла, обитые малиновым бархатом.
…Ковалев показывает свои этюды. На Рогнеду смотрят с холста и с бумаги бледные, бескровные лица, немощные предметы. «Господи, как все это бездарно!» — думает она, но вслух хвалит:
— Я люблю ваши работы, Георгий Глебович.
И она не лжет: конечно, все это бездарная мазня, но что из того — каким радостным светом загораются глаза Ковалева, когда он говорит о живописи, об искусстве, как он светел и прекрасен тогда.
— Да, я люблю ваши работы, Георгий Глебович.
Он торжествует, он не замечает ни насмешливой улыбки фон-Книппена, ни презрительно сжатых губ Тихого Ужаса, ни зевка Долбни. Но Алексей разбивает его очарование.
— Очень скверно, Жорж, я думаю, у тебя абсолютно нет дарования. Брось, поступи на службу, все равно, где гнить — за мольбертом или за канцелярщиной. Все одного черта стоит. Ты прости, что я груб, но только тебе надо бросить, ты не художник. Я тебе это давно хочу сказать.
— Нет, почему же? — усмехается фон-Книппен.
Свеча в руке Ковалева колеблется, стеарин капает на пол.
— Ты думаешь?
Он гасит свечу и ставит ее на стол.
— Может быть, может быть…
Ходит по комнате.
— Может быть…
Останавливается перед Рогнедой:
— А вам нравится?
— Да.
— Трудно на каждый вкус угодить! — насмешливо утешает его фон-Книппен, крутя усы.
На стене вырисовывается силуэт Ковалева — громадная голова, черное расплывшееся туловище. Гигантская голова колеблется, меняет свои очертания, — то с длинным уродливым носом, то с какими-то рогами, то одно круглое, мучительно — однообразное пятно.
— Георгий Глебович! — вскрикивает Рогнеда. — Смотрите, какой вы на стене страшный…
Ковалев повертывается, тень изменяет свои очертания.
* * *
Когда горланят первые петухи, гости расходятся.
— Приходите ко мне завтра! — тихо говорит Рогнеда Ковалеву. — Поговорим.
— Хорошо. Спасибо.
Он крепко пожимает ей руку.
— А меня не зовете? — усмехается Алексей.
— А меня? — спрашивает фон-Книппен.
— А меня? — гудит Долбня. — Чем я хуже других? Тихий Ужас молчит.
— Все! Все! — смеется Рогнеда.
Выходят на улицу.
Ночь темна беспросветно. Фон-Книппен шагает впереди, освещая дорогу электрическим фонарем.
— А варенье у них хорошее! — задумчиво говорит Долбня. — Вообще, Пелагея Евтихиевна — женщина полезная для человечества.
Рогнеда идет под руку с Алексеем.
— Алексей!
— Ну?
— Вы сейчас домой?
— Да.
— Спать?
Алексей медлит с ответом.
— Не знаю.
— Алексей, вы не мрачнейте, голубчик… Не стоит.
Алексей молчит.
— Осенняя ночь подобна доброй касторке, — угрюмо философствует Долбня, — она отвращает от хороших мыслей.
— Да перестаньте же, черт вас дери, — огрызается Алексей. — Надоели хуже горькой редьки.
— Надо-ел?.. Гм, ну, тогда я, пожалуй, не буду, мне совершенно все равно любить иль ненавидеть, мне все равно.
— Рогнеда Владиславовна, — шепчет Алексей, — не могу я, сил нет, ей-Богу! Как буду жить? Что мне делать?
— Я не знаю! — вполголоса отвечает она.
Он безнадежно замолкает.
В темноте шаги идущих гремят глухо и тоскливо, шпоры фон-Книппена монотонно позвякивают.
5
Едва Рогнеда приходит домой, как начинается ливень. Тысячи маленьких детских ног суетливо стучат-гремят по железной крыше особняка, а чьи-то скорбные голоса сливаются в один протяжный вопль.
Рогнеда медленно раздевается, зажигает свечи у пианино и садится играть.
Тишина комнаты нарушается тоскливыми мелодиями. Беготня детских ножек на крыше на миг прекращается. Тысячи суетливых детей приостанавливаются, прислушиваются к тому, что делается внизу, в комнате, — и вдруг стремительно проносятся от края и до края по грохочущему железу покатой крыши, струящей потоки дождя.
Гипсовый Мефистофель, плохо освещенный огнем двух свечей, кривить рот, безмолвно хохочет и хитро улыбается.
Для тебя, мой лазоревый Тар, Приняла я людскую красу, Расточила всесилие чар, Колдовала в священном лесу…— поет она тихо и жалобно. Голос у нее слабый, на иных высоких нотах кажется, что она задыхается от утомления.
Ты отверг меня, лунную дочь, Золотую богиню серпа, И напрасно к тебе в эту ночь Пролегла небесами тропа…И опять в памяти выплывают черные лебеди, и опять далекое детство, как светлый сон, вспоминается с печалью и томлением.
Белые пальцы перебегают от клавишей к клавишам медленнее, слова песни вылетают из груди, чтобы тотчас угаснуть-умереть. И черною птицей бьется душа…
Струны немеют. В комнату входит отступившая перед звуками тишина; Рогнеда неподвижно сидит на табурете и прислушивается к беготне детских ножек на крыше, к рокоту стекающей по желобам воды.
— Почему вы не уедете отсюда? — думает Рогнеда.
— Куда же я уеду?
— Куда-нибудь.
Рогнеда резко откидывает назад голову. Нет, нет! Нельзя так думать, думать-говорить с собою. Это нечто вроде убегающей мысли Ковалева, это безумие, — думать надо иначе:
— Почему я не уезжаю отсюда?
— Да потому что мне некуда уехать. Куда я уеду?
— Куда-нибудь.
Она сильно ударяет пальцем по клавишу, чтобы звуком пересечь состояние оторванности от себя. Но не помогает. Странная девушка сидит у пианино, очень странная — красивая, печальная, зовут ее Рогнедой, она сейчас пойдет спать, увидит сны, а может быть, и не увидит; утром будет пить кофе и…
Рогнеда опять ударяет пальцем по клавишу. Нельзя, нельзя так думать о себе, нельзя. Рогнеда она, а не посторонний ей человек, нельзя думать о Рогнеде, как о существе чуждом.
И тут ей вспоминаются слова Ковалева:
— …мне кажется, личность и мысль слабо связаны между собою.
Нет, неправда! Это применимо лишь к нему. Да, к нему, пожалуй, его слова применимы — у него высокая мысль, если бы он смог ею овладеть, он бы показал нечто неслыханное; она чувствует, как все кипит и пламенеет внутри его, как совершаются в нем мучительнейшие процессы, но… мысль Ковалева — гора, на которую он сам никогда не сможет взобраться, он падает, изнемогает, он остается внизу, у подножия.
Рогнеда гасит свечи и уходит в спальню. Там две кровати, ее и матери, и горит тусклый ночник на маленьком круглом столике, стоящем между кроватями.
Старая пани боится тьмы. В темноте она плачет, как ребенок, дрожит от страха, зарывается головою в подушки и слышит, как к ней на циновках подкрадывается мертвец… Но при свете розового ночника старая пани спит сладко и видит хорошие сны.
Рогнеда садится на край своей кровати, расшнуровывает башмаки, раздевается и, зевая, до горла скрывается под одеялом. Видно лишь одно усталое, розовое от света ночника лицо, да стройные руки, заложенные под голову.
Рогнеда смотрит на мать — лицо, как маска, а дышит она так слабо, что можно подумать — она совсем без дыхания. На стене, в углу, над кроватью пани, висит бронзовое распятие: бронзовый Христос, пригвожденный и страдающий, в предсмертной тоске судорожно напряг все свои мускулы.
Рогнеда закрывает глаза, тихими шагами подкрадывается сон; тысячи детей, бегающих по крыше, на миг останавливаются, прислушиваются к ровному дыханию девушки и опять стремительно пускаются в бег.
Близок рассвет. Петухи поют в третий раз.
6
Утром Рогнеда и старая пани пьют кофе в столовой. Кофейник никелированный, сахарница серебряная, щипчики тоже из серебра, и перед каждою своя особенная чашка.
Чашка Рогнеды из черного фарфора, маленькая, пузатенькая, с крошечною ручкой.
Чашка старой пани — пестрая, с драконами, выглядывающими из кустов блеклых роз.
Старая пани размешивает сахар обыкновенною серебряною ложечкой.
Ложка Рогнеды позолоченная, с узорами и с тонкою витою ручкой.
Старая пани кушает сухарики, намочив их в кофе.
Рогнеда съедает шведский хлебец, предварительно разрезав его пополам и намазав обе половинки сливочным маслом.
Так каждое утро, и при этом обмениваются тихими словами.
— Ты поздно пришла?
Рогнеда отвечает:
— Да, мамочка.
— Кажется, шел дождь?
— Да, я чуть под него не попала.
Старушка осушает чашку и еще наливает в нее из кофейника. Дзик! дзик! — гремит ложка, размешивая сахар.
— А я видела во сне, что я ослепла.
Рогнеда говорит:
— Вам, мамочка, вероятно, было страшно?
— Да. Ищу окна, а его нет, потому что я ослепла.
В передней дребезжит звонок, кухарка открывает дверь.
— Барышня дома?
Рогнеда выходит из комнаты. В прихожей денщик фон-Книппена, коренастый, краснолицый солдат, с тупыми глазами.
Он отдает ей честь и вытаскивает из-за обшлага рукава конверт.
— Его благородие приказывали передать.
Рогнеда разрывает конверт, в нем билет в цирк на первое представление.
Она вкладывает билет обратно в конверт.
— Скажи твоему барину, что я в цирк не собираюсь. Можешь идти.
— Слушаю-с!
Солдат круто повертывается и уходит.
Рогнеда возвращается к недопитой чашке, хмурая и злая.
— Кто там был?
Денщик фон-Книппена с письмом.
— Рогнеда, что ты хочешь к обеду?
— Ах, мамочка, все равно… Ну, перловый суп и котлеты.
— Суп перловый был вчера.
— Ну, тогда борщ. Все равно. Мерси, мамочка, больше кофею не наливайте мне.
Она идет в гостиную, где вчера положила на пианино перчатки. Опустошенный сад глядит в окно угрюмо, безжизненно. Еще на клумбе возвышается георгин, но тлен смерти коснулся его лепестков, они вянут, превращаясь в противную черную гниль. А маки, гордые, пламенные маки? Теперь они похожи на отвратительные плотоядные растения, их серо-зеленые головки-животы наполнены дозревающими семенами. А эта желтая, оранжевая, багряная, мертвая листва деревьев, смоченная ночным дождем и покорно улыбающаяся в лицо своей гибели… Господи, как скучно!
Рогнеда натягивает перчатки, надевает в столовой жакетку, шляпу и говорит матери:
— Я, мамочка, сегодня раньше приду, часикам к двум. У моего класса сегодня четыре урока.
Старая пани встает со стула и целует ее на прощание в лоб. Так заведено. Каждое утро ко лбу Рогнеды прикасаются сухие старушечьи губы:
— Да будет с тобой Дева Мария!
Рогнеда выходит на улицу. Широкие лужи блестят зловеще, весенние лужи были не таковы, тогда они смеялись всевозможными окрасками: у иных был голубой отлив, словно бы они насыщались лазурью; иные ярко улыбались веселою синью. А теперь они, как черные дыры, залитые черною-черною влагой, — и ступать по ним противно.
На углу, где потребительская лавка «Якорь», Рогнеда по привычке озирается по сторонам, не видать ли Алексея, он частенько поджидает ее здесь и встречает, якобы невзначай… Его нет, вместо него бредет Долбня, с трубкою во рту, которую он курит только тогда, когда у него скверное настроение, — по крайней мере, так он говорит сам.
— Рогнеда Владиславовна!
Здороваются.
— Вы в гимназию циркулируете?
— Да.
— А ведь дождище-то вчера здоровенный был, я основательно вымок. Пойдемте я вас провожу, мне по дороге… В цирк пойдете?
— Нет.
— А я пойду. Люблю поглазеть на публичные затрещины, на душе слаще становится, дескать, так его так, да клади же ты его, миленький, на обе лопатки, не зевай, друг, а не то самого уложат. Чужое вывихнутое плечо вплавляет вывихнутые мозги, но про свое плечо отнюдь так рассуждать не следует.
Трубка чадит.
Они идут по мосткам, заменяющим тротуар. Около мостков, в луже, двое оборванных мальчишек пускают смастеренный ими деревянный корабль. Он незамысловат: вырезанная в виде рыбы, положенной на бок, щепка, посреди щепки воткнута мачта, на мачте красный парус и черный флаг.
— До свидания! До свидания! — кивают мальчишки головами Рогнеде и Долбне. — Последний звонок, сейчас отправляемся.
— Куда вы? — спрашивает их Рогнеда.
— В город Крым! Пишите нам.
— И вы нам пишите. До свидания!
Рогнеда со смехом кланяется мореплавателям, минуя их грязную лужу.
— Черта с два! — философствует Долбня. — Уехали… А не хочешь ли лозиною да по Соединенным Штатам?
Навстречу Рогнеде катит по грязи на своей тележке безногий нищий, быстро отпихиваясь короткими палками. Он всегда пьян и криклив, городовой частенько отвозит его на буксире в участок на высидку, и тогда улица оглашается ревом, бранью и проклятьями бессильной злобы. Он мужчина средних лет, с здоровым туловищем и крепкими огрубелыми руками.
— Наше вам-с!
Рогнеда дает ему медную монету.
— Благодарю-с! Чувствительно тронут вашей любезностью.
Он отъезжает со своею тележкою к свинье, подрывающей уличный фонарь, чтобы хорошенько огреть ее палкой по спине за подлые действия. Свинья отчаянно визжит и неуклюже убегает от сердитого калеки.
Рогнеда и Долбня выходят на площадь, где по средам и воскресеньям идет торг сеном и лошадьми. Тогда площадь кишит крестьянами, конями, телегами, всюду скачут цыгане-барышники, показывая покупателям скорость и добротность кобыл и меринов, галдят, с размаху ударяют покупателей по ладоням, в знак состоявшейся сделки, и тут же, под открытым небом, пьют магарыч.
Над всею площадью, как гигантская виселица, возвышаются городские весы, на которых весят привозимые возы с сеном. По будням, кроме среды, площадь пустует, и тогда детвора весело качается на весах, гремя железом массивных цепей, поддерживающих окованные железом деревянные платформы.
На этой же площади осенью устраивается цирк. Брезентовая крыша резко выделяется на сером фоне пустой площади, яркие афиши крикливо заманивают прохожих подойти, остановиться и купить на вечер билет.
«А то пойти? — думает Рогнеда и решает: — Нет, не стоит».
Они проходят краем площади к главной улице, где находится женская гимназия.
У подъезда Долбня прощается с Рогнедой, вынув погасшую трубку изо рта:
— Э… э, вы, Рогнеда Владиславовна, не подумайте чего, — рявкает он, — женщина подобна рассохшейся бочке — велика, а вместить, кроме дряни, ничего не может. Вы, хоть и исключение, а все ж таки женщина… Проводил же я вас, потому что мне по дороге… Э… э, иду я за камертоном, старый потерялся неведомо куда.
Рогнеда сердито захлопывает за собою дверь: и этот туда же… Влюбленные ослы!
7
В классе Рогнеда сурова и величава, на лбу залегли строгие морщины. Гимназистки ее любят и слушаются.
— Mesdemoiselles! А vos places!
Гимназистки чинно идут к своим партам.
Говор стихает.
Во время уроков Рогнеда повелительно взглядывает на невнимательных; те сразу, как от толчка, напрягаются. Рассердить Рогнеду Владиславовну никому не хочется: ни жаловаться, ни наказывать она, конечно, не будет, но не будет и беседовать в перемены, а с нею так приятно болтать…
— Рогнеда Владиславовна, у меня мама захворала!
— Рогнеда Владиславовна, за что мне математик поставил двойку?
— Вы пойдете в цирк, Рогнеда Владиславовна?
— А я, Рогнеда Владиславовна, — шепчет Рогнеде на ухо другая гимназистка, Танечка Дудова, — я хочу кое-что сказать, только это секрет. Пойдемте отсюда…
Рогнеда выходит с девочкой в коридор. У девочки толстая длинная коса, цвета дозревающей ржи; васильковые глаза; краснощекая, полненькая, — единственная дочь богатого лесопромышленника.
Рогнеда прислоняется к подоконнику и рассеянно смотрит на бегающих по коридору девочек.
— Ну-с, Танечка, что за секрет?
Танечка вспыхивает, потупляя глаза:
— Вы никому не скажете?
— Никому.
— Никому, никому, ни одному человеку в мире?
— Никому.
— Я одного… понимаете?
Рогнеда улыбается:
— Понимаю!
— Он приходил к отцу продавать лес в своем имении. Сосновый лес, корабельные сосны, они очень дорогие, если не изъедены червяками… Какой он умный, Рогнеда Владиславовна, и красивый… Он со мной долго говорил и пил чай у нас. Папа сказал после его ухода, что у него голова с мозгами, но что дела он не умеет устраивать. Он хочет ехать в Венецию, чтобы посмотреть на картины Тинторетто и Карпаччио. Вы знаете, этот Тинторетто был домосед и почти никогда не уезжал из Венеции… Кроме того, он очень любил музыку, а дочь его рисовала недурные портреты… Как он интересно одевается: синяя суконная рубаха, у нее воротник спускается на плечи и на грудь и, кроме того, красный бант…
Рогнеда прищуривается:
— Да, это очень красиво, особенно, если длинные волосы.
— У него таки они и есть.
— И если…
Рогнеда запинается, глаза у нее вспыхивают холодным блеском.
— Что же он вам говорил?
Танечка смущается, теребя коричневый передник.
— Он мне сказал, что я василек, еще нетронутый пылью. Он очень красиво говорит, как стихами.
Рогнеда насмешливо оглядывает девочку.
— Это плохо, Танечка, плохо: красиво говорят только люди бездушные, они больше думают о красоте своих слов, нежели о теплоте и благородстве содержания. Пожалуй, Танечка, ваш новый знакомый — пустой человек, я бы вам посоветовала не думать о нем.
Танечка огорчается:
— Ну вот, почему же?
Гремит звонок, перемена кончена.
— Mesdemoiselles! А vos places! — звонко говорит Рогнеда, входя в классную комнату.
И раздраженно стучит по столу корешком записной книги.
— Mesdemoiselles!
Класс затихает.
Входит рыженький учитель русского языка, в обтрепанном вицмундире. Начинается урок.
Рогнеда притворяется, что наблюдает за порядком. Мысли ее длинной извилистой тропинкой убегают куда-то вдаль. Ей тоскливо, невыносимая скорбь наполняет жгучим ядом все ее существо.
Она думает о Ковалеве. Он обещал прийти сегодня. Она сыграет ему что-нибудь печальное и скажет о той смерти, которою ома хочет умереть. Она хочет умереть позднею весною, на поле, окруженная смеющимися цветами… Тихий ветер обвеет ее волосы, высокое солнце согреет ее золотом благодатных лучей… И кругом будут стрекотать неумолчные кузнечики, а кукушкины слезы будут тихо дрожать на хрупких стебельках.
Рогнеда издевается над собою:
— Однако, милостивая государыня, вам не чужд мелодраматизм! Девица, любящая эффекты!
…После уроков, когда гимназистки шумною толпой выбегают из класса, к ней подходит Танечка и умоляющим голосом спрашивает ее:
— Ведь вы не скажете?
— Какая вы глупая, Таня, ну, зачем я буду говорить? Да и что я могу сказать, — что у вашего отца был гость, что вы с ним беседовали?
— Все-таки никому, никому… До свидания, Рогнеда Владиславовна!
Рогнеда сухо прощается с ней и, низко опустив голову, идет за убегающей Таней в швейцарскую.
«Двадцать шесть лет! — думает Рогнеда, спускаясь по широким ступеням каменной лестницы в нижний этаж. — Скоро я буду старая дева, вот почему я иногда такая раздражительная».
Лысый швейцар подает ей пальто, галоши, шляпу и зонтик.
— Никак опять дождь?
— Так точно-с, самосильно дождит.
Он открывает перед нею дверь. Над улицей повисла густая серая сетка: ни солнца, ни солнечной радости, ни светлых зданий, ни оживленных лиц, все серо, мутно, вяло и угнетено монотонно падающим дождем. Даже собаки бегут, поджимая хвост и понурив морду. У извозчичьих пролеток подняты верхи; пешеходы прикрылись безобразными кожанами и дождевыми зонтиками.
Она тоже раскрывает зонтик, а левою рукой подбирает подол платья, чтобы не загрязнился.
— Хорошо, если бы ни Алексей, ни Книппен не пришли; с Ковалевым так приятно говорить. Он много думает и много чувствует, и чувства у него утонченные, выношенные в одиночестве и в непонимании окружающих. Еще бы: разве в таком проклятом болоте могут понять человека, здесь умеют только сплетничать, спиваться и щелкать зубами. Выродки! Мещане! Но она-то понимает его! Она его понимает.
— Прикажете подать? — спрашивает бородатый извозчик, едущий рядом с ней. Она отвечает:
— Не надо!
И заходит за угол. На площади весы в дождь еще сильнее напоминают старую, потемневшую от времени виселицу.
8
Наскоро пообедав, Рогнеда идет в спальню, вынимает из стоящего там платяного шкафа лучшие свои наряды и выбирает, что ей надеть.
Да, да! пусть будет так: черная шелковая кофточка, слегка декольтированная, с светло желтыми кружевами; черная шелковая юбка, плотно облегающая ее бедра, и спускающийся с обнаженной шеи золотой крест на тонкой золотой цепочке. Волосы спадают двумя плавными волнами на уши, так что уши совершенно скрываются. Отлично!
Из зеркала в двери шкафа на Рогнеду глядит надменная женщина, стройная и мрачная и таящая что-то орлиное в сурово сросшихся бровях, в сошедшихся наподобие двух черных крыльев волосах, в мелких зубах, сверкающих хищно и весело из-за тонких губ маленького рта. Отлично!..
«Вот я какая!» — горделиво думает о себе Рогнеда и ей радостно, что там, за шелками, сокрыто девственное тело, во сто крат прекраснее шелков.
— Мамочка! — говорит она старой пани, пришедшей в спальню вздремнуть после обеда. — Что, я еще хороша?
— Да, Рогнеда, ты очень хороша. Когда я была молодая, я была такая же красивая, как ты, тогда за меня сватался пан Юзеф, но я за него не пошла, он чуть не умер с горя.
Рогнеда разглядывает себя в зеркало.
— А ведь я, мамочка, скоро начну толстеть… Бр-р-р!.. Оплыву жиром и стану неповоротлива. Мне кажется, я уже и теперь полнее, чем раньше.
Пани не соглашается:
— Напротив, Рогнеда, ты слегка похудела за последнее время.
— Неужели?
— Да.
— Это тоже плохо.
Она слабо душит носовой платок, чтобы по исходящему аромату не сразу можно было определить — действительно ли надушена она; затем уходит в кухню отдать кое-какие распоряжения кухарке.
Кухарка — плюгавенькая старушонка, с микроскопическим носом, с блаженной улыбкой на глупом лице, маленьком, как мужской кулак средней величины. На ее микроскопическом носу прилепились огромные очки в железной оправе, а из-за очков видны вытаращенные желтые глаза… Кухарка любит наряжаться в красные платья, с бантами, и очень похожа на сову, но Рогнеда за ее очки дала ей прозвище — Профессор.
— Пожалуйста, Профессор, еще сходите в ренсковый погреб и купите там бутылку коньяку и четыре бутылки лимонаду. Вот вам деньги… Запомните?
Белесые губы недоумевающе шлепаются одна о другую.
— И вот… И почему же?
— Что почему же?
— И вот, вы пьяною будете… И разве не срамно барышне пить?.. И вот, я схожу, не мое дело… И вот…
— Ах, какая вы дура, Профессор! Я не для себя, ко мне гости придут.
Белесые губы опять шлепаются одна о другую.
— И еще булок, винограду… И еще апельсинов. Хорошо, барышня.
Рогнеда идет в гостиную, открывает пианино, — комната оглашается бурными звуками. Гоп-ля! Гоп-ля! — Рогнеда возбуждена, пальцы стремительно пробегают по клавишам, звенящие волны плывут, сталкиваются, разбиваются, замирают и восстают опять, опять…
Блестит и веселится пианино, пробужденное к жизни десятью быстрыми пальцами. Иногда Рогнеда перебирает клавиши тихо-тихо, как любящая кудри любимого; иногда гневно и стремительно, нанося боль и томление певучей душе блестящего инструмента.
Как легко и как радостно!
Опустошенный сад не глядит в окно взглядом тлена и разрушения, серые нити, беспрерывные капли дождя, далеко-далеко за спиною. Со свистом могучих крыльев, с гортанным выкриком взлетает в памяти черный прекрасный лебедь, — взлетает в лазурь, качается в вышине, взлетает все выше и выше…
Вдруг издалека доносится настойчивый звон. Разве сегодня воскресенье, разве сегодня поют колокола на колокольнях?
Она вскакивает с табурета, прислушивается…
В передней дребезжит звонок.
Торопясь, задевая за мебель, Рогнеда выходит в переднюю, снимает стальную цепочку с двери, отодвигает задвижку. Руки дрожат.
— Рогнеда Владиславовна!
Это Ковалев, в морской накидке, с поднятым капюшоном.
Он подает ей букет, — белые, белые, белые, белые цветы… Так много белых цветов, что в глазах остается сплошное белое пятно.
Она с легким поклоном берет от него букет.
— Мерси!
И торопливо говорит:
— Вот сюда, сюда вешайте накидку, — та вешалка сломана. Пришли-таки, не надули? Как здоровье вашей жены?
— Ничего, она всегда хорошо себя чувствует, — растягивает слова Ковалев протирает носовым платком вымоченные накидкою руки.
— А я сейчас играла и не слышала, что вы звоните… Надеюсь, не долго заставила вас прождать?
— Нет!
Ковалев в своей излюбленной рембрандтовской рубахе.
— Что это у вас такой мрачный вид, Рогнеда Владиславовна?
Она улыбается:
— А мне самой казалось наоборот. Я очень рада, что вы пришли… Проходите же! Спасибо вам за букет, надо его поставить в воду, чтобы не завял.
9
— Вы сегодня великолепны! Сегодня в вас торжествует черная красота, вы мне кажетесь жрицей Черного Бога. Или вы думаете обмануть меня этим крестом, — не поверю.
Рогнеда смеется.
Он сидит на маленьком стуле, выкрашенном бронзовою краской. Рогнеда перед ним на диване. Он ее рассматривает, как поразившую его картину, как статую, восхитившую правильностью форм и безмолвным величием.
— А как ваши наблюдения над мыслью?
Ковалев задумчиво отвечает:
— Какие там наблюдения? Для этого я слишком неусидчив и несистематичен. Так, просто маленькие подглядывания в щелочку. Но только меня эта тайна влечет. Какими неведомыми путями, к каким недосягаемым целям стремится человеческая мысль? Порою, в жесточайшие приступы хандры, я как бы раскрываю двери и вхожу, вхожу в свою мысль, тогда мне кажется, что ею можно вполне овладеть… Но вот, рассеялись туманы — и опять темно и пусто: мысль от меня ускользает, я начинаю реально ощущать свою оторванность от нее.
— Ночью, вернувшись от вас, я поняла вас и тоже испытала нечто подобное.
— Вот видите!.. Но вся эта оторванность еще может быть объяснима физиологическими причинами, ну, что ли там, мгновенным психозом, временной порчей того механизма, который называется мозгом. Но есть области, в которых наша мысль совершенно выходит из сферы нашего сознания и живет самостоятельною жизнью. Вот уже пятнадцать лет, как меня преследует нечто, что можно было бы назвать предчувствием, если бы оно умещалось в этом понятии. Часто бывает так: я читаю книгу и вдруг, неизвестно почему, останавливаюсь на каком-нибудь слове, скажем — меч… Это слово, по преимуществу, литературное и в обыденной жизни редко употребляется, но я слушаю и чего-то жду. Действительно, через несколько секунд в соседней комнате происходит разговор, где центром является меч. Долбня скажет слово, что отрубит мечом! Ах, оставьте ее: разбила чашку — и ладно, повинную голову и меч не сечет. И так очень часто и во многом, что мы принимаем или за случайность или мимо чего проходим, не замечая.
Ковалев замолкает. Зрачки его глаз словно расширяются, а в углах рта опять те мучительные складки, какие Рогнеда подметила вчера.
— А вы, Георгий Глебович, собираетесь за границу?
— Да, весной или осенью…
— В Венецию?
— Да. Откуда вам известно?
Рогнеда сверкает мелкими хищническими зубами:
— Не помню. Слухами земля полнится.
— Да, собираюсь, если удастся продать корабельную рощу в моем имении. Ее покупает лесопромышленник Дудов, удивительная скотина и первостатейный жулик, корчащий из себя английского негоцианта.
«А почему вы ничего не скажете о Танечке? Ведь, она василек, незатронутый пылью»…
Вваливается Профессор с подносом. На подносе бутыли — с коньяком и лимонадом и бокалы.
— Вот сюда, Профессор! — указывает Рогнеда на стол. — Страшно люблю пьянствовать! — обращается она к Ковалеву. — Коньяк с лимонадом — вроде шампанского, а шампанское, если бы я была богата, я бы пила целый день.
Профессор приносит вазу с фруктами, ставит на стол рядом с подносом и уходит.
— Где вы выкопали этого Тмутараканского болвана? — спрашивает Ковалев, указывая вслед ей на дверь.
— Она у нас давно, и пожалуйста, извольте относиться к ней с большим уважением: вовсе она не Тмутараканский болван, а Профессор.
Ковалев откидывает назад волосы.
Рогнеда вливает в бокалы по маленькой рюмке коньяку и добавляет лимонадом.
— А ну-ка, Георгий Глебович!
— Браво!
Он чокается с Рогнедой и высоко поднимает бокал.
— Я, Рогнеда Владиславовна, чувствую себя хорошо только с вами. С вами можно поговорить по душам, вы поймете, не оскверните кощунственно, вы выше многих условностей, в вас я не слышу подлого голоса черни, толпы. К вам прихожу, как в убежище, и исцеляюсь.
— Пейте же! Пейте! — настойчиво торопит его Рогнеда. — Видите, я осушила до дна… Гуляю напропалую!
В передней дребезжит звонок.
— Кто там еще?
…Алексей. В сапогах, забрызганных доверху грязью, входит, покачиваясь в комнату, и неуклюже раскланивается.
— Се грядет муж во полунощи!.. Да вы тут того… Хо-хо!
Встряхивает руки Рогнеде и Ковалеву.
— Так, так-с!
Берет бутылку с коньяком, долго ее рассматривает на свет.
— Три звездочки! это хорошо… Оч-чень хорошо… А мы — хо-хо! — того, сейчас на биллиарде играли в Дрездене… Уд-дивительно!.. Два борта в среднюю. Виноват, я кажется, вам помешал?
Рогнеда поднимается с дивана и несколько раз в волнении проходит по комнате.
— Опять нарезались? — брезгливо спрашивает она, останавливаясь против Алексея.
Он осклабляется:
— Сим победиши князей мира сего! Разрешите рюмочку? Я употребляю его лишь в чистом виде, без примесей. Примесь есть искажение, как выражается Долбня. Он — умный человек и хороший философ. Врожденный трагик! А я — фильтик, он мне доказал это, как дважды два четыре.
Алексей наливает себе в рюмку и выпивает.
— Ничего… очень хорошо, хотя отзывает сургучом.
Ковалев удивлен:
— Фильтик? Что это за штука?
— Не знаю, — мрачно отвечает Алексей, — нечто среднее между протухлым огурцом и зряшным человеком. Долбня сказал: Ковалев — смердящий декадент, как свинья, роется в собственном навозе… Хо-хо! Он так-таки и сказал без обиняков: Ковалев, как свинья, роется в собственном навозе, но и вы, Алексей, прискорбное зрелище, потому что вы — фильтик. Мы с Долбней вчера от вас завернули в одно местечко и очень мило провели время. Хо-хо! Он там всех ругал: все вы, говорит, высосанные лимоны, заморские фрукты, родную землю поганите.
— Мило! — пренебрежительно усмехается Ковалев.
Рогнеда возмущена:
— Алексей! С каких это пор вы стали клеветничать? Ф-фу, как гадко, вы хоть и пьяны, а все-таки этому нет оправдания.
Алексей вскакивает со стула, точно его выбросила пружина.
— Что-о? Я пьян? Я пьян?.. А вот и не пьян, и не пьян, черт возьми!
Стучит кулаком по столу. Рюмка падает на пол и разбивается.
— А и пьян! Ладно! И пьян… А вот вы, Рогнеда Владиславовна…
Он на миг останавливается, ищет слов. Лицо его покрывается ярким румянцем, а мутные глаза загораются.
— …а вы… Я вас насквозь теперь вижу!.. Ловко, брат Гешка, обходишь свою супружницу! Скромник! Праведник! Со старыми девками коньяк лакает, тетатетничая… Живоглоты чертовы!
— Алексей! — тихо говорит Рогнеда.
Он замолкает, тяжело дыша.
Она указывает ему на дверь.
— Вон!
— Ну и уйду. Ладно!
Он пятится к дверям, злобно глядя на Ковалева.
— И уйду! И наплевать! И никогда не приду больше!
Долго возится в передней, отыскивая калоши. Потом дверь с громким стуком захлопывается.
— Ушел! — угрюмо произносит Рогнеда.
— Ушел! — в тон ей говорит Ковалев.
Рогнеда возвращается на свое место, на диване, против Ковалева.
Молчат.
Она теребит золотой крест и смотрит в сторону, словно ей стыдно взглянуть прямо в глаза Ковалеву.
Он берет ее руку и пожимает.
Рогнеда слабо улыбается.
Он целует эту продолговатую кисть руки теми долгими-долгими поцелуями, когда губы мужчины, словно срастаются с рукою женщины.
Садится рядом с Рогнедой, привлекает ее за талию к себе.
Она закрывает глаза. Его губы как бы вонзаются в ее губы и, вонзившись, теряются в них.
Быть ближе! Быть нераздельнее!
Она обвивает его руками: так ближе! Так нераздельнее!
И она тонет в этой близости: ни мысли, ни памяти, — одно опьяненное, сливающееся тело.
Когда дыхание слишком затрудняется, когда легким не хватает воздуха, а сердце начинает смятенно биться в груди губы медленно разъединяются, и тогда он целует ее в глаза, в лоб, в обнаженную шею.
И опять сливаются в жадном поцелуе.
* * *
Уже темно, уже тьма заглядывает в окна.
— Нет, милый, нет. Не надо, милый!
Рогнеда вырывается из объятий и, стоя над уткнувшимся лицом в диванную подушку Ковалевым, приводит в порядок свою прическу.
Затем зажигает лампу и за плечи старается приподнять Ковалева.
— Милый!
Он поднимается, раздраженно взглядывая на нее.
10
Ковалев дома.
Пишет у себя в кабинете письмо.
— Милая Серафима!
Задумывается, глядя на заржавевшее ядро. Да, кажется, написать надо… Обнимал другую женщину. Человек предыдущего поколения сказал бы: крал от жены любовь. Однако, какие чудаки были эти старые идеалисты.
Конечно, он не будет писать покаянной слезницы, он напишет ровно и спокойно, как знающий себе цену и не раскаивающийся в собственных поступках.
Обмакивает перо в чернила.
— Существует ужасно глупое слово — измена; глупое потому, что под изменой подразумевают измену другим, но ведь если и можно изменить, то только себе, я же себе не изменяю, помни это, Серафима!
Опять задумывается, глядя на ядро.
Стоит ли писать? Зачем?
…Дом спит. По комнатам ходит тишина, скрипит половицами, поет вместе с маятником часов.
Ковалев настораживается…
Вдруг в столовой раздается треск, трещит стол. Он трещит и днем, но тогда этого никто не замечает.
И кажется, что там, в темной безлюдной комнате, кто-то живет незримо и таинственно, иногда подавая знать о себе неосторожным шумом. Кто-то завтракает в полуночи, в ночи обедает, а под утро уходит в свой угрюмый уголок, чтобы заснуть на целый день и во сне услышать далекие отзвуки дня.
Ковалев зажигает свечу и осторожно заглядывает в столовую: ну, конечно, там никого, трещал стол, как он трещал десятки раз.
Он берется за перо, продолжает письмо.
— Так вот, ты меня, надеюсь, понимаешь? Я счел своим «долгом» заявить тебе, что, кроме тебя, я люблю еще одну женщину. Если ты не в силах делиться мною, если так властен в тебе голос собственницы…
Треск в столовой повторяется… Ковалев вздрагивает и бросает перо на стол. Несносно! По всему телу расползается страх и обхватывает насторожившееся сердце холодными клещами. И тут Ковалев слышит, как за окном, в ночи, кто-то воет, плачет и скребется; как ветер пронзительно кричит голосом обиженного человека.
Вся комната наполняется невидимыми, тайно-пребывающими существами. В каждом предмете, находящемся в этой комнате, пробуждается иная, враждебная ему, Ковалеву, жизнь.
Ядро словно думает мучительную заржавевшую думу. Сейчас оно покатится, ударится в его грудь и с гулом упадет на половицы пола.
Чернильницы протянули свои черные жерла, как черные глотки, смоченные черною неподвижною кровью.
Деревянные ручки с перьями стали похожи на злые острые копья, готовые ослепить зрячие глаза.
Даже безобидная резинка, умеющая только стирать штрихи карандаша, — даже она готова долго-долго стирать какие-то слова, какие-то неведомые мысли, стирать их с болью, с гневом, с упорством воскресшего на миг предмета.
Ковалев вскакивает с кресла и, высоко поднимая над головою яркую лампу, поспешно уходит в спальню к Серафиме, смежную с его кабинетом. Нет, он не хочет здесь оставаться… Ему постлано на диване, но все равно он не хочет здесь спать. Не то, чтобы испугался ночного одиночества, а так… неприятно… Скучные осенние ночи! В осенние ночи, когда бушует на улице ветер, в душе восстают седые предания, нелепые, древние, рождающие панический страх. Он в этом не виноват: страх входит помимо его воли.
— Ты спишь, Серафима?
Серафима открывает заспанные глаза, жмурится и потягивается. Тело у нее белое, упругое, плечи овальные, а шея слегка припухлая, с заманчивыми складочками.
Он зажигает висячий розовый фонарь, гасит принесенную из кабинета лампу и раздевается.
— А я читал, Серафима. Ты давно заснула?
— Нет, недавно.
— Подвинься немножечко к стене.
Серафима, блаженно улыбаясь, подвигается.
Ковалев целует ее и в плечи, и в припухлую шею, и в привычные губы…
После поцелуев разговор:
— Кончила с капустой?
— Да, Геша, я нынче закупила две сотни кочанов; капуста хорошая, белая.
— Так. Ну, давай спать. Спи, милочка. Я уж останусь у тебя, а в кабинет не пойду.
Воцаряется тишина, только на улице бушует осенний ветер, как старый бесхвостый черт, злобно пытающийся сдуть в одну темную кучу все дома. Не удается старому ночному черту, сильнее злится он, дует яростнее и в бессильной злобе дико воет по-волчьему.
…Спит и Рогнеда в своей спальне со старою пани и видит сон, будто она стоит в костеле, украшенном золотом. В черном платье она и в черном вуале, и с головы ее траурный креп ниспадает на старинную мозаику пола. Певуче рыдает орган, но кто играет, не видит она, погруженная в молитву, в сладостное оцепенение. Только знает, что косыми лучами входит солнце через стрельчатые переплеты готических окон; только слышит она, как юноша-ксендз говорит нараспев торжественные слова латинских гимнов. И она опускается на колени и предается страстной молитве. И уже звенят, как медь римских щитов, победные звуки гимнов, а певучий ропот органа растет, ширится, крепнет.
— Рогнеда, вставай!
Со страшным грохотом рушатся золотые, убегающие ввысь колонны.
— А?.. Что? — в диком страхе поднимает Рогнеда голову с подушки. — Вам чего?
Старая пани будит ее:
— Не опоздай, Рогнеда, на урок, пора вставать.
— Сейчас, мамочка.
Она опускается обратно на подушку. Сердце испуганно трепещет в груди, а из черных глаз еще не иссяк недавний ужас.
В окно спальни заглядывает серый, холодный день. Пора на работу.
11
Каждым вечером они видятся друг с другом. Чаще приходит Ковалев к Рогнеде. Он засиживается у нее до глухой полночи. Они вместе читают или она ему играет на пианино его любимые пьесы, и ей нравится, что полонез Шопена, пламенный и полный черной скорби, он любит так же, как и она.
— Играй же, Рогнеда, играй! Когда из-под твоих пальцев вылетают эти бурные звуки, ты точно преображаешься вся, — я слышу, как рыдает прекрасная женщина, нация, истерзанная в беспрерывных кровопролитиях. И тогда ты…
Ковалев целует Рогнеду в лоб:
— Играй же, Рогнеда, я так люблю тебя слушать.
И она идет. Она садится за пианино, быстрые пальцы стремительно пробегают по клавишам.
С лязгом сверкающих сабель, с надменными возгласами входят беспечные ляхи. Открывается шумный пир. Слышен звон заздравных кубков. А потом — все смешалось: ржут кони, пляшет огненный вихрь и льется кровь на землю, на безумные лица, в ревущее пламя… Хрипло стонет посаженный на кол юноша-рыцарь, размахивая обрубленными по локоть руками. И вот — уже тихо, по тихому полю скачут окровавленные всадники, изредка перекидываясь спокойными словами…
Струны замолкают.
— Как я тебя люблю, Рогнеда. Удивительно нищенски жалок наш язык: ну как мне рассказать тебе все, что я чувствую, чем живу. Слова — это железные прутья темницы, напрасны усилия: решетка крепка, темница глуха… Запри дверь, Рогнеда.
— Зачем?
— Так… Я хочу. Неприятно, что твоя мать или Профессор каждую минуту могут войти.
— Да они давным-давно спят.
— Ну все-таки…
Ковалев встает с дивана и сам дважды повертывает в двери ключ. Обнимает Рогнеду, подводит ее к дивану, она садится к нему на колени и нежно обвивает его шею руками.
— А я, Георгий, иногда боюсь-боюсь моей любви. Мне очень страшно. Ты такой глубокий, сильный духом человек, а я что?
— Ты моя милая, любимая Рогнеда!
От близости ее девственного тела, он пьянеет, его губы жадно ищут ее губ и сливаются с ними.
Он грубо схватывает ее и роняет на диван. Глаза разгораются, а бледные щеки наливаются румянцем.
— Отдайся! Отдайся мне, слышишь?
Он это произносит кричащим шепотом, кричит сдавленным до боли криком. Лампа на столе светит тускло. Обнаженная шея Рогнеды зовет к знойной телесной радости.
— Нет, милый, нет, не надо!
— Ты боишься, да? Чего ты боишься? А-а, ты боишься!
— Нет, нет…
Она борется с ним, но он ее не выпускает из своих настойчивых объятий, ее упорство его только раздражает.
— Рогнеда, это недостойно тебя, недостойно… Слышишь?
Она молчит и борется с ним в молчаливом упорстве.
Он наклоняет свое раскрасневшееся лицо к ее лицу, осыпает ее злыми поцелуями и шепчет, как в бреду:
— Да! да! да!.. Недостойно… Да! да! да!.. Слышишь? Боишься, боишься… Девический стыд. Нехорошо!
Но ей, как ловкой змее, удается выскользнуть от него. Он яростно сжимает зубы, слышно, как они скрипнули и раз и два. Смотрит на нее зло и тупо.
— Ты… меня мучаешь… Это не хорошо, Рогнеда. Разве мужчина не создан для женщины? Или ты думаешь, что следует пренебрегать своим телом? Ты — против радости плоти? Нет, Рогнеда, это не верно: надо быть гармоничными. Я люблю и тебя, и твое милое тело, я хочу тебя всю, всю… Впрочем, ха, ха! — ты, вероятно, боишься ребенка?
Рогнеда еле слышно отвечает ему:
— Да.
— Ну, так…
Им овладевает бешенство. Он сжимает кулаки, словно собираясь броситься на нее, ударить, растоптать.
— А… а… Ты лжешь, ты не любишь меня, я знаю. Если бы любила, ты бы не боялась.
Рогнеда думает:
— Если бы любила, ты бы не боялась!
— И ты бы хотела иметь от меня ребенка.
Рогнеда думает:
— И ты бы хотела иметь от меня ребенка.
— Ты пойми: к чему себя обманывать — я бездарен, мне никогда ни в звуках, ни в красках не изобразить тех звуков, тех красок, что живут в моей душе. Да, я бездарен, но я хочу творчества. Как мне показать мысли, что обуревают меня, те настроения, какие испытываю я порою? Я хочу творчества, милая Рогнеда, и ты не должна бояться нашего ребенка, быть может, в нем мой выход, он скажет то, чего я не могу сказать. От Серафимы я не имею детей, да и не хочу иметь, она слишком глупая самка, она гусыня, с которою не должно сходиться творческой личности, — и я — Ковалев колеблется, — я не живу с ней супружескою жизнью с тех пор, как полюбил тебя.
Рогнеда смотрит на него нежно и жалобно, ей хочется что-то ему сказать, что-то такое нежное, такое переполненное тепла, в чем он, как в лучах солнца, согреется, но слов нет — властвует молчание.
— Георгий! Ты жесток ко мне, мне это больно. Ты несправедлив.
— Нашего ребенка! — изумленно думает она, и весь Ковалев как-то вырастает, преображается в ее глазах. Славное, родное лицо! Глубокие, умные глаза! Изящный, благородный!..
Ковалев видит, как губы Рогнеды складываются в мягкую улыбку, как длинные ресницы опускаются почти до половины затуманенных глаз, как она мило и безвольно горбится, точно все ее мускулы вдруг утратили свою силу, — и он подходит к ней, берет за обе руки, целует их, целует ее колени, смутно ощутимые сквозь шелк платья, и настойчиво увлекает к широкому дивану, она ему без слов подчиняется: нет воли, нет силы и даже нет ее, Рогнеды, — одни огромные, пылающие губы, прильнувшие к другим пылающим губам; а еще осталось что-то усталое, распростертое, в глубине которого победно умещаются и радость и страх.
Лампа тускла. Гипсовый Мефистофель улыбается.
…Над спящим городом, над городом, погруженным в холодную ночь, проносится первая вьюга: с высокой тьмы спадают пушистые снега, летят, вьются, крутятся, устилают тающими тельцами мостовые, крыши домов, пожарные каланчи, брезенты уезжающего завтра цирка, городские весы, похожие на гигантскую виселицу, и мертвые, опустошенные сады.
Ковалев уходит от Рогнеды позднею ночью.
Рогнеда — с распущенными волосами и в расстегнутой кофточке — провожает его до двери.
— Прощай, милый!
Обнимает его крепко-крепко.
— Мне без тебя будет скучно, я буду плакать. Ну вот… значит ты уходишь… Подожди еще немного.
Ковалев осторожно высвобождается из ее объятий.
— Нельзя, Рогнедочка; уж очень поздно, четвертый час.
Ему смертельно хочется спать, но он глотает зевки, чтобы Рогнеда их не заметила.
— Ну, тогда иди.
Он выходит в темные и холодные сени, Рогнеда сперва остается у двери в квартире, но потом тоже выскальзывает в сени, обхватывает его впотьмах, властно целует и шепчет диким прерывающимся шепотом:
— Ведь я теперь твоя жена? Я тебя не стыжусь больше. Ты мой, а я твоя. Да? Да! Да! Я твоя жена. Милый мой, милый!.. Ты не будь суров с Серафимой, мне ее очень, очень жалко. Ты думаешь, я ревную тебя к ней? Нет, я не ревную, ты мой!
Рогнеда выходит вместе с Ковалевым в холодную ночь.
— Не простудись, смотри! — устало говорит ей Ковалев. — Видишь, снег идет, а у тебя грудь ничем не прикрыта. Прощай!
…Исчезает в крутящейся вьюге.
12
Спорхнули холодные лепестки сказочных цветов, цветов еще не виданных никем: под белыми снежинками исчезли черные дыры, заполненные черною водой, — под белыми снегами, как под прекрасным саваном, сшитым любящими руками, скрылась и оранжевая листва садов.
Рогнеда идет в гимназию, ступая по белому ковру, раскинутому по улицам, и ей радостно: вот и зима! Здравствуй, здравствуй, старушка!..
Внезапно все стало светлым и сурово-обновленным, нет темных мостовых, обезображенных колдобинами, даже на сенной площади — конский помет, грязь и мусор прикрыты от людского взора диковинным ковром.
Белое поле!
Фигуры бородатых мужиков и смуглых цыган выделяются на нем, как на белой стене китайские тени.
Рогнеда одета по-зимнему: белая шапочка, белый воротник, белая муфта, лишь брови по-прежнему черны и надменно изогнуты, лишь в черных глазах все тот же нестихающий свет.
— Подайте копеечку! — назойливо клянчит калека, весело подталкивая свою тележку по настланному ковру.
Рогнеда дает ему серебряную монету и улыбается: что за чудак! Без ног, ободран и неотвязчив. Пусть себе выпьет на гривенник.
— Сегодняшний Голос! Голос сегодняшний! — звонко выкрикивает газетчик. Рогнеда и ему улыбается: какой у него смешной нос, не нос, а вареная брюква, — настоящий российский многострадальный нос, пропитый, посиневший и все-таки ухитрившийся расползтись до чудовищных размеров.
— Что-то теперь делает Георгий?
— Пьет какао. Он по утрам пьет какао. Впрочем, вероятно, он еще не встал.
Она весело и дерзко взглядывает в глаза прохожим.
…Старичок с крючковатою палкой, палка похожа на старичка, старичок на палку — согнутый, туполицый, ворчун и придира. Идет, конечно, из богадельни.
— Вы, барышня, не толкайтесь… в-в-ва! в-в-ва! в-в-ва!.. Не хорошо-с! Через это мыслимо поскользнуться-с!.. В-в-ва! в-в-ва! в-в-ва!
Кашляет, сердится, еще бы не сердиться: старый хрыч, завидно, что обгоняют молодые ноги.
— Прости, дедушка, я нечаянно.
— То-то!.. В-в-ва! в-в-ва! в-в-ва! Поскользнуться, говорю, можно-с.
Рогнеда улыбается.
— У Георгия лебединая шея, он похож на черного лебедя.
Она хмурится и плотно сжимает губы.
— Придет ли сегодня? Придет ли?
— Придет! придет! придет!
И опять улыбается.
У гимназии с тротуара снег сметен. Черный асфальт кричащим пятном выделяется среди потемневшей улицы. Когда Рогнеда идет по нем, ей вдруг делается неприятно и то, что вот она уже пришла, и то, что предстоят скучные уроки.
Швейцар с низким поклоном открывает перед нею дверь.
— Снежок-то! — строго говорит он, снимая с Рогнеды пальто.
— Да.
— Зима, должно, будет снежная.
— Почему так?
— Надо полагать.
Рогнеда приводит в порядок у стоящего в передней трюмо свои волосы и торопливо поднимается по лестнице, наверх, к своему классу.
— Bonjour!
— Bonjour, Рогнеда Владиславовна!
И тут Рогнеда смущается. Она садится к своему столику, как садилась десятки раз, но теперь она чувствует, как каждый ее шаг — иной, новый шаг, каждое движение — новое движение. — Bonjour! — даже голос звучит иначе, нежели тот, старый: тот был резче и невиннее. — Bonjour! И ей уж кажется, что гимназистки подмечают это, удивляются, недоуменно переглядываются между собой.
Не развязался ли шнурок на башмаке? Она тайком взглядывает на ноги — нет, шнурки не развязались. Ф-фу, как глупо: нет ничего особенного во взглядах, устремленных на нее.
Она овладевает своим смущением, и когда в класс входит начальница гимназии, она гордо здоровается с ней и сухо разговаривает о делах.
Начальница — высокая, седая женщина, с изможденным желтым лицом. На левой руке обручальное кольцо — вдова. Говорит сквозь нос:
— Надо бы отремонтировать некоторые парты.
Рогнеда окидывает взором класс:
— Да… Ремонт необходим.
— Как бы это устроить? Разве воспользоваться несколькими праздниками подряд? — размышляет начальница.
«Старая дура!» — мысленно издевается над нею Рогнеда, и не знает, почему издевается.
— А мне думается, можно и в будни. Девицы пару дней могут посидеть и втроем, да, пожалуй, и вовсе не придется считаться с этим неудобством, так как в настоящее время многие хворают, есть свободные парты.
— Отлично! — щурит бесцветные глаза начальница и вполголоса замечает Рогнеде:
— А почему вы, Рогнеда Владиславовна, зовете воспитанниц девицами? Это несколько вульгарно и мне не совсем нравится.
«Наглая особа!» — раздраженно думает она про Рогнеду, с достоинством покидая класс и тоже не зная, почему она подумала так про Рогнеду.
— Рогнеда Владиславовна!
Рогнеда поворачивает голову в сторону назвавшей ее имя. Говорит Таня Дудова.
— Что, Таня?
— У меня есть к вам большое, большое дело. Вы мне можете уделить две минутки?
— Ах, Таня, ведь, скоро начнется урок.
Васильковые глаза девочки умоляют.
— Ну, говорите! — усмехается Рогнеда, выходя вместе с златокудрою девочкой в коридор.
— А вы никому не скажете, никому?
— Никому!
— Папа нанял его давать мне уроки живописи, и я у него уже два разика была. Он мне много, много рассказывал про испанских художников, про Гойю. Удивительный этот Гойя!.. Он меня, Рогнеда Владиславовна, поцеловал. Мы с ним в его кабинете, там на столе у него чугунное ядро, ужасно интересно. Я его брала, оно тяжелое…
Рогнеда с ужасом смотрит на девочку и крепко схватывает ее за руку.
— Вы, Таня, говорите, что ходите к Ковалеву?
— Да. А откуда вы узнали его фамилию?
— Вы мне сами сказали. Ну, и что же… вы долго… Вы у него сидели, то есть, нет, он… вам не предлагал писать с вас картину?
— Да. Он хочет с меня рисовать Русалку. Он хочет папе сделать сюрприз и просит меня никому не говорить об этой картине. Вы никому не проговоритесь, Рогнеда Владиславовна? Я на вас вполне надеюсь.
Рогнеда проводит ладонью по лбу и глухо говорит:
— Вы ему не верьте, не верьте, Таня, наверное, он хороший человек, очень хороший человек, Таня…
Ее голос прерывается.
— Только вы не позируйте ему, Таня, он, может быть, обманывает вас… Он будет показывать ваш портрет всем своим знакомым и будет над вами смеяться. Он очень нехороший человек, Таня!.. Он подлый, гнусный человек, отвратительный… Ну, идите в класс.
— А вы не скажете?
— Нет.
— Ничего?
— Нет, нет.
— Но вы ошибаетесь, Рогнеда Владиславовна, он не будет надо мною смеяться со своими знакомыми. Он страшно умный и все время ходит в суконной рембрандтовской рубахе.
— Уходите! — гневно топает ногой о пол Рогнеда. — Слышите, что я вам приказала?
Таня испуганно убегает.
Рогнеда некоторое время неподвижно стоит у окна и смотрит широко открытыми глазами на золотой крест собора, ярко блистающий над заснеженными крышами домов. На кресте сидят две вороны и каркают, вытягивая шеи.
Рогнеда, низко наклонив голову, медленно входит в класс.
— Девицы! Прошу не шуметь! — кричит она с кафедры. — Вы галдите, как уличные торговки. Mademoiselle Дудова, останьтесь после уроков на час.
— За что же, Рогнеда Владиславовна? — робко спрашивает ее златокудрая Таня.
— За то, что не умеете себя вести в классе. Ваше поведение безобразно: отрываете меня от занятий для выслушивания всякой чепухи, а с подругами изволите шалить, как маленькая девчонка. Стыдитесь!
Входит учитель. Рогнеда здоровается с ним надменным кивком головы и уходит на свой наблюдательный пост.
13
Сумерки.
Красные, желтые, голубые и синие дома, серые заборы и улицы, покрытые тающим снегом, — постепенно теряют свои краски, сохраняя лишь смутные очертания. Проходит по дворам, крадется в дома и встает там на страже тихий вечер.
Рогнеда, вернувшись домой, ложится на свою кровать; когда входит старая пани, она закрывает глаза, чтобы мать ее не потревожила.
— Спит! — шепчет старая пани, отходя на цыпочках от кровати.
Но Рогнеда не спит — застыла, словно одервенела, устала жить… Разве страшна смерть? Нет, не страшна. Но как же так, — вдруг привязать к крюку в потолке веревку, сделать петлю и… Синее, безобразное лицо, синий, выпавший язык. И всем будет противно смотреть на гадкий окостенелый труп, и многие любившие ее, навсегда ее разлюбят.
Нет! Угар лучше… Мамочка, вы бы сходили в гости, ведь, вы совсем засиделись, нельзя так, надо иногда и встряхнуться. Старая пани нарядится в свои лучшие платья и уйдет. Рогнеда принесет в спальню жаровню с тлеющими углями, запрет дверь на ключ, выбросит его в форточку за окно, ляжет на кровать. На шею она наденет золотой крест, а на руки свои браслеты. Прекрасное золото! Прекрасная смерть!.. Синие язычки вылетят из жаровни, как жала маленьких ядовитых змеек, ужалят воздух, отравят его, наплывут синие туманы, сгустятся, и она в них уснет нерушимо. А потом придут люди, зароют ее в темную землю, и то, что зовется Рогнедой, сгниет: будет безносый скелет, а в глазных впадинах черви. Не хочу! не хочу! не хочу!
Она вздрагивает всем телом: на лицо, на ноги, на грудь и на руки пахнуло затхлым могильным холодом. — Не хочу я! Не хочу! Ей кажется, что она еще должна совершить что-то огромное, а умирать нельзя, рано…
Звонок.
Рогнеда вскакивает с постели, зажигает свечу и быстро идет к двери.
Отворяет.
…Ковалев. В зимнем пальто, с серым барашковым воротником; серая мерлушковая шапка.
Рогнеда хочет ему крикнуть: что вам угодно здесь, Георгий Глебович? Уйдите, я больше не хочу вас видеть…
Он задувает в ее руке свечу и осыпает ее лицо стремительными поцелуями. Она сперва не отвечает на них, стоит неподвижно, словно в глубоком раздумье, но его губы жадно впиваются в ее губы, и по всему ее существу проносится голубая волна — в крови, в глазах, в мозгу, в трепещущем сердце, — бежит, крутится, вздымается все выше и выше голубая волна… И Рогнеда уже отвечает на его поцелуи пламенными поцелуями и обвивает его своими теплыми руками, чтобы быть к нему ближе и нераздельнее.
— Милый, как я без тебя скучала! Раздевайся же скорей!.. Вот, ты погасил свечу, а у меня нет спичек, — раздевайся же теперь впотьмах.
Он вешает пальто и шапку на вешалку, обнимает Рогнеду сильными руками. Его поцелуи во тьме получают особую таинственность, и кажется он ей богатырем, вышедшим из темных лесов. Стоит ему захотеть — и он ее раздавит, как хрупкую игрушку.
— Скучала без меня? Верно?
— Очень, очень.
— Думала обо мне? Да?
— Да, да, все время только о тебе, — каждый миг, каждый час… А Вы?
— И я тоже.
Они быстро проходят в гостиную, плотно закрывают за собою дверь.
— Как ты хороша сегодня, милая Рогнеда!
— Да? Я рада, я хочу быть красивой, чтобы ты меня всегда любил, только меня любил… слышишь?
— Прекрасная моя!
Он становится перед ней на колени и в складках ее платья прячет свое лицо. Она сидит в кресле, устало откинувшись на высокую спинку, как королева, утомленная окружающим великолепием. Перебирает пальцами волосы на его голове, говорит тихие слова.
— Георгий!
— Что, милая?
— Ты меня любишь?
— Ты в этом сомневаешься?
Рогнеда поднимает обеими руками его голову с своих колен, чтобы лукаво заглянуть в его глаза.
— И ты не лжешь?
— Рогнеда!
— У тебя такие чистые глаза, я вижу за их прозрачностью твою душу. Милый мой, так ты никого, кроме меня, не любишь?
— Нет, нет.
— Я верю тебе, Георгий.
У нее губы складываются в суровую улыбку.
— А что бы ты со мной сделал, если бы я сейчас тебя ударила по лицу, дала пощечину?
Он целует ее руки.
— У тебя сегодня странные мысли, Рогнеда. Если хочешь ударить, ударь, — я тебя поблагодарю поцелуем.
— Так ты меня очень любишь?
— Да, Рогнеда. Разве же ты не видишь, не чувствуешь?
Она молчит.
Он внезапно поднимается и начинает возбужденно шагать по комнате. Рогнеда мрачно смотрит на свет лампы. На лампе бумажный абажур — зеленый, с красными цветами; впрочем, это, кажется, не цветы, а вдетые одно в другое звенья красных цепей… Ах, нет! — безграмотно нарисованные красные кружки — головки маков, а красные полосы — их стволы.
Ковалев останавливается и говорит деревянным голосом:
— Плохо мне!
— Почему?
Он разводит руками.
— Сам не знаю. Опять начинается приступ тоски… Темно, сиротливо. Проклятое время, проклятое поколение — хилое, бесплодное, беспомощное, лишенное веры в себя и надежд, без всяких устоев, без всяких принципов.
Она его утешает:
— Люби меня, я от тебя ничего не потребую — ни подвигов, ни жертв. Будь свободен во всем, но приноси мне твое лучшее, твое самое лучшее, я его взлелею и сохраню.
Рогнеда встает с кресла, кладет ему на плечи свои руки и глазами, полными слез, заглядывает в его глаза.
— Ты не видишь своей красоты, Георгий. Даже твои недостатки и слабости не могут затемнить твоего светлого облика. Среди всех этих трусов, недоносков и торгашей ты один лучезарно выделяешься. Я с тобой пойду всюду.
— Эх, Рогнеда, было бы куда идти. В том-то и вся штука!
— Нет, нет! Не смей так рассуждать! Ну, целуй меня, будь веселым. Хочешь я тебе сыграю на пианино?
— Хочу.
— Ну так слушай.
Рогнеда вытирает с глаз батистовым платочком слезы и садится за пианино.
14
— Некто сказал: женщина — сфинкс без тайны, а я ему скажу: но и мужчина есть безсфинксовая тайна! — философствует подвыпивший Долбня на именинах Пелагеи Евтихиевны Ковалевой.
— Брось! — лениво ворочает языком его сосед Алексей. — А тебе-то какое дело? Ну их всех к лешему. Наплюй да и разотри! Выпьем за здоровье именинницы…
Он поднимается из-за стола с рюмкою в руке.
— Пелагея Евтихиевна, за процветание… то есть, так сказать, пью за ваше здоровье и всего вам… м-м-м… наилучшего. Простите, что незваный затесался к вам на именины.
Пелагея Евтихиевна благосклонно кивает головой, отрываясь от беседы. По случаю своего тезоименитства она разрядилась в пух и прах: кольца, ожерелье, лиловое бархатное платье… Стол уставлен фалангами яств и бутылей. Гости: фон-Книппен, Рогнеда. Тихий Ужас, Долбня и Алексей, да два тощих старичка в сюртуках и три дамы.
Алексей опоражнивает рюмку и опускается на стул.
— Неосновательно выпивать за здоровье пятнадцатую, — скептически замечает ему Долбня, но сам не выдерживает и тоже поднимается.
— Говорю тост. Немного внимания!
Пелагея Евтихиевна сокрушенно хлопает глазами, опять отрываясь от беседы с дамами.
— Что есть человек? Человек есть вещественный прах — и ничего более.
Долбня свирепо нахмуривается.
— Всякая именинница есть тоже человек… Н-да!.. Но все ж таки именины отличная вещь. За ваше здоровье, Пелагея Евтихиевна!
Он с треском опускается на свое место и шепчет Алексею:
— Загнул я ей салазки! Не знает, что делать — сердиться или благодарить.
— Ты, дружище, такой же нахал, как и я, — пьяно отвечает ему Алексей.
— А я, господа, анекдот новенький раздобыл! — пасмурно сообщает фон-Книппен и принимается его рассказывать визави Тихому Ужасу. Она внимательно слушает, кушая миногу с горчицей и с уксусом.
Рогнеда сидит рядом с Серафимой, против Ковалева.
— Передайте мне, пожалуйста, Рогнеда Владиславовна, коробку с сардинами.
Рогнеда передает.
— Благодарю. Вы любите сардины?
— Нет, не особенно.
— А я очень их люблю.
— Я вообще рыбу не люблю.
Рогнеду тяготит ее соседство. Она с отвращением смотрит на полные белые руки Серафимы. Георгий их тоже целовал… Если бы его поцелуи оставляли золотую пыль, то, пожалуй, руки Серафимы оказались бы сплошь ею покрытыми.
— Что вы теперь делаете?
— Да так, по хозяйству. А вы знаете, Геша собирается за границу.
— И вы тоже поедете?
— Неизвестно, это зависит от того, как устроятся дела. Он продает корабельную рощу в нашем имении Дудову, да тот дешево дает. Геша теперь дает уроки живописи его дочери.
В голосе, в глазах, во всей фигуре Серафимы столько довольства собой, что Рогнеда на нее озлобляется.
— Зачем вам заграница? Вам и здесь хорошо. Из-за каких-то картин трястись в вагонах, хлопотать, беспокоиться… Нет, на вашем месте я бы не поехала.
— Вот, и я то же говорю, да он не слушается меня.
— Георгий Глебович, — окликает его Рогнеда, — вы чего же, серьезно собрались в иноземщину?
Ковалев поднимает голову.
— Да. Через месяц все выяснится. Хочу к весне укатить в Париж, а оттуда в Италию.
— А почему у вас сегодня такое скучное лицо? — понизив голос, спрашивает Рогнеда.
— Простудился, должно быть — нет ничего подлее оттепели, сегодня ходил в расстегнутом пальто, и вот — насморчище.
— Насморк есть красноречие носа! — глубокомысленно замечает Долбня.
Рогнеда вдруг замирает, крепко сжимая в руке вилку. К ее горлу подступает жесткий клубок, на лбу выступает пот; висячая лампа, бутыли, телятина в белой бумаге, узорно вырезанной по краям, — все начинает подпрыгивать и метаться в разные стороны. Голову клонит на грудь, как будто она наполнилась свинцом, а жесткий клубок расширяется, щекочет гортань, вызывает слюну, которую Рогнеда едва успевает глотать. Запах жареной свинины, тяжелый, нестерпимо удушливый, бьет в ноздри, Рогнеда пытается не вдыхать его в себя, но это ей не удается. Сейчас она потеряет сознание и уткнется лицом в стоящую перед ней тарелку.
— Что с вами? — слышится издалека голос Ковалева.
— А-а-а! — вздыхает Рогнеда. — Не зна-ю, кружится голова.
Ковалев вскакивает из-за стола, помогает ей подняться, отводит в кабинет на диван. Она лежит, прямая, как вытянутая струна, и замечает, что потолок выкрашен масляною краской. «Это гигиенично, — думает она, — его, вероятно, часто моют…» Клубок в горле тает, как круглый кусок сахара, и, как от сахара, во рту слащаво; голова вновь легка, но язык поворачивается с трудом, по телу разлилась истомливая слабость.
— Выпейте! — подает ей стакан с водою Серафима. Тихий Ужас щупает пульс, прикосновение ее потных пальцев с обкусанными ногтями Рогнеде неприятно.
Дамы о чем-то таинственно шепчутся в углу, а два старичка в сюртуках робко и плотоядно заглядывают из-за двери, как библейские старцы на купающуюся Сусанну. У изголовья стоит Ковалев… она чувствует его присутствие, она даже знает, как он на нее смотрит, еще она знает, что ему хочется сесть рядом с нею, взять ее руки в свои и долго-долго ее ласкать и говорить-говорить…
— Оставьте меня в покое! — сердито вырывает она свою руку из руки Тихого Ужаса.
— Вам лучше? — хлопотливо спрашивает Серафима.
— Да, лучше! У меня закружилась голова, я сейчас встану.
— Нет, нет, вы полежите, успокойтесь, как следует.
Дамы выплывают из кабинета, старцы возвращаются к столу; Тихий Ужас и Серафима тоже уходят, с Рогнедой остаются именинница и Ковалев.
— Как мне неприятно! — хмурится Рогнеда.
Именинница ее успокаивает:
— Ах, милочка, что за глупости… У вас, верно, малокровие, вы принимайте железо, очень хорошо помогает, только зубы от него портятся и чай нельзя пить. Теперь пошли разные Гематогены, но я думаю, это шарлатанство, а железо хорошо помогает. Вот, еще полезно при малокровии настаивать крапиву, сушить ее и употреблять вместо чая, в ней, говорят, железа много содержится… Я знала одного акцизного чиновника, так он только крапивою и спасся.
Рогнеда устало ее спрашивает:
— Крапива, вы говорите?
— Да, обыкновенная крапива. Удивительно помогает.
В глазах именинницы жадное любопытство, видно, что она не верит ни малокровию Рогнеды, ни крапиве, а говорит потому только, что надо же заполнять чем-нибудь воздух, — и кажется она большим, хорошо насосавшимся пауком, раскидывающим свои серые сети. Завтра весь город будет знать, что у Рогнеды Владиславовны малокровие и что с нею бывают иногда не то обмороки, не то нечто, похожее на обмороки…
— Я, милочка, когда носила Генечку, так у меня тоже было головокружение и тошнило меня тогда ужасно. Вот выйдете замуж, так вам будет трудно при малокровии. Лечитесь, милочка, пока не поздно, а то пойдет детвора, и вся кровь уйдет на них… Тяжелое дело женское.
Рогнеда резко ее обрывает:
— Я и не собираюсь замуж.
Именинница добродушно осклабляется:
— Все мы так говорим, милочка, а придет пора, подвернется дельный мужчина — и скок прямехонько ему на шею. Хе-хе-хе! Ну, что, отошло совсем?
— Отошло.
Рогнеда встает с дивана и пристально взглядывает на Ковалева, взгляды их встречаются, как в пожатии две дружественные руки.
— А я, Георгий Глебович, только сегодня заметила, что у вас потолки выкрашены масляною краской.
— Да, да! — бормочет Ковалев, — неужели вы раньше не замечали?
Рогнеда прощается с обществом: пойдет домой, нездоровится.
— Я вас провожу! — неуверенно говорит Ковалев, мельком взглядывая на жену. Телячье выражение лица Серафимы сменяется злым и упрямым. Губы надуты, словно она ими собралась фыркнуть.
Она выходит в переднюю следом за мужем и там капризно брюзжит:
— А как же гости, Геша? Неудобно же…
— Я сейчас вернусь, только провожу до извозчика.
Ковалев подает Рогнеде ее пальто и берется за свою шапку.
— Геша! Лучше бы послать за извозчиком… Или вы, может быть, не боитесь пройти одна, Рогнеда Владиславовна?
Та коротко и свысока ей отвечает:
— Боюсь. Вы скоро, Георгий Глебович?
Ковалев надевает на голову шапку и берется за свое пальто.
— Георгий! Неудобно же оставлять гостей одних, — визгливо настаивает Серафима. — Мамаше будет неприятно, ты должен с этим считаться.
— Нет, я пойду! Я сейчас вернусь, только до извозчика.
— Нет, ты не пойдешь, Георгий! — сердится Серафима. — Дуня, сбегайте за извозчиком. У самого насморк и кашель, а еще хочет провожать. Я тебя не пущу. Ду-ня!
Горничная уходит.
— Ну, делать нечего! — вздыхает Ковалев, стараясь придать своему голосу шутливый тон. — Делать нечего, не пущают…
— А то пойдемте! — тоскливо улыбается Рогнеда. — Хорошенько закутайтесь.
Горничная возвращается:
— Извозчик подан… Проезжал мимо.
— Прощайте!
Рогнеда отворяет дверь и исчезает.
Сидя в санях, она крепко стискивает зубы, чтобы не заплакать. Мороз щиплет уши, жгуче целует в щеки и в нос, а с неба сверкают бесчисленные звезды, как золотые и серебряные цветы, возросшие на темно-синем поле.
— …Что это значит, Серафима? — гневно спрашивает Ковалев, оставшись с женою в передней наедине.
— Геша, миленький! Прости, пожалуйста! Я боюсь, что ты простудишься… Зачем ты ей понадобился? У тебя и так насморк.
— Глупая баба! — бранится Ковалев. — Покорнейше прошу не в свои дела не совать носа. Я сам знаю, что мне полезно и где вред. Идиотка!
15
Рогнеда читает в столовой книгу, а старая пани сидит против нее и вяжет. Висячая лампа, с белым фаянсовым колпаком, заливает светом склоненные над столом головы двух женщин, синюю клеенку, настланную на стол, и словно истратив здесь всю свою светлую силу, оставляет дубовый буфет, висящие на стене никелированный совочек с метелкой и полочки с фарфоровыми вазочками — в полумгле.
За окном воет вьюга.
Молчание.
— Мамочка! — отрывается Рогнеда от книги. — А где моя Мика, цела ли?
Старушка медлит с ответом, вслух досчитывая петли:
— Семь, восемь, девять, десять… Мика? — она в спальной, в ящике платяного шкафа, под полотном.
Рогнеда закрывает книгу и уходит из столовой в спальню; там темно, она зажигает свечу, опускается на колени перед платяным шкафом, с трудом выдвигает ящик и принимается рыться в хранящемся в нем хламе.
Черная стеклярусная накидка. Ее носила мамочка в дни своей молодости, — тяжелая какая… Удивительно меняются вкусы, теперь уже никто не носит стеклярусных накидок. В прошлом году, на масленице, Рогнеда одевала ее в маскарад, она тогда была замаскирована зверинцем — в черной маске, в черной бархатной митре, с золотою надписью: Зверинец, — в черных перчатках, в черной юбке. — Зверинец! А где же твои звери? — А вам какого? — измененным голосом спрашивала она любопытного. — Мне?.. А хоть бы осла! — Стеклярусная накидка раздвигалась, под ней было спрятано зеркало. — Вот осел! — зеркало насмешливо отражало сконфуженную физиономию вопрошавшего.
Рогнеда ловко набрасывает накидку на плечи, встает с полу и смотрится в зеркало платяного шкафа. Черный стеклярус сверкает и переливается при свете свечи, в зеркале все сверкания, все переливы смягчаются, уходят куда-то вглубь, в темь, — блеск черного стекляруса загадочен. Женщина с черными перьями, черная птица с женскою головой — птица-див лукаво выглядывает из зеркала.
Рогнеда складывает накидку и прячет ее обратно в ящик платяного шкафа.
…А вот, веер. Мамочка им обмахивалась в дни своей молодости: ободки — черное дерево.
Рогнеда раскрывает его: красный попугай сидит на золотом дереве, клюв изогнут спесиво; вокруг попугая раскиданы по черному шелку поблекшие звезды.
Тут же, рядом с веером, старый облезлый зонтик, пачка спичек, пятерик свечей в синей обертке и большой сверток ярославского полотна, под полотном — жестяная коробка из-под конфет, с медным замочком, в ней-то и лежит старая, безгласная Мика.
Рогнеда задвигает ящик, задувает свечу и торжественно несет жестяную коробку к столу.
— …шесть, семь, восемь, девять, десять… Нашла?
— Да, мамочка.
Коробка раскрывается, в ворохе ваты покоится глиняная собачка, которою играла и старая пани, и Рогнеда, и которая все-таки не разбилась. Живучая Мика! Она скорее похожа на желтого львенка, а не на собаку, тем не менее, она вовсе не львенок, а Мика.
Рогнеда ставит ее на стол.
— Мамочка, посмотрите!
Старая пани отрывается от вязанья.
— Да, Рогнеда… Осторожнее, не разбей. Помнишь, как я ее тебе давала по праздникам? Я боялась, что ты ее разобьешь. Ведь Мика постарше тебя, Рогнеда, она, пожалуй, старее и меня. Ее подарила твоя бабуся, когда мне было пять лет.
Мика кривит беззубый глиняный рот, словно огрызается, — Рогнеда берет ее в руки.
— А вы, мамочка, ею часто играли?
— Да. Раз, помню, она зарылась в песке, из песка я делала булочки, — знаешь, как делают маленькие девочки?
— Да, мамочка. Ну, и что же?
Старая пани вздыхает.
— Я целый день плакала навзрыд. Отец послал всех слуг искать ее, к вечеру ее нашел поваренок, потому что вспомнил, как я играла с песком. У нас тогда было много слуг, Рогнеда.
— Я, мамочка, папу помню так смутно, как будто его никогда не видала.
Старая пани кладет вязанье на стол, глаза у нее оживляются.
— Он был добрая душа, ты на него похожа.
— А после него вы никого не любили?
— Нет.
Старая пани опять принимается за работу. Мика злится на нее, лает, вырывается из рук Рогнеды, чтобы покусать старую пани, но — увы! — ведь, Мика глиняная и она не может ни громко тявкнуть, ни оскалить по-настоящему зубы, ни покусать.
Рогнеда кладет ее обратно в коробку и бережно прикрывает сварливую Мику ватой. Щелкает медный ключик в медном замке и вот, опять нет старой Мики, похожей на львенка, опять она лежит в надоевшем ей одиночестве, без силы вздохнуть пошевельнуться, со старым глиняным телом, с немою, глиняною душой.
— Я ее, мамочка, там же спрячу.
Старая пани наклоняет голову в знак согласия. Рогнеда относит коробку с плененною Микой в ящик платяного шкафа и, спрятав, возвращается в столовую к матери.
Читает, но странно: книга позабывает свои цветистые слова — длинною серою лентой проползают перед Рогнедой серые, скучные слова, а черные буквы, как полчище черных карликов, понуро бредут к безразличному концу.
Мика! Милая Мика!..
Рогнеда захлопывает книгу и уходит в спальню, к себе на кровать. Там она лежит впотьмах, с открытыми глазами, и долго думает про желтую Мику. Однажды она в детстве купала Мику и уронила в ведро с водой. Она тогда боялась, что Мика утонула, как тонут в озерах и морях люди, но нет — когда Мику вытащили из ведра, с глазированной шерсти вода тотчас сбежала, и перед девочкой была опять живая, втихомолку лающая Мика.
Глаза смыкаются… Сперва темно-темно, словно она попала в закрытый наглухо погреб, но внезапно из тьмы выскакивает огромный пес с золотистою шерстью, скалит острые зубы, лает, мечется, сверкает глазами, набрасывается на человека с бледным лицом это Ковалев, он прижался к стене и испуганно обороняется от беснующейся Мики.
— Мика! Мика! — зовет ее Рогнеда, но злая собака не слушается, впивается белыми клыками в Ковалева, рвет его и рычит от восторга.
… А потом — тихий плач… Сверкающее озеро, и по нему в белом челноке едет плачущий ребенок. Он в белой рубашке, на его голове белые шелковистые кудри.
Рогнеда протягивает к нему руки, хочет ему что-то крикнуть — и просыпается.
…Темно-темно, словно в склепе.
Она встает с постели, идет в столовую. Старая пани поднимает голову.
— Ты спала, Рогнеда? Что с тобой? Ты плачешь?
— И не думаю, мамочка! — звонко отвечает ей Рогнеда. — Вам, мамочка, это показалось. Ха-ха-ха!
16
По воскресеньям Рогнеда ходит на городской каток. На ремешке болтаются, позвякивают и сверкают под холодным солнцем стальные коньки, горделиво изогнувшие свои носы.
Рогнеда — мастерица бегать на коньках. Она может так быстро нестись по льду, что в ушах только свист стоит, да щеки разгораются ярким полымем. Голландский шаг, вензеля, восьмерки, бег на одной ноге, бег спиною вперед и еще много других фокусов проделывает она на скользкой поверхности катка.
По воскресеньям там много народу. На помосте, обитом красным сукном, сидят солдаты-музыканты и посиневшими от холода губами трубят в широкие медные трубы; дверь теплушки ежеминутно открывается и закрывается.
Когда Рогнеда входит в теплушку, взоры всех греющихся конькобежцев обращаются на нее. Дорого бы дал толстый гимназист Смирнов, лишь бы летать такою же быстрою серной.
Рогнеда садится на лавку, снимает калоши и развязывает ремешки, чтобы навинтить коньки на ноги.
Толстый Смирнов багровеет.
— Позвольте, я их вам приделаю.
— Пожалуйста!
Толстый Смирнов, став одним коленом на грязный дощатый пол, вдевает правый конек в гнездо и завинчивает.
— Готово! Позвольте левую!
И левая в его руках. На нее он уж не так скоро навинчивает конек; очень жаль, что у Рогнеды Владиславовны только две ноги, очень жаль, но ничего не поделаешь…
— Готово!
— Благодарю вас.
Толстый Смирнов вторично багровеет, с грохотом покидая теплушку: страшно вспотел.
Рогнеда собирается последовать за ним, но дверь теплушки распахивается, — вместе с морозным паром входит Ковалев. Он в шведской куртке, в ушастой оленьей шапке и с длинными гоночными коньками под мышкой: коньки привинчены к ботинкам и похожи на странные ножи.
— Рогнеда Владиславовна!
Рогнеда щурится:
— А… а… а, и вы? Здравствуйте. Вы разве катаетесь на коньках?
— Нет. Пришел учиться, фон-Книппен убедил, я даже записался в спортивное общество. В самом деле, это очень полезно, хочу и на лыжах попробовать.
— Но кто же учится на гоночных? Ха-ха! Фон-Книппен вас подвел. Садитесь.
Она отодвигается к стене, освобождая ему место. Греющиеся конькобежцы иронически посматривают на Ковалева: действительно, кто же учится на гоночных, да ведь они совсем не пригодны для этого, — кроме того, он переколет всем ноги такими ножами. Глупец.
Ковалев смущается и не знает, что ему делать.
— Ну хорошо, я вас буду учить, — насмешливо, подбодряет его Рогнеда, — не трусьте.
— Да я, собственно…
— Ну, ну, — торопит его Рогнеда, — переобувайтесь…
Ковалев послушно скидывает калоши и начинает расшнуровывать ботинки, в которых пришел. Рогнеда искоса наблюдает за его движениями.
— Ах, черт! — спохватывается Ковалев. — А где же переобуваться? Я этого совсем не предвидел. Вот оказия!
— Валяйте здесь, что за ерунда, — пожимает плечами Рогнеда.
Он с унылым видом стаскивает ботинку с правой ноги, быстро натягивает на нее ботинку с коньком и зашнуровывает. Рогнеда и все остальные зрители успевают заметить синий шерстяной носок, и тут Рогнеде вспоминаются ноги одной больной женщины, с которою она однажды мылась в бане, — пухлые, со вздувшимися синими жилами. Та женщина тоже носила синие шерстяные чулки.
Ковалев скидывает левую ботинку, опять перед Рогнедой мелькает синий шерстяной носок. Она сердится.
— Ф-фу, как вы копаетесь, Георгий Глебович, — совсем, как старая баба.
— Сию минуту!
Он поспешно зашнуровывает ботинки и пробует встать, но тотчас опускается обратно на лавку, потеряв равновесие. Греющиеся конькобежцы, народ молодой и задорливый, смеются и дают советы:
— Вы обопритесь о стенку, а на льду будет легче с креслом.
— Да, непременно с креслом.
— Плохо на гоночных, лучше всего Нурмис.
— Американские тоже недурны.
— Действительно, — советует Рогнеда, — попробуйте, держась за стенку.
— Вы думаете?.. Пожалуй.
Он преувеличенно беззаботно посматривает по сторонам, кое-как встает на ноги и, опираясь о стену, достигает двери, но здесь-то и начинаются настоящие муки.
Рогнеда открывает перед ним дверь и, стоя на льду, говорит:
— Смелее, Георгий Глебович!.. Держитесь за косяк.
Держится за косяк… Коньки проваливаются в щели пола, он их вывязивает и чуть не падает. А главное — ему никак не стать на лезвия коньков, ноги подкашиваются, ботинки готовы сорваться с них.
— Однако! — бормочет Ковалев, ухитряясь медленно выползти из теплушки. Дверь со стуком захлопывается. Перед ним огромная ледяная, скользкая, предательская площадь, по которой весело снуют мужчины, женщины, подростки и хохочущая детвора.
Он старается быть беспечным.
— Удивительное солнце, яркое и холодное… Очень хорошо сегодня! И этот морозец… Нет, все-таки зима — хорошее время.
Ноги у него сведены двумя дугами, как у ребенка, больного английскою болезнью; оленья шапка съехала на затылок, и весь он такой неуклюжий, заморенный…
— А у вас насморк прошел? — насмешливо спрашивает его Рогнеда.
— Насморк? Да, прошел…
Гимназист Смирнов вертится невдалеке от них, проделывая на коньках всяческие выкрутасы, в надежде, авось, Рогнеда Владиславовна заметит его искусство и прыть.
Дверь теплушки поминутно хлопает, конькобежцы входят и выходят.
— Ну, двинемтесь, Георгий Глебович, а то мы здесь мешаем.
Ковалев тоскливо взглядывает на изрезанный во всех направлениях лед и отрывается от двери теплушки. Ноги разъезжаются, складываются в виде буквы икс, Ковалев вскидывает руками и гулко шлепается на спину, к подолу Рогнеды.
— Ха-ха-ха! — хохочет она, как сумасшедшая. — Ушиблись? Больно вам?
— Ха-ха-ха! — радуется Смирнов, пролетая мимо распростертого Ковалева.
Тот отчаянно дрыгает ногами, пытаясь подняться, но ничего не выходит. Замшевые перчатки пачкаются и намокают, а сам неудачный конькобежец напоминает большую неповоротливую черепаху, положенную на спину.
Усиленно работая локтями, он ухитряется сесть и просит Рогнеду:
— Помогите, пожалуйста!
— Ха-ха-ха! Какой вы сейчас забавный!
Она протягивает ему свою руку, он схватывается за нее и поднимается на ноги, не решаясь выпустить спасительной руки.
Толстый Смирнов летит к ним, подталкивая кресло на полозьях. Ш… ш… ш… ш… ш… — тормозит он.
— Кресло!.. Попробуйте.
Ковалев благодарит и спешит опереться на привезенное великодушным гимназистом кресло, даже на несколько аршин подвигается вперед, цепляясь коньком о конек.
— Отлично! Через неделю заткну за пояс и вас, Рогнеда Владиславовна.
— Поглядим!.. А пока — догоняйте!
Она стремительно срывается с места; сверкают коньки, развевается черная юбка и — ффить-ффить! — быстрой птицей проносится она мимо Ковалева. Он завистливо смотрит ей вслед, угрюмо подталкивая кресло, как паралитик, или учащийся ходить младенец. Ему обидно, и он с злорадством вспоминает уединенные встречи с Рогнедой и все, что было в них унижающего ее — и расстегнутые платья, и упругое, побежденное им первым девственное тело… Он сдерживает свою злобу, но она растет и ищет выхода; ему хочется, чтобы Рогнеда подъехала к нему, тогда ом смог бы ей сказать что-нибудь такое колючее, от чего она, наверное, заплакала бы: ведь любит же она его, черт возьми!
Но Рогнеда словно чуя опасность, не подъезжает. Круг за кругом, она проносится по катку безумно быстрою птицей, ловко минуя встречных конькобежцев, стремясь — вперед! вперед! — увеличивая скорость полета, и внезапно замирает, тогда коньки скользят сами собою, словно ее душа переходит в них, — но вот, оживает опять: вперед! вперед!.. Сверкают коньки, брызжет при поворотах разрезанный лед, и черным хвостом орлицы вьется черная юбка.
Ковалева мучительно влечет к ней, он пытается скользнуть так же стремительно и уверенно, как и она, догнать ее, перегнать, оставить далеко позади — но он точно прикован к креслу, и, как брюзга-паралитик, плетется за ним, задевая коньком за конек.
— Как дела? — круто завернув, останавливается она перед Ковалевым.
Он со злобой и с восхищением оглядывает ее с ног до головы.
— Ничего. Скоро научусь.
— Ну, ну… Всего вам хорошего.
Она протягивает ему руку.
— Куда же вы?
— По делу.
— Подождите, я вас провожу.
— Благодарю вас, мне некогда вас ждать.
Кланяется ему и уходит к теплушке. Толстый Смирнов опрометью бежит отвинчивать ей коньки.
Медные трубы сияют под лучами холодного солнца и стройно рявкают, черные флейты и кларнеты им подсвистывают.
Ковалев ковыляет обратно к теплушке, подталкивая впереди себя пустое, грубо сколоченное кресло.
17
— Мамочка, вы мне дадите взаймы сто рублей?
Старая пани в изумлении выпускает вязанье из рук.
— Сто рублей? Зачем тебе, Рогнеда?
— Надо, мамочка… Я их вам понемножку отдам.
Старая пани опять принимается за вязанье.
— Конечно, Рогнеда; эти деньги так же твои, как и мои. Ключ от шкатулки в столике, в спальной, а шкатулка в гардеробе.
Рогнеда идет в спальню, находит в столике ключ и открывает платяной шкаф. Там, под висящими платьями, в темном уголке, стоит старинный ларчик, с затейливой резьбой, с круглыми ножками, с крышкой в виде трапеции. В нем хранятся деньги.
Она ставит его на пол и отмыкает.
…Так вот, каков этот «черный» день, про который старая пани откладывала в течение всей своей жизни свои крохи. Черный день — и в бумажках, и золотом, и толстыми серебряными рублями. Кредитки — в черной клеенке, повязанной красною лентой, — их не стоит развязывать, пусть дремлют по-прежнему… И серебро пусть остается в покое — не пойдет же Рогнеда с суконным мешочком, в который оно завязано: храни Бог, еще, пожалуй, по дороге, мешочек порвется, и все жадные серебряные глаза рассыпятся по снегу и переглянутся с дневным солнцем. Нет! Лучше всего взять золото.
— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! — бренчит она деньгами, отсчитывая сто рублей, и вспоминает, что мамочка тоже считает до десяти свои скучные петли.
Это поражает Рогнеду, она, как ребенок, играющий в кубики, ставит монеты на полу в два столбика и задумывается. Разве положить их обратно? Ах, нет…
Она сурово сдвигает брови и уже хочет закрыть ларчик, как вспоминает про Мику. Почему бы ее не спрятать здесь; в ларчике старая игрушка будет более безопасна, а то кто может поручиться, что Профессор вдруг не заглянет за чем-нибудь в шкаф, не вынет коробку и — трах — не разобьет. Скорее, скорее, пока не поздно…
Она выдвигает ящик, вынимает жестяную коробку, отмыкает медный замочек и вытаскивает из коробочки сердитую Мику. При дневном свете глиняная собачка словно тусклее, но, когда Рогнеда поворачивает ее головою к себе, Мика, похожая на рыжего львенка, разражается пронзительным хриплым лаем, которого, конечно, никто никогда не услышит, которого не слышит и сама Рогнеда, но который все-таки есть.
— Хав! хав! — беснуется Мика, скалит зубы, огрызается, хочет броситься на Рогнеду, растерзать ее и кровожадно завыть. — Хав! хав! хав!
Рогнеда любуется старою игрушкой, а в груди, как длинная острая игла, ходит-колет печаль. Упасть бы на пол распростертою, застонать, биться долго-долго, причитать жалобно…
Она поспешно перекладывает Мику в ларчик, запирает его, прячет в платяной шкаф и, оставив золотые колонки на полу, садится на свою кровать.
Думает, думает, думает… Тяжело думать, больно, длинная острая печаль ходит-колет, терзает без жалости.
— Оставь, Рогнеда.
— Нельзя! Нельзя!
— Оставь же!
— Не могу.
Потом — молчание и пустота: ни мыслей, ни силы, ни чувств. И это молчание, и эта пустота — мучительнее всего.
Но снова в груди ходит-колет длинная игла-печаль, но снова обрушиваются думы, как падающие без шума камни.
— Оставь!
— Не могу!
— Оставь же!
— Нельзя! Нельзя!
И вырываются из груди тихие рыдания, но слез нет, а рыдания — как мелкий смех.
— Иду!
Рогнеда решительно встает, поднимает золотые колонки с полу, завертывает их в два газетных обрывка и уходит из спальной.
Одевается.
— Мамочка, заприте за мной.
— Ты уходишь, Рогнеда?
— Да, ухожу, в гости…
…Улица.
…Холодно.
На бровях Рогнеды, на ресницах оседает белый иней; бороды и усы встречающихся мужчин — точно закиданы снегом. А ведь в их походках есть что-то собачье — псы, разношерстные кобели: все одного стоят — звонкой пощечины.
Снег скрипит под ногами пешеходов, под полозьями тянущихся обозов; от дыхания идет пар.
— Положим, это дудки: Владимира ему не видать, как своих ушей!
Рогнеда оглядывается — прошли два чиновника, говорят, вероятно, об ордене, которого ждет их начальник. Увы! Владимира ему не видать, как своих ушей!
Она, поскользнувшись, и едва удерживается на ногах, и от этого неожиданного толчка сердце на миг замирает, а затем бьется часто и судорожно: тук-тук! тук… тук… тук! Рогнеда как бы разделяется на две самостоятельные части: голова, глаза, уши, коса, груди, руки — это она, Рогнеда, — а там, внизу, идет быстрым шагом ее живот, и в нем притаилось несчастное существо, избравшее его своим домом. Оно такое бедненькое, у него нет ни имени, ни глаз, умеющих смотреть, ни слов, ни печалей, ни радостей, — оно даже не сможет заплакать, если она его обидит.
— Берегись! — Перед самым лицом Рогнеды появляется фыркающая лошадиная морда с злыми глазами. Рогнеда в испуге отшатывается — лошадиной морды нет, лишь скрипят полозья проезжающих санок.
Она прибавляет шагу.
…Каменный двухэтажный дом. Подъезд с витыми чугунными колоннами, поддерживающими маленькую железную крышу.
Рогнеда поднимается по устланной красным ковром лестнице во второй этаж, дергает ручку звонка — долго не отворяют.
— Уйти разве?
Вторично дергает медную ручку, слышно, как за дверью заливается звонок.
Шаги.
Выпущенная ручка гулко хлопается о медную чашку, вделанную в стене, и замирает, тупо выглядывая из своего медного гнезда.
Дверь отворяет горничная, в кокетливом переднике, завитая и нарумяненная.
— Дома?
— Пожалуйте!
Рогнеда медленно раздевается. Горничная с жадным любопытством осматривает ее.
— Елена Семеновна свободна? Нет пациентов?
— Нет. Они у себя, в кабинете, читают газету.
Рогнеда проходит в приемную. На круглом столе, покрытом черною скатертью, журналы, газеты, книги и графин с водою; под столом пестрый ковер, а вокруг стола несколько черных венских стульев, пасмурно откинувших назад свои гнутые спинки, словно им смертельно надоело стоять у этого стола и ждать посетителей. У стены, у окон, несколько мягких кресел с кисточками и треногий курительный столик.
— Доложите, пожалуйста.
Горничная, шурша накрахмаленной нижнею юбкой, ныряет за толстую портьеру, скрывающую дверь в кабинет многоученой Елены Семеновны.
Рогнеда в ожидании разглядывает висящие по стене в потемнелых рамах фотографические снимки каких-то памятников, каких-то статуй и останавливается против большого календаря.
Четырнадцатое число.
«А завтра я, может быть, умру», — спокойно думает Рогнеда.
Портьера раздвигается, появляется Тихий Ужас, а за нею нарумяненная горничная, с чувством собственного превосходства взглядывающая на Рогнеду, покидая приемную.
— А, здравствуйте! — угрюмо здоровается с Рогнедой Тихий Ужас. — Как поживаете? Больны?.. Будьте добры…
Она указывает Рогнеде на кресло, та послушно садится, мнет в руках носовой платок, неизвестно для чего вынутый из кармана, и глухо говорит, избегая недружелюбного взгляда веснушчатой девы.
— Я, Елена Семеновна, с конфиденциальным… Я слышала, что у вас довольно разносторонняя практика… Вы, пожалуйста, не обидьтесь.
— Я вас не понимаю! — вздергивает плечами Тихий Ужас. — В чем дело?
Рогнеде стыдно.
— Видите ли, обстоятельства так сложились… Я… я…
Острый взгляд веснушчатой девы льнет к животу Рогнеды, словно ощупывая его.
— Вот как?! И давно?
— Месяца два. Мне бы хотелось… Вы, пожалуйста, не обидьтесь. Я вам… Вы…
На лице Рогнеды выступает густыми пятнами румянец.
— Я вам заплачу…
Она вынимает из ридикюля свертки с золотыми колонками и подает их Тихому Ужасу.
— Сто рублей… Не мало?
Веснушчатая дева развертывает бумагу и заглядывает в свертки. Мышиные глазки веселеют.
— Опасно, Рогнеда Владиславовна, — ну да как-нибудь уладим. Вот что: вы завтра приходите в городскую больницу, ко мне на прием, я вас положу, как больную, в палату и, между прочим, якобы того требует ваша болезнь… Отлично?.. Несколько деньков придется полежать, зато будете гарантированы, что никаких осложнений не произойдет, — под рукою сиделки, фельдшерицы, да и мне этак спокойнее. Согласны?
— Хорошо. А это очень опасно?
— Смотря по тому, каков организм… Влопались? Ха-ха! Я уж это предположила, когда вам сделалось дурно у Ковалевых. Помните?
Рогнеда убито отвечает:
— Помню. Так я, значит, завтра приду.
— Буду ждать.
Тихий Ужас провожает Рогнеду до передней, оставив свертки с золотом на столе. Горничная подает Рогнеде пальто, нагло, но едва заметно улыбаясь.
Хлопает дверь, Рогнеда медленно спускается по лестнице, крепко держась за перила, чтобы не упасть.
18
Койки стоят в два ряда ряд у одной стены, ряд у другой, посредине проход. Два высокие окна заполняют палату белесым зимним светом, светом не греющим и не радующим.
На койках, под толстыми желтыми одеялами, лежат женщины. Косы прикрыты одинаковыми белыми платками, и от этого кажется, что здесь походный лазарет, где соблюдается и солдатская форма, и воинская дисциплина, и где в болях и мучениях умирают израненные воины-женщины.
Здесь царит почти несмолкаемый детский плач, потому что большинство больных роженицы; иные совсем старухи — одутлые или морщинистые лица, неповоротливые руки… Но есть и очень юные, дети-матери, любовно прижимающие к своим материнским сосцам старичков и старушек, еще не успевших помолодеть.
Рогнеда тоже в белом платке; исхудалая, осунувшаяся, лежит на своей койке и наблюдает, как ее шестнадцатилетняя соседка кормит своего ребенка. Она заглядывает ему в глаза, слово внезапно прозревшая на играющий на стене солнечный луч, — она целует его без конца, но ей все кажется, что она слишком груба. И вот, она набожно прижимает его к себе, чтобы он услышал биение ее сердца, чтобы согрелся теплотой ее юного тела; когда она смотрит на него, из ее темных глаз излучается тихий свет.
Она — Маруся, фабричная девушка.
— Маруся, вы как назовете вашего сынка?
— Иваном! Иваны все большие и здоровые.
— Разве?
— Бывают и ледящие Иваны, да настоящий-то Иван, ого! какой дяденька! Ломовик… А что, плохо?
— Нет, не плохо. Конечно, назовите его Иваном.
Маруся торопливо прерывает разговор и осыпает своего милого Ивана поцелуями.
Личико у родительницы смуглое, ребячески-открытое; смуглые плечи, высунувшиеся из-под холщовой сорочки, хрупки и еще не сформировались, как следует.
Рогнеда с завистью смотрит на нее, и ей самой до слез хочется держать в ослабших руках такого же старенького Ивана, но только своего, а не чужого. Она бы обласкала его лучше, чем эта невежественная девочка, — но у нее нет Ивана…
Впрочем, ее Иван был бы такая же дрянь, как и его красноречивый родитель. Скатертью дорога!
Рогнеда храбрится: все пустяки, все трын-трава! — но то огромное, что она должна была совершить, — вдруг куда-то исчезло, — и стало скучно и пусто и ноют ноги, как будто их отбили тяжелою дубиной.
Подходит Тихий Ужас.
— Как дела?
— Ничего.
— Не тоскуете?
— О ком? Нет.
— Ну и отлично, а то это бывает с иными. Поправляйтесь.
Отходит.
В палате поднимается хлопотня: служанки подметают пол швабрами, обмотанными мокрыми тряпками; собирают со столиков посуду; просят больных прикрыться — начинается прием посетителей. В палату сразу вваливается много народу, с узелками, с корзинками, свертками, мешочками — в них приношения болеющим. Посетители — больше все женщины. Некоторые мужчины, войдя в палату, поникают головой под перекрестными взорами больных, словно они попали в чуждое и враждебное им царство, где перевес не на их стороне, а на стороне этих исхудалых женщин, легших двумя рядами — головою к стене, ногами к проходу, и прикрывших свою наготу солдатскими одеялами.
Рогнеде тоже несут лакомства — старая пани и Ковалев. На нем серый костюм и крахмальный воротничок; галстук переливает всеми цветами, искрится, золотится…
Он принес корзиночку с клубникой, а старая пани домашнего печенья, сыра, масла и колбасы.
— Вот и мы!.. Что это вы задумали хворать, Рогнеда Владиславовна? Я только вчера вечером узнал от Долбни, что вы в больнице, и был страшно огорчен. Нехорошо, нехорошо!
Рогнеда, не замечая ни его, ни его протянутой руки, целуется с матерью.
— Здравствуй, мамочка. А я скоро, кажется, поправлюсь, мне Елена Семеновна сказала, что болезнь близится к концу.
— Дай Бог! Дай Бог, Рогнедочка! У тебя сегодня хороший вид.
Ковалев пытается ввернуть слово:
— Совсем молодцом! Вам Долбня посылает нижайший поклон, он вчера был у меня и изрек новый блестящий афоризм: всякая порядочная женщина уподобляется тележному колесу, а мужчина — спице.
Рогнеда не замечает его.
— Тебе, мамочка, теперь одной страшно спать, бедненькая моя! Хорошо, что я скоро выписываюсь, а то я очень беспокоюсь, как ты там.
— А я, Рогнедочка, беру в спальню Профессора. Она стелет себе постель на полу. Только храпит очень.
Ковалев кладет корзиночку с клубникой на край койки, но Рогнеда, будто невзначай, сбрасывает ее на пол, ягоды рассыпаются.
— Ах, Рогнеда! — сокрушается старая пани. — Смотри, что ты наделала. Георгий Глебович принес тебе клубники, а ты ее всю рассыпала, а ведь она теперь страшно дорогая и ее очень трудно достать.
— Ничего, мамочка, сиделка подберет и съест за мое здоровье.
Ковалев, криво усмехаясь и не прощаясь со старою пани, исчезает из палаты.
— Ну, мамочка, спасибо, что заглянула. Ты прости меня, мне ужасно хочется спать, я сегодня очень устала.
Старушка кладет свои свертки на столик и целует Рогнеду в лоб.
— Хорошо, я уйду. Да будет с тобой Дева-Мария!
1914 г.
Оказия
Гребут два здоровенных бурлака, а на руле сидит остроносенький старичок, по прозванию Оказия, он же Диковинка. На дне лодки лежит, укрытый тулупом, лесопромышленник Соболев.
Едут давно, но до станции, куда отвозят Соболева еще далеко — река извилиста, то завернет направо, то налево, да и лодка сильно нагружена.
Ночь холодна не по-весеннему; изредка защелкает с берега соловей, но сразу же бросит: до любви ли — зябнет соловей, зябнет и соловьиха. Лишь один старичок Оказия, немного подвыпивший, весел, как всегда.
Весла тихо окунаются в темную воду, на носу лодки мерцает фонарь с оплывшим стеариновым огарком. Свет впереди лодки распадается двумя полосами.
А на берегах, у плотов, краснеют костры. Караульные, заслышав всплески весел, встают, как черные привидения, и окликают:
— Гэ-эй! Кто-о-о плы-ы-вет?
— Со-бо-лев-ские! — отвечает Оказия. По воде слова разносятся далеко, темный лес отзывается эхом:
— …ие…
Черные привидения смотрят вслед лодки и, успокоившись, возвращаются к кострам.
Все молчат — и Соболев, и гребцы, только Оказия, хотя ему восемьдесят лет, никак не может угомониться. Он шутник, скоморох, враль и легок, как юноша. Оказия не знает усталости. Раз шел он мимо восьмипудового якоря. «А славная, братцы, мутовочка, кабы ее да моей бабе!» — «На, возьми!» — посмеялся Соболев. Оказия взвалил якорь на плечо и понес и унес с берега за версту, в деревню. Бурлаки и рты разинули. После четыре парня волокли якорь назад. Дал старику тогда на чай Соболев целую трешницу.
— И пришла, деточки мои любезные, ко мне Нужда, — рассказывает Оказия. — Хэ-хэ! Такая кочерга, альни тошно лапти сбитые, глядит затулисто, ревет ревно, дескать, судьба-судьбинушка разнесчастная. Села на лавку, аккурат, супротив печи, а баба-то моя полезла за щами в печь, и только-только вытянула ухватом варево, прискокнула Нужда, хвать, слопала щи. То мне и вовсе, значит, не пондравилось, потому — сидеть — сиди, а не бесчинствуй. Одначе, смолчал я: все же, думаю, гостья. Диковинка!.. Полезла баба моя опять в печь, за хлебушкой, и только-только на шесток вытянула, а Нужда — хвать, слопала и хлебушко, сама еще тощей сделалась. «Почто ты, Нужда-государыня, в изъян вводишь?» — А она-то, паскудница, таращит на меня буркалы, да молчит. Я ее за косу — вырвалась; я ее и так и сяк, она лишь тощей да тощей… «Тьфу ты!» — думаю. — «Хошь серебра?» — «Хочу, хозяин, давай». — «Дам, подожди, а за то укатись, Бога ради, из моей, стало быть, избы». Оказия!.. Стояла тут, братчики, в уголку пила, старая, проржавевшая, взял я ее, надел шапку, осерчал, ушел из дому в леса на заготовки. Пилю день дрова, пилю два дрова, пилю три дрова, пилю пять дрова, пилю, месяц… Ажно хребет заныл, на руках мозолищи, с грудей пар валит, будто от лошади. Диковинка! Вытянул я пилу, взвалил на плечо — шасть домой. А Нужда в избе пол метет паршивым веником. «Здорово, свет-государыня!» — «Здравствуй, господин Оказия! Скоро, ли серебра дождусь?» — «На тебе, кочерга, подавись!» — И кинул я, братчики вы мои, к ейным самыим ногам пилу, а пила, будто серебряная, так и блестит. Диковинка! Усмехнулась Нужда. «Спасибо тебе, Оказия, за подарочек!» Взяла котомку свою, лапоточки обула, ушла и пилы не призахватила. С той поры — щи хлебаю, хлебушка ем досыта, из-под носу никто не вытянет.
— Экой ты балабан, Оказия! — ворчит со дна лодки Соболев. — И все-то врешь, и все-то врешь. Дал бы языку-то передохнуть.
— Язык, Костатин Демьяныч, без костей, не поломается.
Оказия замолкает, потому что лодка приближается к порогам, надо править внимательнее. Ветра нет, но вода бурлит, пенится, как будто внизу, под водой, дерутся водяники.
Соболев закуривает папиросу.
— Холодно, ребятушки!..
Его никто не слышит из-за шума.
Он смотрит на мерцающую в небе, яркую, но одинокую звезду, и ему скучно: не радуют дела — речонка, по которой он гонит лес, внезапно обмелела, бревна осели, придется стаскивать баграми. Да и успеет ли? Сроку дано только десять дней, потом поплывут другие. Ежели он не успеет сплавить, раскидают его лес по берегам — жди до самой осени у моря погоды.
Лодка, миновав пороги, плывет быстро. Бурлаки вытаскивают из-под лавки бутыль и отпивают — захолодели.
— Эва, здесь, — указывает бородатый бурлак на берег, — в прошлом годе пятерых зарезали.
— Ну?
— Истинный Бог! Промышлял один и никак его было не поймать. Во, ловкач! Однова прибрел переодетый монахом в деревню, попросился переночевать, пустили его, а он к утру всю, как есть, семью вырезал — мужика, бабу, ребят. Во, гад! Так и убрел. Утресь пастух видел на мосту его. Шагает, толстенький, ровно шар катится, да еще улыбается в бороду. Святой!
Бурлак плюет на ладонь и, схватившись за весло, с новою силой гребет. Весла скрипят и стучат по бортам. На востоке уже чуть-чуть посветлее. Берега за порогами крутые, утесы — как стены, здесь холод особенно сильно чувствуется, вероятно, потому что всюду камни.
Оказия спорит:
— А, может, и в сам-деле благочестивый человек…
— Монах-то?
— Да.
— Выпородок! — мрачно возражает бородатый бурлак. — Таковых душить.
— Ты, паря, стой, не спеши! — грозит ему пальцем Оказия. — Ты перво подумай. Иной умер в малолетстве, иной стариком — отчего? Уж так то ему назначено… Иному быть купцом, иному разбойничком. И будет. Душеньку-то его, может, на сторону воротит, а он — тык да тык ножиком. И сил тому нет противустоять.
— Слободно! — отзывается бурлак. — Не режь, так и не зарежешь.
— А я тебе, паря, вот что скажу. Живет гусь лапчатый?
— Живет.
— Щиплет травушку. Так ведь?
— Ну?..
— Погодь, голубь, не нукай, не запряг. Любил волк кобылу, оставил ей хвост да гриву… А? Живет волк-от?
— Вестимо, живет.
— То, вот, и убийцы живут и завсегда будут.
Спор кончается.
— Э-эх! — вздыхает Оказия. — Дивье мое дивьюшечки, стоснулось по старушечке. Холодище-то! Теперя бы на печи с бабою, а не плыть. Плывем, плывем, ровно в ад. Тяжкие грешники! Оно, конешно, в аду потеплей.
Соболев ворочается на дне лодки.
— Ты бывал, что ли?
— А то, скажешь, нет? Свояка твово видел, черта рогастого, — поднял кверху хвост, да и визжит, дескать, скоро ли Костатин Соболев сюдытки пожалует? «Скоро! — говорю. — Дай ему поуправиться со сплавами да мошну потуже набить».
Бурлаки фыркают, Соболев хмурится. На его душе лежит грех и то крепко помнится. Стародворский поп, перед смертью, дал ему тридцать тысяч на проценты, без всяких расписок и без векселей. А скончался поп — знать не знаю, ведать не ведаю! Так и отошла вдова, не солоно хлебавши.
— А намедни, братчики мои, — рассказывает Оказия, — был я в волостном правлении. «Подати!» — старшина орет и на меня ножками так и топочет, так и топочет. «Тройку можем. Господин пристав, пущай мне расписочку приготовят». Писарь — чирк! чирк! — написал, расписочку. Получено, дескать, три рубля… А я вынул три копейки, да и подаю. — Это почему? — орет пристав и тоже, братчики мои, ножками топочет. — А потому, вашескородие: тройку обещал, тройку и даю. Обиделись!
Бурлаки хохочут.
— И все-то он врет, и все-то он врет! — сокрушается Соболев.
— Ан, и не все! Дожито, братчики мои, дожито вволюшку, всякие виды видывал. Три сына у меня, у сынов сыны — внуки мои, старшому сей осенью на призыв иттить. Я-б…
Оказия подается всем туловищем вперед, бурлаки чуть не падают с лавки, лодка ударяется о плот.
— Ч-черт!
— Зевай!
— Ничего, братчики мои, ничего!
Оказия круто загребает рулевым веслом, лодка выезжает на середину реки. С берега у костра окликает караульщик:
— Чьи лю-ю-юди?
— Собо-лев-ские.
— …ие — отвечает далекое эхо.
Безбородый бурлак, крепкий, как кряж, любопытствует:
— А что ж с тобой было, Оказия?
Старик молчит, точно не слышит вопроса.
Тихо-тихо вокруг, не видать ни живой твари, ни человека. Воздух туманно-голубой, вода светло-синяя. Зеленеет берег, здесь он отлогий; вдали стоят три кургана, словно шапки истлевших богатырей. И вползают в реку желто-песчаные отмели.
— А было, братчики, со мной, ажно вспоминать жутко…
Бурлаки гребут тише, весла подолгу висят над водой, как неуклюжие крылья тяжелой птицы.
— Шел я, братчики мои, третья-года со станции. Раным-рано, как сейчас. Был я, признаться, маленечко выпивши, а только что, как есть, в соображении. Оказия! И вдруг, братчики вы мои, от середнего кургана едет кто-то на белой лошади.
Безбородый бурлак широко разевает рот, напряженно слушая.
— На белой лошади, говоришь?
— Эге!.. Я-то спервы на них подумал, — кивает Оказия на Соболева, — потому у них была белая лошадочка.
— Это верно! — подтверждает со дна лодки Соболев. — Знатная кобылица, за тысячу б не отдал, а пала, бес ее возьми. Такая была понятливая, что страсть.
Оказия, покосившись на Соболева, продолжает:
— А только не он. Подъехал ко мне, осадил лошадку. «Ты ли, добрый человек, Оказия?» — Я самый есть! Что тебе надобно от меня?
Безбородый бурлак еще шире разевает рот.
— Диковинка!.. Лицо белое, ни кровиночки, закутан весь, лишь усищи красные торчат, да в стременах сапоги желтые — не то осташи, не то сафьян. Я испужался, пустился прочь от него, он за мной. Остановился я: «Чего тебе надобно?» Он как слезет с коня, как припадет к моим ногам да восплачется. «Возьми меня в дом к себе, Оказия. Корми и пой, — ровно брата родимого!» — «Куда мне тебя с конем? — говорю. — Я бедный человек». — «Возьми, Диковинка, за то тебе такое место укажу, что двадцать пуд золота тамо схоронено».
Бурлаки перестают грести. Лодка плывет сама собой по течению. И спадают с весел тяжелые, стеклянные капельки.
— Диковинка! У меня инда пот вышибло. «Отстань, сила нечистая!» Это он, должно, из кургана вылез, да ко мне напрашивался. Я иду, он кренделит за мной. И вот, братчики вы мои, добрел я дотуда, где лежит плита каменная, а на ней крест высечен. Видывали, чай?
— Знаем, — отвечает безбородый бурлак, — как прошлым годом со сплавов шли, так заместо стола водку туда ставили робята.
— …Диковинка! Остановился он, тоскучий да страшенный. «Ну, коли так, прощай же, Оказия! Считай двадцать порищ от креста, тамо и клад зарыт». Смотрю, братчики мои, — никого-никогошеньки в поле нет. И тут дунул ветер, будто ребеночек заплакался…
Оказия замолкает. Бурлаки погружают весла в воду и загребают, не замечая ни воды, ни весел. Соболев закуривает папиросу. На востоке небо розовеет: скоро проснутся птицы и запоют, скоро вылетит желтокрылый ястреб на добычу, будет царить в высоте высокой.
— Коли не врешь, правда! — Соболев кидает за борт окурок папиросы.
Безбородый бурлак, не глядя на Оказию, осторожно выспрашивает:
— А ты чего же не поискал?
— Эва! — усмехается старик. — Кабы не искано… Уж я ходил с заступом, рыл, рыл, ничего не нарыл. Поди, знай, где оно. Близок локоть, да не укусишь. Тоже — что такое есть порище: али верста, али сажень, али аршин? Не разберешь, я и плюнул.
Оказия рулит веслом, минуя плоты.
На берегу стоят скучно-серые дома, чернеет железная труба, притянутая к крыше проволоками. Бутылочный завод Шорохова. Всюду накиданы осколки стекла, но они еще не блестят, потому что солнце не показалось.
— Шурп-шурп-шурп-шурп! — работает огромным веслом на плывущей впереди гонке босой мужик в белых портах. Он старается, чтобы гонка не наскочила на берег, а то сорвутся с бревен еловые серьги и гонка расползется. Тут же, на бревнах, два мальчоночка, один что-то стругает ножиком, другой заглядывается на встречников.
— Бог помощь! — кричит Оказия. Гонщик, перестав грести, отвечает:
— Спасибо!
Мальчонок, орудующий ножиком, поднимает белую голову.
Лодка проскальзывает мимо гонки, — опять берег пуст, опять ни души. Но уже прыгают по песчаным отмелям трясогузки, кукует кукушка в лесу, трещат сороки и плещется проснувшаяся рыба.
— Скоро щучья жора, — говорит Оказия, — теперича способно якорьками ловить.
— Пустое! — строго отзывается бородатый бурлак. — Поставишь жерлиц пяток, вытянешь-то — единую рыбину. Не в пример бродцом али вятерей.
Соболев скидывает с себя тулуп и садится. Соболев седоват, дороден, с хитрыми глазами. Одет в желтую тужурку, на спине складки, стянутые хлястиком. Пуговицы — желтые, широкие, картуз синий.
Оказия подмигивает гребцам.
— Потрудитесь, робятушки, потрудитесь, хозяин на водочку пожалует: порасчешете печальную головушку веселым гребешком.
— Оно следует! — осклабляется бородатый бурлак. — Надо бы посогреться. А уж что верно, то верно — хозяин-то у нас добреющий, не обидит. Уж кому-кому, а Костатину Демьянычу радехоньки послужить. Назад-то потащим лодку волоком, веслами, я чай, не совладать.
— Не совладать!
Оказия щурится на восходящее солнце. Лицо старика острое, как мордочка какого-то зверька; нос красненький, под глазами лучистые морщиночки.
— Эва, и мост! — говорит Оказия. Гребцы приналегают на весла.
Впереди через реку, между обрывистыми берегами, перекинут железнодорожный мост. Белеет столб семафора, гранитные быки и ледорез надменно выпятили непоколебимые груди, вода мимо них струится водоворотами.
— Подтяни, ребятушки! — просит Соболев, — не опоздать бы грехом.
…Полустанок на горе, среди зелени, к нему ведет темно-желтая вертлявая тропа. Лодка с разбегу врезается в песок, Соболев выскакивает на берег и идет впереди спутников, несущих его вещи. Оказия тащит большущий чемодан; ход у старика необычный — два шага пройдет, как и все, на третьем подпрыгнет по-заячьи. Так и на гору взбирается, так и по платформе идет, так вваливается и в пустой зал.
Поезд через три минуты. Соболев покупает билет, расплачивается с бурлаками, дает им щедро — за греблю два целковых на нос, да чаевых рублевку.
По залу торопливо пробегает юный телеграфист, кудреватый, со вздернутым носом, в ярко-начищенных штиблетах. На нем красная фуражка, ею он, по-видимому, очень гордится — начальник спит, а ему поручил провожать поезда.
Бурлаки выносят вещи на платформу.
Приближается поезд. Слабо гудит потревоженная земля. Издали он кажется как бы висящим в воздухе. Но вот видны и колеса и блестят поршни, из трубы паровоза валит дым.
Станционный сторож звонит в колокол. Поезд пыхтя, останавливается.
— Прощайте, Костатин Демьяныч!
— Счастливого пути!
— Прощайте, ребятушки. Дня через четыре вернусь. Ты, Оказия, посматривай, чтобы все было в порядке, а ежели что, махни телеграммку.
— Так точно, Костатин Демьяныч! Уж вы будьте благонадежны.
Толстый обер свистит в костяной свисток; паровоз вздрогнув, отходит от полустанка. Оказия и бурлаки смотрят, как мелькают вагоны, и стоят до тех пор, пока поезд не скрывается за лесом.
— Диковинка, братчики мои, диковинка! — качает головой Оказия, спускаясь с платформы. — Иному везет на рубли, иному повезет на блохи. Скажем, хозяин — Ирод Иродом, а того… тыщ сто капиталу.
Они идут в трактир испить пива.
— Знавал, братчики мои, я бариночечка одного, рассказывал он мне, будто некоторого человека вымазали с ног до головы толченым золотом, а у него и кровь горлышком пошла. Так и окочурился золотой человечек-то.
— С чего бы? — недоумевает безбородый бурлак.
— С чего? Диковинка! Заклей березу, и она засохнет — в кажинной дыре человеческой свое особливое вдохновление. Без вдохновления, братчики мои, не прожить… Оказия!.. И выходит, стало быть, — нет счастья от золота, ничегошеньки нам не надобно.
— Толкуй! — сердится бородатый бурлак. — Не ляскай попусту, не люблю!
Трактир, несмотря на ранний час, уже открыт; к земскому начальнику едет целая орава народу, истцы — два брата, повздорившие из-за земли, с каждым свидетели. Братья, дожидаясь поезда, сидят в разных углах, кричат, переругиваются.
Оба брата пожилые, не мужики, а хуторяне. Оба так и пышут, так и лезут, так и рвутся потрепать друг другу сивые бороды. Свидетели их удерживают.
Толстогрудая девка в серых валенках на босу ногу подает Оказии и бурлакам пиво. Оказия, скорчив морщинистую мордочку в хитрую улыбку, щиплет девку за пухлое колено.
— Ты, мароказница, за меня замуж пойдешь али не? У меня богачества вдосталь, хошь пруд пруди — крест на вороте, да деревня в городе. А деньжищ, деньжищ — ау, брат!.. С Соболева — триста рублей не заработано — не получено, с стеклянного барина — пятьсот рублей не заработано — не получено. А, девонька?
Она смеется:
— Да ты ведь женат, Диковинка?
— Оказия! Приму мухамметанство, ин все тут. Будут у меня, что у татарина, две жены.
В трактире старик и бурлаки просиживают до полудня, выпивают две корзины пива да чайник чаю. Гулять, так гулять! Закусывают вяленым мясом и яичками.
— Оказия! — сопит безбородый бурлак, тупо поводя бычьими глазами. — Говоришь, естя клад?
— Есть, родный, али вру? Ф-фу, ты, провались я скрозь землю.
Бурлак красен, как кумач.
— А я… я его, Диковинка, вырою.
— Вырой, родимый, вырой.
Бурлак мотает головой.
— Беспременно вырою. До-дом построю, что твой купец.
— Слушай его, дурака! — огрызнулся бородатый бурлак. — Он-те наплетет с три короба. Чай, и про коня-то белого все наврал. Все наврал.
Оказия удивляется:
— А ты, дитятко, откелева узнал? Нетто проговорился я?
— То-то, что проговорился, старый хрен.
Оказия сокрушается:
— Ахти!
Безбородый бурлак ругается:
— Мо-морду тебе, старый пес, потому людей не морочь. Омманул! — выкрикивает он. — Омманул леший!
Старик его утешает:
— Кровиночка ты моя единственная! А ты уж, поди, и лопату хотел куплять. Хэ-хэ! Купляй, родный, купляй: струмент завсегда надобен.
Безбородый бурлак, пошатываясь выходит из трактира, за ним бородатый и Оказия.
Солнце печет, — глядя на него, никак нельзя подумать, что ночью стоял холод.
— Братчики вы мои милые! — клянчит Оказия, стаскивая с бурлаками лодку. — Косточки-то у меня старенькие, пожалейте, пареньки, старичка. Уж тяните вы лодочку-то одни, а я в ней малость поотдохну. Уважьте старость, это и в писаниях указано.
Бурлаки привязывают к носу лодки веревку.
— А ну тебя, пустобрех. Заваливайся!
Старик прыгает в лодку и садится на скамью, вооружившись длинным шестом, чтобы отпихиваться от берега. Бурлаки берутся за веревку, тянут, согнувшись и пошатываясь, потому что оба пьяны. Солнце жжет их шеи, спины и затылки.
Оказия, взирая на согбенные спины, лукаво улыбается.
— Пьяный непьяного везет! Пьяный непьяного везет! — кричит он стоящему на берегу со стадом пастуху. Пастух тоже усмехается.
— Ты чего болтаешь? — подозрительно поворачивается бородатый бурлак.
— Я-то? А я говорю: пьяненькие пьяненького везут! Пьяненькие пьяненького везут! Хэ-хэ! Тяните, родимые, тяните!
Бурлаки, медленно ступая, как волы, тащат против течения лодку. Оказия нежится на солнцепеке.
Пастух садится на камень и дудит. Коровы, разбредясь по лугу, лениво жуют траву. Свирельная песнь бодрящею радостью разливается по реке.
— Тяните, тяните, родимые! — бормочет Оказия, щурясь от солнца и улыбаясь.
«Современник» № 4, 1915 г.
Встреча анархиста с Христом
Этот человек, наш товарищ, был повешен за то, что нарушил целый ряд написанных для бедных людей законов и за то, что убил кинжалом известного богача в его дворце.
Этот человек, наш товарищ, связанный и избитый, был приведён к эшафоту, где ждал его в чёрной маске палач, где стояли судьи в пышных мундирах, и где рота солдат, ощетинясь штыками, охраняли ПРАВОСУДИЕ, дабы никто не помешал казнить человека. Когда нашего товарища привели на чёрный помост эшафота, он открыл рот, желаю что-то сказать, но, по знаку командира, барабанщики ударили в барабаны и никто не услышал последних слов погибающего.
То было за тюремной стеной; алая полоска рассвета в высоких небесах была последним, слышите — последним! — видением для осуждённого на смерть.
Палач накинул на шею человека петлю, выбил из под его ног табурет — убиваемое тело вздрогнуло, изо рта высунулся язык — зубы вонзились в него — на грудь потекла струйка крови; глаза казнимого в диком отчаянии выступили из орбит, словно хотели выкатиться на землю — так человек был умерщвлён. Правосудием.
Привет вам, судьи, за то, что вы написали для нас хорошие законы!
Привет вам, тюремщики, за то, что вы стережёте нас!
Привет тебе, палач, за то, что ты взял на себя трудное дело нашей казни!
Спасибо вам, государственные люди и законники, вы хорошо оберегаете богатых от нас, непросвещённой черни!
… И так — умер человек. Труп его свалили в вырытую могилу, залили известью, чтобы мертвечина не повредила здоровью живых и засыпали землёю. А потом… потом все разошлись…
Не плачьте о нём, слабые женщины, мать и жена; и вы, дети его, о нём не вспоминайте — он пошёл против закона, он нарушил его, это был АНАРХИСТ, разрушитель существующего мира.
И ты, вольный ветер, не разноси о нём вести, чтобы его мятежный дух не пожёг Царя-Закона, в котором так нуждаются рабы…
Дни проходили за днями, ночи за ночами; когда на могиле казнённого вырос алый цветок, душа человека услышала трубный зов и пошла печальными полями на СТРАШНЫЙ СУД.
— Вставайте, мёртвые! — послышался звенящий голос Архангела. — Грешники налево; праведники — на правую сторону.
Бесчисленная толпа воскресших мертвецов сразу разбилась на две части, но повешенный Анархист не примкнул ни к этой, ни к другой, а остался посередине.
— А ты, человек, — удивился Архангел. — Почему не идёшь?
— Куда идти, — не знаю.
— Ты святой?
— Не знаю.
— Не похож! — строго заметил Архангел. — У тебя руки в крови. Надо пойти доложить Царю Небесному.
— Да что мне с ним говорить? — заспорил Анархист. — Я против всякой власти, небесной и земной, мне бы с Иисусом Христом потолковать.
— Хорошо! — согласился Архангел и, вложив в ножны пылающий меч, пошёл за самим Сыном Божиим — Христом. Скоро он с ним явился.
Иисус Христос сказал Анархисту:
— Что ты сделал, человек?
— Боролся с капиталистами. Помнишь, товарищ, ты сам говорил: «легче верблюду пролезть через игольное ушко, нежели богатому пройти в царство небесное».
— Это правда, — задумался Христос, — богатые люди обижают бедных, они жестоки и несправедливы, на языке их ложь, а сердце полно злобы и зависти.
— Вот видишь, товарищ, значит я прав. Я хотел, чтобы не было ни бедных, ни богатых, чтобы все люди были свободны, сыты и духом неомрачены. Для этого и проповедовал Коммунизм — равенство и братство.
— Так! — покачал головою Христос, — ты прав, человек, за это я сам был распят на кресте, но ведь ты ещё, кроме того, отрицаешь всякую власть.
— Да, товарищ, — согласился анархист, — любовь и доверие возможны лишь при равенстве людей, а равенство будет лишь тогда, когда не станет никаких властей, никаких начальников. Помнишь, товарищ, ты сам говорил: «Нет власти, аще не от Бога!» — Я понял это так: одна лишь власть может руководить нами — та, что в нашем сердце живёт, та, которую мы называем совестью. Поэтому, товарищ, я поднял чёрное знамя, на ней же моею кровью написано: «АНАРХИЯ!»
Христос грустно посмотрел на повешенного:
— Но ведь ты убил человека!
— Да, я убил… Зачем вспоминаешь об этом? Разве не ты же сам, дорогой товарищ, обещал распятым с тобой разбойникам своё покровительство? Ты понял их, неужели же меня не поймёшь? Я убил палача и угнетателя, за то, что он выкинул на голодную смерть своих рабов, за то, что он пировал, в то время, как под его окнами женщины и дети собирали объедки, брошенные псам. Разве я не прав?
Христос задумался, потом наклонился к лицу повешенного и поцеловал его в уста:
— Блаженны правдолюбцы! Блаженны отдавшие свою жизнь за други своя! Не судите, да не судимы будете! — они не могли тебя, человек судить и подвергать смерти, ибо нет праведного судьи, а потому, — а твои мучения — войди в Царствие Небесное вместе с праведными мужами.
— Я Анархист! — гордо ответил повешенный, МОЙ РАЙ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЕ. Отпусти, дорогой товарищ, на землю меня.
Христос поднял руку и благословил его:
— Иди и проповедуй!
И тогда повешенный вернулся опять на землю продолжать своё земное дело.
Газета «Буревестник». № 30, 1917.



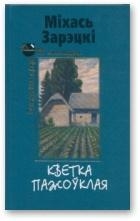

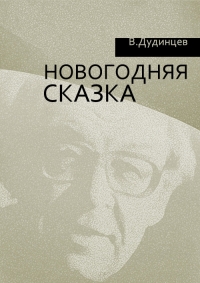
Комментарии к книге «Опустошенные сады», Борис Алексеевич Верхоустинский
Всего 0 комментариев