Лев Николаевич Толстой Детство. Отрочество. Юность
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Детство
Глава I Учитель Карл Иваныч
12-го августа 18…, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой – из сахарной бумаги на палке – по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.
«Положим, – думал я, – я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, – прошептал я, – как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает… противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка – какие противные!»
В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.
– Auf, Kinder, auf!.. s’ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal[1]! – крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. – Nu, nun, Faulenzer![2] – говорил он.
Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.
«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!»
Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.
– Ach, lassen Sie[3], Карл Иваныч! – закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.
Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон – будто maman умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.
Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай – маленький, чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нес наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:
– Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.
Я совсем развеселился.
– Sind Sie bald fertig?[4] – послышался из классной голос Карла Иваныча.
Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.
Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна – наша, детская, другая – Карла Иваныча, собственная. На нашей были всех сортов книги – учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages»[5], в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом и пошли, длинные, толстые, большие и маленькие книги, – корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на собственной если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту – без переплета, один том истории Семилетней войны – в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч бо́льшую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.
В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча, был один, который больше всего мне его напоминает. Это – кружок из кардона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.
Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.
Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх, в классную, смотришь – Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.
Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он – один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал ее Николаю – ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber[6] Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.
На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна – изрезанная, наша, другая – новенькая, собственная, употребляемая им более для поощрения, чем для линевания; с другой – черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками – маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.
Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иваныч: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, – а каково мне?» – и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю – право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча, – а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.
В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашеных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой – стриженая липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.
Карл Иваныч снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз – здороваться с матушкой.
Глава II Maman
Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою – кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли.
Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такою, какою она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня.
Налево от дивана стоял старый английский рояль; перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды Clementi. Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках и октавы могла брать только arpeggio[7]. Подле нее вполуоборот сидела Марья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иваныч. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать: «Un, deux, trois, un, deux, trois»[8], – еще громче и повелительнее, чем прежде.
Карл Иваныч, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению, с немецким приветствием, подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Иванычу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку.
– Ich danke, lieber[9] Карл Иваныч, – и, продолжая говорить по-немецки, она спросила: – Хорошо ли спали дети?
Карл Иваныч был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слыхал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал:
– Вы меня извините, Наталья Николаевна?
Карл Иваныч, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз входя в гостиную, спрашивал на это позволения.
– Наденьте, Карл Иваныч… Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети? – сказала maman, подвинувшись к нему и довольно громко.
Но он опять ничего не слыхал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался.
– Постойте на минутку, Мими, – сказала maman Марье Ивановне с улыбкой, – ничего не слышно.
Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотою лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.
Поздоровавшись со мною, maman взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:
– Ты плакал сегодня?
Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила:
– О чем ты плакал?
Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве.
– Это я во сне плакал, maman, – сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли.
Карл Иваныч подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде, – разговор, в котором приняла участие и Мими, – maman положила на поднос шесть кусочков сахару для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пяльцам, которые стояли у окна.
– Ну, ступайте теперь к папа́, дети, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно.
Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название официантской, мы вошли в кабинет.
Глава III Папа
Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте, между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами.
Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно – выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а впрочем, воля ваша!
Увидев нас, папа только сказал:
– Погодите, сейчас.
И показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее.
– Ах, боже мой милостивый! что с тобой нынче, Яков? – продолжал он к приказчику, подергивая плечом (у него была эта привычка). – Этот конверт со вложением восьмисот рублей…
Яков подвинул счеты, кинул восемьсот и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше.
– …для расходов по экономии в моем отсутствии. Понимаешь? За мельницу ты должен получить тысячу рублей… так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно восемь тысяч; за сено, которого, по твоему же расчету, можно продать семь тысяч пудов, – кладу по сорок пять копеек, – ты получишь три тысячи: следовательно, всех денег у тебя будет сколько? Двенадцать тысяч… так или нет?
– Так точно-с, – сказал Яков.
Но по быстроте движений пальцами я заметил, что он хотел возразить; папа перебил его:
– Ну, из этих-то денег ты и пошлешь десять тысяч в Совет за Петровское. Теперь деньги, которые находятся в конторе, – продолжал папа (Яков смешал прежние двенадцать тысяч и кинул двадцать одну тысячу), – ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе. (Яков смешал счеты и перевернул их, показывая, должно быть, этим, что и деньги двадцать одна тысяча пропадут так же.) Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу.
Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано: «Карлу Ивановичу Мауеру».
Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание, на всякий же случай поцеловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече.
– Слушаю-с, – сказал Яков. – А какое приказание будет насчет хабаровских денег?
Хабаровка была деревня maman.
– Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания.
Яков помолчал несколько секунд; потом вдруг пальцы его завертелись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказания, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счеты и начал говорить:
– Позвольте вам доложить, Петр Александрыч, что как вам будет угодно, а в Совет к сроку заплатить нельзя. Вы изволите говорить, – продолжал он с расстановкой, – что должны получиться деньги с залогов, с мельницы и с сена… (Высчитывая эти статьи, он кинул их на кости.) Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчетах, – прибавил он, помолчав немного и глубокомысленно взглянув на папа.
– Отчего?
– А вот изволите видеть: насчет мельницы, так мельник уже два раза приходил ко мне отсрочки просить и Христом Богом божился, что денег у него нет… да он и теперь здесь: так не угодно ли вам будет самим с ним поговорить?
– Что же он говорит? – спросил папа, делая головою знак, что не хочет говорить с мельником.
– Да известно что, говорит, что помолу совсем не было, что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, судырь, так опять-таки найдем ли тут расчет? Насчет залогов изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели и скоро их получить не придется. Я намедни посылал в город к Ивану Афанасьичу воз муки и записку об этом деле: так они опять-таки отвечают, что и рад бы стараться для Петра Александрыча, но дело не в моих руках, а что, как по всему видно, так вряд ли и через два месяца получится ваша квитанция. Насчет сена изволили говорить, положим, что и продастся на три тысячи…
Он кинул на счеты три тысячи и с минуту молчал, посматривая то на счеты, то в глаза папа, с таким выражением: «Вы сами видите, как это мало! Да и на сене опять-таки проторгуем, коли его теперь продавать, вы сами изволите знать…»
Видно было, что у него еще большой запас доводов; должно быть, поэтому папа перебил его.
– Я распоряжений своих не переменю, – сказал он, – но если в получении этих денег действительно будет задержка, то, нечего делать, возьмешь из хабаровских, сколько нужно будет.
– Слушаю-с.
По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие.
Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек; он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина на счет собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имений на Петровское (село, в котором мы жили). В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом.
Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьезно учиться.
– Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою, – сказал он. – Вы будете жить у бабушки, a maman с девочками остается здесь. И вы это знайте, что одно для нее будет утешение – слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны.
Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного, однако новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел и дрожащим голосом передал поручение матушки.
«Так вот что предвещал мне мой сон! – подумал я, – дай бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже».
Мне очень, очень жалко стало матушку, и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня.
«Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет; это славно! – думал я. – Однако жалко Карла Иваныча. Его, верно, отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта… Уж лучше бы век учиться да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Иваныча. Он и так очень несчастлив!»
Мысли эти мелькали в моей голове; я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков.
Сказав с Карлом Иванычем еще несколько слов о понижении барометра и приказав Якову не кормить собак, с тем чтобы на прощанье выехать после обеда послушать молодых гончих, папа, против моего ожидания, послал нас учиться, утешив, однако, обещанием взять на охоту.
По дороге на верх я забежал на террасу. У дверей на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца – Милка.
– Милочка, – говорил я, лаская ее и целуя в морду, – мы нынче едем; прощай! никогда больше не увидимся.
Я расчувствовался и заплакал.
Глава IV Классы
Карл Иваныч был очень не в духе. Это было заметно по его сдвинутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод, и как сердито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы означить то место, до которого мы должны были вытвердить. Володя учился порядочно; я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу диалогов, но от слез, набиравшихся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать; когда же пришло время говорить их Карлу Иванычу, который, зажмурившись, слушал меня (это был дурной признак), именно на том месте, где один говорит: «Wo kommen Sie her?»[10], а другой отвечает: «Ich komme vom Kaffe-Hause»[11], – я не мог более удерживать слез и от рыданий не мог произнести: «Haben Sie die Zeitung nicht gelesen?»[12] Когда дошло дело до чистописания, я от слез, падавших на бумагу, наделал таких клякс, как будто писал водой на оберточной бумаге.
Карл Иваныч рассердился, поставил меня на колени, твердил, что это упрямство, кукольная комедия (это было любимое его слово), угрожал линейкой и требовал, чтобы я просил прощенья, тогда как я от слез не мог слова вымолвить; наконец, должно быть, чувствуя свою несправедливость, он ушел в комнату Николая и хлопнул дверью.
Из классной слышен был разговор в комнате дядьки.
– Ты слышал, Николай, что дети едут в Москву? – сказал Карл Иваныч, входя в комнату.
– Как же-с, слышал.
Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Иваныч сказал: «Сиди, Николай!» – и вслед за этим затворил дверь. Я вышел из угла и подошел к двери подслушивать.
– Сколько ни делай добра людям, как ни будь привязан, видно, благодарности нельзя ожидать, Николай? – говорил Карл Иваныч с чувством.
Николай, сидя у окна за сапожной работой, утвердительно кивнул головой.
– Я двенадцать лет живу в этом доме и могу сказать перед богом, Николай, – продолжал Карл Иваныч, поднимая глаза и табакерку к потолку, – что я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети. Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка, помнишь, как я девять дней, не смыкая глаз, сидел у его постели. Да! тогда я был добрый, милый Карл Иваныч, тогда я был нужен; а теперь, – прибавил он, иронически улыбаясь, – теперь дети большие стали: им надо серьезно учиться. Точно они здесь не учатся, Николай?
– Как же еще учиться, кажется, – сказал Николай, положив шило и протягивая обеими руками дратвы.
– Да, теперь я не нужен стал, меня и надо прогнать; а где обещания? где благодарность? Наталью Николаевну я уважаю и люблю, Николай, – сказал он, прикладывая руку к груди, – да что она?.. ее воля в этом доме все равно, что вот это, – при этом он с выразительным жестом кинул на пол обрезок кожи. – Я знаю, чьи это штуки и отчего я стал не нужен: оттого, что я не льщу и не потакаю во всем, как иные люди. Я привык всегда и перед всеми говорить правду, – сказал он гордо. – Бог с ними! Оттого, что меня не будет, они не разбогатеют, а я, бог милостив, найду себе кусок хлеба… не так ли, Николай?
Николай поднял голову и посмотрел на Карла Иваныча так, как будто желая удостовериться, действительно ли может он найти кусок хлеба, – но ничего не сказал.
Много и долго говорил в этом духе Карл Иваныч: говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил (мне очень больно было это слышать), говорил о Саксонии, о своих родителях, о друге своем портном Schönheit и т. д., и т. д.
Я сочувствовал его горю, и мне больно было, что отец и Карл Иваныч, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга; я опять отправился в угол, сел на пятки и рассуждал о том, как бы восстановить между ними согласие.
Вернувшись в классную, Карл Иваныч велел мне встать и приготовить тетрадь для писания под диктовку. Когда все было готово, он величественно опустился в свое кресло и голосом, который, казалось, выходил из какой-то глубины, начал диктовать следующее: «Von al-len Lei-den-schaf-ten die grau-samste ist… haben Sie geschrieben?»[13] Здесь он остановился, медленно понюхал табаку и продолжал с новой силой: «Die grausamste ist die Un-dank-bar-keit… Ein grosess U»[14]. В ожидании продолжения, написав последнее слово, я посмотрел на него.
– Punctum[15], – сказал он с едва заметной улыбкой и сделал знак, чтобы мы подали ему тетради.
Несколько раз, с различными интонациями и с выражением величайшего удовольствия, прочел он это изречение, выражавшее его задушевную мысль; потом задал нам урок из истории и сел у окна. Лицо его не было угрюмо, как прежде; оно выражало довольство человека, достойно отмстившего за нанесенную ему обиду.
Было без четверти час, но Карл Иваныч, казалось, и не думал о том, чтобы отпустить нас, он то и дело задавал новые уроки. Скука и аппетит увеличивались в одинаковой мере. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда. Вот дворовая женщина с мочалкой идет мыть тарелки, вот слышно, как шумят посудой в буфете, раздвигают стол и ставят стулья, вот и Мими с Любочкой и Катенькой (Катенька – двенадцатилетняя дочь Мими) идут из саду; но не видать Фоки – дворецкого Фоки, который всегда приходит и объявляет, что кушать готово. Тогда только можно будет бросить книги и, не обращая внимания на Карла Иваныча, бежать вниз.
Вот слышны шаги по лестнице; но это не Фока! Я изучил его походку и всегда узнаю скрип его сапогов. Дверь отворилась, и в ней показалась фигура, мне совершенно незнакомая.
Глава V Юродивый
В комнату вошел человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение.
– Ага! попались! – закричал он, маленькими шажками подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку, – потом с совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее. – О-ох жалко! О-ох больно!.. сердечные… улетят, – заговорил он потом дрожащим от слез голосом, с чувством всматриваясь в Володю, и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы.
Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неровны, речь бессмысленна и несвязна (он никогда не употреблял местоимений), но ударения так трогательны и желтое уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно печальное выражение, что, слушая его, нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти.
Это был юродивый и странник Гриша.
Откуда был он? кто были его родители? что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? Никто не знал этого. Знаю только то, что он с пятнадцатого года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй.
Наконец явился давно желанный и пунктуальный Фока, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестницы. Папа и maman ходили рука об руку по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Марья Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично, под прямым углом, примыкавшем к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставления сидевшим подле нее девочкам. Как только Карл Иваныч вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась, и лицо ее приняло выражение, которое можно передать так: я вас не замечаю, Карл Иваныч. По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие; но вскочить с своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать: «Bonjour, Mimi!», шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры.
Что за несносная особа была эта Мими! При ней, бывало, ни о чем нельзя было говорить: она все находила неприличным. Сверх того, она беспрестанно приставала «Parlez donc français»[16], a тут-то, как назло, так и хочется болтать по-русски; или за обедом – только что войдешь во вкус какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно: «Mangez donc avec du pain» или «Comment ce que vous tenez votre fourchette?»[17] «И какое ей до нас дело! – подумаешь. – Пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иваныч». Я вполне разделял его ненависть к иным людям.
– Попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту, – сказала Катенька шепотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперед в столовую.
– Хорошо, постараемся.
Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком; он не поднимал глаз с своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримасы и говорил, как будто сам с собою: «Жалко!.. улетела… улетит голубь в небо… ох, на могиле камень!..» и т. п.
Maman с утра была расстроена; присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение.
– Ах да, я было и забыла попросить тебя об одной вещи, – сказала она, подавая отцу тарелку с супом.
– Что такое?
– Вели, пожалуйста, запирать своих страшных собак, а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они этак и на детей могут броситься.
Услыхав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривать:
– Хотел, чтобы загрызли… Бог не попустил. Грех собаками травить! большой грех! Не бей, большак[18], что бить? Бог простит… дни не такие.
– Что это он говорит? – спросил папа, пристально и строго рассматривая его. – Я ничего не понимаю.
– А я понимаю, – отвечала maman, – он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак, так он и говорит: «Хотел, чтобы загрызли, но бог не попустил», – и просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его.
– А! вот что! – сказал папа. – Почем же он знает, что я хочу наказывать этого охотника? Ты знаешь, я вообще не большой охотник до этих господ, – продолжал он по-французски, – но этот особенно мне не нравится и должен быть…
– Ах, не говори этого, мой друг, – прервала его maman, как будто испугавшись чего-нибудь, – почем ты знаешь?
– Кажется, я имел случай изучить эту породу людей – их столько к тебе ходит, – все на один покрой. Вечно одна и та же история…
Видно было, что матушка на этот счет была совершенно другого мнения и не хотела спорить.
– Передай мне, пожалуйста, пирожок, – сказала она. – Что, хороши ли они нынче?
– Нет, меня сердит, – продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы maman не могла достать его, – нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман.
И он ударил вилкой по столу.
– Я тебя просила передать мне пирожок, – повторила она, протягивая руку.
– И прекрасно делают, – продолжал папа, отодвигая руку, – что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабые нервы некоторых особ, – прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подал ей пирожок.
– Я на это тебе только одно скажу: трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои шестьдесят лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем вериги в два пуда весом и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом, – трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени. Насчет предсказаний, – прибавила она со вздохом и помолчав немного, – je сuis payée pour y croire[19]; я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час предсказал покойнику папеньке его кончину.
– Ах, что ты со мной сделала! – сказал папа, улыбаясь и приставив руку ко рту с той стороны, с которой сидела Мими. (Когда он это делал, я всегда слушал с напряженным вниманием, ожидая чего-нибудь смешного.) – Зачем ты мне напомнила об его ногах? я посмотрел и теперь ничего есть не буду.
Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертелись на своих стульях и вообще изъявляли сильное беспокойство. Подмигивание это значило: «Что же вы не просите, чтобы нас взяли на охоту?» Я толкнул локтем Володю, Володя толкнул меня и, наконец, решился: сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко, он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту, в линейке. После небольшого совещания между большими вопрос этот решен был в нашу пользу, и – что было еще приятнее – maman сказала, что она сама поедет с нами.
Глава VI Приготовления к охоте
Во время пирожного был позван Яков и отданы приказания насчет линейки, собак и верховых лошадей – всё с величайшею подробностию, называя каждую лошадь по имени. Володина лошадь хромала; папа велел оседлать для него охотничью. Это слово: «охотничья лошадь» – как-то странно звучало в ушах maman: ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то вроде бешеного зверя и что она непременно понесет и убьет Володю. Несмотря на увещания папа и Володи, который с удивительным молодечеством говорил, что это ничего и что он очень любит, когда лошадь несет, бедняжка maman продолжала твердить, что она все гулянье будет мучиться.
Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упадшими желтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о том, что Володя поедет на охотничьей лошади, о том, как стыдно, что Любочка тише бегает, чем Катенька, о том, что интересно было бы посмотреть вериги Гриши, и т. д.; о том же, что мы расстаемся, ни слова не было сказано. Разговор наш был прерван стуком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидело по дворовому мальчику. За линейкой ехали охотники с собаками, за охотниками – кучер Игнат на назначенной Володе лошади и вел в поводу моего старинного клепера. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи, а потом с визгом и топотом побежали на верх одеваться, и одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных к тому средств было всучивание панталон в сапоги. Нимало не медля, мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать на крыльцо, наслаждаться видом собак, лошадей и разговором с охотниками.
День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра показались на горизонте; потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернели тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться: одни побледнели, подлиннели и бежали на горизонт; другие, над самой головой, превратились в белую прозрачную чешую; одна только черная большая туча остановилась на востоке. Карл Иваныч всегда знал, куда какая туча пойдет; он объявил, что эта туча пойдет к Масловке, что дождя не будет и погода будет превосходная.
Фока, несмотря на свои преклонные лета, сбежал с лестницы очень ловко и скоро, крикнул: «Подавай!» – и, раздвинув ноги, твердо стал посредине подъезда, между тем местом, куда должен был подкатить линейку кучер, и порогом, в позиции человека, которому не нужно напоминать о его обязанности. Барыни сошли и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться (хотя, мне кажется, совсем не нужно было держаться), уселись, раскрыли зонтики и поехали. Когда линейка тронулась, maman, указывая на «охотничью лошадь», спросила дрожащим голосом у кучера:
– Эта для Владимира Петровича лошадь?
И когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я был в сильном нетерпении: взлез на свою лошадку, смотрел ей между ушей и делал по двору разные эволюции.
– Собак не извольте раздавить, – сказал мне какой-то охотник.
– Будь покоен: мне не в первый раз, – отвечал я гордо.
Володя сел на «охотничью лошадь», несмотря на твердость своего характера, не без некоторого содрогания, и, оглаживая ее, несколько раз спросил:
– Смирна ли она?
На лошади же он был очень хорош – точно большой. Обтянутые ляжки его лежали на седле так хорошо, что мне было завидно, – особенно потому, что, сколько я мог судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида.
Вот послышались шаги папа на лестнице; выжлятник подогнал отрыскавших гончих; охотники с борзыми подозвали своих и стали садиться. Стремянный подвел лошадь к крыльцу; собаки своры папа, которые прежде лежали в разных живописных позах около нее, бросились к нему. Вслед за ним, в бисерном ошейнике, побрякивая железкой, весело выбежала Милка. Она, выходя, всегда здоровалась с псарными собаками: с одними поиграет, с другими понюхается и порычит, а у некоторых поищет блох.
Папа сел на лошадь, и мы поехали.
Глава VII Охота
Доезжачий, прозывавшийся Турка, на голубой горбоносой лошади, в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе, ехал впереди всех. По мрачной и свирепой наружности этого человека скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. Около задних ног его лошади пестрым, волнующимся клубком бежали сомкнутые гончие. Жалко было видеть, какая участь постигала ту несчастную, которой вздумывалось отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из выжлятников, ехавших сзади, непременно хлопал по ней арапником, приговаривая: «В кучу!» Выехав за ворота, папа велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернул в ржаное поле.
Хлебная уборка была во всем разгаре. Необозримое блестяще-желтое поле замыкалось только с одной стороны высоким синеющим лесом, который тогда казался мне самым отдаленным, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Все поле было покрыто копнами и народом. В высокой густой ржи виднелись кой-где на выжатой полосе согнутая спина жницы, взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина в тени, нагнувшаяся над люлькой, и разбросанные снопы по усеянному васильками жнивью. В другой стороне мужики в одних рубахах, стоя на телегах, накладывали копны и пылили по сухому, раскаленному полю. Староста, в сапогах и армяке внакидку, с бирками в руке, издалека заметив папа, снял свою поярковую шляпу, утирал рыжую голову и бороду полотенцем и покрикивал на баб. Рыженькая лошадка, на которой ехал папа, шла легкой, игривой ходой, изредка опуская голову к груди, вытягивая поводья и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на нее. Две борзые собаки, напряженно загнув хвост серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жнивью, за ногами лошади; Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говор народа, топот лошадей и телег, веселый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-желтому жнивью, синей дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жнивью, – все это я видел, слышал и чувствовал.
Подъехав к Калиновому лесу, мы нашли линейку уже там и, сверх всякого ожидания, еще телегу в одну лошадь, на середине которой сидел буфетчик. Из-под сена виднелись: самовар, кадка с мороженой формой и еще кой-какие привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться: это был чай на чистом воздухе, мороженое и фрукты. При виде телеги мы изъявили шумную радость, потому что пить чай в лесу на траве и вообще на таком месте, на котором никто и никогда не пивал чаю, считалось большим наслаждением.
Турка подъехал к острову, остановился, внимательно выслушал от папа подробное наставление, как равняться и куда выходить (впрочем, он никогда не соображался с этим наставлением, а делал по-своему), разомкнул собак, не спеша второчил смычки, сел на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми березками. Разомкнутые гончие прежде всего маханиями хвостов выразили свое удовольствие, встряхнулись, оправились и потом уже маленькой рысцой, принюхиваясь и махая хвостами, побежали в разные стороны.
– Есть у тебя платок? – спросил папа.
Я вынул из кармана и показал ему.
– Ну, так возьми на платок эту серую собаку…
– Жирана? – сказал я с видом знатока.
– Да, и беги по дороге. Когда придет полянка, остановись и смотри: ко мне без зайца не приходить!
Я обмотал платком мохнатую шею Жирана и опрометью бросился бежать к назначенному месту. Папа смеялся и кричал мне вслед:
– Скорей, скорей, а то опоздаешь.
Жиран беспрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался к порсканью охотников. У меня недоставало сил стащить его с места, и я начинал кричать: «Ату! ату!» Тогда Жиран рвался так сильно, что я насилу мог удерживать его и не раз упал, покуда добрался до места. Избрав у корня высокого дуба тенистое и ровное место, я лег на траву, усадил подле себя Жирана и начал ожидать. Воображение мое, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперед действительности: я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время как отозвалась в лесу первая гончая. Голос Турки громче и одушевленнее раздался по лесу; гончая взвизгивала, и голос ее слышался чаще и чаще; к нему присоединился другой, басистый голос, потом третий, четвертый… Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее и, наконец, слились в один звонкий, заливистый гул. Остров был голосистый, и гончие варили варом.
Услыхав это, я замер на своем месте. Вперив глаза в опушку, я бессмысленно улыбался; пот катился с меня градом, и хотя капли его, сбегая по подбородку, щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты. Положение этой напряженности было слишком неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончие то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня; зайца не было. Я стал смотреть по сторонам. С Жираном было то же самое: сначала он рвался и взвизгивал, потом лег подле меня, положил морду мне на колени и успокоился.
Около оголившихся корней того дуба, под которым я сидел, по серой, сухой земле, между сухими дубовыми листьями, желудьми, пересохшими, обомшалыми хворостинками, желто-зеленым мхом и изредка пробивавшимися тонкими зелеными травками кишмя кишели муравьи. Они один за другим торопились по пробитым ими торным дорожкам: некоторые с тяжестями, другие порожняком. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под нее, другие перелезали через, а некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что делать: останавливались, искали обхода, или ворочались назад, или по хворостинке добирались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки. От этих интересных наблюдений я был отвлечен бабочкой с желтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво вилась передо мною. Как только я обратил на нее внимание, она отлетела от меня шага на два, повилась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли ее пригрело, или она брала сок из этой травки, – только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку, наконец, совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на нее.
Вдруг Жиран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову, и я все забыл в эту минуту: закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться: заяц присел, сделал прыжок и больше я его не видал.
Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из-за кустов показался Турка! Он видел мою ошибку (которая состояла в том, что я не выдержал) и, презрительно взглянув на меня, сказал только: «Эх, барин!» Но надо знать, как это было сказано! Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло.
Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя по ляжкам:
– Боже мой, что я наделал!
Я слышал, как гончие погнали дальше, как заатукали на другой стороне острова, отбили зайца и как Турка в свой огромный рог вызывал собак, – но все не трогался с места…
Глава VIII Игры
Охота кончилась. В тени молодых березок был разостлан ковер, и на ковре кружком сидело все общество. Буфетчик Гаврило, примяв около себя зеленую, сочную траву, перетирал тарелки и доставал из коробочки завернутые в листья сливы и персики. Сквозь зеленые ветви молодых берез просвечивало солнце и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на плешивую вспотевшую голову Гаврилы круглые колеблющиеся просветы. Легкий ветерок, пробегая по листве деревьев, по моим волосам и вспотевшему лицу, чрезвычайно освежал меня.
Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косые, палящие лучи солнца, встали и отправились играть.
– Ну, во что? – сказала Любочка, щурясь от солнца и припрыгивая по траве. – Давайте в Робинзона.
– Нет… скучно, – сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая листья, – вечно Робинзон! Ежели непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить.
Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, что очень устал. Может быть, и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта состояла в представлении сцен из «Robinson Suisse»[20], которого мы читали незадолго пред этим.
– Ну, пожалуйста… отчего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия? – приставали к нему девочки. – Ты будешь Charles, или Ernest, или отец – как хочешь? – говорила Катенька, стараясь за рукав курточки приподнять его с земли.
– Право, не хочется – скучно! – сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь.
– Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть, – сквозь слезы выговорила Любочка.
Она была страшная плакса.
– Ну, пойдемте; только не плачь, пожалуйста: терпеть не могу!
Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия; напротив, его ленивый и скучный вид разрушал все очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего с позой рыболова. Я заметил ему это; но он отвечал, что оттого, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне неприятны, тем более что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно.
Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула были тройка лошадей, – и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге! и как весело и скоро проходили зимние вечера!.. Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остается?..
Глава IX Что-то вроде первой любви
Представляя, что она рвет с дерева какие-то американские фрукты, Любочка сорвала на одном листке огромной величины червяка, с ужасом бросила его на землю, подняла руки кверху и отскочила, как будто боясь, чтобы из него не брызнуло чего-нибудь. Игра прекратилась: мы все, головами вместе, припали к земле – смотреть эту редкость.
Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге.
Я заметил, что многие девочки имеют привычку подергивать плечами, стараясь этим движением привести спустившееся платье с открытой шеей на настоящее место. Еще помню, что Мими всегда сердилась за это движение и говорила: «C’est un geste de femme de chambre»[21]. Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение, и в то же время ветер поднял косыночку с ее беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на два пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка, смотрел-смотрел и изо всех сил поцеловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметил, что шейка ее и уши покраснели. Володя, не поднимая головы, презрительно сказал:
– Что за нежности?
У меня же были слезы на глазах.
Я не спускал глаз с Катеньки. Я давно уже привык к ее свеженькому белокуренькому личику и всегда любил его; но теперь я внимательнее стал всматриваться в него и полюбил еще больше. Когда мы подошли к большим, папа, к великой нашей радости, объявил, что, по просьбе матушки, поездка отложена до завтрашнего утра.
Мы поехали назад вместе с линейкой. Володя и я, желая превзойти один другого искусством ездить верхом и молодечеством, гарцевали около нее. Тень моя была длиннее, чем прежде, и, судя по ней, я предполагал, что имею вид довольно красивого всадника; но чувство самодовольства, которое я испытывал, было скоро разрушено следующим обстоятельством. Желая окончательно прельстить всех сидевших в линейке, я отстал немного, потом с помощью хлыста и ног разогнал свою лошадку, принял непринужденно-грациозное положение и хотел вихрем пронестись мимо их, с той стороны, с которой сидела Катенька. Я не знал только, что лучше: молча ли проскакать или крикнуть? Но несносная лошадка, поравнявшись с упряжными, несмотря на все мои усилия, остановилась так неожиданно, что я перескочил с седла на шею и чуть-чуть не полетел.
Глава X Что за человек был мой отец?
Он был человек прошлого века и имел общий молодежи того века неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула. На людей нынешнего века он смотрел презрительно, и взгляд этот происходил столько же от врожденной гордости, сколько от тайной досады за то, что в наш век он не мог иметь ни того влияния, ни тех успехов, которые имел в свой. Две главные страсти его в жизни были карты и женщины; он выиграл в продолжение своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий.
Большой статный рост, странная, маленькими шажками, походка, привычка подергивать плечом, маленькие, всегда улыбающиеся глазки, большой орлиный нос, неправильные губы, которые как-то неловко, но приятно складывались, недостаток в произношении – пришепетывание, и большая во всю голову лысина: вот наружность моего отца, с тех пор как я его запомню, – наружность, с которою он умел не только прослыть и быть человеком а bonnes fortunes[22], но нравиться всем без исключения – людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым хотел нравиться.
Он умел взять верх в отношениях со всяким. Не быв никогда человеком очень большого света, он всегда водился с людьми этого круга, и так, что был уважаем. Он знал ту крайнюю меру гордости и самонадеянности, которая, не оскорбляя других, возвышала его в мнении света. Он был оригинален, но не всегда, а употреблял оригинальность как средство, заменяющее в иных случаях светскость или богатство. Ничто на свете не могло возбудить в нем чувства удивления: в каком бы он ни был блестящем положении, – казалось, он для него был рожден. Он так хорошо умел скрывать от других и удалять от себя известную всем темную, наполненную мелкими досадами и огорчениями сторону жизни, что нельзя было не завидовать ему. Он был знаток всех вещей, доставляющих удобства и наслаждения, и умел пользоваться ими. Конек его был блестящие связи, которые он имел частию по родству моей матери, частию по своим товарищам молодости, на которых он в душе сердился за то, что они далеко ушли в чинах, а он навсегда остался отставным поручиком гвардии. Он, как и все бывшие военные, не умел одеваться по-модному; но зато он одевался оригинально и изящно. Всегда очень широкое и легкое платье, прекрасное белье, большие отвороченные манжеты и воротнички… Впрочем, все шло к его большому росту, сильному сложению, лысой голове и спокойным, самоуверенным движениям. Он был чувствителен и даже слезлив. Часто, читая вслух, когда он доходил до патетического места, голос его начинал дрожать, слезы показывались, и он с досадой оставлял книгу. Он любил музыку, певал, аккомпанируя себе на фортепьяно, романсы приятеля своего А…, цыганские песни и некоторые мотивы из опер; но ученой музыки не любил и, не обращая внимания на общее мнение, откровенно говорил, что сонаты Бетховена нагоняют на него сон и скуку и что он не знает лучше ничего, как «Не будите меня, молоду», как ее певала Семенова, и «Не одна», как певала цыганка Танюша. Его натура была одна из тех, которым для хорошего дела необходима публика. И то только он считал хорошим, что называла хорошим публика. Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные убеждения? Жизнь его была так полна увлечениями всякого рода, что ему некогда было составлять себе их, да он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости.
В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменные правила, – но единственно на основании практическом: те поступки и образ жизни, которые доставляли ему счастие или удовольствия, он считал хорошими и находил, что так всегда и всем поступать должно. Он говорил очень увлекательно, и эта способность, мне кажется, усиливала гибкость его правил: он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую шалость и как низкую подлость.
Глава XI Занятия в кабинете и гостиной
Уже смеркалось, когда мы приехали домой. Maman села за рояль, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска; но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собак, я не знал наверное, можно ли нарисовать синего зайца, и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то и на вопрос мой: «Бывают ли синие зайцы?», не поднимая головы, отвечал: «Бывают, мой друг, бывают». Возвратившись к круглому столу, я изобразил синего зайца, потом нашел нужным переделать из синего зайца куст. Куст тоже мне не понравился; я сделал из него дерево, из дерева – скирд, из скирда – облако и, наконец, так испачкал всю бумагу синей краской, что с досады разорвал ее и пошел дремать на вольтеровское кресло.
Maman играла второй концерт Фильда – своего учителя. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. Maman часто играла эти две пьесы; поэтому я очень хорошо помню чувство, которое они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминание; но воспоминание чего? казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было.
Против меня была дверь в кабинет, и я видел, как туда вошли Яков и еще какие-то люди в кафтанах и с бородами. Дверь тотчас затворилась за ними. «Ну, начались занятия!» – подумал я. Мне казалось, что важнее тех дел, которые делались в кабинете, ничего в мире быть не могло; в этой мысли подтверждало меня еще то, что к дверям кабинета все подходили обыкновенно перешептываясь и на цыпочках; оттуда же был слышен громкий голос папа и запах сигары, который всегда, не знаю почему, меня очень привлекал. Впросонках меня вдруг поразил очень знакомый скрип сапогов в официантской. Карл Иваныч, на цыпочках, но с лицом мрачным и решительным, с какими-то записками в руке, подошел к двери и слегка постучался. Его впустили, и дверь опять захлопнулась.
«Как бы не случилось какого-нибудь несчастия, – подумал я, – Карл Иваныч рассержен: он на все готов…»
Я опять задремал.
Однако несчастия никакого не случилось; через час времени меня разбудил тот же скрип сапогов. Карл Иваныч, утирая платком слезы, которые я заметил на его щеках, вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел на верх. Вслед за ним вышел папа и вошел в гостиную.
– Знаешь, что́ я сейчас решил? – сказал он веселым голосом, положив руку на плечо maman.
– Что, мой друг?
– Я беру Карла Иваныча с детьми. Место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, точно привязан; а семьсот рублей в год никакого счета не делают, et puis au fond c’est un très bon diable[23].
Я никак не мог постигнуть, зачем папа бранит Карла Иваныча.
– Я очень рада, – сказала maman, – за детей, за него: он славный старик.
– Если бы ты видела, как он был тронут, когда я ему сказал, чтобы он оставил эти пятьсот рублей в виде подарка… но что забавнее всего – это счет, который он принес мне. Это стоит посмотреть, – прибавил он с улыбкой, подавая ей записку, написанную рукою Карла Иваныча, – прелесть!
Вот содержание этой записки:
«Для детьей два удочка – 70 копек.
Цветной бумага, золотой коемочка, клестир и болван для коробочка, в подарках – 6 р. 55 к.
Книга и лук, подарка детьям – 8 р. 16 к.
Панталон Николаю – 4 рубли.
Обещаны Петром Алексантровичь из Москву в 18.. году золотые часы в 140 рублей.
Итого следует получить Карлу Мауеру, кроме жалованию – 159 рублей 79 копек».
Прочтя эту записку, в которой Карл Иваныч требует, чтобы ему заплатили все деньги, издержанные им на подарки, и даже заплатили бы за обещанный подарок, всякий подумает, что Карл Иваныч больше ничего, как бесчувственный и корыстолюбивый себялюбец, – и всякий ошибется.
Войдя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, он намеревался красноречиво изложить перед папа все несправедливости, претерпенные им в нашем доме; но когда он начал говорить тем же трогательным голосом и с теми же чувствительными интонациями, с которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого; так что, дойдя до того места, в котором он говорил: «как ни грустно мне будет расстаться с детьми», он совсем сбился, голос его задрожал, и он принужден был достать из кармана клетчатый платок.
– Да, Петр Александрыч, – сказал он сквозь слезы (этого места совсем не было в приготовленной речи), – я так привык к детям, что не знаю, что буду делать без них. Лучше я без жалованья буду служить вам, – прибавил он, одной рукой утирая слезы, а другой подавая счет.
Что Карл Иваныч в эту минуту говорил искренно, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце; но каким образом согласовался счет с его словами, остается для меня тайной.
– Если вам грустно, то мне было бы еще грустнее расстаться с вами, – сказал папа, потрепав его по плечу, – я теперь раздумал.
Незадолго перед ужином в комнату вошел Гриша. Он с самого того времени, как вошел в наш дом, не переставал вздыхать и плакать, что, по мнению тех, которые верили в его способность предсказывать, предвещало какую-нибудь беду нашему дому. Он стал прощаться и сказал, что завтра утром пойдет дальше. Я подмигнул Володе и вышел в дверь.
– Что?
– Если хотите посмотреть Гришины вериги, то пойдемте сейчас на мужской верх – Гриша спит во второй комнате, – в чулане прекрасно можно сидеть, и мы всё увидим.
– Отлично! Подожди здесь: я позову девочек.
Девочки выбежали, и мы отправились на верх. Не без спору решив, кому первому войти в темный чулан, мы уселись и стали ждать.
Глава XII Гриша
Нам всем было жутко в темноте; мы жались один к другому и ничего не говорили. Почти вслед за нами тихими шагами вошел Гриша. В одной руке он держал свой посох, в другой – сальную свечу в медном подсвечнике. Мы не переводили дыхания.
– Господи Иисусе Христе! Мати Пресвятая Богородица! Отцу и Сыну и Святому духу… – вдыхая в себя воздух, твердил он с различными интонациями и сокращениями, свойственными только тем, которые часто повторяют эти слова.
С молитвой поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распоясав свой старенький черный кушак, он медленно снял изорванный нанковый зипун, тщательно сложил его и повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливости и тупоумия; напротив, он был спокоен, задумчив и даже величав. Движения его были медленны и обдуманны.
Оставшись в одном белье, он тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон и, как видно было, с усилием – потому что он поморщился – поправил под рубашкой вериги. Посидев немного и заботливо осмотрев прорванное в некоторых местах белье, он встал, с молитвой поднял свечу в уровень с кивотом, в котором стояло несколько образов, перекрестился на них и перевернул свечу огнем вниз. Она с треском потухла.
В окна, обращенные на лес, ударяла почти полная луна. Длинная белая фигура юродивого с одной стороны была освещена бледными, серебристыми лучами месяца, с другой – черной тенью; вместе с тенями от рам падала на пол, стены и доставала до потолка. На дворе караульщик стучал в чугунную доску.
Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову и беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами, потом с трудом опустился на колени и стал молиться.
Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с большим одушевлением. Он начал говорить свои слова, с заметным усилием стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его), в том числе о матушке, о нас, молился о себе, просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи, твердил: «Боже, прости врагам моим!» – кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой резкий звук, ударяясь о землю.
Володя ущипнул меня очень больно за ногу; но я даже не оглянулся: потер только рукой то место и продолжал с чувством детского удивления, жалости и благоговения следить за всеми движениями и словами Гриши.
Вместо веселия и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца.
Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз сряду: «Господи помилуй», но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: «Прости мя, Господи, научи мя, что творить… научи мя, что творити, Господи!» – с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания… Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк.
Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхания. Гриша не шевелился; из груди его вырывались тяжелые вздохи; в мутном зрачке его кривого глаза, освещенного луною, остановилась слеза.
– Да будет воля твоя! – вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал, как ребенок.
Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование; но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти.
О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих – ты их не поверял рассудком… И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!..
Чувство умиления, с которым я слушал Гришу, не могло долго продолжаться, во-первых, потому, что любопытство мое было насыщено, а во-вторых, потому, что я отсидел себе ноги, сидя на одном месте, и мне хотелось присоединиться к общему шептанью и возне, которые слышались сзади меня в темном чулане. Кто-то взял меня за руку и шепотом сказал: «Чья это рука?» В чулане было совершенно темно; но по одному прикосновению и голосу, который шептал мне над самым ухом, я тотчас узнал Катеньку.
Совершенно бессознательно я схватил ее руку в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами. Катенька, верно, удивилась этому поступку и отдернула руку: этим движеньем она толкнула сломанный стул, стоявший в чулане. Гриша поднял голову, тихо оглянулся и, читая молитвы, стал крестить все углы. Мы с шумом и шепотом выбежали из чулана.
Глава XIII Наталья Савишна
В половине прошлого столетия по дворам села Хабаровки бегала в затрапезном платье босоногая, но веселая, толстая и краснощекая девка Наташка. По заслугам и просьбе отца ее, кларнетиста Саввы, дед мой взял ее в верх – находиться в числе женской прислуги бабушки. Горничная Наташка отличалась в этой должности кротостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на Наташку. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили ее грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дедушке просить позволенья выйти за Фоку замуж. Дедушка принял ее желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью за наказание на скотный двор в степную деревню. Через шесть месяцев, однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Возвратившись в затрапезке из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее нашла было и которая, она клялась, уже больше не возвратится. И действительно, она сдержала свое слово.
С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишной и надела чепец; весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою.
Когда подле матушки заменила ее гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были белье и вся провизия. Новые обязанности эти она исполняла с тем же усердием и любовью. Она вся жила в барском добре, во всем видела трату, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать.
Когда maman вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ее двадцатилетние труды и привязанность, она позвала ее к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана вольная Наталье Савишне, и сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать ежегодную пенсию в триста рублей. Наталья Савишна молча выслушала все это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, maman немного погодя вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной вольной.
– Что с вами, голубушка Наталья Савишна? – спросила maman, взяв ее за руку.
– Ничего, матушка, – отвечала она, – должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните… Что ж, я пойду.
Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слез, хотела уйти из комнаты. Maman удержала ее, обняла, и они обе расплакались.
С тех пор как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, ее любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, – тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование. Я так привык к ее бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов: а что, счастлива ли она? довольна ли?
Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в ее комнату, усядешься и начинаешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь ее присутствием. Всегда она бывала чем-нибудь занята: или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена ее комната, или записывала белье и, слушая всякий вздор, который я говорил, «как, когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Иваныча из Саксонии» и т. д., она приговаривала: «Да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого снутри – как теперь помню – были наклеены крашеное изображение какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок Володи, – вынимала из этого сундука куренье, зажигала его, и помахивая, говаривала:
– Это, батюшка, еще очаковское куренье. Когда ваш покойный дедушка – царство небесное – под турку ходили, так оттуда еще привезли. Вот уж последний кусочек остался, – прибавляла она со вздохом.
В сундуках, которыми была наполнена ее комната, было решительно все. Что бы ни понадобилось, обыкновенно говаривали: «Надо спросить у Натальи Савишны», – и действительно, порывшись немного, она находила требуемый предмет и говаривала: «Вот и хорошо, что припрятала». В сундуках этих были тысячи таких предметов, о которых никто в доме, кроме ее, не знал и не заботился.
Один раз я на нее рассердился. Вот как это было. За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть.
– Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она порадовалась на своего любимчика, – сказала maman.
Наталья Савишна вошла и, увидав лужу, которую я сделал, покачала головой; потом maman сказала ей что-то на ухо, и она, погрозившись на меня, вышла.
После обеда я в самом веселом расположении духа, припрыгивая, отправился в залу, как вдруг из-за двери выскочила Наталья Савишна с скатертью в руке, поймала меня и, несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны, начала тереть меня мокрым по лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!» Меня так это обидело, что я разревелся от злости.
«Как! – говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и захлебываясь от слез. – Наталья Савишна, просто Наталья, говорит мне ты и еще бьет меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно!»
Когда Наталья Савишна увидала, что я распустил слюни, она тотчас же убежала, а я, продолжая прохаживаться, рассуждал о том, как бы отплатить дерзкой Наталье за нанесенное мне оскорбление.
Через несколько минут Наталья Савишна вернулась, робко подошла ко мне и начала увещевать:
– Полноте, мой батюшка, не плачьте… простите меня, дуру… я виновата… уж вы меня простите, мой голубчик… вот вам.
Она вынула из-под платка корнет, сделанный из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня недоставало сил взглянуть в лицо доброй старушке; я, отвернувшись, принял подарок, и слезы потекли еще обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда.
Глава XIV Разлука
На другой день после описанных мною происшествий, в двенадцатом часу утра, коляска и бричка стояли у подъезда. Николай был одет по-дорожному, то есть штаны были всунуты в сапоги и старый сюртук туго-натуго подпоясан кушаком. Он стоял в бричке и укладывал шинели и подушки под сиденье; когда оно ему казалось высоко, он садился на подушки и, припрыгивая, обминал их.
– Сделайте божескую милость, Николай Дмитрич, нельзя ли к вам будет баринову щикатулку положить, – сказал запыхавшийся камердинер папа, высовываясь из коляски, – она маленькая.
– Вы бы прежде говорили, Михей Иваныч, – отвечал Николай скороговоркой и с досадой, изо всех сил бросая какой-то узелок на дно брички. – Ей-богу, голова и так кругом идет, а тут еще вы с вашими щикатулками, – прибавил он, приподняв фуражку и утирая с загорелого лба крупные капли пота.
Дворовые мужчины, в сюртуках, кафтанах, рубашках, без шапок, женщины, в затрапезах, полосатых платках, с детьми на руках, и босоногие ребятишки стояли около крыльца, посматривали на экипажи и разговаривали между собой. Один из ямщиков – сгорбленный старик в зимней шапке и армяке – держал в руке дышло коляски, потрогивал его и глубокомысленно посматривал на ход; другой – видный молодой парень, в одной белой рубахе с красными кумачовыми ластовицами, в черной поярковой шляпе черепеником, которую он, почесывая свои белокурые кудри, сбивал то на одно, то на другое ухо, – положил свой армяк на козлы, закинул туда же вожжи и, постегивая плетеным кнутиком, посматривал то на свои сапоги, то на кучеров, которые мазали бричку. Один из них, натужившись, держал подъем; другой, нагнувшись над колесом, тщательно мазал ось и втулку, – даже, чтобы не пропадал остальной на помазке деготь, мазнул им снизу по кругу. Почтовые, разномастные, разбитые лошади стояли у решетки и отмахивались от мух хвостами. Одни из них, выставляя свои косматые оплывшие ноги, жмурили глаза и дремали; другие от скуки чесали друг друга или щипали листья и стебли жесткого темно-зеленого папоротника, который рос подле крыльца. Несколько борзых собак – одни тяжело дышали, лежа на солнце, другие в тени ходили под коляской и бричкой и вылизывали сало около осей. Во всем воздухе была какая-то пыльная мгла, горизонт был серо-лилового цвета; но ни одной тучки не было на небе. Сильный западный ветер поднимал столбами пыль с дорог и полей, гнул макушки высоких лип и берез сада и далеко относил падавшие желтые листья. Я сидел у окна и с нетерпением ожидал окончания всех приготовлений.
Когда все собрались в гостиной около круглого стола, чтобы в последний раз провести несколько минут вместе, мне и в голову не приходило, какая грустная минута предстоит нам. Самые пустые мысли бродили в моей голове. Я задавал себе вопросы: какой ямщик поедет в бричке и какой в коляске? кто поедет с папа, кто с Карлом Иванычем? и для чего непременно хотят меня укутать в шарф и ваточную чуйку?
«Что я за неженка? авось не замерзну. Хоть бы поскорей это все кончилось: сесть бы и ехать».
– Кому прикажете записку о детском белье отдать? – сказала вошедшая, с заплаканными глазами и с запиской в руке, Наталья Савишна, обращаясь к maman.
– Николаю отдайте, да приходите же после с детьми проститься.
Старушка хотела что-то сказать, но вдруг остановилась, закрыла лицо платком и, махнув рукою, вышла из комнаты. У меня немного защемило в сердце, когда я увидал это движение; но нетерпение ехать было сильнее этого чувства, и я продолжал совершенно равнодушно слушать разговор отца с матушкой. Они говорили о вещах, которые заметно не интересовали ни того, ни другого: что нужно купить для дома? что сказать княжне Sophie и madame Julie? и хороша ли будет дорога?
Вошел Фока и точно тем же голосом, которым он докладывал «кушать готово», остановившись у притолоки, сказал: «Лошади готовы». Я заметил, что maman вздрогнула и побледнела при этом известии, как будто оно было для нее неожиданно.
Фоке приказано было затворить все двери в комнате. Меня это очень забавляло, «как будто все спрятались от кого-нибудь».
Когда все сели, Фока тоже присел на кончике стула; но только что он это сделал, дверь скрипнула, и все оглянулись. В комнату торопливо вошла Наталья Савишна и, не поднимая глаз, приютилась около двери на одном стуле с Фокой. Как теперь вижу я плешивую голову, морщинистое неподвижное лицо Фоки и сгорбленную добрую фигурку в чепце, из-под которого виднеются седые волосы. Они жмутся на одном стуле, и им обоим неловко.
Я продолжал быть беззаботен и нетерпелив. Десять секунд, которые просидели с закрытыми дверьми, показались мне за целый час. Наконец все встали, перекрестились и стали прощаться. Папа обнял maman и несколько раз поцеловал ее.
– Полно, мой дружок, – сказал папа, – ведь не навек расстаемся.
– Все-таки грустно! – сказала maman дрожащим от слез голосом.
Когда я услыхал этот голос, увидал ее дрожащие губы и глаза, полные слез, я забыл про все и мне так стало грустно, больно и страшно, что хотелось бы лучше убежать, чем прощаться с нею. Я понял в эту минуту, что, обнимая отца, она уже прощалась с нами.
Она столько раз принималась целовать и крестить Володю, что – полагая, что она теперь обратится ко мне, – я совался вперед; но она еще и еще благословляла его и прижимала к груди. Наконец я обнял ее и, прильнув к ней, плакал, плакал, ни о чем не думая, кроме своего горя.
Когда мы пошли садиться, в передней приступила прощаться докучная дворня. Их «пожалуйте ручку-с», звучные поцелуи в плечико и запах сала от их голов возбудили во мне чувство, самое близкое к огорчению у людей раздражительных. Под влиянием этого чувства я чрезвычайно холодно поцеловал в чепец Наталью Савишну, когда она вся в слезах прощалась со мною.
Странно то, что я как теперь вижу все лица дворовых и мог бы нарисовать их со всеми мельчайшими подробностями; но лицо и положение maman решительно ускользают из моего воображения: может быть, оттого, что во все это время я ни разу не мог собраться с духом взглянуть на нее. Мне казалось, что, если бы я это сделал, ее и моя горесть должны бы были дойти до невозможных пределов.
Я бросился прежде всех в коляску и уселся на заднем месте. За поднятым верхом я ничего не мог видеть, но какой-то инстинкт говорил мне, что maman еще здесь.
«Посмотреть ли на нее еще или нет?.. Ну, в последний раз!» – сказал я сам себе и высунулся из коляски к крыльцу. В это время maman с тою же мыслью подошла с противоположной стороны коляски и позвала меня по имени. Услыхав ее голос сзади себя, я повернулся к ней, но так быстро, что мы стукнулись головами; она грустно улыбнулась и крепко, крепко поцеловала меня в последний раз.
Когда мы отъехали несколько сажен, я решился взглянуть на нее. Ветер поднимал голубенькую косыночку, которою была повязана ее голова; опустив голову и закрыв лицо руками, она медленно всходила на крыльцо. Фока поддерживал ее.
Папа сидел со мной рядом и ничего не говорил; я же захлебывался от слез, и что-то так давило мне в горле, что я боялся задохнуться… Выехав на большую дорогу, мы увидали белый платок, которым кто-то махал с балкона. Я стал махать своим, и это движение немного успокоило меня. Я продолжал плакать, и мысль, что слезы мои доказывают мою чувствительность, доставляла мне удовольствие и отраду.
Отъехав с версту, я уселся попокойнее и с упорным вниманием стал смотреть на ближайший предмет перед глазами – заднюю часть пристяжной, которая бежала с моей стороны. Смотрел я, как махала хвостом эта пегая пристяжная, как забивала она одну ногу о другую, как доставал по ней плетеный кнут ямщика и ноги начинали прыгать вместе; смотрел, как прыгала на ней шлея и на шлее кольца, и смотрел до тех пор, покуда эта шлея покрылась около хвоста мылом. Я стал смотреть кругом: на волнующиеся поля спелой ржи, на темный пар, на котором кое-где виднелись соха, мужик, лошадь с жеребенком, на верстовые столбы, заглянул даже на козлы, чтобы узнать, какой ямщик с нами едет; и еще лицо мое не просохло от слез, как мысли мои были далеко от матери, с которой я расстался, может быть, навсегда. Но всякое воспоминание наводило меня на мысль о ней. Я вспомнил о грибе, который нашел накануне в березовой аллее, вспомнил о том, как Любочка с Катенькой поспорили – кому сорвать его, вспомнил и о том, как они плакали, прощаясь с нами.
Жалко их! и Наталью Савишну жалко, и березовую аллею, и Фоку жалко! Даже злую Мими – и ту жалко. Все, все жалко! А бедная maman? И слезы опять навертывались на глаза; но ненадолго.
Глава XV Детство
Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.
Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своем высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешься с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? Maman говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу! Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая – лицо ее не больше пуговки; но оно мне все так же ясно видно: вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрачках; но я пошевелился – и очарование разрушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно.
Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.
– Ты опять заснешь, Николенька, – говорит мне maman, – ты бы лучше шел наверх.
– Я не хочу спать, мамаша, – ответишь ей, и неясные, но сладкие грезы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья-то нежная рука трогает тебя; по одному прикосновению узнаешь ее и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко, крепко прижмешь ее к губам.
Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; maman сказала, что она сама разбудит меня; это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос:
– Вставай, моя душечка: пора идти спать.
Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее: она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку.
– Вставай же, мой ангел.
Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша сидит подле самого меня; она трогает меня; я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать:
– Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!
Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени.
– Так ты меня очень любишь? – Она молчит с минуту, потом говорит: – Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее? не забудешь, Николенька?
Она еще нежнее целует меня.
– Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя! – вскрикиваю я, целуя ее колени, и слезы ручьями льются из моих глаз – слезы любви и восторга.
После этого, как, бывало, придешь на верх и станешь перед иконами, в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, господи, папеньку и маменьку». Повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство.
После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, – но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастие. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи – единственном человеке, которого я знал несчастливым, – и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: «Дай бог ему счастия, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать». Потом любимую фарфоровую игрушку – зайчика или собачку – уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы дал бог счастия всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.
Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели – невинная веселость и беспредельная потребность любви – были единственными побуждениями в жизни?
Где те горячие молитвы? где лучший дар – те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.
Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?
Глава XVI Стихи
Почти месяц после того, как мы переехали в Москву, я сидел на верху бабушкиного дома, за большим столом и писал; напротив меня сидел рисовальный учитель и окончательно поправлял нарисованную черным карандашом головку какого-то турка в чалме. Володя, вытянув шею, стоял сзади учителя и смотрел ему через плечо. Головка эта была первое произведение Володи черным карандашом и нынче же, в день ангела бабушки, должна была быть поднесена ей.
– А сюда вы не положите еще тени? – сказал Володя учителю, приподнимаясь на цыпочки и указывая на шею турка.
– Нет, не нужно, – сказал учитель, укладывая карандаши и рейсфедер в задвижной ящичек, – теперь прекрасно, и вы больше не прикасайтесь. Ну, а вы, Николенька, – прибавил он, вставая и продолжая искоса смотреть на турка, – откройте наконец нам ваш секрет, что вы поднесете бабушке? Право, лучше было бы тоже головку. Прощайте, господа, – сказал он, взял шляпу, билетик и вышел.
В эту минуту я тоже думал, что лучше бы было головку, чем то, над чем я трудился. Когда нам объявили, что скоро будут именины бабушки и что нам должно приготовить к этому дню подарки, мне пришло в голову написать ей стихи на этот случай, и я тотчас же прибрал два стиха с рифмами, надеясь также скоро прибрать остальные. Я решительно не помню, каким образом вошла мне в голову такая странная для ребенка мысль, но помню, что она мне очень нравилась и что на все вопросы об этом предмете я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чем он будет состоять.
Против моего ожидания, оказалось, что, кроме двух стихов, придуманных мною сгоряча, я, несмотря на все усилия, ничего дальше не мог сочинить. Я стал читать стихи, которые были в наших книгах; но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне – напротив, они еще более убедили меня в моей неспособности. Зная, что Карл Иваныч любил списывать стишки, я стал потихоньку рыться в его бумагах и в числе немецких стихотворений нашел одно русское, принадлежащее, должно быть, собственно его перу.
Г-же Л… Петровской. 1828. 3 июни
Помните близко, Помните далеко, Помните моего Еще отнине и до всегда, Помните еще до моего гроба, Как верен я любить имею. Карл МауерСтихотворение это, написанное красивым круглым почерком на тонком почтовом листе, понравилось мне по трогательному чувству, которым оно проникнуто; я тотчас же выучил его наизусть и решился взять за образец. Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравление из двенадцати стихов было готово, и, сидя за столом в классной, я переписывал его на веленевую бумагу.
Уже два листа бумаги были испорчены… не потому, чтобы я думал что-нибудь переменить в них: стихи мне казались превосходными; но с третьей линейки концы их начинали загибаться кверху все больше и больше, так что даже издалека видно было, что это написано криво и никуда не годится.
Третий лист был так же крив, как и прежние; но я решился не переписывать больше. В стихотворении своем я поздравлял бабушку, желал ей много лет здравствовать и заключал так:
Стараться будем утешать И любим, как родную мать.Кажется, было бы очень недурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух.
– И лю-бим, как родну-ю мать, – твердил я себе под нос. – Какую бы рифму вместо мать? играть? кровать?.. Э, сойдет! все лучше карл-иванычевых!
И я написал последний стих. Потом в спальне я прочел вслух все свое сочинение с чувством и жестами. Были стихи совершенно без размера, но я не останавливался на них; последний же еще сильнее и неприятнее поразил меня. Я сел на кровать и задумался…
«Зачем я написал: как родную мать? ее ведь здесь нет, так не нужно было и поминать ее; правда, я бабушку люблю, уважаю, но все она не то… зачем я написал это, зачем я солгал? Положим, это стихи, да все-таки не нужно было».
В это самое время вошел портной и принес новые полуфрачки.
– Ну, так и быть! – сказал я в сильном нетерпении, с досадой сунул стихи под подушку и побежал примеривать московское платье.
Московское платье оказалось превосходно: коричневые полуфрачки с бронзовыми пуговками были сшиты в обтяжку – не так, как в деревне нам шивали, на рост, – черные брючки, тоже узенькие, чудо как хорошо обозначали мускулы и лежали на сапогах.
«Наконец-то и у меня панталоны со штрипками, настоящие!» – мечтал я, вне себя от радости, осматривая со всех сторон свои ноги. – Хотя мне было очень узко и неловко в новом платье, я скрыл это от всех, сказал, что, напротив, мне очень покойно, и что ежели есть недостаток в этом платье, так только тот, что оно немножко просторно. После этого я очень долго, стоя перед зеркалом, причесывал свою обильно напомаженную голову; но, сколько ни старался, я никак не мог пригладить вихры на макушке: как только я, желая испытать их послушание, переставал прижимать их щеткой, они поднимались и торчали в разные стороны, придавая моему лицу самое смешное выражение.
Карл Иваныч одевался в другой комнате, и через классную пронесли к нему синий фрак и еще какие-то белые принадлежности. У двери, которая вела вниз, послышался голос одной из горничных бабушки; я вышел, чтобы узнать, что ей нужно. Она держала на руке туго накрахмаленную манишку и сказала мне, что она принесла ее для Карла Иваныча и что ночь не спала для того, чтобы успеть вымыть ее ко времени. Я взялся передать манишку и спросил, встала ли бабушка.
– Как же-с! уж кофе откушали, и протопоп пришел. Каким вы молодчиком! – прибавила она с улыбкой, оглядывая мое новое платье.
Замечание это заставило меня покраснеть; я перевернулся на одной ножке, щелкнул пальцами и припрыгнул, желая ей этим дать почувствовать, что она еще не знает хорошенько, какой я действительно молодчик.
Когда я принес манишку Карлу Иванычу, она уже была не нужна ему: он надел другую и, перегнувшись перед маленьким зеркальцем, которое стояло на столе, держался обеими руками за пышный бант своего галстука и пробовал, свободно ли входит в него и обратно его гладко выбритый подбородок. Обдернув со всех сторон наши платья и попросив Николая сделать для него то же самое, он повел нас к бабушке. Мне смешно вспомнить, как сильно пахло от нас троих помадой в то время, как мы стали спускаться по лестнице.
У Карла Иваныча в руках была коробочка своего изделия, у Володи – рисунок, у меня – стихи; у каждого на языке было приветствие, с которым он поднесет свой подарок. В ту минуту, как Карл Иваныч отворил дверь залы, священник надевал ризу и раздались первые звуки молебна.
Бабушка была уже в зале: сгорбившись и опершись на спинку стула, она стояла у стенки и набожно молилась; подле нее стоял папа. Он обернулся к нам и улыбнулся, заметив, как мы, заторопившись, прятали за спины приготовленные подарки и, стараясь быть незамеченными, остановились у самой двери. Весь эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, был потерян.
Когда стали подходить к кресту, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием непреодолимой, одуревающей застенчивости, и, чувствуя, что у меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Иваныча, который, в самых отборных выражениях поздравив бабушку, переложил коробочку из правой руки в левую, вручил ее имениннице и отошел несколько шагов, чтобы дать место Володе. Бабушка, казалось, была в восхищении от коробочки, оклеенной золотыми каемками, и самой ласковой улыбкой выразила свою благодарность. Заметно, однако, было, что она не знала, куда поставить эту коробочку, и, должно быть, поэтому предложила папа посмотреть, как удивительно искусно она сделана.
Удовлетворив своему любопытству, папа передал ее протопопу, которому вещица эта, казалось, чрезвычайно понравилась: он покачивал головой и с любопытством посматривал то на коробочку, то на мастера, который мог сделать такую прекрасную штуку. Володя поднес своего турка и тоже заслужил самые лестные похвалы со всех сторон. Настал и мой черед: бабушка с одобрительной улыбкой обратилась ко мне.
Те, которые испытали застенчивость, знают, что чувство это увеличивается в прямом отношении времени, а решительность уменьшается в обратном отношении, то есть: чем больше продолжается это состояние, тем делается оно непреодолимее и тем менее остается решительности.
Последняя смелость и решительность оставили меня в то время, когда Карл Иваныч и Володя подносили свои подарки, и застенчивость моя дошла до последних пределов: я чувствовал, как кровь от сердца беспрестанно приливала мне в голову, как одна краска на лице сменялась другою и как на лбу и на носу выступали крупные капли пота. Уши горели, по всему телу я чувствовал дрожь и испарину, переминался с ноги на ногу и не трогался с места.
– Ну, покажи же, Николенька, что у тебя – коробочка или рисованье? – сказал мне папа. Делать было нечего: дрожащей рукой подал я измятый роковой сверток; но голос совершенно отказался служить мне, и я молча остановился перед бабушкой. Я не мог прийти в себя от мысли, что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мои никуда не годные стихи и слова: как родную мать, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение и когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливою, взглянуть на папа, когда она произносила не так, как мне хотелось, и когда, по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала? Мне казалось, что она это сделала потому, что ей надоело читать такие дурные и криво написанные стихи, и для того, чтобы папа мог сам прочесть последний стих, столь явно доказывающий мою бесчувственность. Я ожидал того, что он щелкнет меня по носу этими стихами и скажет: «Дрянной мальчишка, не забывай мать… вот тебе за это!» – но ничего такого не случилось; напротив, когда все было прочтено, бабушка сказала: «Charmant»[24], и поцеловала меня в лоб.
Коробочка, рисунок и стихи были положены рядом с двумя батистовыми платками и табакеркой с портретом maman на выдвижной столик вольтеровского кресла, в котором всегда сиживала бабушка.
– Княгиня Варвара Ильинишна, – доложил один из двух огромных лакеев, ездивших за каретой бабушки.
Бабушка, задумавшись, смотрела на портрет, вделанный в черепаховую табакерку, и ничего не отвечала.
– Прикажете просить, ваше сиятельство? – повторил лакей.
Глава XVII Княгиня Корнакова
– Проси, – сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресло.
Княгиня была женщина лет сорока пяти, маленькая, тщедушная, сухая и желчная, с серо-зелеными неприятными глазками, выражение которых явно противоречило неестественно-умильно сложенному ротику. Из-под бархатной шляпки с страусовым пером виднелись светло-рыжеватые волосы; брови и ресницы казались еще светлее и рыжеватее на нездоровом цвете ее лица. Несмотря на это, благодаря ее непринужденным движениям, крошечным рукам и особенной сухости во всех чертах общий вид ее имел что-то благородное и энергическое.
Княгиня очень много говорила и по своей речивости принадлежала к тому разряду людей, которые всегда говорят так, как будто им противоречат, хотя бы никто не говорил ни слова: она то возвышала голос, то, постепенно понижая его, вдруг с новой живостью начинала говорить и оглядывалась на присутствующих, но не принимающих участия в разговоре особ, как будто стараясь подкрепить себя этим взглядом.
Несмотря на то, что княгиня поцеловала руку бабушки, беспрестанно называла ее ma bonne tante[25], я заметил, что бабушка была ею недовольна: она как-то особенно поднимала брови, слушая ее рассказ о том, почему князь Михайло никак не мог сам приехать поздравить бабушку, несмотря на сильнейшее желание; и, отвечая по-русски на французскую речь княгини, она сказала, особенно растягивая свои слова:
– Очень вам благодарна, моя милая, за вашу внимательность; а что князь Михайло не приехал, так что ж про то и говорить… у него всегда дел пропасть, да и то сказать, что ему за удовольствие с старухой сидеть?
И, не давая княгине времени опровергнуть ее слова, она продолжала:
– Что, как ваши детки, моя милая?
– Да, слава богу, ma tante[26], растут, учатся, шалят… особенно Этьен – старший, такой повеса становится, что ладу никакого нет; зато и умен – un garçon, qui promet[27]. Можете себе представить, mon cousin, – продолжала она, обращаясь исключительно к папа, потому что бабушка, нисколько не интересуясь детьми княгини, а желая похвастаться своими внуками, с тщательностию достала мои стихи из-под коробочки и стала их развертывать, – можете себе представить, mon cousin, что он сделал на днях…
И княгиня, наклонившись к папа, начала ему рассказывать что-то с большим одушевлением. Окончив рассказ, которого я не слыхал, она тотчас засмеялась и, вопросительно глядя в лицо папа, сказала:
– Каков мальчик, mon cousin? Он стоил, чтобы его высечь; но выдумка эта так умна и забавна, что я его простила, mon cousin.
И княгиня, устремив взоры на бабушку, ничего не говоря, продолжала улыбаться.
– Разве вы бьете своих детей, моя милая? – спросила бабушка, значительно поднимая брови и делая особенное ударение на слово бьете.
– Ах, ma bonne tante, – кинув быстрый взгляд на папа, добреньким голоском отвечала княгиня, – я знаю, какого вы мнения на этот счет; но позвольте мне в этом одном с вами не согласиться: сколько я ни думала, сколько ни читала, ни советовалась об этом предмете, все-таки опыт привел меня к тому, что я убедилась в необходимости действовать на детей страхом. Чтобы что-нибудь сделать из ребенка, нужен страх… не так ли, mon cousin? А чего je vous demande un peu[28], дети боятся больше, чем розги?
При этом она вопросительно взглянула на нас, и, признаюсь, мне сделалось как-то неловко в эту минуту.
– Как ни говорите, а мальчик до двенадцати и даже до четырнадцати лет все еще ребенок; вот девочка – другое дело.
«Какое счастье, – подумал я, – что я не ее сын».
– Да, это прекрасно, моя милая, – сказала бабушка, свертывая мои стихи и укладывая их под коробочку, как будто не считая после этого княгиню достойною слышать такое произведение, – это очень хорошо, только скажите мне, пожалуйста, каких после этого вы можете требовать деликатных чувств от ваших детей?
И, считая этот аргумент неотразимым, бабушка прибавила, чтобы прекратить разговор:
– Впрочем, у каждого на этот счет может быть свое мнение.
Княгиня не отвечала, но только снисходительно улыбалась, выражая этим, что она извиняет эти странные предрассудки в особе, которую так много уважает.
– Ах, да познакомьте же меня с вашими молодыми людьми, – сказала она, глядя на нас и приветливо улыбаясь.
Мы встали и, устремив глаза на лицо княгини, никак не знали: что же нужно сделать, чтобы доказать, что мы познакомились.
– Поцелуйте же руку княгини, – сказал папа.
– Прошу любить старую тетку, – говорила она, целуя Володю в волосы, – хотя я вам и дальняя, но я считаю по дружеским связям, а не по степеням родства, – прибавила она, относясь преимущественно к бабушке; но бабушка продолжала быть недовольной ею и отвечала:
– Э! моя милая, разве нынче считается такое родство?
– Этот у меня будет светский молодой человек, – сказал папа, указывая на Володю, – а этот поэт, – прибавил он, в то время как я, целуя маленькую сухую ручку княгини, с чрезвычайной ясностью воображал в этой руке розгу, под розгой – скамейку, и т. д., и т. д.
– Который? – спросила княгиня, удерживая меня за руку.
– А этот, маленький, с вихрами, – отвечал папа, весело улыбаясь.
«Что ему сделали мои вихры… разве нет другого разговора?» – подумал я и отошел в угол.
Я имел самые странные понятия о красоте – даже Карла Иваныча считал первым красавцем в мире; но очень хорошо знал, что я нехорош собою, и в этом нисколько не ошибался; поэтому каждый намек на мою наружность больно оскорблял меня.
Я очень хорошо помню, как раз за обедом – мне было тогда шесть лет – говорили о моей наружности, как maman старалась найти что-нибудь хорошее в моем лице, говорила, что у меня умные глаза, приятная улыбка, и, наконец, уступая доводам отца и очевидности, принуждена была сознаться, что я дурен; и потом, когда я благодарил ее за обед, потрепала меня по щеке и сказала:
– Ты это знай, Николенька, что за твое лицо тебя никто не будет любить; поэтому ты должен стараться быть умным и добрым мальчиком.
Эти слова не только убедили меня в том, что я не красавец, но еще и в том, что я непременно буду добрым и умным мальчиком.
Несмотря на это, на меня часто находили минуты отчаяния: я воображал, что нет счастия на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я; я просил Бога сделать чудо – превратить меня в красавца, и все, что имел в настоящем, все, что мог иметь в будущем, я все отдал бы за красивое лицо.
Глава XVIII Князь Иван Иваныч
Когда княгиня выслушала стихи и осыпала сочинителя похвалами, бабушка смягчилась, стала говорить с ней по-французски, перестала называть ее вы, моя милая и пригласила приехать к нам вечером со всеми детьми, на что княгиня согласилась и, посидев еще немного, уехала.
Гостей с поздравлениями приезжало так много в этот день, что на дворе, около подъезда, целое утро не переставало стоять по нескольку экипажей.
– Bonjour, chère cousine[29], – сказал один из гостей, войдя в комнату и целуя руку бабушки.
Это был человек лет семидесяти, высокого роста, в военном мундире с большими эполетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест, и с спокойным открытым выражением лица. Свобода и простота его движений поразили меня. Несмотря на то, что только на затылке его оставался полукруг жидких волос и что положение верхней губы ясно доказывало недостаток зубов, лицо его было еще замечательной красоты.
Князь Иван Иваныч в конце прошлого столетия, благодаря своему благородному характеру, красивой наружности, замечательной храбрости, знатной и сильной родне и в особенности счастию, сделал еще в очень молодых летах блестящую карьеру. Он продолжал служить, и очень скоро честолюбие его было так удовлетворено, что ему больше нечего было желать в этом отношении. С первой молодости он держал себя так, как будто готовился занять то блестящее место в свете, на которое впоследствии поставила его судьба; поэтому, хотя в его блестящей и несколько тщеславной жизни, как и во всех других, встречались неудачи, разочарования и огорчения, он ни разу не изменил ни своему всегда спокойному характеру, ни возвышенному образу мыслей, ни основным правилам религии и нравственности и приобрел общее уважение не столько на основании своего блестящего положения, сколько на основании своей последовательности и твердости. Он был небольшого ума, но благодаря такому положению, которое позволяло ему свысока смотреть на все тщеславные треволнения жизни, образ мыслей его был возвышенный. Он был добр и чувствителен, но холоден и несколько надменен в обращении. Это происходило оттого, что, быв поставлен в такое положение, в котором он мог быть полезен многим, своею холодностью он старался оградить себя от беспрестанных просьб и заискиваний людей, которые желали только воспользоваться его влиянием. Холодность эта смягчалась, однако, снисходительной вежливостью человека очень большого света. Он был хорошо образован и начитан; но образование его остановилось на том, что он приобрел в молодости, то есть в конце прошлого столетия. Он прочел все, что было написано во Франции замечательного по части философии и красноречия в XVIII веке, основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Расина, Корнеля, Боало, Мольера, Монтеня, Фенелона; имел блестящие познания в мифологии и с пользой изучал, во французских переводах, древние памятники эпической поэзии, имел достаточные познания в истории, почерпнутые им из Сегюра; но не имел никакого понятия ни о математике, дальше арифметики, ни о физике, ни о современной литературе: он мог в разговоре прилично умолчать или сказать несколько общих фраз о Гете, Шиллере и Байроне, но никогда не читал их. Несмотря на это французско-классическое образование, которого остается теперь уже так мало образчиков, разговор его был прост, и простота эта одинаково скрывала его незнание некоторых вещей и выказывала приятный тон и терпимость. Он был большой враг всякой оригинальности, говоря, что оригинальность есть уловка людей дурного тона. Общество было для него необходимо, где бы он ни жил; в Москве или за границей, он всегда живал одинаково открыто и в известные дни принимал у себя весь город. Он был на такой ноге в городе, что пригласительный билет от него мог служить паспортом во все гостиные, что многие молоденькие и хорошенькие дамы охотно подставляли ему свои розовенькие щечки, которые он целовал как будто с отеческим чувством, и что иные, по-видимому, очень важные и порядочные, люди были в неописанной радости, когда допускались к партии князя.
Уже мало оставалось для князя таких людей, как бабушка, которые были бы с ним одного круга, одинакового воспитания, взгляда на вещи и одних лет; поэтому он особенно дорожил своей старинной дружеской связью с нею и оказывал ей всегда большое уважение.
Я не мог наглядеться на князя: уважение, которое ему все оказывали, большие эполеты, особенная радость, которую изъявила бабушка, увидев его, и то, что он один, по-видимому, не боялся ее, обращался с ней совершенно свободно и даже имел смелость называть ее ma cousine, внушили мне к нему уважение, равное, если не большее, тому, которое я чувствовал к бабушке. Когда ему показали мои стихи, он подозвал меня к себе и сказал:
– Почем знать, ma cousine, может быть, это будет другой Державин.
При этом он так больно ущипнул меня за щеку, что если я не вскрикнул, так только потому, что догадался принять это за ласку.
Гости разъехались, папа и Володя вышли; в гостиной остались князь, бабушка и я.
– Отчего это наша милая Наталья Николаевна не приехала? – спросил вдруг князь Иван Иваныч после минутного молчания.
– Ah! mon cher[30], – отвечала бабушка, понизив голос и положив руку на рукав его мундира, – она, верно бы, приехала, если б была свободна делать, что хочет. Она пишет мне, что будто Pierre предлагал ей ехать, но что она сама отказалась, потому что доходов у них будто бы совсем не было нынешний год; и пишет: «Притом, мне и незачем переезжать нынешний год всем домом в Москву. Любочка еще слишком мала; а насчет мальчиков, которые будут жить у вас, я еще покойнее, чем ежели бы они были со мною». Все это прекрасно! – продолжала бабушка таким тоном, который ясно доказывал, что она вовсе не находила, чтобы это было прекрасно, – мальчиков давно пора было прислать сюда, чтобы они могли чему-нибудь учиться и привыкать к свету; а то какое же им могли дать воспитание в деревне?.. ведь старшему скоро тринадцать лет, а другому одиннадцать… Вы заметили, mon cousin, они здесь совершенно как дикие… в комнату войти не умеют.
– Я, однако, не понимаю, – отвечал князь, – отчего эти всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств? У него очень хорошее состояние, а Наташину Хабаровку, в которой мы с вами во время оно игрывали на театре, я знаю как свои пять пальцев, – чудесное именье! и всегда должно приносить прекрасный доход.
– Я вам скажу, как истинному другу, – прервала его бабушка с грустным выражением, – мне кажется, что все это отговорки, для того только, чтобы ему жить здесь одному, шляться по клубам, по обедам и бог знает что делать; а она ничего не подозревает. Вы знаете, какая это ангельская доброта – она ему во всем верит. Он уверил ее, что детей нужно везти в Москву, а ей одной, с глупой гувернанткой, оставаться в деревне, – она поверила; скажи он ей, что детей нужно сечь, так же как сечет своих княгиня Варвара Ильинична, она и тут, кажется бы, согласилась, – сказала бабушка, поворачиваясь в своем кресле с видом совершенного презрения. – Да, мой друг, – продолжала бабушка после минутного молчания, взяв в руки один из двух платков, чтобы утереть показавшуюся слезу, – я часто думаю, что он не может ни ценить, ни понимать ее и что, несмотря на всю ее доброту, любовь к нему и старание скрыть свое горе – я очень хорошо знаю это, – она не может быть с ним счастлива; и помяните мое слово, если он не…
Бабушка закрыла лицо платком.
– Eh, ma bonne amie[31], – сказал князь с упреком, – я вижу, вы нисколько не стали благоразумнее – вечно сокрушаетесь и плачете о воображаемом горе. Ну, как вам не совестно? Я его давно знаю, и знаю за внимательного, доброго и прекрасного мужа и главное – за благороднейшего человека, un parfait honnête homme[32].
Невольно подслушав разговор, которого мне не должно было слушать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты.
Глава XIX Ивины
– Володя! Володя! Ивины! – закричал я, увидев в окно трех мальчиков в синих бекешах с бобровыми воротниками, которые, следуя за молодым гувернером-щеголем, переходили с противоположного тротуара к нашему дому.
Ивины приходились нам родственниками и были почти одних с нами лет; вскоре после приезда нашего в Москву мы познакомились и сошлись с ними.
Второй Ивин – Сережа – был смуглый, курчавый мальчик, со вздернутым твердым носиком, очень свежими, красными губами, которые редко совершенно закрывали немного выдавшийся верхний ряд белых зубов, темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Он никогда не улыбался, но или смотрел совершенно серьезно, или от души смеялся своим звонким, отчетливым и чрезвычайно увлекательным смехом. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастия; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои, во сне и наяву, были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может быть, потому, что ему надоедало чувствовать беспрестанно устремленными на него мои беспокойные глаза, или просто, не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною; но я все-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне в не менее сильной степени другое чувство – страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему: может быть, потому, что лицо его имело надменное выражение, или потому, что, презирая свою наружность, я слишком много ценил в других преимущества красоты, или, что вернее всего, потому, что это есть непременный признак любви, я чувствовал к нему столько же страху, сколько и любви. В первый раз, как Сережа заговорил со мной, я до того растерялся от такого неожиданного счастия, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему. У него была дурная привычка, когда он задумывался, останавливать глаза на одной точке и беспрестанно мигать, подергивая при этом носом и бровями. Все находили, что эта привычка очень портит его, но я находил ее до того милою, что невольно привык делать то же самое, и чрез несколько дней после моего с ним знакомства бабушка спросила: не болят ли у меня глаза, что я ими хлопаю, как филин. Между нами никогда не было сказано ни слова о любви; но он чувствовал свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблял ее в наших детских отношениях; я же, как ни желал высказать ему все, что было у меня на душе, слишком боялся его, чтобы решиться на откровенность; старался казаться равнодушным и безропотно подчинялся ему. Иногда влияние его казалось мне тяжелым, несносным; но выйти из-под него было не в моей власти.
Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которое так и умерло, не излившись и не найдя сочувствия.
Странно, отчего, когда я был ребенком, я старался быть похожим на большого, а с тех пор, как перестал быть им, часто желал быть похожим на него. Сколько раз это желание – не быть похожим на маленького, в моих отношениях с Сережей, останавливало чувство, готовое излиться, и заставляло лицемерить. Я не только не смел поцеловать его, чего мне иногда очень хотелось, взять его за руку, сказать, как я рад его видеть, но не смел даже называть его Сережа, а непременно Сергей: так уж было заведено у нас. Каждое выражение чувствительности доказывало ребячество и то, что тот, кто позволял себе его, был еще мальчишка. Не пройдя еще через те горькие испытания, которые доводят взрослых до осторожности и холодности в отношениях, мы лишали себя чистых наслаждений нежной детской привязанности по одному только странному желанию подражать большим.
Еще в лакейской встретил я Ивиных, поздоровался с ними и опрометью пустился к бабушке: я объявил ей о том, что приехали Ивины, с таким выражением, как будто это известие должно было вполне осчастливить ее. Потом, не спуская глаз с Сережи, я последовал за ним в гостиную и следил за всеми его движениями. В то время как бабушка сказала, что он очень вырос, и устремила на него свои проницательные глаза, я испытывал то чувство страха и надежды, которое должен испытывать художник, ожидая приговора над своим произведением от уважаемого судьи.
Молодой гувернер Ивиных, Herr Frost, с позволения бабушки сошел с нами в палисадник, сел на зеленую скамью, живописно сложил ноги, поставив между ними палку с бронзовым набалдашником, и с видом человека, очень довольного своими поступками, закурил сигару.
Herr Frost был немец, но немец совершенно не того покроя, как наш добрый Карл Иваныч: во-первых, он правильно говорил по-русски, с дурным выговором – по-французски и пользовался вообще, в особенности между дамами, репутацией очень ученого человека; во-вторых, он носил рыжие усы, большую рубиновую булавку в черном атласном шарфе, концы которого были просунуты под помочи, и светло-голубые панталоны с отливом и со штрипками; в-третьих, он был молод, имел красивую, самодовольную наружность и необыкновенно видные, мускулистые ноги. Заметно было, что он особенно дорожил этим последним преимуществом: считал его действие неотразимым в отношении особ женского пола и, должно быть, с этой целью старался выставлять свои ноги на самое видное место и, стоя или сидя на месте, всегда приводил в движение свои икры. Это был тип молодого русского немца, который хочет быть молодцом и волокитой.
В палисаднике было очень весело. Игра в разбойники шла как нельзя лучше; но одно обстоятельство чуть-чуть не расстроило всего. Сережа был разбойник: погнавшись за проезжающими, он споткнулся и на всем бегу ударился коленом о дерево, так сильно, что я думал, он расшибется вдребезги. Несмотря на то, что я был жандарм и моя обязанность состояла в том, чтобы ловить его, я подошел и с участием стал спрашивать, больно ли ему. Сережа рассердился на меня: сжал кулаки, топнул ногой и голосом, который ясно доказывал, что он очень больно ушибся, закричал мне:
– Ну, что это? после этого игры никакой нет! Ну, что ж ты меня не ловишь? что ж ты меня не ловишь? – повторял он несколько раз, искоса поглядывая на Володю и старшего Ивина, которые, представляя проезжающих, припрыгивая, бежали по дорожке, и вдруг взвизгнул и с громким смехом бросился ловить их.
Не могу передать, как поразил и пленил меня этот геройский поступок: несмотря на страшную боль, он не только не заплакал, но не показал и виду, что ему больно, и ни на минуту не забыл игры.
Вскоре после этого, когда к нашей компании присоединился еще Иленька Грап и мы до обеда отправились на верх, Сережа имел случай еще больше пленить и поразить меня своим удивительным мужеством и твердостью характера.
Иленька Грап был сын бедного иностранца, который когда-то жил у моего деда, был чем-то ему обязан и почитал теперь своим непременным долгом присылать очень часто к нам своего сына. Если он полагал, что знакомство с нами может доставить его сыну какую-нибудь честь или удовольствие, то он совершенно ошибался в этом отношении, потому что мы не только не были дружны с Иленькой, но обращали на него внимание только тогда, когда хотели посмеяться над ним. Иленька Грап был мальчик лет тринадцати, худой, высокий, бледный, с птичьей рожицей и добродушно-покорным выражением. Он был очень бедно одет, но зато всегда напомажен так обильно, что мы уверяли, будто у Грапа в солнечный день помада тает на голове и течет под курточку. Когда я теперь вспоминаю его, я нахожу, что он был очень услужливый, тихий и добрый мальчик; тогда же он мне казался таким презренным существом, о котором не стоило ни жалеть, ни даже думать.
Когда игра в разбойники прекратилась, мы пошли на верх, начали возиться и щеголять друг перед другом разными гимнастическими штуками. Иленька с робкой улыбкой удивления поглядывал на нас, и когда ему предлагали попробовать то же, отказывался, говоря, что у него совсем нет силы. Сережа был удивительно мил; он снял курточку – лицо и глаза его разгорелись, – он беспрестанно хохотал и затеивал новые шалости: перепрыгивал через три стула, поставленные рядом, через всю комнату перекатывался колесом, становился кверху ногами на лексиконы Татищева, положенные им в виде пьедестала на середину комнаты, и при этом выделывал ногами такие уморительные штуки, что невозможно было удержаться от смеха. После этой последней штуки он задумался, помигал глазами и вдруг с совершенно серьезным лицом подошел к Иленьке: «Попробуйте сделать это; право, это нетрудно». Грап, заметив, что общее внимание обращено на него, покраснел и чуть слышным голосом уверял, что он никак не может этого сделать.
– Да что ж в самом деле, отчего он ничего не хочет показать? Что он за девочка… непременно надо, чтобы он стал на голову!
И Сережа взял его за руку.
– Непременно, непременно на голову! – закричали мы все, обступив Иленьку, который в эту минуту заметно испугался и побледнел, схватили его за руку и повлекли к лексиконам.
– Пустите меня, я сам! курточку разорвете! – кричала несчастная жертва. Но эти крики отчаяния еще более воодушевляли нас; мы помирали со смеху; зеленая курточка трещала на всех швах.
Володя и старший Ивин нагнули ему голову и поставили ее на лексиконы; я и Сережа схватили бедного мальчика за тоненькие ноги, которыми он махал в разные стороны, засучили ему панталоны до колен и с громким смехом вскинули их кверху; младший Ивин поддерживал равновесие всего туловища.
Случилось так, что после шумного смеха мы вдруг все замолчали, и в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжелое дыхание несчастного Грапа. В эту минуту я не совсем был убежден, что все это очень смешно и весело.
– Вот теперь молодец, – сказал Сережа, хлопнув его рукою.
Иленька молчал и, стараясь вырваться, кидал ногами в разные стороны. Одним из таких отчаянных движений он ударил каблуком по глазу Сережу так больно, что Сережа тотчас же оставил его ноги, схватился за глаз, из которого потекли невольные слезы, и из всех сил толкнул Иленьку. Иленька, не будучи более поддерживаем нами, как что-то безжизненное, грохнулся на землю и от слез мог только выговорить:
– За что вы меня тираните?
Плачевная фигура бедного Иленьки с заплаканным лицом, взъерошенными волосами и засученными панталонами, из-под которых видны были нечищенные голенища, поразила нас; мы все молчали и старались принужденно улыбаться.
Первый опомнился Сережа.
– Вот баба, нюня, – сказал он, слегка трогая его ногою, – с ним шутить нельзя… Ну, полно, вставайте.
– Я вам сказал, что ты негодный мальчишка, – злобно выговорил Иленька и, отвернувшись прочь, громко зарыдал.
– А-а! каблуками бить да еще браниться! – закричал Сережа, схватив в руки лексикон и взмахнув над головою несчастного, который и не думал защищаться, а только закрывал руками голову.
– Вот тебе! вот тебе!.. Бросим его, коли он шуток не понимает… Пойдемте вниз, – сказал Сережа, неестественно засмеявшись.
Я с участием посмотрел на бедняжку, который, лежа на полу и спрятав лицо в лексиконах, плакал так, что, казалось, еще немного, и он умрет от конвульсий, которые дергали все его тело.
– Э, Сергей! – сказал я ему, – зачем ты это сделал?
– Вот хорошо!.. я не заплакал, небось, сегодня, как разбил себе ногу почти до кости.
«Да, это правда, – подумал я. – Иленька больше ничего как плакса, а вот Сережа – так это молодец… что это за молодец!..»
Я не сообразил того, что бедняжка плакал, верно, не столько от физической боли, сколько от той мысли, что пять мальчиков, которые, может быть, нравились ему, без всякой причины, все согласились ненавидеть и гнать его.
Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошел к нему, не защитил и не утешил его? Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок для супа?
Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне любовью к Сереже и желанием казаться перед ним таким же молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и желание казаться молодцом! Они произвели единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний.
Глава XX Собираются гости
Судя по особенной хлопотливости, заметной в буфете, по яркому освещению, придававшему какой-то новый, праздничный вид всем уже мне давно знакомым предметам в гостиной и зале, и в особенности судя по тому, что недаром же прислал князь Иван Иваныч свою музыку, ожидалось немалое количество гостей к вечеру.
При шуме каждого мимо ехавшего экипажа я подбегал к окну, приставлял ладони к вискам и стеклу и с нетерпеливым любопытством смотрел на улицу. Из мрака, который сперва скрывал все предметы в окне, показывались понемногу: напротив – давно знакомая лавочка, с фонарем, наискось – большой дом с двумя внизу освещенными окнами, посредине улицы – какой-нибудь ванька с двумя седоками или пустая коляска, шагом возвращающаяся домой; но вот к крыльцу подъехала карета, и я, в полной уверенности, что это Ивины, которые обещались приехать рано, бегу встречать их в переднюю. Вместо Ивиных за ливрейной рукой, отворившей дверь, показались две особы женского пола: одна – большая, в синем салопе с собольим воротником, другая – маленькая, вся закутанная в зеленую шаль, из-под которой виднелись только маленькие ножки в меховых ботинках. Не обращая на мое присутствие в передней никакого внимания, хотя я счел долгом при появлении этих особ поклониться им, маленькая молча подошла к большой и остановилась перед нею. Большая размотала платок, закрывавший всю голову маленькой, расстегнула на ней салоп, и когда ливрейный лакей получил эти вещи под сохранение и снял с нее меховые ботинки, из закутанной особы вышла чудесная двенадцатилетняя девочка в коротеньком открытом кисейном платьице, белых панталончиках и крошечных черных башмачках. На беленькой шейке была черная бархатная ленточка; головка вся была в темно-русых кудрях, которые спереди так хорошо шли к ее прекрасному личику, а сзади – к голым плечикам, что никому, даже самому Карлу Иванычу, я не поверил бы, что они вьются так оттого, что с утра были завернуты в кусочки «Московских ведомостей» и что их прижигали горячими железными щипцами. Казалось, она так и родилась с этой курчавой головкой.
Поразительной чертой в ее лице была необыкновенная величина выпуклых полузакрытых глаз, которые составляли странный, но приятный контраст с крошечным ротиком. Губки были сложены, а глаза смотрели так серьезно, что общее выражение ее лица было такое, от которого не ожидаешь улыбки и улыбка которого бывает тем обворожительнее.
Стараясь быть незамеченным, я шмыгнул в дверь залы и почел нужным прохаживаться взад и вперед, притворившись, что нахожусь в задумчивости и совсем не знаю о том, что приехали гости. Когда гости вышли на половину залы, я как будто опомнился, расшаркался и объявил им, что бабушка в гостиной. Г-жа Валахина, лицо которой мне очень понравилось, в особенности потому, что я нашел в нем большое сходство с лицом ее дочери Сонечки, благосклонно кивнула мне головой.
Бабушка, казалось, была очень рада видеть Сонечку: подозвала ее ближе к себе, поправила на голове ее одну буклю, которая спадывала на лоб, и, пристально всматриваясь в ее лицо, сказала: «Quelle charmante enfant!»[33] Сонечка улыбнулась, покраснела и сделалась так мила, что я тоже покраснел, глядя на нее.
– Надеюсь, ты не будешь скучать у меня, мой дружок, – сказала бабушка, приподняв ее личико за подбородок, – прошу же веселиться и танцевать как можно больше. Вот уж и есть одна дама и два кавалера, – прибавила она, обращаясь к г-же Валахиной и дотрагиваясь до меня рукою.
Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть еще раз.
Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услыхав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться. В передней нашел я княгиню Корнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были на одно лицо – похожи на княгиню и дурны; поэтому ни одна не останавливала внимания. Снимая салопы и хвосты, они все вдруг говорили тоненькими голосками, суетились и смеялись чему-то – должно быть, тому, что их было так много. Этьен был мальчик лет пятнадцати, высокий, мясистый, с испитой физиономией, впалыми, посинелыми внизу глазами и с огромными по летам руками и ногами; он был неуклюж, имел голос неприятный и неровный, но казался очень довольным собою и был точно таким, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут розгами.
Мы довольно долго стояли друг против друга и, не говоря ни слова, внимательно всматривались; потом, пододвинувшись поближе, кажется, хотели поцеловаться, но, посмотрев еще в глаза друг другу, почему-то раздумали. Когда платья всех сестер его прошумели мимо нас, чтобы чем-нибудь начать разговор, я спросил, не тесно ли им было в карете.
– Не знаю, – отвечал он мне небрежно, – я ведь никогда не езжу в карете, потому что, как только я сяду, меня сейчас начинает тошнить, и маменька это знает. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы – гораздо веселей – все видно, Филипп дает мне править, иногда и кнут я беру. Этак проезжающих, знаете, иногда, – прибавил он с выразительным жестом, – прекрасно!
– Ваше сиятельство, – сказал лакей, входя в переднюю, – Филипп спрашивает: куда вы кнут изволили деть?
– Как куда дел? да я ему отдал.
– Он говорит, что не отдавали.
– Ну, так на фонарь повесил.
– Филипп говорит, что и на фонаре нет, а вы скажите лучше, что взяли да потеряли, а Филипп будет из своих денежек отвечать за ваше баловство, – продолжал, все более и более воодушевляясь, раздосадованный лакей.
Лакей, который с виду был человек почтенный и угрюмый, казалось, горячо принимал сторону Филиппа и был намерен во что бы то ни стало разъяснить это дело. По невольному чувству деликатности, как будто ничего не замечая, я отошел в сторону; но присутствующие лакеи поступили совсем иначе: они подступили ближе, с одобрением посматривая на старого слугу.
– Ну, потерял так потерял, – сказал Этьен, уклоняясь от дальнейших объяснений, – что стоит ему кнут, так я и заплачу. Вот уморительно! – прибавил он, подходя ко мне и увлекая меня в гостиную.
– Нет, позвольте, барин, чем-то вы заплатите? знаю я, как вы платите: Марье Васильевне вот уж вы восьмой месяц двугривенный все платите, мне тоже уж, кажется, второй год, Петрушке…
– Замолчишь ли ты! – крикнул молодой князь, побледнев от злости. – Вот я все это скажу.
– Все скажу, все скажу! – проговорил лакей. – Нехорошо, ваше сиятельство! – прибавил он особенно выразительно в то время, как мы входили в залу, и пошел с салопами к ларю.
– Вот так, так! – послышался за нами чей-то одобрительный голос в передней.
Бабушка имела особенный дар, прилагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица, высказывать свое мнение о людях. Хотя она употребляла вы и ты наоборот общепринятому обычаю, в ее устах эти оттенки принимали совсем другое значение. Когда молодой князь подошел к ней, она сказала ему несколько слов, называя его вы, и взглянула на него с выражением такого пренебрежения, что, если бы я был на его месте, я растерялся бы совершенно; но Этьен был, как видно, мальчик не такого сложения: он не только не обратил никакого внимания на прием бабушки, но даже и на всю ее особу, а раскланялся всему обществу, если не ловко, то совершенно развязно. Сонечка занимала все мое внимание: я помню, что, когда Володя, Этьен и я разговаривали в зале на таком месте, с которого видна была Сонечка и она могла видеть и слышать нас, я говорил с удовольствием; когда мне случалось сказать, по моим понятиям, смешное или молодецкое словцо, я произносил его громче и оглядывался на дверь в гостиную; когда же мы перешли на другое место, с которого нас нельзя было ни слышать, ни видеть из гостиной, я молчал и не находил больше никакого удовольствия в разговоре.
Гостиная и зала понемногу наполнялись гостями; в числе их, как и всегда бывает на детских вечерах, было несколько больших детей, которые не хотели пропустить случая повеселиться и потанцевать, как будто для того только, чтобы сделать удовольствие хозяйке дома.
Когда приехали Ивины, вместо удовольствия, которое я обыкновенно испытывал при встрече с Сережей, я почувствовал какую-то странную досаду на него за то, что он увидит Сонечку и покажется ей.
Глава XXI До мазурки
– Э! да у вас, видно, будут танцы, – сказал Сережа, выходя из гостиной и доставая из кармана новую пару лайковых перчаток, – надо перчатки надевать.
«Как же быть? а у нас перчаток-то нет, – подумал я, – надо пойти на верх – поискать».
Но хотя я перерыл все комоды, я нашел только в одном – наши дорожные зеленые рукавицы, а в другом – одну лайковую перчатку, которая никак не могла годиться мне: во-первых, потому, что была чрезвычайно стара и грязна, во-вторых, потому, что была для меня слишком велика, а главное потому, что на ней недоставало среднего пальца, отрезанного, должно быть, еще очень давно, Карлом Иванычем для больной руки. Я надел, однако, на руку этот остаток перчатки и пристально рассматривал то место среднего пальца, которое всегда было замарано чернилами.
– Вот если бы здесь была Наталья Савишна: у нее, верно бы, нашлись и перчатки. Вниз идти нельзя в таком виде, потому что если меня спросят, отчего я не танцую, что мне сказать? и здесь оставаться тоже нельзя, потому, что меня непременно хватятся. Что мне делать? – говорил я, размахивая руками.
– Что ты здесь делаешь? – сказал вбежавший Володя, – иди ангажируй даму… сейчас начнется.
– Володя, – сказал я ему, показывая руку с двумя просунутыми в грязную перчатку пальцами, голосом, выражавшим положение, близкое к отчаянию, – Володя, ты и не подумал об этом!
– О чем? – сказал он с нетерпением. – А! о перчатках, – прибавил он совершенно равнодушно, заметив мою руку, – и точно нет; надо спросить у бабушки… что она скажет? – и, нимало не задумавшись, побежал вниз.
Хладнокровие, с которым он отзывался об обстоятельстве, казавшемся мне столь важным, успокоило меня, и я поспешил в гостиную, совершенно позабыв об уродливой перчатке, которая была надета на моей левой руке.
Осторожно подойдя к креслу бабушки и слегка дотрагиваясь до ее мантилии, я шепотом сказал ей:
– Бабушка! что нам делать? у нас перчаток нет!
– Что, мой друг?
– У нас перчаток нет, – повторил я, подвигаясь ближе и ближе и положив обе руки на ручку кресел.
– А это что, – сказала она, вдруг схватив меня за левую руку. – Voyez, ma chère[34], – продолжала она, обращаясь к г-же Валахиной, – voyez comme ce jeune homme s’est fait élégant pour danser avec votre fille[35].
Бабушка крепко держала меня за руку и серьезно, но вопросительно посматривала на присутствующих до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено и смех сделался общим.
Я был бы очень огорчен, если бы Сережа видел меня в то время, как я, сморщившись от стыда, напрасно пытался вырвать свою руку, но перед Сонечкой, которая до того расхохоталась, что слезы навернулись ей на глаза и все кудряшки распрыгались около ее раскрасневшегося личика, мне нисколько не было совестно. Я понял, что смех ее был слишком громок и естествен, чтоб быть насмешливым; напротив, то, что мы посмеялись вместе и глядя друг на друга, как будто сблизило меня с нею. Эпизод с перчаткой, хотя и мог кончиться дурно, принес мне ту пользу, что поставил меня на свободную ногу в кругу, который казался мне всегда самым страшным, – в кругу гостиной; я не чувствовал уже ни малейшей застенчивости в зале.
Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности о мнении, которое о них составили; как только мнение это ясно выражено – какое бы оно ни было, – страдание прекращается.
Что это как мила была Сонечка Валахина, когда она против меня танцевала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем! Как мило она улыбалась, когда в chaîne[36] подавала мне ручку! как мило, в такт прыгали на головке ее русые кудри, и как наивно делала она jeté-assemblé* своими крошечными ножками! В пятой фигуре, когда моя дама перебежала от меня на другую сторону и когда я, выжидая такт, приготовлялся делать соло, Сонечка серьезно сложила губки и стала смотреть в сторону. Но напрасно она за меня боялась: я смело сделал chassé en avant, chassé en arrière, glissade[37] и, в то время как подходил к ней, игривым движением показал ей перчатку с двумя торчавшими пальцами. Она расхохоталась ужасно и еще милее засеменила ножками по паркету. Еще помню я, как, когда мы делали круг и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носик о свою перчатку. Все это как теперь перед моими глазами, и еще слышится мне кадриль из «Девы Дуная», под звуки которой все это происходило.
Наступила и вторая кадриль, которую я танцевал с Сонечкой. Усевшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить. Когда молчание мое сделалось слишком продолжительно, я стал бояться, чтобы она не приняла меня за дурака, и решился во что бы то ни стало вывести ее из такого заблуждения на мой счет. «Vous êtes une habitante de Moscou?[38] – сказал я ей и после утвердительного ответа продолжал: – Et moi, je n’ai encore jamais fréquenté la capitale»[39], – рассчитывая в особенности на эффект слова «fréquentår»[40]. Я чувствовал, однако, что, хотя это начало было очень блестяще и вполне доказывало мое высокое знание французского языка, продолжать разговор в таком духе я не в состоянии. Еще не скоро должен был прийти наш черед танцевать, а молчание возобновилось: я с беспокойством посматривал на нее, желая знать, какое произвел впечатление, и ожидая от нее помощи. «Где вы нашли такую уморительную перчатку?» – спросила она меня вдруг; и этот вопрос доставил мне большое удовольствие и облегчение. Я объяснил, что перчатка принадлежала Карлу Иванычу, распространился, даже несколько иронически, о самой особе Карла Иваныча, о том, какой он бывает смешной, когда снимает красную шапочку, и о том, как он раз в зеленой бекеше упал с лошади – прямо в лужу, и т. п. Кадриль прошла незаметно. Все это было очень хорошо; но зачем я с насмешкой отзывался о Карле Иваныче? Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я описал ей его с теми любовью и уважением, которые я к нему чувствовал?
Когда кадриль кончилась, Сонечка сказала мне «merci» с таким милым выражением, как будто я действительно заслужил ее благодарность. Я был в восторге, не помнил себя от радости и сам не мог узнать себя: откуда взялись у меня смелость, уверенность и даже дерзость? «Нет вещи, которая бы могла меня сконфузить! – думал я, беззаботно разгуливая по зале, – я готов на все!»
Сережа предложил мне быть с ним vis-a-vis. «Хорошо, – сказал я, – хотя у меня нет дамы, я найду». Окинув залу решительным взглядом, я заметил, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил, с целью пригласить ее; он был от нее в двух шагах, я же – на противоположном конце залы. В мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел я все разделяющее меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым голосом пригласил ее на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку, а молодой человек остался без дамы.
Я имел такое сознание своей силы, что даже не обратил внимания на досаду молодого человека; но после узнал, что молодой человек этот спрашивал, кто тот взъерошенный мальчик, который проскочил мимо его и перед носом отнял даму.
Глава XXII Мазурка
Молодой человек, у которого я отбил даму, танцевал мазурку в первой паре. Он вскочил с своего места, держа даму за руку, и вместо того, чтобы делать pas de Basques[41], которым нас учила Мими, просто побежал вперед; добежав до угла, приостановился, раздвинул ноги, стукнул каблуком, повернулся и, припрыгивая, побежал дальше.
Так как дамы на мазурку у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал.
«Что же он это делает? – рассуждал я сам с собою. – Ведь это вовсе не то, чему учила нас Мими: она уверяла, что мазурку все танцуют на цыпочках, плавно и кругообразно разводя ногами; а выходит, что танцуют совсем не так. Вон и Ивины, и Этьен, и все танцуют, a pas de Basques не делают; и Володя наш перенял новую манеру. Недурно!.. А Сонечка-то какая милочка?! вон она пошла…» Мне было чрезвычайно весело.
Мазурка клонилась к концу: несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и уезжали; лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в задние комнаты; бабушка заметно устала, говорила как бы нехотя и очень протяжно; музыканты в тридцатый раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцевал, делая фигуру, заметила меня и, предательски улыбнувшись, – должно быть, желая тем угодить бабушке, – подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжон. «Rosé ou hortie?»[42] – сказала она мне.
– А, ты здесь! – сказала, поворачиваясь в своем кресле, бабушка. – Иди же, мой дружок, иди.
Хотя мне в эту минуту больше хотелось спрятаться с головой под кресло бабушки, чем выходить из-за него, как было отказаться? – я встал, сказал «rose»[43] и робко взглянул на Сонечку. Не успел я опомниться, как чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать с своими ногами.
Я знал, что pas de Basques неуместны, неприличны и даже могут совершенно осрамить меня; но знакомые звуки мазурки, действуя на мой слух, сообщили известное направление акустическим нервам, которые в свою очередь передали это движение ногам; и эти последние, совершенно невольно и к удивлению всех зрителей, стали выделывать фатальные круглые и плавные па на цыпочках. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как, но на повороте я заметил, что, если не приму своих мер, непременно уйду вперед. Во избежание такой неприятности я приостановился, с намерением сделать то самое коленце, которое так красиво делал молодой человек в первой паре. Но в ту самую минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна, торопливо обегая вокруг меня, с выражением тупого любопытства и удивления посмотрела на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что, вместо того чтобы танцевать, затопал ногами на месте, самым странным, ни с тактом, ни с чем не сообразным образом, и, наконец, совершенно остановился. Все смотрели на меня: кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто с состраданием; одна бабушка смотрела совершенно равнодушно.
– Il ne fallait pas danser, si vous ne savez pas![44] – сказал сердитый голос папа над моим ухом, и, слегка оттолкнув меня, он взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному, при громком одобрении зрителей, и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась.
«Господи! за что ты наказываешь меня так ужасно!»
………………………………………………………………………………
Все презирают меня и всегда будут презирать… мне закрыта дорога ко всему: к дружбе, любви, почестям… все пропало! Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? зачем Сонечка… она милочка; но зачем она улыбалась в это время? зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? О, это ужасно! Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку… И мое воображение унеслось далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена, и еще много спокойных радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении.
Глава XXIII После мазурки
За ужином молодой человек, танцевавший в первой паре, сел за наш, детский, стол и обращал на меня особенное внимание, что немало польстило бы моему самолюбию, если бы я мог, после случившегося со мной несчастия, чувствовать что-нибудь. Но молодой человек, как кажется, хотел во что бы то ни стало развеселить меня: он заигрывал со мной, называл меня молодцом и, как только никто из больших не смотрел на нас, подливал мне в рюмку вина из разных бутылок и непременно заставлял выпивать. К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского из завернутой в салфетку бутылки и когда молодой человек настоял на том, чтобы он налил мне полный, и заставил меня его выпить залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, особенную приязнь к моему веселому покровителю и чему-то очень расхохотался.
Вдруг раздались из залы звуки гросфатера, и стали вставать из-за стола. Дружба наша с молодым человеком тотчас же и кончилась: он ушел к большим, а я, не смея следовать за ним, подошел, с любопытством, прислушиваться к тому, что говорила Валахина с дочерью.
– Еще полчасика, – убедительно говорила Сонечка.
– Право, нельзя, мой ангел.
– Ну для меня, пожалуйста, – говорила она, ласкаясь.
– Ну разве тебе весело будет, если я завтра буду больна? – сказала г-жа Валахина и имела неосторожность улыбнуться.
– А, позволила! останемся? – заговорила Сонечка, прыгая от радости.
– Что с тобой делать? Иди же, танцуй… вот тебе и кавалер, – сказала она, указывая на меня.
Сонечка подала мне руку, и мы побежали в залу.
Выпитое вино, присутствие и веселость Сонечки заставили меня совершенно забыть несчастное приключение мазурки. Я выделывал ногами самые забавные штуки: то, подражая лошади, бежал маленькой рысцой, гордо поднимая ноги, то топотал ими на месте, как баран, который сердится на собаку, при этом хохотал от души и нисколько не заботился о том, какое впечатление произвожу на зрителей, Сонечка тоже не переставала смеяться: она смеялась тому, что мы кружились, взявшись рука за руку, хохотала, глядя на какого-то старого барина, который, медленно поднимая ноги, перешагнул через платок, показывая вид, что ему было очень трудно это сделать, и помирала со смеху, когда я вспрыгивал чуть не до потолка, чтобы показать свою ловкость.
Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало: лицо было в поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше чем когда-нибудь; но общее выражение лица было такое веселое, доброе и здоровое, что я сам себе понравился.
«Если бы я был всегда такой, как теперь, – подумал я, – я бы еще мог понравиться».
Но когда я опять взглянул на прекрасное личико моей дамы, в нем было, кроме того выражения веселости, здоровья и беззаботности, которое понравилось мне в моем, столько изящной и нежной красоты, что мне сделалось досадно на самого себя, я понял, как глупо мне надеяться обратить на себя внимание такого чудесного создания.
Я не мог надеяться на взаимность, да и не думал о ней: душа моя и без того была преисполнена счастием. Я не понимал, что за чувство любви, наполнявшее мою душу отрадой, можно было бы требовать еще большего счастия и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно приливала к нему, и хотелось плакать.
Когда мы проходили по коридору, мимо темного чулана под лестницей, я взглянул на него и подумал: «Что бы это было за счастие, если бы можно было весь век прожить с ней в этом темном чулане! и чтобы никто не знал, что мы там живем».
– Не правда ли, что нынче очень весело? – сказал я тихим, дрожащим голосом и прибавил шагу, испугавшись не столько того, что сказал, сколько того, что намерен был сказать.
– Да… очень! – отвечала она, обратив ко мне головку, с таким откровенно-добрым выражением, что я перестал бояться.
– Особенно после ужина… Но если бы вы знали, как мне жалко (я хотел сказать грустно, но не посмел), что вы скоро уедете и мы больше не увидимся.
– Отчего ж не увидимся? – сказала она, пристально всматриваясь в кончики своих башмачков и проводя пальчиком по решетчатым ширмам, мимо которых мы проходили, – каждый вторник и пятницу мы с мамашей ездим на Тверской. Вы разве не ходите гулять?
– Непременно будем проситься во вторник, и если меня не пустят, я один убегу – без шапки. Я дорогу знаю.
– Знаете что? – сказала вдруг Сонечка, – я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю ты; давайте и с вами говорить ты. Хочешь? – прибавила она, встряхнув головкой и взглянув мне прямо в глаза.
В это время мы входили в залу, и начиналась другая, живая часть гросфатера.
– Давай… те, – сказал я в то время, когда музыка и шум могли заглушить мои слова.
– Давай ты, а не давайте, – поправила Сонечка и засмеялась.
Гросфатер кончился, а я не успел сказать ни одной фразы с ты, хотя не переставал придумывать такие, в которых местоимение это повторялось бы несколько раз. У меня недоставало на это смелости. «Хочешь?», «давай ты» звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение: я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. Видел я, как подобрали ее локоны, заложили их за уши и открыли части лба и висков, которых я не видал еще; видел я, как укутали ее в зеленую шаль, так плотно, что виднелся только кончик ее носика; заметил, что если бы она не сделала своими розовенькими пальчиками маленького отверстия около рта, то непременно бы задохнулась, и видел, как она, спускаясь с лестницы за своею матерью, быстро повернулась к нам, кивнула головкой и исчезла за дверью.
Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку и, стоя на лестнице, провожали ее глазами.
Кому в особенности кивнула она головкой, я не знаю, но в ту минуту я твердо был убежден, что это сделано было для меня.
Прощаясь с Ивиными, я очень свободно, даже несколько холодно поговорил с Сережей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мною, он, верно, пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным.
Я в первый раз в жизни изменил в любви и в первый раз испытал сладость этого чувства. Мне было отрадно переменить изношенное чувство привычной преданности на свежее чувство любви, исполненной таинственности и неизвестности. Сверх того, в одно и то же время разлюбить и полюбить – значит полюбить вдвое сильнее, чем прежде.
Глава XXIV В постели
«Как мог я так страстно и так долго любить Сережу? – рассуждал я, лежа в постели. – Нет! он никогда не понимал, не умел ценить и не стоил моей любви… а Сонечка? что это за прелесть! «Хочешь?», «тебе начинать».
Я вскочил на четвереньки, живо представляя себе ее личико, закрыл голову одеялом, подвернул его под себя со всех сторон и, когда нигде не осталось отверстий, улегся и, ощущая приятную теплоту, погрузился в сладкие мечты и воспоминания. Устремив неподвижные взоры в подкладку стеганого одеяла, я видел ее так же ясно, как час тому назад; я мысленно разговаривал с нею, и разговор этот, хотя не имел ровно никакого смысла, доставлял мне неописанное наслаждение, потому что ты, тебе, с тобой, твои встречались в нем беспрестанно.
Мечты эти были так ясны, что я не мог заснуть от сладостного волнения, и мне хотелось поделиться с кем-нибудь избытком своего счастия.
– Милочка! – сказал я почти вслух, круто поворачиваясь на другой бок. – Володя! ты спишь?
– Нет, – ответил он мне сонным голосом, – а что?
– Я влюблен, Володя! решительно влюблен в Сонечку.
– Ну так что ж? – отвечал он мне, потягиваясь.
– Ах, Володя! ты не можешь себе представить, что со мной делается… вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно, так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно. И еще знаешь ли что? когда я лежу и думаю о ней, бог знает отчего делается грустно и ужасно хочется плакать.
Володя пошевелился.
– Только одного я бы желал, – продолжал я, – это – чтобы всегда с ней быть, всегда ее видеть, и больше ничего. А ты влюблен? признайся по правде, Володя.
Странно, что мне хотелось, чтобы все были влюблены в Сонечку и чтобы все рассказывали это.
– Тебе какое дело? – сказал Володя, поворачиваясь ко мне лицом, – может быть.
– Ты не хочешь спать, ты притворялся! – закричал я, заметив по его блестящим глазам, что он нисколько не думал о сне, и откинул одеяло. – Давай лучше толковать о ней. Не правда ли, что прелесть?.. такая прелесть, что скажи она мне: «Николаша! выпрыгни в окно или бросься в огонь», ну, вот, клянусь! – сказал я, – сейчас прыгну, и с радостью. Ах, какая прелесть! – прибавил я, живо воображая ее перед собою, и, чтобы вполне наслаждаться этим образом, порывисто перевернулся на другой бок и засунул голову под подушки. – Ужасно хочется плакать, Володя.
– Вот дурак! – сказал он, улыбаясь, и потом, помолчав немного: – Я так совсем не так, как ты: я думаю, что, если бы можно было, я сначала хотел бы сидеть с ней рядом и разговаривать…
– А! так ты тоже влюблен? – перебил я его.
– Потом, – продолжал Володя, нежно улыбаясь, – потом расцеловал бы ее пальчики, глазки, губки, носик, ножки – всю бы расцеловал…
– Глупости! – закричал я из-под подушек.
– Ты ничего не понимаешь, – презрительно сказал Володя.
– Нет, я понимаю, а вот ты не понимаешь и говоришь глупости, – сказал я сквозь слезы.
– Только плакать-то уж незачем. Настоящая девочка!
Глава XXV Письмо
Шестнадцатого апреля, почти шесть месяцев после описанного мною дня, отец вошел к нам на верх, во время классов, и объявил, что нынче в ночь мы едем с ним в деревню. Что-то защемило у меня в сердце при этом известии, и мысль моя тотчас же обратилась к матушке.
Причиною такого неожиданного отъезда было следующее письмо.
Петровское, 12 апреля.
«Сейчас только, в десять часов вечера, получила я твое доброе письмо, от 3 апреля, и, по моей всегдашней привычке, отвечаю тотчас же. Федор привез его еще вчера из города, но так как было поздно, он подал его Мими нынче утром. Мими же, под предлогом, что я была нездорова и расстроена, не давала мне его целый день. У меня точно был маленький жар, и, признаться тебе по правде, вот уж четвертый день, что я не так-то здорова и не встаю с постели.
Пожалуйста, не пугайся, милый друг: я чувствую себя довольно хорошо и, если Иван Васильевич позволит, завтра думаю встать.
В пятницу на прошлой неделе я поехала с детьми кататься; но подле самого выезда на большую дорогу, около того мостика, который всегда наводил на меня ужас, лошади завязли в грязи. День был прекрасный, и мне вздумалось пройтись пешком до большой дороги, покуда вытаскивали коляску. Дойдя до часовни, я очень устала и села отдохнуть, а так как, покуда собирались люди, чтоб вытащить экипаж, прошло около получаса, мне стало холодно, особенно ногам, потому что на мне были ботинки на тонких подошвах и я их промочила. После обеда я почувствовала озноб и жар, но, по заведенному порядку, продолжала ходить, а после чаю села играть с Любочкой в четыре руки. (Ты не узнаешь ее: такие она сделала успехи!) Но представь себе мое удивление, когда я заметила, что не могу счесть такта. Несколько раз я принималась считать, но все в голове у меня решительно путалось, и я чувствовала странный шум в ушах. Я считала: раз, два, три, потом вдруг: восемь, пятнадцать и главное – видела, что вру, и никак не могла поправиться. Наконец Мими пришла мне на помощь и почти насильно уложила в постель. Вот тебе, мой друг, подробный отчет в том, как я занемогла и как сама в том виновата. На другой день у меня был жар довольно сильный и приехал наш добрый, старый Иван Васильич, который до сих пор живет у нас и обещается скоро выпустить меня на свет божий. Чудесный старик этот Иван Васильич! Когда у меня был жар и бред, он целую ночь, не смыкая глаз, просидел около моей постели, теперь же, так как знает, что я пишу, сидит с девочками в диванной, и мне слышно из спальни, как он им рассказывает немецкие сказки и как они, слушая его, помирают со смеху.
La belle Flamande[45], как ты называешь ее, гостит у меня уже вторую неделю, потому что мать ее уехала куда-то в гости, и своими попечениями доказывает самую искреннюю привязанность. Она поверяет мне все свои сердечные тайны. С ее прекрасным лицом, добрым сердцем и молодостью из нее могла бы выйти во всех отношениях прекрасная девушка, если б она была в хороших руках; но в том обществе, в котором она живет, судя по ее рассказам, она совершенно погибнет. Мне приходило в голову, что, если бы у меня не было так много своих детей, я бы хорошее дело сделала, взяв ее.
Любочка сама хотела писать тебе, но изорвала уже третий лист бумаги и говорит: «Я знаю, какой папа насмешник: если сделать хоть одну ошибочку, он всем покажет». Катенька все так же мила, Мими так же добра и скучна.
Теперь поговорим о серьезном: ты мне пишешь, что дела твои идут нехорошо эту зиму и что тебе необходимо будет взять хабаровские деньги. Мне даже странно, что ты спрашиваешь на это моего согласия. Разве то, что принадлежит мне, не принадлежит столько же и тебе?
Ты так добр, милый друг, что из страха огорчить меня скрываешь настоящее положение своих дел; но я догадываюсь: верно, ты проиграл очень много, и нисколько, божусь тебе, не огорчаюсь этим; поэтому, если только дело это можно поправить, пожалуйста, много не думай о нем и не мучь себя напрасно. Я привыкла не только не рассчитывать для детей на твой выигрыш, но, извини меня, даже и на все твое состояние. Меня так же мало радует твой выигрыш, как огорчает проигрыш; меня огорчает только твоя несчастная страсть к игре, которая отнимает у меня часть твоей нежной привязанности и заставляет говорить тебе такие горькие истины, как теперь, а богу известно, как мне это больно! Я не перестаю молить его об одном, чтобы он избавил нас… не от бедности (что бедность?), а от того ужасного положения, когда интересы детей, которые я должна буду защищать, придут в столкновение с нашими. До сих пор господь исполнял мою молитву: ты не переходил одной черты, после которой мы должны будем или жертвовать состоянием, которое принадлежит уже не нам, а нашим детям, или… и подумать страшно, а ужасное несчастие это всегда угрожает нам. Да, это тяжелый крест, который послал нам обоим господь!
Ты пишешь мне еще о детях и возвращаешься к нашему давнишнему спору: просишь меня согласиться на то, чтобы отдать их в учебное заведение. Ты знаешь мое предубеждение против такого воспитания…
Не знаю, милый друг, согласишься ли ты со мною; но, во всяком случае, умоляю тебя, из любви ко мне, дать мне обещание, что, покуда я жива и после моей смерти, если богу угодно будет разлучить нас, этого никогда не будет.
Ты мне пишешь, что тебе необходимо будет съездить в Петербург по нашим делам. Христос с тобой, мой дружок, поезжай и возвращайся поскорее. Нам всем без тебя так скучно! Весна чудо как хороша: балконную дверь уж выставили, дорожка к оранжерее четыре дня тому назад была совершенно суха, персики во всем цвету, кой-где только остался снег, ласточки прилетели, и нынче Любочка принесла мне первые весенние цветы. Доктор говорит, что дня через три я буду совсем здорова и мне можно будет подышать свежим воздухом и погреться на апрельском солнышке. Прощай же, милый друг, не беспокойся, пожалуйста, ни о моей болезни, ни о своем проигрыше; кончай скорей дела и приезжай к нам с детьми на целое лето. Я делаю чудные планы о том, как мы проведем его, и недостает только тебя, чтобы им осуществиться».
Следующая часть письма была написана по-французски, связным и неровным почерком, на другом клочке бумаги. Я перевожу его слово в слово:
«Не верь тому, что я писала тебе о моей болезни; никто не подозревает, до какой степени она серьезна. Я одна знаю, что мне больше не вставать с постели. Не теряй ни одной минуты, приезжай сейчас же и привози детей. Может быть, я успею еще раз обнять тебя и благословить их: это мое одно последнее желание. Я знаю, какой ужасный удар наношу тебе; но все равно, рано или поздно, от меня или от других, ты получил бы его; постараемся же с твердостию и надеждою на милосердие божие перенести это несчастие. Покоримся воле его.
Не думай, чтобы то, что я пишу, было бредом больного воображения; напротив, мысли мои чрезвычайно ясны в эту минуту, и я совершенно спокойна. Не утешай же себя напрасно надеждой, что бы это были ложные, неясные предчувствия боязливой души. Нет, я чувствую, я знаю – и знаю потому, что богу было угодно открыть мне это, – мне осталось жить очень недолго.
Кончится ли вместе с жизнию моя любовь к тебе и детям? Я поняла, что это невозможно. Я слишком сильно чувствую в эту минуту, чтобы думать, что то чувство, без которого я не могу понять существования, могло бы когда-нибудь уничтожиться. Душа моя не может существовать без любви к вам: а я знаю, что она будет существовать вечно, уже по одному тому, что такое чувство, как моя любовь, не могло бы возникнуть, если бы оно должно было когда-нибудь прекратиться.
Меня не будет с вами; но я твердо уверена, что любовь моя никогда не оставит вас, и эта мысль так отрадна для моего сердца, что я спокойно и без страха ожидаю приближающейся смерти.
Я спокойна, и богу известно, что всегда смотрела и смотрю на смерть как на переход к жизни лучшей; но отчего ж слезы давят меня?.. Зачем лишать детей любимой матери? Зачем наносить тебе такой тяжелый, неожиданный удар? Зачем мне умирать, когда ваша любовь делала для меня жизнь беспредельно счастливою?
Да будет его святая воля.
Я не могу писать больше от слез. Может быть, я не увижу тебя. Благодарю же тебя, мой бесценный друг, за все счастие, которым ты окружил меня в этой жизни; я там буду просить бога, чтобы он наградил тебя. Прощай, милый друг; помни, что меня не будет, но любовь моя никогда и нигде не оставит тебя. Прощай, Володя, прощай, мой ангел, прощай, Веньямин – мой Николенька.
Неужели они когда-нибудь забудут меня?!»
В этом письме была вложена французская записочка Мими следующего содержания:
«Печальные предчувствия, о которых она говорит вам, слишком подтвердились словами доктора. Вчера ночью она велела отправить это письмо тотчас на почту. Думая, что она сказала это в бреду, я ждала до сегодняшнего утра и решилась его распечатать. Только что я распечатала, как Наталья Николаевна спросила меня, что я сделала с письмом, и приказала мне сжечь его, если оно не отправлено. Она все говорит о нем и уверяет, что оно должно убить вас. Не откладывайте вашей поездки, если вы хотите видеть этого ангела, покуда еще он не оставил нас. Извиняйте это маранье. Я не спала три ночи. Вы знаете, как я люблю ее!»
Наталья Савишна, которая всю ночь 11 апреля провела в спальне матушки, рассказывала мне, что, написав первую часть письма, maman положила его подле себя на столик и започивала.
– Я сама, – говорила Наталья Савишна, – признаюсь, задремала на кресле, и чулок вывалился у меня из рук. Только слышу я сквозь сон – часу этак в первом, – что она как будто разговаривает; я открыла глаза, смотрю: она, моя голубушка, сидит на постели, сложила вот этак ручки, а слезы в три ручья так и текут. «Так все кончено?» – только она и сказала и закрыла лицо руками. Я вскочила, стала спрашивать: «Что с вами?»
– Ах, Наталья Савишна, если бы вы знали, кого я сейчас видела.
Сколько я ни спрашивала, больше она мне ничего не сказала, только приказала подать столик, пописала еще что-то, при себе приказала запечатать письмо и сейчас же отправить. После уж все пошло хуже да хуже.
Глава XXVI Что ожидало нас в деревне
Восемнадцатого апреля мы выходили из дорожной коляски у крыльца петровского дома. Выезжая из Москвы, папа был задумчив, и когда Володя спросил у него: не больна ли maman? – он с грустию посмотрел на него и молча кивнул головой. Во время путешествия он заметно успокоился; но по мере приближения к дому лицо его все более и более принимало печальное выражение, и когда, выходя из коляски, он спросил у выбежавшего, запыхавшегося Фоки: «Где Наталья Николаевна?» – голос его был нетверд и в глазах были слезы. Добрый старик Фока, украдкой взглянув на нас, опустил глаза и, отворяя дверь в переднюю, отвернувшись, отвечал:
– Шестой день уж не изволят выходить из спальни.
Милка, которая, как я после узнал, с самого того дня, в который занемогла maman, не переставала жалобно выть, весело бросилась к отцу – прыгала на него, взвизгивала, лизала его руки; но он оттолкнул ее и прошел в гостиную, оттуда в диванную, из которой дверь вела прямо в спальню. Чем ближе подходил он к этой комнате, тем более, по всем телодвижениям, было заметно его беспокойство: войдя в диванную, он шел на цыпочках, едва переводил дыхание и перекрестился, прежде чем решился взяться за замок затворенной двери. В это время из коридора выбежала нечесаная, заплаканная Мими. «Ах! Петр Александрыч! – сказала она шепотом, с выражением истинного отчаяния, и потом, заметив, что папа поворачивает ручку замка, она прибавила чуть слышно: – Здесь нельзя пройти – ход из девичьей».
О, как тяжело все это действовало на мое настроенное к горю страшным предчувствием детское воображение!
Мы пошли в девичью; в коридоре попался нам на дороге дурачок Аким, который всегда забавлял нас своими гримасами; но в эту минуту не только он мне не казался смешным, но ничто так больно не поразило меня, как вид его бессмысленно-равнодушного лица. В девичьей две девушки, которые сидели за какой-то работой, привстали, чтобы поклониться нам, с таким печальным выражением, что мне сделалось страшно. Пройдя еще комнату Мими, папа отворил дверь спальни, и мы вошли. Направо от двери были два окна, завешенные платками; у одного из них сидела Наталья Савишна, с очками на носу, и вязала чулок. Она не стала целовать нас, как то обыкновенно делывала, а только привстала, посмотрела на нас через очки, и слезы потекли у нее градом. Мне очень не понравилось, что все при первом взгляде на нас начинают плакать, тогда как прежде были совершенно спокойны.
Налево от двери стояли ширмы, за ширмами – кровать, столик, шкафчик, уставленный лекарствами, и большое кресло, на котором дремал доктор; подле кровати стояла молодая, очень белокурая, замечательной красоты девушка, в белом утреннем капоте, и, немного засучив рукава, прикладывала лед к голове maman, которую не было видно в эту минуту.
Девушка эта была la belle Flamande, про которую писала maman и которая впоследствии играла такую важную роль в жизни всего нашего семейства. Как только мы вошли, она отняла одну руку от головы maman и поправила на груди складки своего капота, потом шепотом сказала: «В забытьи».
Я был в сильном горе в эту минуту, но невольно замечал все мелочи. В комнате было почти темно, жарко и пахло вместе мятой, одеколоном, ромашкой и гофманскими каплями. Запах этот так поразил меня, что, не только когда я слышу его, но когда лишь вспоминаю о нем, воображение мгновенно переносит меня в эту мрачную, душную комнату и воспроизводит все мельчайшие подробности ужасной минуты.
Глаза maman были открыты, но она ничего не видела… О, никогда не забуду я этого страшного взгляда! В нем выражалось столько страдания!..
Нас увели.
Когда я потом спрашивал у Натальи Савишны о последних минутах матушки, вот что она мне сказала:
– Когда вас увели, она еще долго металась, моя голубушка, точно вот здесь ее давило что-то; потом спустила головку с подушек и задремала, так тихо, спокойно, точно ангел небесный. Только я вышла посмотреть, что питье не несут, – прихожу, а уж она, моя сердечная, все вокруг себя раскидала и все манит к себе вашего папеньку; тот нагнется к ней, а уж сил, видно, недостает сказать, что хотелось: только откроет губки и опять начнет охать: «Боже мой! Господи! Детей! детей!» Я хотела было за вами бежать, да Иван Васильич остановил, говорит: «Это хуже встревожит ее, лучше не надо». После уж только поднимет ручку и опять опустит. И что она этим хотела, бог ее знает. Я так думаю, что это она вас заочно благословляла; да, видно, не привел ее господь (перед последним концом) взглянуть на своих деточек. Потом она приподнялась, моя голубушка, сделала вот так ручки и вдруг заговорила, да таким голосом, что я и вспомнить не могу: «Матерь божия, не оставь их!..» Тут уж боль подступила ей под самое сердце, по глазам видно было, что ужасно мучилась бедняжка; упала на подушки, ухватилась зубами за простыню; а слезы-то, мой батюшка, так и текут.
– Ну, а потом? – спросил я.
Наталья Савишна не могла больше говорить: она отвернулась и горько заплакала.
Maman скончалась в ужасных страданиях.
Глава XXVII Горе
На другой день, поздно вечером, мне захотелось еще раз взглянуть на нее; преодолев невольное чувство страха, я тихо отворил дверь и на цыпочках вошел в залу.
Посредине комнаты, на столе, стоял гроб, вокруг него нагоревшие свечи в высоких серебряных подсвечниках; в дальнем углу сидел дьячок и тихим однообразным голосом читал псалтырь.
Я остановился у двери и стал смотреть; но глаза мои были так заплаканы и нервы так расстроены, что я ничего не мог разобрать; все как-то странно сливалось вместе: свет, парча, бархат, большие подсвечники, розовая, обшитая кружевами подушка, венчик, чепчик с лентами и еще что-то прозрачное, воскового цвета. Я стал на стул, чтобы рассмотреть ее лицо, но на том месте, где оно находилось, мне опять представился тот же бледно-желтоватый прозрачный предмет. Я не мог верить, чтобы это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-помалу стал узнавать в нем знакомые, милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; но отчего закрытые глаза так впали? отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачной кожей? отчего выражение всего лица так строго и холодно? отчего губы так бледны и склад их так прекрасен, так величествен и выражает такое неземное спокойствие, что холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него?..
Я смотрел и чувствовал, что какая-то непонятная, непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному лицу. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне картины, цветущие жизнью и счастьем. Я забывал, что мертвое тело, которое лежало предо мною и на которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими воспоминаниями, была она. Я воображал ее то в том, то в другом положении: живою, веселою, улыбающеюся; потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в бледном лице, на котором остановились мои глаза: я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменяли действительность, и снова сознание действительности разрушало мечты. Наконец воображение устало, оно перестало обманывать меня; сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся. Не знаю, сколько времени пробыл я в этом положении, не знаю, в чем состояло оно; знаю только то, что на время я потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение.
Может быть, отлетая к миру лучшему, ее прекрасная душа с грустью оглянулась на тот, в котором она оставляла нас; она увидела мою печаль, сжалилась над нею и на крыльях любви, с небесною улыбкою сожаления, спустилась на землю, чтобы утешить и благословить меня.
Дверь скрипнула, и в комнату вошел дьячок на смену. Этот шум разбудил меня, и первая мысль, которая пришла мне, была та, что, так как я не плачу и стою на стуле в позе, не имеющей ничего трогательного, дьячок может принять меня за бесчувственного мальчика, который из шалости или любопытства забрался на стул: я перекрестился, поклонился и заплакал.
Вспоминая теперь свои впечатления, я нахожу, что только одна эта минута самозабвения была настоящим горем. Прежде и после погребения я не переставал плакать и был грустен, но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдения над чепцом Мими и лицами присутствующих. Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать все другие; от этого печаль моя была неискренна и неестественна. Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив, старался возбуждать сознание несчастия, и это эгоистическое чувство больше других заглушало во мне истинную печаль.
Проспав эту ночь крепко и спокойно, как всегда бывает после сильного огорчения, я проснулся с высохнувшими слезами и успокоившимися нервами. В десять часов нас позвали к панихиде, которую служили перед выносом. Комната была наполнена дворовыми и крестьянами, которые, все в слезах, пришли проститься с своей барыней. Во время службы я прилично плакал, крестился и кланялся в землю, но не молился в душе и был довольно хладнокровен; заботился о том, что новый полуфрачек, который на меня надели, очень жал мне под мышками, думал о том, как бы не запачкать слишком панталон на коленях, и украдкою делал наблюдения над всеми присутствовавшими. Отец стоял у изголовья гроба, был бледен, как платок, и с заметным трудом удерживал слезы. Его высокая фигура в черном фраке, бледное выразительное лицо и, как всегда, грациозные и уверенные движения, когда он крестился, кланялся, доставая рукою землю, брал свечу из рук священника или подходил ко гробу, были чрезвычайно эффектны; но, не знаю почему, мне не нравилось в нем именно то, что он мог казаться таким эффектным в эту минуту. Мими стояла, прислонившись к стене, и, казалось, едва держалась на ногах; платье на ней было измято и в пуху, чепец сбит на сторону; опухшие глаза были красны, голова ее тряслась; она не переставала рыдать раздирающим душу голосом и беспрестанно закрывала лицо платком и руками. Мне казалось, что она это делала для того, чтобы, закрыв лицо от зрителей, на минуту отдохнуть от притворных рыданий. Я вспомнил, как накануне она говорила отцу, что смерть maman для нее такой ужасный удар, которого она никак не надеется перенести, что она лишила ее всего, что этот ангел (так она называла maman) перед самою смертью не забыл ее и изъявил желание обеспечить навсегда будущность ее и Катеньки. Она проливала горькие слезы, рассказывая это, и, может быть, чувство горести ее было истинно, но оно не было чисто и исключительно. Любочка, в черном платьице, обшитом плерезами, вся мокрая от слез, опустила головку, изредка взглядывала на гроб, и лицо ее выражало при этом только детский страх. Катенька стояла подле матери и, несмотря на ее вытянутое личико, была такая же розовенькая, как и всегда. Откровенная натура Володи была откровенна и в горести: он то стоял задумавшись, уставив неподвижные взоры на какой-нибудь предмет, то рот его вдруг начинал кривиться, и он поспешно крестился и кланялся. Все посторонние, бывшие на похоронах, были мне несносны. Утешительные фразы, которые они говорили отцу – что ей там будет лучше, что она была не для этого мира, – возбуждали во мне какую-то досаду.
Какое они имели право говорить и плакать о ней? Некоторые из них, говоря про нас, называли нас сиротами. Точно без них не знали, что детей, у которых нет матери, называют этим именем! Им, верно, нравилось, что они первые дают нам его, точно так же, как обыкновенно торопятся только что вышедшую замуж девушку в первый раз назвать madame.
В дальнем углу залы, почти спрятавшись за отворенной дверью буфета, стояла на коленях сгорбленная седая старушка. Соединив руки и подняв глаза к небу, она не плакала, но молилась. Душа ее стремилась к богу, она просила его соединить ее с тою, кого она любила больше всего на свете, и твердо надеялась, что это будет скоро.
«Вот кто истинно любил ее!» – подумал я, и мне стало стыдно за самого себя.
Панихида кончилась; лицо покойницы было открыто, и все присутствующие, исключая нас, один за другим стали подходить к гробу и прикладываться.
Одна из последних подошла проститься с покойницей какая-то крестьянка с хорошенькой пятилетней девочкой на руках, которую, бог знает зачем, она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его; но только что я нагнулся, меня поразил страшный пронзительный крик, исполненный такого ужаса, что, проживи я сто лет, я никогда его не забуду, и, когда вспомню, всегда пробежит холодная дрожь по моему телу. Я поднял голову – на табурете подле гроба стояла та же крестьянка и с трудом удерживала в руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойной, кричала страшным, неистовым голосом. Я вскрикнул голосом, который, я думаю, был еще ужаснее того, который поразил меня, и выбежал из комнаты.
Только в эту минуту я понял, отчего происходил тот сильный тяжелый запах, который, смешиваясь с запахом ладана, наполнял комнату; и мысль, что то лицо, которое за несколько дней было исполнено красоты и нежности, лицо той, которую я любил больше всего на свете, могло возбуждать ужас, как будто в первый раз открыла мне горькую истину и наполнила душу отчаянием.
Глава XXVIII Последние грустные воспоминания
Maman уже не было, а жизнь наша шла все тем же чередом: мы ложились и вставали в те же часы и в тех же комнатах; утренний, вечерний чай, обед, ужин – все было в обыкновенное время; столы, стулья стояли на тех же местах; ничего в доме и в нашем образе жизни не переменилось; только ее не было…
Мне казалось, что после такого несчастия все должно бы было измениться; наш обыкновенный образ жизни казался мне оскорблением ее памяти и слишком живо напоминал ее отсутствие.
Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать, и я пошел в комнату Натальи Савишны, рассчитывая поместиться на ее постели, на мягком пуховике, под теплым стеганым одеялом. Когда я вошел, Наталья Савишна лежала на своей постели и, должно быть, спала; услыхав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта ее голова, и, поправляя чепец, уселась на край кровати.
Так как еще прежде довольно часто случалось, что после обеда я приходил спать в ее комнату, она догадалась, зачем я пришел, и сказала мне, приподнимаясь с постели:
– Что? верно, отдохнуть пришли, мой голубчик? ложитесь.
– Что вы, Наталья Савишна? – сказал я, удерживая ее за руку, – я совсем не за этим… я так пришел… да вы и сами устали: лучше ложитесь вы.
– Нет, батюшка, я уж выспалась, – сказала она мне (я знал, что она не спала трое суток). – Да и не до сна теперь, – прибавила она с глубоким вздохом.
Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем несчастии; я знал ее искренность и любовь, и потому поплакать с нею было для меня отрадой.
– Наталья Савишна, – сказал я, помолчав немного и усаживаясь на постель, – ожидали ли вы этого?
Старушка посмотрела на меня с недоумением и любопытством, должно быть, не понимая, для чего я спрашиваю у нее это.
– Кто мог ожидать этого? – повторил я.
– Ах, мой батюшка, – сказала она, кинув на меня взгляд самого нежного сострадания, – не то, чтобы ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Ну уж мне, старухе, давно бы пора сложить старые кости на покой; а то вот до чего довелось дожить: старого барина – вашего дедушку, вечная память, князя Николая Михайловича, двух братьев, сестру Аннушку, всех схоронила, и все моложе меня были, мой батюшка, а вот теперь, видно, за грехи мои, и ее пришлось пережить. Его святая воля! Он затем и взял ее, что она достойна была, а ему добрых и там нужно.
Эта простая мысль отрадно поразила меня, и я ближе придвинулся к Наталье Савишне. Она сложила руки на груди и взглянула кверху; впалые влажные глаза ее выражали великую, но спокойную печаль. Она твердо надеялась, что бог ненадолго разлучил ее с тою, на которой столько лет была сосредоточена вся сила ее любви.
– Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала и она меня Нашей называла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнет целовать и приговаривать:
– Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя.
А я, бывало, пошучу – говорю:
– Неправда, матушка, вы меня не любите; вот дай только вырастете большие, выдете замуж и Нашу свою забудете. Она, бывало, задумается. «Нет, говорит, я лучше замуж не пойду, если нельзя Нашу с собой взять; я Нашу никогда не покину». А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница! Да кого она и не любила, правду сказать! Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя; это не человек был, а ангел небесный. Когда ее душа будет в царствии небесном, она и там будет вас любить и там будет на вас радоваться.
– Отчего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будете в царствии небесном? – спросил я, – ведь она, я думаю, и теперь уже там.
– Нет, батюшка, – сказала Наталья Савишна, понизив голос и усаживаясь ближе ко мне на постели, – теперь ее душа здесь.
И она указывала вверх. Она говорила почти шепотом и с таким чувством и убеждением, что я невольно поднял глаза кверху, смотрел на карнизы и искал чего-то.
– Прежде чем душа праведника в рай идет – она еще сорок мытарств проходит, мой батюшка, сорок дней, и может еще в своем доме быть…
Долго еще говорила она в том же роде, и говорила с такою простотою и уверенностью, как будто рассказывала вещи самые обыкновенные, которые сама видала и насчет которых никому в голову не могло прийти ни малейшего сомнения. Я слушал ее, притаив дыхание, и, хотя не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно.
– Да, батюшка, теперь она здесь, смотрит на нас, слушает, может быть, что мы говорим, – заключила Наталья Савишна.
И, опустив голову, замолчала. Ей понадобился платок, чтобы отереть падавшие слезы; она встала, взглянула мне прямо в лицо и сказала дрожащим от волнения голосом:
– На много ступеней подвинул меня этим к себе господь. Что мне теперь здесь осталось? для кого мне жить? кого любить?
– А нас разве вы не любите? – сказал я с упреком и едва удерживаясь от слез.
– Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков, но уж так любить, как я ее любила, никого не любила, да и не могу любить.
Она не могла больше говорить, отвернулась от меня и громко зарыдала.
Я не думал уже спать; мы молча сидели друг против друга и плакали.
В комнату вошел Фока; заметив наше положение и, должно быть, не желая тревожить нас, он, молча и робко поглядывая, остановился у дверей.
– Зачем ты, Фокаша? – спросила Наталья Савишна, утираясь платком.
– Изюму полтора, сахара четыре фунта и сарачинского пшена три фунта для кутьи-с.
– Сейчас, сейчас, батюшка, – сказала Наталья Савишна, торопливо понюхала табаку и скорыми шажками пошла к сундуку. Последние следы печали, произведенной нашим разговором, исчезли, когда она принялась за свою обязанность, которую считала весьма важною.
– На что четыре фунта? – говорила она ворчливо, доставая и отвешивая сахар на безмене, – и три с половиною довольно будет.
И она сняла с весков несколько кусочков.
– А это на что похоже, что вчера только восемь фунтов пшена отпустила, опять спрашивают: ты как хочешь, Фока Демидыч, а я пшена не отпущу. Этот Ванька рад, что теперь суматоха в доме: он думает, авось не заметят. Нет, я потачки за барское добро не дам. Ну виданное ли это дело – восемь фунтов?
– Как же быть-с? он говорит, все вышло.
– Ну, на, возьми, на! пусть возьмет!
Меня поразил тогда этот переход от трогательного чувства, с которым она со мной говорила, к ворчливости и мелочным расчетам. Рассуждая об этом впоследствии, я понял, что, несмотря на то, что у нее делалось в душе, у нее доставало довольно присутствия духа, чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула ее к обыкновенным занятиям. Горе так сильно подействовало на нее, что она не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами; она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль.
Тщеславие есть чувство самое несообразное с истинною горестью, и вместе с тем чувство это так крепко привито к натуре человека, что очень редко даже самое сильное горе изгоняет его. Тщеславие в горести выражается желанием казаться или огорченным, или несчастным, или твердым; и эти низкие желания, в которых мы не признаемся, но которые почти никогда – даже в самой сильной печали – не оставляют нас, лишают ее силы, достоинства и искренности. Наталья же Савишна была так глубоко поражена своим несчастием, что в душе ее не оставалось ни одного желания, и она жила только по привычке.
Выдав Фоке требуемую провизию и напомнив ему о пироге, который надо бы приготовить для угощения причта, она отпустила его, взяла чулок и опять села подле меня.
Разговор начался про то же, и мы еще раз поплакали и еще раз утерли слезы.
Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день; ее тихие слезы и спокойные набожные речи доставляли мне отраду и облегчение.
Но скоро нас разлучили: через три дня после похорон мы всем домом приехали в Москву, и мне суждено было никогда больше не видать ее.
Бабушка получила ужасную весть только с нашим приездом, и горесть ее была необыкновенна. Нас не пускали к ней, потому что она целую неделю была в беспамятстве, доктора боялись за ее жизнь, тем более что она не только не хотела принимать никакого лекарства, но ни с кем не говорила, не спала и не принимала никакой пищи. Иногда, сидя одна в комнате, на своем кресле, она вдруг начинала смеяться, потом рыдать без слез, с ней делались конвульсии, и она кричала неистовым голосом бессмысленные или ужасные слова. Это было первое сильное горе, которое поразило ее, и это горе привело ее в отчаяние. Ей нужно было обвинять кого-нибудь в своем несчастии, и она говорила страшные слова, грозила кому-то с необыкновенной силой, вскакивала с кресел, скорыми, большими шагами ходила по комнате и потом падала без чувств.
Один раз я вошел в ее комнату: она сидела, по обыкновению, на своем кресле и, казалось, была спокойна; но меня поразил ее взгляд. Глаза ее были очень открыты, но взор неопределенен и туп: она смотрела прямо на меня, но, должно быть, не видала. Губы ее начали медленно улыбаться, и она заговорила трогательным, нежным голосом: «Поди сюда, мой дружок, подойди, мой ангел». Я думал, что она обращается ко мне, и подошел ближе, но она смотрела не на меня. «Ах, коли бы ты знала, душа моя, как я мучилась и как теперь рада, что ты приехала…» Я понял, что она воображала видеть maman, и остановился. «А мне сказали, что тебя нет, – продолжала она, нахмурившись, – вот вздор! Разве ты можешь умереть прежде меня?» – и она захохотала страшным истерическим хохотом.
Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения; но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучее природы физической. Горе никогда не убивает.
Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первою мыслию ее, когда она пришла в себя, были мы, и любовь ее к нам увеличилась. Мы не отходили от ее кресла; она тихо плакала, говорила про maman и нежно ласкала нас.
В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, чтобы она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны; но не знаю почему, я больше сочувствовал Наталье Савишне и до сих пор убежден, что никто так искренно и чисто не любил и не сожалел о maman, как это простодушное и любящее созданье.
Со смертью матери окончилась для меня счастливая пора детства и началась новая эпоха – эпоха отрочества; но так как воспоминания о Наталье Савишне, которую я больше не видал и которая имела такое сильное и благое влияние на мое направление и развитие чувствительности, принадлежат к первой эпохе, скажу еще несколько слов о ней и ее смерти.
После нашего отъезда, как мне потом рассказывали люди, оставшиеся в деревне, она очень скучала от безделья. Хотя все сундуки были еще на ее руках и она не переставала рыться в них, перекладывать, развешивать, раскладывать, но ей недоставало шуму и суетливости барского, обитаемого господами, деревенского дома, к которым она с детства привыкла. Горе, перемена образа жизни и отсутствие хлопот скоро развили в ней старческую болезнь, к которой она имела склонность. Ровно через год после кончины матушки у нее открылась водяная, и она слегла в постель.
Тяжело, я думаю, было Наталье Савишне жить и еще тяжелее умирать одной, в большом пустом петровском доме, без родных, без друзей. Все в доме любили и уважали Наталью Савишну; но она ни с кем не имела дружбы и гордилась этим. Она полагала, что в ее положении – экономки, пользующейся доверенностью своих господ и имеющей на руках столько сундуков со всяким добром, дружба с кем-нибудь непременно повела бы ее к лицеприятию и преступной снисходительности; поэтому, или, может быть, потому, что не имела ничего общего с другими слугами, она удалялась всех и говорила, что у нее в доме нет ни кумовьев, ни сватов и что за барское добро она никому потачки не дает.
Поверяя богу в теплой молитве свои чувства, она искала и находила утешение; но иногда, в минуты слабости, которым мы все подвержены, когда лучшее утешение для человека доставляют слезы и участие живого существа, она клала себе на постель свою собачонку моську (которая лизала ее руки, уставив на нее свои желтые глаза), говорила с ней и тихо плакала, лаская ее. Когда моська начинала жалобно выть, она старалась успокоить ее и говорила: «Полно, я и без тебя знаю, что скоро умру».
За месяц до своей смерти она достала из своего сундука белого коленкору, белой кисеи и розовых лент; с помощью своей девушки сшила себе белое платье, чепчик и до малейших подробностей распорядилась всем, что нужно было для ее похорон. Она тоже разобрала барские сундуки и с величайшей отчетливостью, по описи, передала их приказчице; потом достала два шелковые платья, старинную шаль, подаренные ей когда-то бабушкой, дедушкин военный мундир, шитый золотом, тоже отданный в ее полную собственность.
Благодаря ее заботливости шитье и галуны на мундире были совершенно свежи и сукно не тронуто молью.
Перед кончиной она изъявила желание, чтобы одно из этих платий – розовое – было отдано Володе на халат или бешмет, другое – пюсовое, в клетках – мне, для того же употребления; а шаль – Любочке. Мундир она завещала тому из нас, кто прежде будет офицером. Все остальное свое имущество и деньги, исключая сорока рублей, которые она отложила на погребенье и поминанье, она предоставила получить своему брату. Брат ее, еще давно отпущенный на волю, проживал в какой-то дальней губернии и вел жизнь самую распутную; поэтому при жизни своей она не имела с ним никаких сношений.
Когда брат Натальи Савишны явился для получения наследства и всего имущества покойной оказалось на двадцать пять рублей ассигнациями, он не хотел верить этому и говорил, что не может быть, чтобы старуха, которая шестьдесят лет жила в богатом доме, все на руках имела, весь свой век жила скупо и над всякой тряпкой тряслась, чтобы она ничего не оставила. Но это действительно было так.
Наталья Савишна два месяца страдала от своей болезни и переносила страдания с истинно христианским терпением: не ворчала, не жаловалась, а только, по своей привычке, беспрестанно поминала бога. За час перед смертью она с тихою радостью исповедалась, причастилась и соборовалась маслом.
У всех домашних она просила прощенья за обиды, которые могла причинить им, и просила духовника своего, отца Василья, передать всем нам, что не знает, как благодарить нас за наши милости, и просит нас простить ее, если по глупости своей огорчила кого-нибудь, «но воровкой никогда не была и могу сказать, что барской ниткой не поживилась». Это было одно качество, которое она ценила в себе.
Надев приготовленный капот и чепчик и облокотившись на подушки, она до самого конца не переставала разговаривать с священником, вспомнила, что ничего не оставила бедным, достала десять рублей и просила его раздать их в приходе; потом перекрестилась, легла и в последний раз вздохнула, с радостной улыбкой, произнося имя Божие.
Она оставляла жизнь без сожаления, не боялась смерти и приняла ее как благо. Часто это говорят, но как редко действительно бывает! Наталья Савишна могла не бояться смерти, потому что она умирала с непоколебимою верою и исполнив закон Евангелия. Вся жизнь ее была чистая, бескорыстная любовь и самоотвержение.
Что ж! ежели ее верования могли бы быть возвышеннее, ее жизнь направлена к более высокой цели, разве эта чистая душа от этого меньше достойна любви и удивления?
Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни – умерла без сожаления и страха.
Ее похоронили, по ее желанию, недалеко от часовни, которая стоит на могиле матушки. Заросший крапивой и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожен черною решеткою, и я никогда не забываю из часовни подойти к этой решетке и положить земной поклон.
Иногда я молча останавливаюсь между часовней и черной решеткой. В душе моей вдруг пробуждаются тяжелые воспоминания. Мне приходит мысль: неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?..
Отрочество
Глава I Поездка на долгих
Снова поданы два экипажа к крыльцу петровского дома: один – карета, в которую садятся Мими, Катенька, Любочка, горничная и сам приказчик Яков, на козлах; другой – бричка, в которой едем мы с Володей и недавно взятый с оброка лакей Василий.
Папа, который несколько дней после нас должен тоже приехать в Москву, без шапки стоит на крыльце и крестит окно кареты и бричку.
«Ну, Христос с вами! трогай!» Яков и кучера (мы едем на своих) снимают шапки и крестятся. «Но, но! с богом!» Кузов кареты и бричка начинают подпрыгивать по неровной дороге, и березы большой аллеи одна за другой бегут мимо нас. Мне нисколько не грустно: умственный взор мой обращен не на то, что я оставляю, а на то, что ожидает меня. По мере удаления от предметов, связанных с тяжелыми воспоминаниями, наполнявшими до сей поры мое воображение, воспоминания эти теряют свою силу и быстро заменяются отрадным чувством сознания жизни, полной силы, свежести и надежды.
Редко провел я несколько дней – не скажу весело: мне еще как-то совестно было предаваться веселью, – но так приятно, хорошо, как четыре дня нашего путешествия. У меня перед глазами не было ни затворенной двери комнаты матушки, мимо которой я не мог проходить без содрогания, ни закрытого рояля, к которому не только не подходили, но на который и смотрели с какою-то боязнью, ни траурных одежд (на всех нас были простые дорожные платья), ни всех тех вещей, которые, живо напоминая мне невозвратимую потерю, заставляли меня остерегаться каждого проявления жизни из страха оскорбить как-нибудь ее память. Здесь, напротив, беспрестанно новые живописные места и предметы останавливают и развлекают мое внимание, а весенняя природа вселяет в душу отрадные чувства – довольства настоящим и светлой надежды на будущее.
Рано, рано утром безжалостный и, как всегда бывают люди в новой должности, слишком усердный Василий сдергивает одеяло и уверяет, что пора ехать и все уже готово. Как ни жмешься, ни хитришь, ни сердишься, чтобы хоть еще на четверть часа продлить сладкий утренний сон, по решительному лицу Василья видишь, что он неумолим и готов еще двадцать раз сдернуть одеяло, вскакиваешь и бежишь на двор умываться.
В сенях уже кипит самовар, который раскрасневшись, как рак, раздувает Митька-форейтор; на дворе сыро и туманно, как будто пар подымается от пахучего навоза; солнышко веселым, ярким светом освещает восточную часть неба, и соломенные крыши просторных навесов, окружающих двор, глянцевиты от росы, покрывающей их. Под ними виднеются наши лошади, привязанные около кормяг, и слышно их мерное жевание. Какая-нибудь мохнатая Жучка, прикорнувшая перед зарей на сухой куче навоза, лениво потягивается и, помахивая хвостом, мелкой рысцой отправляется в другую сторону двора. Хлопотунья-хозяйка отворяет скрипящие ворота, выгоняет задумчивых коров на улицу, по которой уже слышны топот, мычание и блеяние стада, и перекидывается словечком с сонной соседкой. Филипп, с засученными рукавами рубашки, вытягивает колесом бадью из глубокого колодца, плеская светлую воду, выливает ее в дубовую колоду, около которой в луже уже полощутся проснувшиеся утки; и я с удовольствием смотрю на значительное, с окладистой бородой, лицо Филиппа и на толстые жилы и мускулы, которые резко обозначаются на его голых мощных руках, когда он делает какое-нибудь усилие.
За перегородкой, где спала Мими с девочками и из-за которой мы переговаривались вечером, слышно движенье. Маша с различными предметами, которые она платьем старается скрыть от нашего любопытства, чаще и чаще пробегает мимо нас, наконец отворяется дверь и нас зовут пить чай.
Василий, в припадке излишнего усердия, беспрестанно вбегает в комнату, выносит то то, то другое, подмигивает нам и всячески упрашивает Марью Ивановну выезжать ранее. Лошади заложены и выражают свое нетерпение, изредка побрякивая бубенчиками; чемоданы, сундуки, шкатулки и шкатулочки снова укладываются, и мы садимся по местам. Но каждый раз в бричке мы находим гору вместо сидения, так что никак не можем понять, как все это было уложено накануне и как теперь мы будем сидеть; особенно один ореховый чайный ящик с треугольной крышкой, который отдают к нам в бричку и ставят под меня, приводит меня в сильнейшее негодование. Но Василий говорит, что это обомнется, и я принужден верить ему.
Солнце только что поднялось над сплошным белым облаком, покрывающим восток, и вся окрестность озарилась спокойно-радостным светом. Все так прекрасно вокруг меня, а на душе так легко и спокойно… Дорога широкой дикой лентой вьется впереди, между полями засохшего жнивья и блестящей росою зелени; кое-где при дороге попадается угрюмая ракита или молодая березка с мелкими клейкими листьями, бросая длинную неподвижную тень на засохшие глинистые колеи и мелкую зеленую траву дороги… Однообразный шум колес и бубенчиков не заглушает песен жаворонков, которые вьются около самой дороги. Запах съеденного молью сукна, пыли и какой-то кислоты, которым отличается наша бричка, покрывается запахом утра, и я чувствую в душе отрадное беспокойство, желание что-то сделать – признак истинного наслаждения.
Я не успел помолиться на постоялом дворе; но так как уже не раз замечено мною, что в тот день, в который я по каким-нибудь обстоятельствам забываю исполнить этот обряд, со мною случается какое-нибудь несчастие, я стараюсь исправить свою ошибку: снимаю фуражку, поворачиваясь в угол брички, читаю молитвы и крещусь под курточкой так, чтобы никто не видал этого. Но тысячи различных предметов отвлекают мое внимание, и я несколько раз сряду в рассеянности повторяю одни и те же слова молитвы.
Вот на пешеходной тропинке, вьющейся около дороги, виднеются какие-то медленно движущиеся фигуры: это богомолки. Головы их закутаны грязными платками, за спинами берестовые котомки, ноги обмотаны грязными, оборванными онучами и обуты в тяжелые лапти. Равномерно размахивая палками и едва оглядываясь на нас, они медленным, тяжелым шагом подвигаются вперед одна за другою, и меня занимают вопросы: куда, зачем они идут? долго ли продолжится их путешествие и скоро ли длинные тени, которые они бросают на дорогу, соединятся с тенью ракиты, мимо которой они должны пройти. Вот коляска, четверкой, на почтовых быстро несется навстречу. Две секунды, и лица, на расстоянии двух аршин, приветливо, любопытно смотревшие на нас, уже промелькнули, и как-то странно кажется, что эти лица не имеют со мной ничего общего и что их никогда, может быть, не увидишь больше.
Вот стороной дороги бегут две потные косматые лошади в хомутах с захлестнутыми за шлеи постромками, и сзади, свесив длинные ноги в больших сапогах по обеим сторонам лошади, у которой на холке висит дуга и изредка чуть слышно побрякивает колокольчиком, едет молодой парень, ямщик, и, сбив на одно ухо поярковую шляпу, тянет какую-то протяжную песню. Лицо и поза его выражают так много ленивого, беспечного довольства, что мне кажется, верх счастия быть ямщиком, ездить обратным и петь грустные песни. Вон далеко за оврагом виднеется на светло-голубом небе деревенская церковь с зеленой крышей; вон село, красная крыша барского дома и зеленый сад. Кто живет в этом доме? есть ли в нем дети, отец, мать, учитель? Отчего бы нам не поехать в этот дом и не познакомиться с хозяевами? Вот длинный обоз огромных возов, запряженных тройками сытых толстоногих лошадей, который мы принуждены объезжать стороною. «Что везете?» – спрашивает Василий у первого извозчика, который, спустив огромные ноги с грядок и помахивая кнутиком, долго пристально-бессмысленным взором следит за нами и отвечает что-то только тогда, когда его невозможно слышать. «С каким товаром?» – обращается Василий к другому возу, на огороженном передке которого, под новой рогожей, лежит другой извозчик. Русая голова с красным лицом и рыжеватой бородкой на минуту высовывается из-под рогожи, равнодушно-презрительным взглядом окидывает нашу бричку и снова скрывается – и мне приходят мысли, что, верно, эти извозчики не знают, кто мы такие и откуда и куда едем?..
Часа полтора углубленный в разнообразные наблюдения, я не обращаю внимания на кривые цифры, выставленные на верстах. Но вот солнце начинает жарче печь мне голову и спину, дорога становится пыльнее, треугольная крышка чайницы начинает сильно беспокоить меня, я несколько раз переменяю положение: мне становится жарко, неловко и скучно. Все мое внимание обращается на верстовые столбы и на цифры, выставленные на них; я делаю различные математические вычисления насчет времени, в которое мы можем приехать на станцию. «Двенадцать верст составляют треть тридцати шести, а до Липец сорок одна, следовательно, мы проехали одну треть и сколько?» и т. д.
– Василий, – говорю я, когда замечаю, что он начинает удить рыбу на козлах, – пусти меня на козлы, голубчик. – Василий соглашается. Мы переменяемся местами: он тотчас же начинает храпеть и разваливается так, что в бричке уже не остается больше ни для кого места; а передо мной открывается с высоты, которую я занимаю, самая приятная картина: наши четыре лошади, Неручинская, Дьячок, Левая коренная и Аптекарь, все изученные мною до малейших подробностей и оттенков свойств каждой.
– Отчего это нынче Дьячок на правой пристяжке, а не на левой, Филипп? – несколько робко спрашиваю я.
– Дьячок?
– А Неручинская ничего не везет, – говорю я.
– Дьячка нельзя налево впрягать, – говорит Филипп, не обращая внимания на мое последнее замечание, – не такая лошадь, чтоб его на левую пристяжку запрягать. Налево уж нужно такую лошадь, чтоб, одно слово, была лошадь, а это не такая лошадь.
И Филипп с этими словами нагибается на правую сторону и, подергивая вожжой из всех сил, принимается стегать бедного Дьячка по хвосту и по ногам, как-то особенным манером, снизу, и несмотря на то, что Дьячок старается из всех сил и воротит всю бричку, Филипп прекращает этот маневр только тогда, когда чувствует необходимость отдохнуть и сдвинуть неизвестно для чего свою шляпу на один бок, хотя она до этого очень хорошо и плотно сидела на его голове. Я пользуюсь такой счастливой минутой и прошу Филиппа дать мне поправить. Филипп дает мне сначала одну вожжу, потом другую; наконец все шесть вожжей и кнут переходят в мои руки, и я совершенно счастлив. Я стараюсь всячески подражать Филиппу, спрашиваю у него, хорошо ли? но обыкновенно кончается тем, что он остается мною недоволен: говорит, что та много везет, а та ничего не везет, высовывает локоть из-за моей груди и отнимает у меня вожжи. Жар все усиливается, барашки начинают вздуваться, как мыльные пузыри, выше и выше, сходиться и принимают темно-серые тени. В окно кареты высовывается рука с бутылкой и узелком; Василий с удивительной ловкостью на ходу соскакивает с козел и приносит нам ватрушек и квасу.
На крутом спуске мы все выходим из экипажей и иногда вперегонки бежим до моста, между тем как Василий и Яков, подтормозив колеса, с обеих сторон руками поддерживают карету, как будто они в состоянии удержать ее, ежели бы она упала. Потом, с позволения Мими, я или Володя отправляемся в карету, а Любочка или Катенька садятся в бричку. Перемещения эти доставляют большое удовольствие девочкам, потому что они справедливо находят, что в бричке гораздо веселей. Иногда во время жара, проезжая через рощу, мы отстаем от кареты, нарываем зеленых веток и устраиваем в бричке беседку. Движущаяся беседка во весь дух догоняет карету, и Любочка пищит при этом самым пронзительным голосом, чего она никогда не забывает делать при каждом случае, доставляющем ей большое удовольствие.
Но вот и деревня, в которой мы будем обедать и отдыхать. Вот уж запахло деревней – дымом, дегтем, баранками, послышались звуки говора, шагов и колес; бубенчики уже звенят не так, как в чистом поле, и с обеих сторон мелькают избы, с соломенными кровлями, резными тесовыми крылечками и маленькими окнами с красными и зелеными ставнями, в которые кое-где просовывается лицо любопытной бабы. Вот крестьянские мальчики и девочки в одних рубашонках: широко раскрыв глаза и растопырив руки, неподвижно стоят они на одном месте или, быстро семеня в пыли босыми ножонками, несмотря на угрожающие жесты Филиппа, бегут за экипажами и стараются взобраться на чемоданы, привязанные сзади. Вот и рыжеватые дворники с обеих сторон подбегают к экипажам и привлекательными словами и жестами один перед другим стараются заманить проезжающих. Тпрру! ворота скрипят, вальки цепляют за воротища, и мы въезжаем на двор. Четыре часа отдыха и свободы!
Глава II Гроза
Солнце склонялось к западу и косыми жаркими лучами невыносимо жгло мне шею и щеки; невозможно было дотронуться до раскаленных краев брички; густая пыль поднималась по дороге и наполняла воздух. Не было ни малейшего ветерка, который бы относил ее. Впереди нас, на одинаковом расстоянии, мерно покачивался высокий запыленный кузов кареты с важами, из-за которого виднелся изредка кнут, которым помахивал кучер, его шляпа и фуражка Якова. Я не знал, куда деваться: ни черное от пыли лицо Володи, дремавшего подле меня, ни движения спины Филиппа, ни длинная тень нашей брички, под косым углом бежавшая за нами, не доставляли мне развлечения. Все мое внимание было обращено на верстовые столбы, которые я замечал издалека, и на облака, прежде рассыпанные по небосклону, которые, приняв зловещие черные тени, теперь собирались в одну большую, мрачную тучу. Изредка погромыхивал дальний гром. Это последнее обстоятельство более всего усиливало мое нетерпение скорее приехать на постоялый двор. Гроза наводила на меня невыразимо тяжелое чувство тоски и страха.
До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-лиловая туча, взявшаяся бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небосклон. Василий приподнимается с козел и поднимает верх брички; кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся; лошади настораживают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к свежему воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот задрожала осиновая роща; листья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся; макушки больших берез начинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас, реют вокруг брички и пролетают под самой грудью лошадей; галки с растрепанными крыльями как-то боком летают по ветру; края кожаного фартука, которым мы застегнулись, начинают подниматься, пропускать к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о кузов брички. Молния вспыхивает как будто в самой бричке, ослепляет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон и прижавшуюся к углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой головой раздается величественный гул, который, как будто поднимаясь все выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линии, постепенно усиливается и переходит в оглушительный треск, невольно заставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев божий! как много поэзии в этой простонародной мысли!
Колеса вертятся скорее и скорее; по спинам Василия и Филиппа, который нетерпеливо помахивает вожжами, я замечаю, что и они боятся. Бричка шибко катится под гору и стучит по дощатому мосту; я боюсь пошевелиться и с минуты на минуту ожидаю нашей общей погибели.
Тпру! оторвался валек, и на мосту, несмотря на беспрерывные оглушительные удары, мы принуждены остановиться.
Прислонив голову к краю брички, я с захватывающим дыхание замиранием сердца безнадежно слежу за движениями толстых черных пальцев Филиппа, который медлительно захлестывает петлю и выравнивает постромки, толкая пристяжную ладонью и кнутовищем.
Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения. В это самое время из-под моста вдруг появляется, в одной грязной дырявой рубахе, какое-то человеческое существо с опухшим бессмысленным лицом, качающейся, ничем не покрытой обстриженной головой, кривыми безмускульными ногами и с какой-то красной глянцевитой культяпкой вместо руки, которую он сует прямо в бричку.
– Ба-а-шка! убо-го-му Хри-ста ради, – звучит болезненный голос, и нищий с каждым словом крестится и кланяется в пояс.
Не могу выразить чувства холодного ужаса, охватившего мою душу в эту минуту. Дрожь пробегала по моим волосам, а глаза с бессмыслием страха были устремлены на нищего…
Василий, в дороге подающий милостыню, дает наставления Филиппу насчет укрепления валька и, только когда все уже готово и Филипп, собирая вожжи, лезет на козлы, начинает что-то доставать из бокового кармана. Но только что мы трогаемся, ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, заставляет лошадей остановиться и, без малейшего промежутка, сопровождается таким оглушительным треском грома, что, кажется, весь свод небес рушится над нами. Ветер еще усиливается: гривы и хвосты лошадей, шинель Василья и края фартука принимают одно направление и отчаянно развеваются от порывов неистового ветра. На кожаный верх брички тяжело упала крупная капля дождя… другая, третья, четвертая, и вдруг как будто кто-то забарабанил над нами, и вся окрестность огласилась равномерным шумом падающего дождя. По движениям локтей Василья я замечаю, что он развязывает кошелек; нищий, продолжая креститься и кланяться, бежит подле самых колес, так что, того и гляди, раздавят его. «Подай Христа ради». Наконец медный грош летит мимо нас, и жалкое созданье, в обтянувшем его худые члены, промокшем до нитки рубище, качаясь от ветра, в недоумении останавливается посреди дороги и исчезает из моих глаз.
Косой дождь, гонимый сильным ветром, лил как из ведра; с фризовой спины Василья текли потоки в лужу мутной воды, образовавшуюся на фартуке. Сначала сбитая катышками пыль превратилась в жидкую грязь, которую месили колеса, толчки стали меньше, и по глинистым колеям потекли мутные ручьи. Молния светила шире и бледнее, и раскаты грома уже были не так поразительны за равномерным шумом дождя.
Но вот дождь становится мельче; туча начинает разделяться на волнистые облака, светлеть в том месте, в котором должно быть солнце, и сквозь серовато-белые края тучи чуть виднеется клочок ясной лазури. Через минуту робкий луч солнца уже блестит в лужах дороги, на полосах падающего, как сквозь сито, мелкого прямого дождя и на обмытой, блестящей зелени дорожной травы. Черная туча так же грозно застилает противоположную сторону небосклона, но я уже не боюсь ее. Я испытываю невыразимо отрадное чувство надежды в жизни, быстро заменяющее во мне тяжелое чувство страха. Душа моя улыбается так же, как и освеженная, повеселевшая природа. Василий откидывает воротник шинели, снимает фуражку и отряхивает ее; Володя откидывает фартук; я высовываюсь из брички и жадно впиваю в себя освеженный, душистый воздух. Блестящий, обмытый кузов кареты с важами и чемоданами покачивается перед нами, спины лошадей, шлеи, вожжи, шины колес – все мокро и блестит на солнце, как покрытое лаком. С одной стороны дороги – необозримое озимое поле, кое-где перерезанное неглубокими овражками, блестит мокрой землею и зеленью и расстилается тенистым ковром до самого горизонта; с другой стороны – осиновая роща, поросшая ореховым и черемушным подседом, как бы в избытке счастия стоит, не шелохнется и медленно роняет с своих обмытых ветвей светлые капли дождя на сухие прошлогодние листья. Со всех сторон вьются с веселой песнью и быстро падают хохлатые жаворонки; в мокрых кустах слышно хлопотливое движение маленьких птичек, и из середины рощи ясно долетают звуки кукушки. Так обаятелен этот чудный запах леса после весенней грозы, запах березы, фиалки, прелого листа, сморчков, черемухи, что я не могу усидеть в бричке, соскакиваю с подножки, бегу к кустам и, несмотря на то, что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветки распустившейся черемухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом. Не обращая даже внимания на то, что к сапогам моим липнут огромные комки грязи и чулки мои давно уже мокры, я, шлепая по грязи, бегу к окну кареты.
– Любочка! Катенька! – кричу я, подавая туда несколько веток черемухи, – посмотри, как хорошо!
Девочки пищат, ахают; Мими кричит, чтобы я ушел, а то меня непременно раздавят.
– Да ты понюхай, как пахнет! – кричу я.
Глава III Новый взгляд
Катенька сидела подле меня в бричке и, склонив свою хорошенькую головку, задумчиво следила за убегающей под колесами пыльной дорогой. Я молча смотрел на нее и удивлялся тому не детски грустному выражению, которое в первый раз встречал на ее розовеньком личике.
– А вот скоро мы и приедем в Москву, – сказал я, – как ты думаешь, какая она?
– Не знаю, – отвечала она нехотя.
– Ну все-таки, как ты думаешь: больше Серпухова или нет?..
– Что?
– Я ничего.
Но по тому инстинктивному чувству, которым один человек угадывает мысли другого и которое служит путеводною нитью разговора, Катенька поняла, что мне больно ее равнодушие; она подняла голову и обратилась ко мне:
– Папа говорил вам, что мы будем жить у бабушки?
– Говорил; бабушка хочет совсем с нами жить.
– И все будем жить?
– Разумеется; мы будем жить на верху в одной половине; вы в другой половине; а папа во флигеле; а обедать будем все вместе, внизу у бабушки.
– Maman говорит, что бабушка такая важная – сердитая?
– Не-ет! Это только так кажется сначала. Она важная, но совсем не сердитая; напротив, очень добрая, веселая. Коли бы ты видела, какой бал был в ее именины!
– Все-таки я боюсь ее; да, впрочем, бог знает, будем ли мы…
Катенька вдруг замолчала и опять задумалась.
– Что-о? – спросил я с беспокойством.
– Ничего, я так.
– Нет, ты что-то сказала: «Бог знает…»
– Так ты говорил, какой был бал у бабушки.
– Да вот жалко, что вас не было; гостей было пропасть, человек тысяча, музыка, генералы, и я танцевал… Катенька! – сказал я вдруг, останавливаясь в середине своего описания, – ты не слушаешь?
– Нет, слышу; ты говорил, что ты танцевал.
– Отчего ты такая скучная?
– Не всегда же веселой быть.
– Нет, ты очень переменилась с тех пор, как мы приехали из Москвы. Скажи по правде, – прибавил я с решительным видом, поворачиваясь к ней, – отчего ты стала какая-то странная?
– Будто я странная? – отвечала Катенька с одушевлением, которое доказывало, что мое замечание интересовало ее, – я совсем не странная.
– Нет, ты уж не такая, как прежде, – продолжал я, – прежде видно было, что ты во всем с нами заодно, что ты нас считаешь как родными и любишь так же, как и мы тебя, а теперь ты стала такая серьезная, удаляешься от нас…
– Совсем нет…
– Нет, дай мне договорить, – перебил я, уже начиная ощущать легкое щекотанье в носу, предшествующее слезам, которые всегда навертывались мне на глаза, когда я высказывал давно сдержанную задушевную мысль, – ты удаляешься от нас, разговариваешь только с Мими, как будто не хочешь нас знать.
– Да ведь нельзя же всегда оставаться одинаковыми; надобно когда-нибудь и перемениться, – отвечала Катенька, которая имела привычку объяснять все какою-то фаталическою необходимостью, когда не знала, что говорить.
Я помню, что раз, поссорившись с Любочкой, которая назвала ее глупой девочкой, она отвечала: не всем же умным быть, надо и глупым быть; но меня не удовлетворил ответ, что надо же и перемениться когда-нибудь, и я продолжал допрашивать:
– Для чего же это надо?
– Ведь не всегда же мы будем жить вместе, – отвечала Катенька, слегка краснея и пристально вглядываясь в спину Филиппа. – Маменька могла жить у покойницы вашей маменьки, которая была ее другом; а с графиней, которая, говорят, такая сердитая, еще, бог знает, сойдутся ли они? Кроме того, все-таки когда-нибудь да мы разойдемся: вы богаты – у вас есть Петровское, а мы бедные – у маменьки ничего нет.
Вы богаты – мы бедны: эти слова и понятия, связанные с ними, показались мне необыкновенно странны. Бедными, по моим тогдашним понятиям, могли быть только нищие и мужики, и это понятие бедности я никак не мог соединить в своем воображении с грациозной, хорошенькой Катей. Мне казалось, что Мими и Катенька ежели всегда жили, то всегда и будут жить с нами и делить все поровну. Иначе и быть не могло. Теперь же тысячи новых, неясных мыслей, касательно одинокого положения их, зароились в моей голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а они бедны, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку.
«Что ж такое, что мы богаты, а они бедны? – думал я, – и каким образом из этого вытекает необходимость разлуки? Отчего ж нам не разделить поровну того, что имеем?» Но я понимал, что с Катенькой не годится говорить об этом, и какой-то практический инстинкт, в противность этим логическим размышлениям, уже говорил мне, что она права и что неуместно бы было объяснять ей свою мысль.
– Неужели точно ты уедешь от нас? – сказал я, – как же это мы будем жить врозь?
– Что же делать, мне самой больно; только ежели это случится, я знаю, что я сделаю…
– В актрисы пойдешь… вот глупости! – подхватил я, зная, что быть актрисой было всегда любимой мечтой ее.
– Нет, это я говорила, когда была маленькой…
– Так что же ты сделаешь?
– Пойду в монастырь и буду там жить, буду ходить в черненьком платьице, в бархатной шапочке.
Катенька заплакала.
Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества.
Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал.
Мысль переходит в убеждение только одним известным путем, часто совершенно неожиданным и особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же убеждение, проходят другие умы. Разговор с Катенькой, сильно тронувший меня и заставивший задуматься над ее будущим положением, был для меня этим путем. Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило, по крайней мере, такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удостоивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? и из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают? и т. д.
Глава IV В Москве
С приездом в Москву перемена моего взгляда на предметы, лица и свое отношение к ним стала еще ощутительнее.
При первом свидании с бабушкой, когда я увидал ее худое, морщинистое лицо и потухшие глаза, чувство подобострастного уважения и страха, которые я к ней испытывал, заменились состраданием; а когда она, припав лицом к голове Любочки, зарыдала так, как будто перед ее глазами был труп ее любимой дочери, даже чувством любви заменилось во мне сострадание. Мне было неловко видеть ее печаль при свидании с нами; я сознавал, что мы сами по себе ничто в ее глазах, что мы ей дороги только как воспоминание, я чувствовал, что в каждом поцелуе, которыми она покрывала мои щеки, выражалась одна мысль: ее нет, она умерла, я не увижу ее больше!
Папа, который в Москве почти совсем не занимался нами и с вечно озабоченным лицом только к обеду приходил к нам, в черном сюртуке или фраке, – вместе с своими большими выпущенными воротничками рубашки, халатом, старостами, приказчиками, прогулками на гумно и охотой, много потерял в моих глазах. Карл Иваныч, которого бабушка называла дядькой и который вдруг, бог знает зачем, вздумал заменить свою почтенную, знакомую мне лысину рыжим париком с нитяным пробором почти посередине головы, показался мне так странен и смешон, что я удивлялся, как мог я прежде не замечать этого.
Между девочками и нами тоже появилась какая-то невидимая преграда; у них и у нас были уже свои секреты; как будто они гордились перед нами своими юбками, которые становились длиннее, а мы своими панталонами со штрипками. Мими же в первое воскресенье вышла к обеду в таком пышном платье и с такими лентами на голове, что уж сейчас видно было, что мы не в деревне и теперь все пойдет иначе.
Глава V Старший брат
Я был только годом и несколькими месяцами моложе Володи; мы росли, учились и играли всегда вместе. Между нами не делали различия старшего и младшего; но именно около того времени, о котором я говорю, я начал понимать, что Володя не товарищ мне по годам, наклонностям и способностям. Мне даже казалось, что Володя сам сознает свое первенство и гордится им. Такое убеждение, может быть, и ложное, внушало мне самолюбие, страдавшее при каждом столкновении с ним. Он во всем стоял выше меня: в забавах, в учении, в ссорах, в умении держать себя, и все это отдаляло меня от него и заставляло испытывать непонятные для меня моральные страдания. Ежели бы, когда Володе в первый раз сделали голландские рубашки со складками, я сказал прямо, что мне весьма досадно не иметь таких, я уверен, что мне стало бы легче и не казалось бы всякий раз, когда он оправлял воротнички, что он делает это для того только, чтобы оскорбить меня.
Меня мучило больше всего то, что Володя, как мне иногда казалось, понимал меня, но старался скрывать это.
Кто не замечал тех таинственных бессловесных отношений, проявляющихся в незаметной улыбке, движении или взгляде между людьми, живущими постоянно вместе: братьями, друзьями, мужем и женой, господином и слугой, в особенности когда люди эти не во всем откровенны между собой. Сколько недосказанных желаний, мыслей и страха – быть понятым – выражается в одном случайном взгляде, когда робко и нерешительно встречаются ваши глаза!
Но, может быть, меня обманывала в этом отношении моя излишняя восприимчивость и склонность к анализу; может быть, Володя совсем и не чувствовал того же, что я. Он был пылок, откровенен и непостоянен в своих увлечениях. Увлекаясь самыми разнородными предметами, он предавался им всей душой.
То вдруг на него находила страсть к картинкам: он сам принимался рисовать, покупал на все свои деньги, выпрашивал у рисовального учителя, у папа, у бабушки; то страсть к вещам, которыми он украшал свой столик, собирая их по всему дому; то страсть к романам, которые он доставал потихоньку и читал по целым дням и ночам… Я невольно увлекался его страстями; но был слишком горд, чтобы идти по его следам, и слишком молод и несамостоятелен, чтобы избрать новую дорогу. Но ничему я не завидовал столько, как счастливому, благородно откровенному характеру Володи, особенно резко выражавшемуся в ссорах, случавшихся между нами. Я чувствовал, что он поступает хорошо, но не мог подражать ему.
Однажды, во время сильнейшего пыла его страсти к вещам, я подошел к его столу и разбил нечаянно пустой разноцветный флакончик.
– Кто тебя просил трогать мои вещи? – сказал вошедший в комнату Володя, заметив расстройство, произведенное мною в симметрии разнообразных украшений его столика. – А где флакончик? непременно ты…
– Нечаянно уронил; он и разбился, что ж за беда?
– Сделай милость, никогда не смей прикасаться к моим вещам, – сказал он, составляя куски разбитого флакончика и с сокрушением глядя на них.
– Пожалуйста, не командуй, – отвечал я. – Разбил так разбил; что ж тут говорить!
И я улыбнулся, хотя мне совсем не хотелось улыбаться.
– Да, тебе ничего, а мне чего, – продолжал Володя, делая жест подергивания плечом, который он наследовал от папа, – разбил, да еще и смеется, этакой несносный мальчишка!
– Я мальчишка; а ты большой, да глупый.
– Не намерен с тобой браниться, – сказал Володя, слегка отталкивая меня, – убирайся.
– Не толкайся!
– Убирайся!
– Я тебе говорю, не толкайся!
Володя взял меня за руку и хотел оттащить от стола; но я уже был раздражен до последней степени: схватил стол за ножку и опрокинул его. «Так вот же тебе!» – и все фарфоровые и хрустальные украшения с дребезгом полетели на пол.
– Отвратительный мальчишка!.. – закричал Володя, стараясь поддержать падающие вещи.
«Ну, теперь все кончено между нами, – думал я, выходя из комнаты, – мы навек поссорились».
До вечера мы не говорили друг с другом; я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть на него и целый день не мог ничем заняться; Володя, напротив, учился хорошо и, как всегда, после обеда разговаривал и смеялся с девочками.
Как только учитель кончал класс, я выходил из комнаты: мне страшно, неловко и совестно было оставаться одному с братом. После вечернего класса истории я взял тетради и направился к двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо. Володя в это самое время поднял голову и с чуть заметной добродушно насмешливой улыбкой смело посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня и то, что я понимаю, что он понимает меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.
– Николенька! – сказал он мне самым простым, нисколько не патетическим голосом, – полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидел.
И он подал мне руку.
Как будто, поднимаясь все выше и выше, что-то вдруг стало давить меня в груди и захватывать дыхание; но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слезы, и мне стало легче.
– Прости… ме…ня, Вол…дя! – сказал я, пожимая его руку.
Володя смотрел на меня, однако, так, как будто никак не понимал, отчего у меня слезы на глазах…
Глава VI Маша
Но ни одна из перемен, происшедших в моем взгляде на вещи, не была так поразительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть женщину, от которой могли зависеть, в некоторой степени, мое спокойствие и счастие.
С тех пор как помню себя, помню я и Машу в нашем доме, и никогда, до случая, переменившего совершенно мой взгляд на нее, и про который я расскажу сейчас, – я не обращал на нее ни малейшего внимания. Маше было лет двадцать пять, когда мне было четырнадцать; она была очень хороша; но я боюсь описывать ее, боюсь, чтобы воображение снова не представило мне обворожительный и обманчивый образ, составившийся в нем во время моей страсти. Чтобы не ошибиться, скажу только, что она была необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина; а мне было четырнадцать лет.
В одну из тех минут, когда, с уроком в руке, занимаешься прогулкой по комнате, стараясь ступать только по одним щелям половиц, или пением какого-нибудь несообразного мотива, или размазыванием чернил по краю стола, или повторением без всякой мысли какого-нибудь изречения – одним словом, в одну из тех минут, когда ум отказывается от работы и воображение, взяв верх, ищет впечатлений, я вышел из классной и без всякой цели спустился к площадке.
Кто-то в башмаках шел вверх по другому повороту лестницы. Разумеется, мне захотелось знать, кто это, но вдруг шум шагов замолк, и я услышал голос Маши: «Ну вас, что вы балуетесь, а как Мария Ивановна придет – разве хорошо будет?»
«Не придет», – шепотом сказал голос Володи, и вслед за этим что-то зашевелилось, как будто Володя хотел удержать ее.
«Ну, куда руки суете? Бесстыдник!» – и Маша, с сдернутой набок косынкой, из-под которой виднелась белая, полная шея, пробежала мимо меня.
Не могу выразить, до какой степени меня изумило это открытие, однако чувство изумления скоро уступило место сочувствию поступку Володи: меня уже не удивлял самый его поступок, но то, каким образом он постиг, что приятно так поступать. И мне невольно захотелось подражать ему.
Я по целым часам проводил иногда на площадке, без всякой мысли, с напряженным вниманием прислушиваясь к малейшим движениям, происходившим наверху; но никогда не мог принудить себя подражать Володе, несмотря на то, что мне этого хотелось больше всего на свете. Иногда, притаившись за дверью, я с тяжелым чувством зависти и ревности слушал возню, которая поднималась в девичьей, и мне приходило в голову: каково бы было мое положение, ежели бы я пришел на верх и, так же как Володя, захотел бы поцеловать Машу? что бы я сказал с своим широким носом и торчавшими вихрами, когда бы она спросила у меня, чего мне нужно? Иногда я слышал, как Маша говорила Володе: «Вот наказанье! что же вы в самом деле пристали ко мне, идите отсюда, шалун этакой… отчего Николай Петрович никогда не ходит сюда и не дурачится…» Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницею и все на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи.
Я был стыдлив от природы, но стыдливость моя еще увеличивалась убеждением в моей уродливости. А я убежден, что ничто не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая наружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее.
Я был слишком самолюбив, чтобы привыкнуть к своему положению, утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен, то есть старался презирать все удовольствия, доставляемые приятной наружностью, которыми на моих глазах пользовался Володя и которым я от души завидовал, и напрягал все силы своего ума и воображения, чтобы находить наслаждения в гордом одиночестве.
Глава VII Дробь
– Боже мой, порох!.. – воскликнула Мими задыхающимся от волнения голосом. – Что вы делаете? Вы хотите сжечь дом, погубить всех нас…
И с неописанным выражением твердости духа Мими приказала всем посторониться, большими, решительными шагами подошла к рассыпанной дроби и, презирая опасность, могущую произойти от неожиданного взрыва, начала топтать ее ногами. Когда, по ее мнению, опасность уже миновалась, она позвала Михея и приказала ему выбросить весь этот порох куда-нибудь подальше или, всего лучше, в воду и, гордо встряхивая чепцом, направилась к гостиной. «Очень хорошо за ними смотрят, нечего сказать», – проворчала она.
Когда папа пришел из флигеля и мы вместе с ним пошли к бабушке, в комнате ее уже сидела Мими около окна и с каким-то таинственно официальным выражением грозно смотрела мимо двери. В руке ее находилось что-то завернутое в несколько бумажек. Я догадался, что это была дробь и что бабушке уже все известно.
Кроме Мими, в комнате бабушки находились еще горничная Гаша, которая, как заметно было по ее гневному, раскрасневшемуся лицу, была сильно расстроена, и доктор Блюменталь, маленький рябоватый человечек, который тщетно старался успокоить Гашу, делая ей глазами и головой таинственные миротворные знаки.
Сама бабушка сидела несколько боком и раскладывала пасьянс Путешественник, что всегда означало весьма неблагоприятное расположение духа.
– Как себя чувствуете нынче, maman? хорошо ли почивали? – сказал папа, почтительно целуя ее руку.
– Прекрасно, мой милый; вы, кажется, знаете, что я всегда совершенно здорова, – отвечала бабушка таким тоном, как будто вопрос папа был самый неуместный и оскорбительный вопрос. – Что ж, хотите вы мне дать чистый платок? – продолжала она, обращаясь к Гаше.
– Я вам подала, – отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел.
– Возьмите эту грязную ветошку и дайте мне чистый, моя милая.
Гаша подошла к шифоньерке, выдвинула ящик и так сильно хлопнула им, что стекла задрожали в комнате. Бабушка грозно оглянулась на всех нас и продолжала пристально следить за всеми движениями горничной. Когда она подала ей, как мне показалось, тот же самый платок, бабушка сказала:
– Когда же вы мне натрете табак, моя милая?
– Время будет, так натру.
– Что вы говорите?
– Натру нынче.
– Ежели вы не хотите мне служить, моя милая, вы бы так и сказали: я бы давно вас отпустила.
– И отпустите, не заплачут, – проворчала вполголоса горничная.
В это время доктор начал было мигать ей; но она так гневно и решительно посмотрела на него, что он тотчас же потупился и занялся ключиком своих часов.
– Видите, мой милый, – сказала бабушка, обращаясь к папа, когда Гаша, продолжая ворчать, вышла из комнаты, – как со мной говорят в моем доме?
– Позвольте, maman, я сам натру вам табак, – сказал папа, приведенный, по-видимому, в большое затруднение этим неожиданным обращением.
– Нет уж, благодарю вас: она ведь оттого так и груба, что знает, никто, кроме нее, не умеет стереть табак, как я люблю. Вы знаете, мой милый, – продолжала бабушка после минутного молчания, – что ваши дети нынче чуть было дом не сожгли?
Папа с почтительным любопытством смотрел на бабушку.
– Да, они вот чем играют. Покажите им, – сказала она, обращаясь к Мими.
Папа взял в руки дробь и не мог не улыбнуться.
– Да это дробь, maman, – сказал он, – это совсем не опасно.
– Очень вам благодарна, мой милый, что вы меня учите, только уж я стара слишком…
– Нервы, нервы! – прошептал доктор.
И папа тотчас обратился к нам:
– Где вы это взяли? и как смеете шалить такими вещами?
– Нечего их спрашивать, а надо спросить их дядьку, – сказала бабушка, особенно презрительно выговаривая слово «дядька», – что он смотрит?
– Вольдемар сказал, что сам Карл Иваныч дал ему этот порох, – подхватила Мими.
– Ну вот видите, какой он хороший, – продолжала бабушка, – и где он, этот дядька, как бишь его? пошлите его сюда.
– Я его отпустил в гости, – сказал папа.
– Это не резон; он всегда должен быть здесь. Дети не мои, а ваши, и я не имею права советовать вам, потому что вы умнее меня, – продолжала бабушка, – но, кажется, пора бы для них нанять гувернера, а не дядьку, немецкого мужика. Да, глупого мужика, который их ничему научить не может, кроме дурным манерам и тирольским песням. Очень нужно, я вас спрашиваю, детям уметь петь тирольские песни. Впрочем, теперь некому об этом подумать, и вы можете делать, как хотите.
Слово «теперь» значило: когда у них нет матери, и вызвало грустные воспоминания в сердце бабушки, – она опустила глаза на табакерку с портретом и задумалась.
– Я давно уже думал об этом, – поспешил сказать папа, – и хотел посоветоваться с вами, maman: не пригласить ли нам St.-Jérôme’a, который теперь по билетам дает им уроки?
– И прекрасно сделаешь, мой друг, – сказала бабушка уже не тем недовольным голосом, которым говорила прежде. – St.-Jérôme, по крайней мере, gouverneur, который поймет, как нужно вести des enfants de bonne maison[46], a не простой menin, дядька, который годен только на то, чтобы водить их гулять.
– Я завтра же поговорю с ним, – сказал папа.
И действительно, через два дня после этого разговора Карл Иваныч уступил свое место молодому щеголю французу.
Глава VIII История Карла Иваныча
Поздно вечером накануне того дня, в который Карл Иваныч должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своем ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал в него свои вещи.
Обращение с нами Карла Иваныча в последнее время было как-то особенно сухо: он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошел в комнату, он взглянул на меня исподлобья и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл Иваныч, прежде строго запрещавший делать это, ничего не сказал мне, и мысль, что он больше не будет ни бранить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он разлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство.
– Позвольте, я помогу вам, Карл Иваныч, – сказал я, подходя к нему.
Карл Иваныч взглянул на меня и снова отвернулся, но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочел не равнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю, сосредоточенную печаль.
– Бог все видит и все знает, и на все его святая воля, – сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая. – Да, Николенька, – продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него, – моя судьба быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям, и моя награда не здесь, а оттуда, – сказал он, указывая на небо. – Когда б вы знали мою историю и все, что я перенес в этой жизни!.. Я был сапожник, я был солдат, я был дезертир, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль! и мне, как сыну божию, некуда преклонить свою голову, – заключил он и, закрыв глаза, опустился в свое кресло.
Заметив, что Карл Иваныч находился в том чувствительном расположении духа, в котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои задушевные мысли, я, молча и не спуская глаз с его доброго лица, сел на кровать.
– Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою историю и все, что я перенес в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, который вас очень любил, дети!..
Карл Иваныч облокотился рукою о столик, стоявший подле него, понюхал табаку и, закатив глаза к небу, тем особенным, мерным горловым голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, начал так свое повествование:
– Я был нешаслив ишо во чрева моей матрри. Das Unglück verfolgte mich schon im Schosse meiner Mutter! – повторил он еще с большим чувством.
Так как Карл Иваныч не один раз, в одинаковом порядке, одних и тех же выражениях и с постоянно неизменяемыми интонациями, рассказывал мне впоследствии свою историю, я надеюсь передать ее почти слово в слово: разумеется, исключая неправильности языка, о которой читатель может судить по первой фразе. Была ли это действительно его история или произведение фантазии, родившееся во время его одинокой жизни в нашем доме, которому он и сам начал верить от частого повторения, или он только украсил фантастическими фактами действительные события своей жизни – не решил еще я до сих пор. С одной стороны, он с слишком живым чувством и методическою последовательностью, составляющими главные признаки правдоподобности, рассказывал свою историю, чтобы можно было не верить ей; с другой стороны, слишком много было поэтических красот в его истории; так что именно красоты эти вызывали сомнения.
«В жилах моих течет благородная кровь графов фон Зомерблат! In meinen Adern fliesst das edle Blut des Grafen von Sommerblat! Я родился шесть недель после сватьбы. Муж моей матери (я звал его папенька) был арендатор у графа Зомерблат. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Johann и две сестры; но я был чужой в своем собственном семействе! Ich war ein Fremder in meinen eigenen Familie! Когда Johann делал глупости, папенька говорил: «С этим ребенком Карлом мне не будет минуты покоя!», меня бранили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька говорил: «Карл никогда не будет послушный мальчик!», меня бранили и наказывали. Одна моя добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне: «Карл! подите сюда, в мою комнату», и она потихоньку целовала меня. «Бедный, бедный Карл! – сказала она, – никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя маменька, – говорила она мне, – учись хорошенько и будь всегда честным человеком, Бог не оставит тебя! Trachte nur ein ehrlicher Deutscher zu werden, – sagte sie, – und der liebe Gott wird dich nicht verlassen!» И я старался. Когда мне минуло четырнадцать лет и я мог идти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке: «Карл стал большой мальчик, Густав; что мы будем с ним делать?» И папенька сказал: «Я не знаю». Тогда маменька сказала: «Отдадим его в город к господину Шульц, пускай он будет сапожник!», и папенька сказал: «Хорошо», und mein Vater sagte «gut». Шесть лет и семь месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал: «Карл хороший работник, и скоро он будет моим Geselle!»[47], но… человек предполагает, а бог располагает… в 1796 году была назначена Konskription[48], и все, кто мог служить, от восемнадцати до двадцать первого года, должны были собраться в город.
Папенька и брат Johann приехали в город, и мы вместе пошли бросить Los[49], кому быть Soldat и кому не быть Soldat. Johann вытащил дурной нумеро – он должен быть Soldat, я вытащил хороший нумеро – я не должен быть Soldat. И папенька сказал: «У меня был один сын, и с тем я должен расстаться! Ich hatte einen einzigen Sohn und von diesem muss ich mich trennen!»
Я взял его за руку и сказал: «Зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, я вам скажу что-нибудь». И папенька пошел. Папенька пошел, и мы сели в трактир за маленький столик. «Дайте нам пару Bierkrug»[50], – я сказал, и нам принесли. Мы выпили по стаканчик, и брат Johann тоже выпил.
– Папенька! – я сказал, – не говорите так, что «у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться», у меня сердце хочет выпрыгнуть, когда я этого слышу. Брат Johann не будет служить – я буду Soldat!.. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет Soldat.
– Вы честный человек, Карл Иваныч! – сказал мне папенька и поцеловал меня. – Du bist ein braver Bursche! – sagte mir mein Vater und küsste mich.
И я был Soldat!»
Глава IX Продолжение предыдущей
«Тогда было страшное время, Николенька, – продолжал Карл Иваныч, – тогда был Наполеон. Он хотел завоевать Германию, и мы защищали свое отечество до последней капли крови! und wir verteidigten unser Vaterland bis auf den letzten Tropfen Blut!
Я был под Ульм, я был под Аустерлиц! я был под Ваграм! ich war bei Wagram!»
– Неужели вы тоже воевали? – спросил я, с удивлением глядя на него. – Неужели вы тоже убивали людей?
Карл Иваныч тотчас же успокоил меня на этот счет.
«Один раз французский Grenadier отстал от своих и упал на дороге. Я прибежал с ружьем и хотел проколоть его, aber der Franzose warf sein Gewehr und rief pardon[51], и я пустил его!
Под Ваграм Наполеон загнал нас на остров и окружил так, что никуда не было спасенья. Трое суток у нас не было провианта, и мы стояли в воде по коленки. Злодей Наполеон не брал и не пускал нас! und der Bösewicht Napoleon wollte uns nicht gefangen nehmen und auch nicht freilassen!
На четвертые сутки нас, слава богу, взяли в плен и отвели в крепость. На мне был синий панталон, мундир из хорошего сукна, пятнадцать талеров денег и серебряные часы – подарок моего папеньки. Французский Soldat все взял у меня. На мое счастье, у меня было три червонца, которые маменька зашила мне под фуфайку. Их никто не нашел!
В крепости я не хотел долго оставаться и решился бежать. Один раз, в большой праздник, я сказал сержанту, который смотрел за нами: «Господин сержант, нынче большой праздник, я хочу вспомнить его. Принесите, пожалуйста, две бутылочки мадер, и мы вместе выпьем ее». И сержант сказал: «Хорошо». Когда сержант принес мадер и мы выпили по рюмочке, я взял его за руку и сказал: «Господин сержант, может быть, у вас есть отец и мать?..» Он сказал: «Есть, господин Мауер…» – «Мой отец и мать, – я сказал, – восемь лет не видали меня и не знают, жив ли я, или кости мои давно лежат в сырой земле. О господин сержант! у меня есть два червонца, которые были под моей фуфайкой, возьмите их и пустите меня. Будьте моим благодетелем, и моя маменька всю жизнь будет молить за вас всемогущего Бога».
Сержант выпил рюмочку мадеры и сказал: «Господин Мауер, я очень люблю и жалею вас, но вы пленный, а я Soldat!» Я пожал его за руку и сказал: «Господин сержант!» Ich drückte ihm die Hand und sagte: «Herr Sergeant!»
И сержант сказал: «Вы бедный человек, и я не возьму ваши деньги, но помогу вам. Когда я пойду спать, купите ведро водки солдатам, и они будут спать. Я не буду смотреть на вас».
Он был добрый человек. Я купил ведро водки, и когда Soldat были пьяны, я надел сапоги, старый шинель и потихоньку вышел за дверь. Я пошел на вал и хотел прыгнуть, но там была вода, и я не хотел спортить последнее платье: я пошел в ворота.
Часовой ходил с ружьем auf und ab[52] и смотрел на меня. «Qui vive» – sagte er auf einmal[53], и я молчал. «Qui vive?» – sagte er zum zweiten Mal[54], и я молчал. «Qui vive?» – sagte er zum dritten Mal[55], и я бегал. Я пригнул в вода, влезал на другой сторона и пустил. Ich sprang in’s Wasser, kletterte auf die andere Seile und machte mich aus dem Staube.
Целую ночь я бежал по дороге, но когда рассвело, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался в высокую рожь. Там я стал на коленки, сложил руки, поблагодарил отца небесного за свое спасение и с покойным чувством заснул. Ich dankte dem allmächtigen Gott für Seine Barmherzigkeit und mit beruhigtem Gefühl schlief ich ein.
Я проснулся вечером и пошел дальше. Вдруг большая немецкая фура в две вороные лошади догнала меня. В фуре сидел хорошо одетый человек, курил трубочку и смотрел на меня. Я пошел потихоньку, чтобы фура обогнала меня, но я шел потихоньку, и фура ехала потихоньку, и человек смотрел на меня; я шел поскорее, и фура ехала поскорее, и человек смотрел на меня. Я сел на дороге; человек остановил своих лошадей и смотрел на меня. «Молодой человек, – он сказал, – куда вы идете так поздно?» Я сказал: «Я иду в Франкфурт». – «Садитесь в мою фуру, место есть, и я довезу вас… Отчего у вас ничего нет с собой, борода ваша не брита и платье ваше в грязи?» – сказал он мне, когда я сел с ним. «Я бедный человек, – я сказал, – хочу наняться где-нибудь на фабрик, а платье мое в грязи оттого, что я упал на дороге». – «Вы говорите неправду, молодой человек, – сказал он, – по дороге теперь сухо».
И я молчал.
– Скажите мне всю правду, – сказал мне добрый человек, – кто вы и откуда идете? лицо ваше мне понравилось, и ежели вы честный человек, я помогу вам.
И я все сказал ему. Он сказал: «Хорошо, молодой человек, поедемте на мою канатную фабрик. Я дам вам работу, платье, деньги, и вы будете жить у меня».
И я сказал: «Хорошо».
Мы приехали на канатную фабрику, и добрый человек сказал своей жене: «Вот молодой человек, который сражался за свое отечество и бежал из плена; у него нет ни дома, ни платья, ни хлеба. Он будет жить у меня. Дайте ему чистое белье и покормите его».
Я полтора года жил на канатной фабрике, и мой хозяин так полюбил меня, что не хотел пустить. И мне было хорошо. Я был тогда красивый мужчина, я был молодой, высокий рост, голубые глаза, римский нос… и Madam L… (я не могу сказать ее имени), жена моего хозяина, была молоденькая, хорошенькая дама. И она полюбила меня.
Когда она видела меня, она сказала: «Господин Мауер, как вас зовет ваша маменька?» Я сказал: «Karlchen».
И она сказала: «Karlchen! сядьте подле меня».
Я сел подле ней, и она сказала: «Karlchen! поцелуйте меня».
Я его поцеловал, и он сказал: «Karlchen! я так люблю вас, что не могу больше терпеть», – и он весь задрожал».
Тут Карл Иваныч сделал продолжительную паузу и, закатив свои добрые голубые глаза, слегка покачивая головой, принялся улыбаться так, как улыбаются люди под влиянием приятных воспоминаний.
«Да, – начал он опять, поправляясь в кресле и запахивая свой халат, – много я испытал и хорошего и дурного в своей жизни; но вот мой свидетель, – сказал он, указывая на шитый по канве образок спасителя, висевший над его кроватью, – никто не может сказать, чтоб Карл Иваныч был нечестный человек! Я не хотел черной неблагодарностью платить за добро, которое мне сделал господин L…, и решился бежать от него. Вечерком, когда все шли спать, я написал письмо своему хозяину и положил его на столе в своей комнате, взял свое платье, три талер денег и потихоньку вышел на улицу. Никто не видал меня, и я пошел по дороге».
Глава X Продолжение
«Я девять лет не видал своей маменьки и не знал, жива ли она, или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в город, я спрашивал, где живет Густав Мауер, который был арендатором у графа Зомерблат? И мне сказали: «Граф Зомерблат умер, и Густав Мауер живет теперь в большой улице и держит лавку ликер». Я надел свой новый жилет, хороший сюртук – подарок фабриканта, хорошенько причесал волосы и пошел в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Mariechen сидела в лавочке и спросила, что мне нужно? Я сказал: «Можно выпить рюмочку ликер?» – и она сказала: «Vater! Молодой человек просит рюмочку ликер». И папенька сказал: «Подай молодому человеку рюмочку ликер». Я сел подле столика, пил свою рюмочку ликер, курил трубочку и смотрел на папеньку, Mariechen и Johann, который тоже вошел в лавку. Между разговором папенька сказал мне: «Вы, верно, знаете, молодой человек, где стоит теперь наше арме». Я сказал: «Я сам иду из арме, и она стоит подле Wien». – «Наш сын, – сказал папенька, – был Soldat, и вот девять лет он не писал нам, и мы не знаем, жив он или умер. Моя жена всегда плачет об нем…» Я курил свою трубочку и сказал: «Как звали вашего сына и где он служил? может быть, я знаю его…» – «Его звали Карл Мауер, и он служил в австрийских егерях», – сказал мой папенька. «Он высокий ростом и красивый мужчина, как вы», – сказала сестра Mariechen. Я сказал: «Я знаю вашего Karl». – «Amalia! – sagte auf einmal mein Vater[56], – подите сюда, здесь есть молодой человек, он знает нашего Karl». И мое милы маменька выходит из задня дверью. Я сейчас узнал его. «Вы знаете наша Karl», – он сказал, посмотрил на мене и, весь бледны, за… дро… жал!.. «Да, я видел его», – я сказал и не смел поднять глаза на нее; сердце у меня пригнуть хотело. «Karl мой жив! – сказала маменька. – Слава Богу! Где он, мой милый Karl? Я бы умерла спокойно, ежели бы еще раз посмотреть на него, на моего любимого сына; но Бог не хочет этого», – и он заплакал… Я не мог терпейть… «Маменька! – я сказал, – я ваш Карл!» И он упал мне на рука…»
Карл Иваныч закрыл глаза, и губы его задрожали.
«Mutter! – sagte ich, – ich bin Ihr Sohn, ich bin Ihr Karl! und sie stürzte mir in die Arme[57], – повторил он, успокоившись немного и утирая крупные слезы, катившиеся по его щекам.
«Но Богу не угодно было, чтобы я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастие! das Unglück verfolgte mich überall!..[58] Я жил на своей родине только три месяца. В одно воскресенье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил свою трубочку и разговаривал с своими знакомыми про Politik, про император Франц, про Napoleon, про войну, и каждый говорил свое мнение. Подле нас сидел незнакомый господин в сером Überrock[59], пил кофе, курил трубочку и ничего не говорил с нами. Er rauchte sein Pfeifchen und schwieg still. Когда Nachtwächter[60] прокричал десять часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги и пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в двери. Я проснулся и сказал: «Кто там?» – «Macht auf!»[61] Я сказал: «Скажите, кто там, и я отворю». Ich sagte: «Sagt wer ihr seid, und ich werde aufmachen». – «Macht auf im Namen des Gesetzes!»[62], – сказал за дверью. И я отворил. Два Soldat с ружьями стояли за дверью, и в комнату вошел незнакомый человек в сером Überrock, который сидел подле нас в кофейном доме. Он был шпион! Es war ein Spion!.. «Пойдемте со мной!» – сказал шпион. «Хорошо», – я сказал… Я надел сапоги und Pantalon, надевал подтяжки и ходил по комнате. В сердце у меня кипело; я сказал: «Он подлец!» Когда я подошел к стенке, где висела моя шпага, я вдруг схватил ее и сказал: «Ты шпион; защищайся! Du bist ein Spion, verteidige dich!» Ich gab ein Hieb[63] направо, ein Hieb налево и один на галава. Шпион упал! Я схватил чемодан и деньги и прыгнул за окошко. Ich nahm meinen Mantelsack und Beutel und sprang zum Fenster hinaus. Ich kam nach Ems[64]; там я познакомился с енерал Сазин. Он полюбил меня, достал у посланника паспорт и взял меня с собой в Россию учить детей. Когда енерал Сазин умер, ваша маменька позвала меня к себе. Она сказала: «Карл Иваныч! отдаю вам своих детей, любите их, и я никогда не оставлю вас, я успокою вашу старость». Теперь ее не стало, и все забыто. За свою двадцатилетнюю службу я должен теперь, на старости лет, идти на улицу искать свой черствый кусок хлеба… Бог сей видит и сей знает, и на сей его святое воля, тольк вас жалько мне, детьи!» – заключил Карл Иваныч, притягивая меня к себе за руку и целуя в голову.
Глава XI Единица
По окончании годичного траура бабушка оправилась несколько от печали, поразившей ее, и стала изредка принимать гостей, в особенности детей – наших сверстников и сверстниц.
В день рождения Любочки, 13 декабря, еще перед обедом приехали к нам княгиня Корнакова с дочерьми, Валахина с Сонечкой, Иленька Грап и два меньших брата Ивиных.
Уже звуки говора, смеху и беготни долетали к нам снизу, где собралось все это общество, но мы не могли присоединиться к нему прежде окончания утренних классов. На таблице, висевшей в классной, значилось: Lundi, de 2 а 3, Maître d’Histoire et de Gе́ographie[65] и вот этого-то Maitre d’Histoire мы должны были дождаться, выслушать и проводить, прежде чем быть свободными. Было уже двадцать минут третьего, а учителя истории не было еще ни слышно, ни видно даже на улице, по которой он должен был прийти и на которую я смотрел с сильным желанием никогда не видать его.
– Кажется, Лебедев нынче не придет, – сказал Володя, отрываясь на минутку от книги Смарагдова, по которой он готовил урок.
– Дай бог, дай бог… а то я ровно ничего не знаю… однако, кажется, вон он идет, – прибавил я печальным голосом.
Володя встал и подошел к окну.
– Нет, это не он, это какой-то барин, – сказал он. – Подождем еще до половины третьего, – прибавил он, потягиваясь и в то же время почесывая маковку, как он это обыкновенно делал, на минуту отдыхая от занятий. – Ежели не придет и в половине третьего, тогда можно будет сказать St.-Jérôme’y, чтобы убрать тетради.
– И охота ему хо-о-о-о-дить, – сказал я, тоже потягиваясь и потрясая над головой книгу Кайданова, которую держал в обеих руках.
От нечего делать я раскрыл книгу на том месте, где был задан урок, и стал прочитывать его. Урок был большой и трудный, я ничего не знал и видел, что уже никак не успею хоть что-нибудь запомнить из него, тем более что находился в том раздраженном состоянии, в котором мысли отказываются остановиться на каком бы то ни было предмете.
За прошедший урок истории, которая всегда казалась мне самым скучным, тяжелым предметом, Лебедев жаловался на меня St.-Jérôme’y и в тетради баллов поставил мне два, что считалось очень дурным. St.-Jérôme тогда еще сказал мне, что ежели в следующий урок я получу меньше трех, то буду строго наказан. Теперь-то предстоял этот следующий урок, и, признаюсь, я сильно трусил.
Я так увлекся перечитыванием незнакомого мне урока, что послышавшийся в передней стук снимания калош внезапно поразил меня. Едва успел я оглянуться, как в дверях показалось рябое, отвратительное для меня лицо и слишком знакомая неуклюжая фигура учителя в синем застегнутом фраке с учеными пуговицами.
Учитель медленно положил шапку на окно, тетради на стол, раздвинул обеими руками фалды своего фрака (как будто это было очень нужно) и, отдуваясь, сел на свое место.
– Ну-с, господа, – сказал он, потирая одну о другую свои потные руки, – пройдемте-с сперва то, что было сказано в прошедший класс, а потом я постараюсь познакомить вас с дальнейшими событиями средних веков.
Это значило: сказывайте уроки.
В то время как Володя отвечал ему с свободой и уверенностью, свойственною тем, кто хорошо знает предмет, я без всякой цели вышел на лестницу, и так как вниз нельзя мне было идти, весьма естественно, что я незаметно для самого себя очутился на площадке. Но только что я хотел поместиться на обыкновенном посте своих наблюдений – за дверью, как вдруг Мими, всегда бывшая причиною моих несчастий, наткнулась на меня. «Вы здесь?» – сказала она, грозно посмотрев на меня, потом на дверь девичьей и потом опять на меня.
Я чувствовал себя кругом виноватым – и за то, что был не в классе, и за то, что находился в таком неуказанном месте, поэтому молчал и, опустив голову, являл в своей особе самое трогательное выражение раскаяния.
– Нет, это уж ни на что не похоже! – сказала Мими. – Что вы здесь делали? – Я помолчал. – Нет, это так не останется, – повторила она, постукивая щиколками пальцев о перила лестницы, – я все расскажу графине.
Было уже без пяти минут три, когда я вернулся в класс. Учитель, как будто не замечая ни моего отсутствия, ни моего присутствия, объяснял Володе следующий урок. Когда он, окончив свои толкования, начал складывать тетради и Володя вышел в другую комнату, чтобы принести билетик, мне пришла отрадная мысль, что все кончено и про меня забудут.
Но вдруг учитель с злодейской полуулыбкой обратился ко мне.
– Надеюсь, вы выучили свой урок-с, – сказал он, потирая руки.
– Выучил-с, – отвечал я.
– Потрудитесь мне сказать что-нибудь о крестовом походе Людовика Святого, – сказал он, покачиваясь на стуле и задумчиво глядя себе под ноги. – Сначала вы мне скажете о причинах, побудивших короля французского взять крест, – сказал он, поднимая брови и указывая пальцем на чернильницу, – потом объясните мне общие характеристические черты этого похода, – прибавил он, делая всей кистью движение такое, как будто хотел поймать что-нибудь, – и, наконец, влияние этого похода на европейские государства вообще, – сказал он, ударяя тетрадями по левой стороне стола, – и на французское королевство в особенности, – заключил он, ударяя по правой стороне стола и склоняя голову направо.
Я проглотил несколько раз слюни, прокашлялся, склонил голову набок и молчал. Потом, взяв перо, лежавшее на столе, начал обрывать его и все молчал.
– Позвольте перышко, – сказал мне учитель, протягивая руку. – Оно пригодится. Ну-с.
– Людо… кор… Лудовик Святой был… был… был… добрый и умный царь…
– Кто-с?
– Царь. Он вздумал пойти в Иерусалим и передал бразды правления своей матери.
– Как ее звали-с?
– Б… б… ланка.
– Как-с? буланка?
Я усмехнулся как-то криво и неловко.
– Ну-с, не знаете ли еще чего-нибудь? – сказал он с усмешкой.
Мне нечего было терять, я прокашлялся и начал врать все, что только мне приходило в голову. Учитель молчал, сметая со стола пыль перышком, которое он у меня отнял, пристально смотрел мимо моего уха и приговаривал: «Хорошо-с, очень хорошо-с». Я чувствовал, что ничего не знаю, выражаюсь совсем не так, как следует, и мне страшно больно было видеть, что учитель не останавливает и не поправляет меня.
– Зачем же он вздумал идти в Иерусалим? – сказал он, повторяя мои слова.
– Затем… потому… оттого, затем что…
Я решительно замялся, не сказал ни слова больше и чувствовал, что ежели этот злодей-учитель хоть год целый будет молчать и вопросительно смотреть на меня, я все-таки не в состоянии буду произнести более ни одного звука. Учитель минуты три смотрел на меня, потом вдруг проявил в своем лице выражение глубокой печали и чувствительным голосом сказал Володе, который в это время вошел в комнату:
– Позвольте мне тетрадку: проставить баллы.
Володя подал ему тетрадь и осторожно положил билетик подле нее.
Учитель развернул тетрадь и, бережно обмакнув перо, красивым почерком написал Володе пять в графе успехов и поведения. Потом, остановив перо над графою, в которой означались мои баллы, он посмотрел на меня, стряхнул чернила и задумался.
Вдруг рука его сделала чуть заметное движение, и в графе появилась красиво начерченная единица и точка; другое движение – и в графе поведения другая единица и точка.
Бережно сложив тетрадь баллов, учитель встал и подошел к двери, как будто не замечая моего взгляда, в котором выражались отчаяние, мольба и упрек.
– Михаил Ларионыч! – сказал я.
– Нет, – отвечал он, понимая уже, что я хотел сказать ему, – так нельзя учиться. Я не хочу даром денег брать.
Учитель надел калоши, камлотовую шинель, с большим тщанием повязался шарфом. Как будто можно было о чем-нибудь заботиться после того, что случилось со мной? Для него движение пера, а для меня величайшее несчастие.
– Класс кончен? – спросил St.-Jérôme, входя в комнату.
– Да.
– Учитель доволен вами?
– Да, – сказал Володя.
– Сколько вы получили?
– Пять.
– A Nicolas?
Я молчал.
– Кажется, четыре, – сказал Володя.
Он понимал, что меня нужно было спасти хотя на нынешний день. Пускай накажут, только бы не нынче, когда у нас гости.
– Voyons, messieurs (St.-Jérôme имел привычку ко всякому слову говорить: voyons)! faites votre toilette et descendons[66].
Глава XII Ключик
Едва успели мы, сойдя вниз, поздороваться со всеми гостями, как нас позвали к столу. Папа был очень весел (он был в выигрыше в это время), подарил Любочке дорогой серебряный сервиз и за обедом вспомнил, что у него во флигеле осталась еще бонбоньерка, приготовленная для именинницы.
– Чем человека посылать, поди-ка лучше ты, Коко, – сказал он мне. – Ключи лежат на большом столе в раковине, знаешь?.. Так возьми их и самым большим ключом отопри второй ящик направо. Там найдешь коробочку, конфеты в бумаге и принесешь все сюда.
– А сигары принести тебе? – спросил я, зная, что он всегда после обеда посылал за ними.
– Принеси, да смотри у меня – ничего не трогать! – сказал он мне вслед.
Найдя ключи на указанном месте, я хотел уже отпирать ящик, как меня остановило желание узнать, какую вещь отпирал крошечный ключик, висевший на той же связке.
На столе, между тысячью разнообразных вещей, стоял около перилец шитый портфель с висячим замочком, и мне захотелось попробовать, придется ли к нему маленький ключик. Испытание увенчалось полным успехом, портфель открылся, и я нашел в нем целую кучу бумаг. Чувство любопытства с таким убеждением советовало мне узнать, какие были эти бумаги, что я не успел прислушаться к голосу совести и принялся рассматривать то, что находилось в портфеле…
……………………………………………………………………………….
Детское чувство безусловного уважения ко всем старшим, и в особенности к папа, было так сильно во мне, что ум мой бессознательно отказывался выводить какие бы то ни было заключения из того, что я видел. Я чувствовал, что папа должен жить в сфере совершенно особенной, прекрасной, недоступной и непостижимой для меня, и что стараться проникать тайны его жизни было бы с моей стороны чем-то вроде святотатства.
Поэтому открытия, почти нечаянно сделанные мною в портфеле папа, не оставили во мне никакого ясного понятия, исключая темного сознания, что я поступил нехорошо. Мне было стыдно и неловко.
Под влиянием этого чувства я как можно скорее хотел закрыть портфель, но мне, видно, суждено было испытать всевозможные несчастия в этот достопамятный день: вложив ключик в замочную скважину, я повернул его не в ту сторону; воображая, что замок заперт, я вынул ключ, и – о ужас! – у меня в руках была только головка ключика. Тщетно я старался соединить ее с оставшейся в замке половиной и посредством какого-то волшебства высвободить ее оттуда; надо было, наконец, привыкнуть к ужасной мысли, что я совершил новое преступление, которое нынче же по возвращении папа в кабинет должно будет открыться.
Жалоба Мими, единица и ключик! Хуже ничего не могло со мной случиться. Бабушка – за жалобу Мими, St.-Jérôme – за единицу, папа – за ключик… и все это обрушится на меня не позже как нынче вечером.
– Что со мной будет?! А-а-ах! что я наделал?! – говорил я вслух, прохаживаясь по мягкому ковру кабинета. – Э! – сказал я сам себе, доставая конфеты и сигары, – чему быть, тому не миновать… – И побежал в дом.
Это фаталистическое изречение, в детстве подслушанное мною у Николая, во все трудные минуты моей жизни производило на меня благотворное, временно успокаивающее влияние. Входя в залу, я находился в несколько раздраженном и неестественном, но чрезвычайно веселом состоянии духа.
Глава XIII Изменница
После обеда начались petits jeux[67], и я принимал в них живейшее участие. Играя в «кошку-мышку», как-то неловко разбежавшись на гувернантку Корнаковых, которая играла с нами, я нечаянно наступил ей на платье и оборвал его. Заметив, что всем девочкам, и в особенности Сонечке, доставляло большое удовольствие видеть, как гувернантка с расстроенным лицом пошла в девичью зашивать свое платье, я решил доставить им это удовольствие еще раз. Вследствие такого любезного намерения, как только гувернантка вернулась в комнату, я принялся галопировать вокруг нее и продолжал эти эволюции до тех пор, пока не нашел удобной минуты снова зацепить каблуком за ее юбку и оборвать. Сонечка и княжны едва могли удержаться от смеха, что весьма приятно польстило моему самолюбию; но St.-Jérôme, заметив, должно быть, мои проделки, подошел ко мне и, нахмурив брови (чего я терпеть не мог), сказал, что я, кажется, не к добру развеселился и что ежели я не буду скромнее, то, несмотря на праздник, он заставит меня раскаяться.
Но я находился в раздраженном состоянии человека, проигравшего более того, что у него есть в кармане, который боится счесть свою запись и продолжает ставить отчаянные карты уже без надежды отыграться, а только для того, чтобы не давать самому себе времени опомниться. Я дерзко улыбнулся и ушел от него.
После «кошки-мышки» кто-то затеял игру, которая называлась у нас, кажется, Lange Nase[68]. Сущность игры состояла в том, что ставили два ряда стульев, один против другого, и дамы и кавалеры разделялись на две партии и по переменкам выбирали одна другую.
Младшая княжна каждый раз выбирала меньшого Ивина, Катенька выбирала или Володю, или Иленьку, а Сонечка каждый раз Сережу, и нисколько не стыдилась, к моему крайнему удивлению, когда Сережа прямо шел и садился против нее. Она смеялась своим милым звонким смехом и делала ему головкой знак, что он угадал. Меня же никто не выбирал. К крайнему оскорблению моего самолюбия, я понимал, что я лишний, остающийся, что про меня всякий раз должны были говорить: «Кто еще остается?» – «Да Николенька; ну вот ты его и возьми». Поэтому, когда мне приходилось выходить, я прямо подходил или к сестре, или к одной из некрасивых княжон и, к несчастию, никогда не ошибался. Сонечка же, казалось, так была занята Сережей Ивиным, что я не существовал для нее вовсе. Не знаю, на каком основании называл я ее мысленно изменницею, так как она никогда не давала мне обещания выбирать меня, а не Сережу; но я твердо был убежден, что она самым гнусным образом поступила со мною.
После игры я заметил, что изменница, которую я презирал, но с которой, однако, не мог спустить глаз, вместе с Сережей и Катенькой отошли в угол и о чем-то таинственно разговаривали. Подкравшись из-за фортепьян, чтобы открыть их секреты, я увидал следующее: Катенька держала за два конца батистовый платочек в виде ширм, заслоняя им головы Сережи и Сонечки. «Нет, проиграли, теперь расплачивайтесь!» – говорил Сережа. Сонечка, опустив руки, стояла перед ним, точно виноватая, и, краснея, говорила: «Нет, я не проиграла, не правда ли, mademoiselle Catherine?» – «Я люблю правду, – отвечала Катенька, – проиграла пари, ma chère».
Едва успела Катенька произнести эти слова, как Сережа нагнулся и поцеловал Сонечку. Так прямо и поцеловал в ее розовые губки. И Сонечка засмеялась, как будто это ничего, как будто это очень весело. Ужасно!!! О, коварная изменница!
Глава XIV Затмение
Я вдруг почувствовал презрение ко всему женскому полу вообще и к Сонечке в особенности; начал уверять себя, что ничего веселого нет в этих играх, что они приличны только девчонкам, и мне чрезвычайно захотелось буянить и сделать какую-нибудь такую молодецкую штуку, которая бы всех удивила. Случай не замедлил представиться.
St.-Jérôme, поговорив о чем-то с Мими, вышел из комнаты; звуки его шагов послышались сначала на лестнице, а потом над нами, по направлению классной. Мне пришла мысль, что Мими сказала ему, где она видела меня во время класса, и что он пошел посмотреть журнал. Я не предполагал в это время у St.-Jérôme’a другой цели в жизни, как желания наказать меня. Я читал где-то, что дети от двенадцати до четырнадцати лет, то есть находящиеся в переходном возрасте отрочества, бывают особенно склонны к поджигательству и даже убийству. Вспоминая свое отрочество и особенно то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить, – но так – из любопытства, из бессознательной потребности деятельности. Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В такие минуты, когда мысль не обсуживает вперед каждого определения воли, а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребенок, по неопытности, особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства, раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, отец, мать, которых он нежно любит. Под влиянием этого же временного отсутствия мысли – рассеянности почти – крестьянский парень лет семнадцати, осматривая лезвие только что отточенного топора подле лавки, на которой лицом вниз спит его старик отец, вдруг размахивается топором и с тупым любопытством смотрит, как сочится под лавку кровь из разрубленной шеи; под влиянием этого же отсутствия мысли и инстинктивного любопытства человек находит какое-то наслаждение остановиться на самом краю обрыва и думать: а что, если туда броситься? или приставить ко лбу заряженный пистолет и думать: а что, ежели пожать гашетку? или смотреть на какое-нибудь очень важное лицо, к которому все общество чувствует подобострастное уважение, и думать: а что, ежели подойти к нему, взять его за нос и сказать: «А ну-ка, любезный, пойдем»?
Под влиянием такого же внутреннего волнения и отсутствия размышления, когда St.-Jérôme сошел вниз и сказал мне, что я не имею права здесь быть нынче за то, что так дурно вел себя и учился, чтобы я сейчас же шел на верх, я показал ему язык и сказал, что не пойду отсюда.
В первую минуту St.-Jérôme не мог слова произнести от удивления и злости.
– C’est bien[69], – сказал он, догоняя меня, – я уже несколько раз обещал вам наказание, от которого вас хотела избавить ваша бабушка; но теперь я вижу, что, кроме розог, вас ничем не заставишь повиноваться, и нынче вы их вполне заслужили.
Он сказал это так громко, что все слышали его слова. Кровь с необыкновенной силой прилила к моему сердцу; я почувствовал, как крепко оно билось, как краска сходила с моего лица и как совершенно невольно затряслись мои губы. Я должен был быть страшен в эту минуту, потому что St.-Jérôme, избегая моего взгляда, быстро подошел ко мне и схватил за руку; но только что я почувствовал прикосновение его руки, мне сделалось так дурно, что я, не помня себя от злобы, вырвал руку и из всех моих детских сил ударил его.
– Что с тобой делается? – сказал, подходя ко мне, Володя, с ужасом и удивлением видевший мой поступок.
– Оставь меня! – закричал я на него сквозь слезы. – Никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны, – прибавил я с каким-то исступлением, обращаясь ко всему обществу.
Но в это время St.-Jérôme, с решительным и бледным лицом, снова подошел ко мне, и не успел я приготовиться к защите, как он уже сильным движением, как тисками, сжал мои обе руки и потащил куда-то. Голова моя закружилась от волнения; помню только, что я отчаянно бился головой и коленками до тех пор, пока во мне были еще силы; помню, что нос мой несколько раз натыкался на чьи-то ляжки, что в рот мне попадал чей-то сюртук, что вокруг себя со всех сторон я слышал присутствие чьих-то ног, запах пыли и violette[70], которой душился St.-Jérôme. Через пять минут за мной затворилась дверь чулана.
– Василь! – сказал он отвратительным торжествующим голосом, – принеси розог.
Глава XV Мечты
Неужели в то время я мог бы думать, что останусь жив после всех несчастий, постигших меня, и что придет время, когда я спокойно буду вспоминать о них?..
Припоминая то, что я сделал, я не мог вообразить себе, что со мной будет; но смутно предчувствовал, что пропал безвозвратно.
Сначала внизу и вокруг меня царствовала совершенная тишина, или, по крайней мере, мне так казалось от слишком сильного внутреннего волнения, но мало-помалу я стал разбирать различные звуки. Василий пришел снизу и, бросив на окно какую-то вещь, похожую на метлу, зевая, улегся на ларь. Внизу послышался громкий голос Августа Антоныча (должно быть, он говорил про меня), потом детские голоса, потом смех, беготня, а через несколько минут в доме все пришло в прежнее движение, как будто никто не знал и не думал о том, что я сижу в темном чулане.
Я не плакал, но что-то тяжелое, как камень, лежало у меня на сердце. Мысли и представления с усиленной быстротой проходили в моем расстроенном воображении; но воспоминание о несчастии, постигшем меня, беспрестанно прерывало их причудливую цепь, и я снова входил в безвыходный лабиринт неизвестности о предстоящей мне участи, отчаяния и страха.
То мне приходит в голову, что должна существовать какая-нибудь неизвестная причина общей ко мне нелюбви и даже ненависти. (В то время я был твердо убежден, что все, начиная от бабушки и до Филиппа-кучера, ненавидят меня и находят наслаждение в моих страданиях.) «Я должен быть не сын моей матери и моего отца, не брат Володи, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости», – говорю я сам себе, и нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то грустное утешение, но даже кажется совершенно правдоподобною. Мне отрадно думать, что я несчастен не потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба с самого моего рождения и что участь моя похожа на участь несчастного Карла Иваныча.
«Но зачем дальше скрывать эту тайну, когда я сам уже успел проникнуть ее? – говорю я сам себе, – завтра же пойду к папа и скажу ему: «Папа! напрасно ты от меня скрываешь тайну моего рождения; я знаю ее». Он скажет: «Что ж делать, мой друг, рано или поздно ты узнал бы это, – ты не мой сын, но я усыновил тебя, и ежели ты будешь достоин моей любви, то я никогда не оставлю тебя»; и я скажу ему: «Папа, хотя я не имею права называть тебя этим именем, но я теперь произношу его в последний раз, я всегда любил тебя и буду любить, никогда не забуду, что ты мой благодетель, но не могу больше оставаться в твоем доме. Здесь никто не любит меня, a St.-Jérôme поклялся в моей погибели. Он или я должны оставить твой дом, потому что я не отвечаю за себя, я до такой степени ненавижу этого человека, что готов на все. Я убью его», – так и сказать: «Папа, я убью его». Папа станет просить меня, но я махну рукой, скажу ему: «Нет, мой друг, мой благодетель, мы не можем жить вместе, а отпусти меня», – и я обниму его и скажу ему, почему-то по-французски: «Oh mon père, oh mon bienfaiteur, donne moi pour la dernière fois ta bénédiction et que la volonté de dieu soit faite»![71] И я, сидя на сундуке в темном чулане, плачу навзрыд при этой мысли. Но вдруг я вспоминаю постыдное наказание, ожидающее меня, действительность представляется мне в настоящем свете, и мечты мгновенно разлетаются.
То я воображаю себя уже на свободе вне нашего дома. Я поступаю в гусары и иду на войну. Со всех сторон на меня несутся враги, я размахиваюсь саблей и убиваю одного, другой взмах – убиваю другого, третьего. Наконец, в изнурении от ран и усталости, я падаю на землю и кричу: «Победа!» Генерал подъезжает ко мне и спрашивает: «Где он – наш спаситель?» Ему указывают на меня, он бросается мне на шею и с радостными слезами кричит: «Победа!» Я выздоравливаю и, с подвязанной черным платком рукою, гуляю по Тверскому бульвару. Я генерал! Но вот государь встречает меня и спрашивает, кто этот израненный молодой человек? Ему говорят, что это известный герой Николай. Государь подходит ко мне и говорит: «Благодарю тебя. Я все сделаю, что бы ты ни просил у меня». Я почтительно кланяюсь и, опираясь на саблю, говорю: «Я счастлив, великий государь, что мог пролить кровь за свое отечество, и желал бы умереть за него; но ежели ты так милостив, что позволяешь мне просить тебя, прошу об одном – позволь мне уничтожить врага моего, иностранца St.-Jérôme’a. Мне хочется уничтожить врага моего St.-Jérôme’a». Я грозно останавливаюсь перед St.-Jérôme’ом и говорю ему: «Ты сделал мое несчастие, а genoux!»[72] Но вдруг мне приходит мысль, что с минуты на минуту может войти настоящий St.-Jérôme с розгами, и я снова вижу себя не генералом, спасающим отечество, а самым жалким, плачевным созданием.
То мне приходит мысль о Боге, и я дерзко спрашиваю его, за что он наказывает меня? «Я, кажется, не забывал молиться утром и вечером, так за что же я страдаю?» Положительно могу сказать, что первый шаг к религиозным сомнениям, тревожившим меня во время отрочества, был сделан мною теперь, не потому, чтобы несчастие побудило меня к ропоту и неверию, но потому, что мысль о несправедливости провидения, пришедшая мне в голову в эту пору совершенного душевного расстройства и суточного уединения, как дурное зерно, после дождя упавшее на рыхлую землю, с быстротой стало разрастаться и пускать корни. То я воображал, что я непременно умру, и живо представлял себе удивление St.-Jérôme’a, находящего в чулане, вместо меня, безжизненное тело. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о том, что душа усопшего до сорока дней не оставляет дома, я мысленно после смерти ношусь невидимкой по всем комнатам бабушкиного дома и подслушиваю искренние слезы Любочки, сожаления бабушки и разговор папа с Августом Антонычем. «Он славный был мальчик», – скажет папа со слезами на глазах. «Да, – скажет St.-Jérôme, – но большой повеса». – «Вы бы должны уважать мертвых, – скажет папа, – вы были причиной его смерти, вы запугали его, он не мог перенести унижения, которое вы готовили ему… Вон отсюда, злодей!»
И St.-Jérôme упадет на колени, будет плакать и просить прощения. После сорока дней душа моя улетает на небо; я вижу там что-то удивительно прекрасное, белое, прозрачное, длинное и чувствую, что это моя мать. Это что-то белое окружает, ласкает меня; но я чувствую беспокойство и как будто не узнаю ее. «Ежели это точно ты, – говорю я, – то покажись мне лучше, чтобы я мог обнять тебя». И мне отвечает ее голос: «Здесь мы все такие, я не могу лучше обнять тебя. Разве тебе не хорошо так?» – «Нет мне очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу целовать твоих рук…» – «Не надо этого, здесь и так прекрасно», – говорит она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вместе с ней летим все выше и выше. Тут я как будто просыпаюсь и нахожу себя опять на сундуке, в темном чулане, с мокрыми от слез щеками, без всякой мысли, твердящего слова: и мы все летим выше и выше. Я долго употребляю всевозможные усилия, чтобы уяснить свое положение; но умственному взору моему представляется в настоящем только одна страшно мрачная, непроницаемая даль. Я стараюсь снова возвратиться к тем отрадным счастливым мечтам, которые прервало сознание действительности; но, к удивлению моему, как скоро вхожу в колею прежних мечтаний, я вижу, что продолжение их невозможно и, что всего удивительнее, не доставляет уже мне никакого удовольствия.
Глава XVI Перемелется, мука будет
Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне; только на другой день, то есть в воскресенье, меня перевели в маленькую комнатку, подле классной, и опять заперли. Я начинал надеяться, что наказание мое ограничится заточением, и мысли мои, под влиянием сладкого, крепительного сна, яркого солнца, игравшего на морозных узорах окон, и дневного обыкновенного шума на улицах начинали успокаиваться. Но уединение все-таки было очень тяжело: мне хотелось двигаться, рассказать кому-нибудь все, что накопилось у меня на душе, и не было вокруг меня живого создания. Положение это было еще более неприятно потому, что, как мне ни противно было, я не мог не слышать, как St.-Jérôme, прогуливаясь по своей комнате, насвистывал совершенно спокойно какие-то веселые мотивы. Я был вполне убежден, что ему вовсе не хотелось свистать, но что он делал это единственно для того, чтобы мучить меня.
В два часа St.-Jérôme и Володя сошли вниз, а Николай принес мне обед, и когда я разговорился с ним о том, что я наделал и что ожидает меня, он сказал:
– Эх, сударь! не тужите, перемелется, мука будет.
Хотя это изречение, не раз и впоследствии поддерживавшее твердость моего духа, несколько утешило меня, но именно то обстоятельство, что мне прислали не один хлеб и воду, а весь обед, даже и пирожное розанчики, заставило меня сильно призадуматься. Ежели бы мне не прислали розанчиков, то значило бы, что меня наказывают заточением, но теперь выходило, что я еще не наказан, что я только удален от других, как вредный человек, а что наказание впереди. В то время как я был углублен в разрешение этого вопроса, в замке моей темницы повернулся ключ, и St.-Jérôme с суровым официальным лицом вошел в комнату.
– Пойдемте к бабушке, – сказал он, не глядя на меня.
Я хотел было почистить рукава курточки, запачкавшиеся мелом, прежде чем выйти из комнаты, но St.-Jérôme сказал мне, что это совершенно бесполезно, как будто я находился уже в таком жалком нравственном положении, что о наружном своем виде не стоило и заботиться.
Катенька, Любочка и Володя посмотрели на меня в то время, как St.-Jérôme за руку проводил меня через залу, точно с тем же выражением, с которым мы обыкновенно смотрели на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон. Когда же я подошел к креслу бабушки, с намерением поцеловать ее руку, она отвернулась от меня и спрятала руку под мантилью.
– Да, мой милый, – сказала она после довольно продолжительного молчания, во время которого она осмотрела меня с ног до головы таким взглядом, что я не знал, куда девать свои глаза и руки, – могу сказать, что вы очень цените мою любовь и составляете для меня истинное утешение. Monsieur St.-Jérôme, который по моей просьбе, – прибавила она, растягивая каждое слово, – взялся за ваше воспитание, не хочет теперь оставаться в моем доме. Отчего? от вас, мой милый. Я надеялась, что вы будете благодарны, – продолжала она, помолчав немного и тоном, который доказывал, что речь ее была приготовлена заблаговременно, – за попечения и труды его, что вы будете уметь ценить его заслуги, а вы, молокосос, мальчишка, решились поднять на него руку. Очень хорошо! Прекрасно!! Я тоже начинаю думать, что вы не способны понимать благородного обращения, что на вас нужны другие, низкие средства… Проси сейчас прощения, – прибавила она строго-повелительным тоном, указывая на St.-Jérôme’a, – слышишь?
Я посмотрел по направлению руки бабушки и, увидев сюртук St.-Jérôme’a, отвернулся и не трогался с места, снова начиная ощущать замирание сердца.
– Что же? вы не слышите разве, что я вам говорю?
Я дрожал всем телом, но не трогался с места.
– Коко! – сказала бабушка, должно быть, заметив внутренние страдания, которые я испытывал. – Коко, – сказала она уже не столько повелительным, сколько нежным голосом, – ты ли это?
– Бабушка! я не буду просить у него прощения ни за что… – сказал я, вдруг останавливаясь, чувствуя, что не в состоянии буду удержать слез, давивших меня, ежели скажу еще одно слово.
– Я приказываю тебе, я прошу тебя. Что же ты?
– Я… я… не… не хочу… я не могу, – проговорил я, и сдержанные рыдания, накопившиеся в моей груди, вдруг опрокинули преграду, удерживавшую их, и разразились отчаянным потоком.
– C’est ainsi que vous obéissez а votre second mère, c’est ainsi que vous reconnaissez ses bontés[73], – сказал St.-Jérôme трагическим голосом, – а genoux![74]
– Боже мой, ежели бы она видела это! – сказала бабушка, отворачиваясь от меня и отирая показавшиеся слезы. – Ежели бы она видела… все к лучшему. Да, она не перенесла бы этого горя, не перенесла бы.
И бабушка плакала все сильней и сильней. Я плакал тоже, но и не думал просить прощения.
– Tranquillisez vous au nom du ciel, madame la comtesse[75], – говорил St.-Jérôme.
Но бабушка уже не слушала его, она закрыла лицо руками, и рыдания ее скоро перешли в икоту и истерику. В комнату с испуганными лицами вбежали Мими и Гаша, запахло какими-то спиртами, и по всему дому вдруг поднялись беготня и шептанье.
– Любуйтесь на ваше дело, – сказал St.-Jérôme, уводя меня на верх.
«Боже мой, что я наделал! Какой я ужасный преступник!»
Только что St.-Jérôme, сказав мне, чтобы я шел в свою комнату, спустился вниз, – я, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, побежал по большой лестнице, ведущей на улицу.
Хотел ли я убежать совсем из дома или утопиться, не помню; знаю только, что, закрыв лицо руками, чтобы не видать никого, я бежал все дальше и дальше по лестнице.
– Ты куда? – спросил меня вдруг знакомый голос. – Тебя-то мне и нужно, голубчик.
Я хотел было пробежать мимо, но папа схватил меня за руку и строго сказал:
– Пойдем-ка со мной, любезный! Как ты смел трогать портфель в моем кабинете, – сказал он, вводя меня за собой в маленькую диванную. – А? что ж ты молчишь? а? – прибавил он, взяв меня за ухо.
– Виноват, – сказал я, – я сам не знаю, что на меня нашло.
– А, не знаешь, что на тебя нашло, не знаешь, не знаешь, не знаешь, не знаешь, – повторял он, с каждым словом потрясая мое ухо, – будешь вперед совать нос, куда не следует, будешь? будешь?
Несмотря на то, что я ощущал сильнейшую боль в ухе, я не плакал, а испытывал приятное моральное чувство. Только что папа выпустил мое ухо, я схватил его руку и со слезами принялся покрывать ее поцелуями.
– Бей меня еще, – говорил я сквозь слезы, – крепче, больнее, я негодный, я гадкий, я несчастный человек!
– Что с тобой? – сказал он, слегка отталкивая меня.
– Нет, ни за что не пойду, – сказал я, цепляясь за его сюртук. – Все ненавидят меня, я это знаю, но, ради бога, ты выслушай меня, защити меня или выгони из дома. Я не могу с ним жить, он всячески старается унизить меня, велит становиться на колени перед собой, хочет высечь меня. Я не могу этого, я не маленький, я не перенесу этого, я умру, убью себя. Он сказал бабушке, что я негодный; она теперь больна, она умрет от меня, я… с… ним… ради бога, высеки… за… что… му… чат.
Слезы душили меня, я сел на диван и, не в силах говорить более, упал головой ему на колена, рыдая так, что мне казалось, я должен был умереть в ту же минуту.
– Об чем ты, пузырь? – сказал папа с участием, наклоняясь ко мне.
– Он мой тиран… мучитель… умру… никто меня не любит! – едва мог проговорить я, и со мной сделались конвульсии.
Папа взял меня на руки и отнес в спальню. Я заснул.
Когда я проснулся, было уже очень поздно, одна свечка горела около моей кровати, и в комнате сидели наш домашний доктор, Мими и Любочка. По лицам их заметно было, что боялись за мое здоровье. Я же чувствовал себя так хорошо и легко после двенадцатичасового сна, что сейчас бы вскочил с постели, ежели бы мне не неприятно было расстроить их уверенность в том, что я очень болен.
Глава XVII Ненависть
Да, это было настоящее чувство ненависти, не той ненависти, про которую только пишут в романах и в которую я не верю, ненависти, которая будто находит наслаждение в делании зла человеку, но той ненависти, которая внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противными его волоса, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения и вместе с тем какой-то непонятной силой притягивает вас к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить за малейшими его поступками. Я испытывал это чувство к St.-Jérôme.
St.-Jérôme жил у нас уже полтора года. Обсуживая теперь хладнокровно этого человека, я нахожу, что он был хороший француз, но француз в высшей степени. Он был не глуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность, но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Все это мне очень не нравилось. Само собою разумеется, что бабушка объяснила ему свое мнение насчет телесного наказания, и он не смел бить нас; но, несмотря на это, он часто угрожал, в особенности мне, розгами и выговаривал слово fouetter[76] (как-то fouatter) так отвратительно и с такой интонацией, как будто высечь меня доставило бы ему величайшее удовольствие.
Я нисколько не боялся боли наказания, никогда не испытывал ее, но одна мысль, что St.-Jérôme может ударить меня, приводила меня в тяжелое состояние подавленного отчаяния и злобы.
Случалось, что Карл Иваныч, в минуту досады, лично расправлялся с нами линейкой или помочами; но я без малейшей досады вспоминаю об этом. Даже в то время, о котором я говорю (когда мне было четырнадцать лет), ежели бы Карлу Иванычу случилось приколотить меня, я хладнокровно перенес бы его побои. Карла Иваныча я любил, помнил его с тех пор, как самого себя, и привык считать членом своего семейства; но St.-Jérôme был человек гордый, самодовольный, к которому я ничего не чувствовал, кроме того невольного уважения, которое внушали мне все большие. Карл Иваныч был смешной старик, дядька, которого я любил от души, но ставил все-таки ниже себя в моем детском понимании общественного положения.
St.-Jérôme, напротив, был образованный, красивый молодой щеголь, старающийся стать наравне со всеми. Карл Иваныч бранил и наказывал нас всегда хладнокровно, видно было, что он считал это хотя необходимою, но неприятною обязанностью. St.-Jérôme, напротив, любил драпироваться в роль наставника; видно было, когда он наказывал нас, что он делал это более для собственного удовольствия, чем для нашей пользы. Он увлекался своим величием. Его пышные французские фразы, которые он говорил с сильными ударениями на последнем слоге, accent circonflex’ами, были для меня невыразимо противны. Карл Иваныч, рассердившись, говорил: «кукольная комедия, шалунья мальшик, шампанская мушка». St.-Jérôme называл нас mauvais sujet, vilain garnement[77] и т. п. названиями, которые оскорбляли мое самолюбие.
Карл Иваныч ставил нас на колени лицом в угол, и наказание состояло в физической боли, происходившей от такого положения; St.-Jérôme, выпрямляя грудь и делая величественный жест рукою, трагическим голосом кричал: «А genoux, mauvais sujet!», приказывал становиться на колени лицом к себе и просить прощения. Наказание состояло в унижении.
Меня не наказывали, и никто даже не напоминал мне о том, что со мной случилось; но я не мог забыть всего, что испытал: отчаяния, стыда, страха и ненависти в эти два дня. Несмотря на то, что с того времени St.-Jérôme, как казалось, махнул на меня рукою, почти не занимался мною, я не мог привыкнуть смотреть на него равнодушно. Всякий раз, когда случайно встречались наши глаза, мне казалось, что во взгляде моем выражается слишком явная неприязнь, и я спешил принять выражение равнодушия, но тогда мне казалось, что он понимает мое притворство, я краснел и вовсе отворачивался.
Одним словом, мне невыразимо тяжело было иметь с ним какие бы то ни было отношения.
Глава XVIII Девичья
Я чувствовал себя все более и более одиноким, и главными моими удовольствиями были уединенные размышления и наблюдения. О предмете моих размышлений расскажу в следующей главе; театром же моих наблюдений преимущественно была девичья, в которой происходил весьма для меня занимательный и трогательный роман. Героиней этого романа, само собой разумеется, была Маша. Она была влюблена в Василья, знавшего ее еще тогда, когда она жила на воле, и обещавшего еще тогда на ней жениться. Судьба, разлучившая их пять лет тому назад, снова соединила их в бабушкином доме, но положила преграду их взаимной любви в лице Николая (родного дяди Маши), не хотевшего и слышать о замужестве своей племянницы с Васильем, которого он называл человеком несообразным и необузданным.
Преграда эта сделала то, что прежде довольно хладнокровный и небрежный в обращении Василий вдруг влюбился в Машу, влюбился так, как только способен на такое чувство дворовый человек из портных, в розовой рубашке и с напомаженными волосами.
Несмотря на то, что проявления его любви были весьма странны и несообразны (например, встречая Машу, он всегда старался причинить ей боль, или щипал ее, или бил ладонью, или сжимал ее с такой силой, что она едва могла переводить дыхание), но самая любовь его была искренна, что доказывается уже тем, что с той поры, как Николай решительно отказал ему в руке своей племянницы, Василий запил с горя, стал шляться по кабакам, буянить – одним словом, вести себя так дурно, что не раз подвергался постыдному наказанию на съезжей. Но поступки эти и их последствия, казалось, были заслугою в глазах Маши и увеличивали еще ее любовь к нему. Когда Василий содержался в части, Маша по целым дням, не осушая глаз, плакала, жаловалась на свою горькую судьбу Гаше (принимавшей живое участие в делах несчастных любовников) и, презирая брань и побои своего дяди, потихоньку бегала в полицию навещать и утешать своего друга.
Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас. Ежели в душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они отзовутся. Угодно ли вам или не угодно будет следовать за мною, я отправляюсь на площадку лестницы, с которой мне видно все, что происходит в девичьей. Вот лежанка, на которой стоят утюг, картонная кукла с разбитым носом, лоханка, рукомойник; вот окно, на котором в беспорядке валяются кусочек черного воска, моток шелку, откушенный зеленый огурец и конфетная коробочка, вот и большой красный стол, на котором, на начатом шитье, лежит кирпич, обшитый ситцем, и за которым сидит она в моем любимом розовом холстинковом платье и голубой косынке, особенно привлекающей мое внимание. Она шьет, изредка останавливаясь, чтобы почесать иголкой голову или поправить свечку, а я смотрю и думаю: «Отчего она не родилась барыней, с этими светлыми голубыми глазами, огромной русой косой и высокой грудью? Как бы ей пристало сидеть в гостиной, в чепчике с розовыми лентами и в малиновом шелковом капоте, не в таком, какой у Мими, а какой я видел на Тверском бульваре. Она бы шила в пяльцах, а я бы в зеркало смотрел на нее, и что бы ни захотела, я все бы для нее делал; подавал бы ей салоп, кушанье, сам бы подавал…»
И что за пьяное лицо и отвратительная фигура у этого Василья в узком сюртуке, надетом сверх грязной розовой рубашки навыпуск! В каждом его телодвижении, в каждом изгибе его спины, мне кажется, что я вижу несомненные признаки отвратительного наказания, постигнувшего его…
– Что, Вася? опять, – сказала Маша, втыкая иголку в подушку и не поднимая головы навстречу входившему Василью.
– А что ж? разве от него добро будет, – отвечал Василий, – хоть бы решил одним чем-нибудь; а то пропадаю так ни за что, и все через него.
– Чай будете пить? – сказала Надежа, другая горничная.
– Благодарю покорно. И ведь за что ненавидит, вор этот, дядя-то твой, за что? за то, что платье себе настоящее имею, за форц за мой, за походку мою. Одно слово. Эхма! – заключил Василий, махнув рукой.
– Надо покорным быть, – сказала Маша, скусывая нитку, – а вы так все…
– Мочи моей не стало, вот что!
В это время в комнате бабушки послышался стук дверью и ворчливый голос Гаши, приближавшейся по лестнице.
– Поди тут угоди, когда сама не знает, чего хочет… проклятая жисть, каторжная! Хоть бы одно что, прости, господи, мое согрешение, – бормотала она, размахивая руками.
– Мое почтение Агафье Михайловне, – сказал Василий, приподнимаясь ей навстречу.
– Ну вас тут! Не до твоего почтения, – отвечала она грозно, глядя на него, – и зачем ходишь сюда? разве место к девкам мужчине ходить…
– Хотел об вашем здоровье узнать, – робко сказал Василий.
– Издохну скоро, вот какое мое здоровье, – еще с большим гневом, во весь рот прокричала Агафья Михайловна.
Василий засмеялся.
– Тут смеяться нечего, а коли говорю, что убирайся, так марш! Вишь, поганец, тоже жениться хочет, подлец! Ну, марш, отправляйся!
И Агафья Михайловна, топая ногами, прошла в свою комнату, так сильно стукнув дверью, что стекла задрожали в окнах.
За перегородкой долго еще слышалось, как, продолжая бранить все и всех и проклинать свое житье, она швыряла свои вещи и драла за уши свою любимую кошку; наконец дверь приотворилась, и в нее вылетела брошенная за хвост, жалобно мяукавшая кошка.
– Видно, в другой раз прийти чайку напиться, – сказал Василий шепотом. – До приятного свидания.
– Ничего, – сказала, подмигивая, Надежа, – я вот пойду самовар посмотрю.
– Да и сделаю ж я один конец, – продолжал Василий, ближе подсаживаясь к Маше, как только Надежа вышла из комнаты, – либо пойду прямо к графине, скажу: «так и так», либо уж… брошу все, убегу на край света, ей-богу.
– А я как останусь…
– Одну тебя жалею, а то бы уж даа… вно моя головушка на воле была, ей-богу, ей-богу.
– Что это ты, Вася, мне свои рубашки не принесешь постирать, – сказала Маша после минутного молчания, – а то, вишь, какая черная, – прибавила она, взяв его за ворот рубашки.
В это время внизу послышался колокольчик бабушки, и Гаша вышла из своей комнаты.
– Ну чего, подлый человек, от нее добиваешься? – сказала она, толкая в дверь Василья, который торопливо встал, увидав ее. – Довел девку до евтого, да еще пристаешь, видно, весело тебе, оголтелый, на ее слезы смотреть. Вон пошел. Чтобы духу твоего не было. И чего хорошего в нем нашла? – продолжала она, обращаясь к Маше. – Мало тебя колотил нынче дядя за него? Нет, все свое: ни за кого не пойду, как за Василья Грускова. Дура!
– Да и не пойду ни за кого, не люблю никого, хоть убей меня до смерти за него, – проговорила Маша, вдруг разливаясь слезами.
Долго я смотрел на Машу, которая, лежа на сундуке, утирала слезы своей косынкой, и, всячески стараясь изменять свой взгляд на Василья, я хотел найти ту точку зрения, с которой он мог казаться ей столь привлекательным. Но, несмотря на то, что я искренно сочувствовал ее печали, я никак не мог постигнуть, каким образом такое очаровательное создание, каким казалась Маша в моих глазах, могло любить Василья.
«Когда я буду большой, – рассуждал я сам с собой, вернувшись к себе на верх, – Петровское достанется мне, и Василий и Маша будут мои крепостные. Я буду сидеть в кабинете и курить трубку. Маша с утюгом пройдет в кухню. Я скажу: «Позовите ко мне Машу». Она придет, и никого не будет в комнате… Вдруг войдет Василий и, когда увидит Машу, скажет: «Пропала моя головушка!» – и Маша тоже заплачет; а я скажу: «Василий! я знаю, что ты любишь ее и она тебя любит, на́ вот тебе тысячу рублей, женись на ней, и дай бог тебе счастья», – а сам уйду в диванную. Между бесчисленным количеством мыслей и мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении, есть такие, которые оставляют в них глубокую чувствительную борозду; так что часто, не помня уже сущности мысли, помнишь, что было что-то хорошее в голове, чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести ее. Такого рода глубокий след оставила в моей душе мысль о пожертвовании своего чувства в пользу счастья Маши, которое она могла найти только в супружестве с Васильем.
Глава XIX Отрочество
Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества, – так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.
В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему.
Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума; но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий.
Мысли эти представлялись моему уму с такою ясностью и поразительностью, что я даже старался применять их к жизни, воображая, что я первый открываю такие великие и полезные истины.
Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах.
Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, – и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги.
То раз, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз? что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь – и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность – и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны, мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание.
Это рассуждение, казавшееся мне чрезвычайно новым и ясным и которого связь я с трудом могу уловить теперь, – понравилось мне чрезвычайно, и я, взяв лист бумаги, вздумал письменно изложить его, но при этом в голову мою набралась вдруг такая бездна мыслей, что я принужден был встать и пройтись по комнате. Когда я подошел к окну, внимание мое обратила водовозка, которую запрягал в это время кучер, и все мысли мои сосредоточились на решении вопроса: в какое животное или человека перейдет душа этой водовозки, когда она околеет? В это время Володя, проходя через комнату, улыбнулся, заметив, что я размышлял о чем-то, и этой улыбки мне достаточно было, чтобы понять, что все то, о чем я думал, была ужаснейшая гиль.
Я рассказал этот почему-то мне памятный случай только затем, чтобы дать понять читателю о том, в каком роде были мои умствования.
Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого сумасшествию. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я, под влиянием этой постоянной идеи, доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (néant) там, где меня не было.
Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности – ум человека!
Слабый ум мой не мог проникнуть непроницаемого, а в непосильном труде терял одно за другим убеждения, которые для счастья моей жизни я никогда бы не должен был сметь затрагивать.
Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка.
Отвлеченные мысли образуются вследствие способности человека уловить сознанием в известный момент состояние души и перенести его в воспоминание. Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя: о чем я думаю? – Я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил…
Однако философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию: я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных; но, странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым, и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движение.
Глава XX Володя
Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем тяжелее и труднее становится оно для меня. Редко, редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии, поре юности.
Не стану час за часом следить за своими воспоминаниями, но брошу быстрый взгляд на главнейшие из них с того времени, до которого я довел свое повествование, и до сближения моего с необыкновенным человеком, имевшим решительное и благотворное влияние на мой характер и направление.
Володя на днях поступает в университет, учители уже ходят к нему отдельно, и я с завистью и невольным уважением слушаю, как он, бойко постукивая мелом о черную доску, толкует о функциях, синусах, координатах и т. п., которые кажутся мне выражениями недосягаемой премудрости. Но вот в одно воскресенье, после обеда, в комнате бабушки собираются все учители, два профессора и в присутствии папа и некоторых гостей делают репетицию университетского экзамена, в котором Володя, к великой радости бабушки, выказывает необыкновенные познания. Мне тоже делают вопросы из некоторых предметов, но я оказываюсь весьма плох, и профессора, видимо, стараются перед бабушкой скрыть мое незнание, что еще более конфузит меня. Впрочем, на меня мало и обращают внимания: мне только пятнадцать лет, следовательно, остается еще год до экзамена. Володя только к обеду сходит вниз, а целые дни и даже вечера проводит на верху за занятиями, не по принуждению, а по собственному желанию. Он чрезвычайно самолюбив и не хочет выдержать экзамен посредственно, а отлично.
Но вот наступил день первого экзамена. Володя надевает синий фрак с бронзовыми пуговицами, золотые часы и лакированные сапоги; к крыльцу подают фаэтон папа, Николай откидывает фартук, и Володя с St.-Jérôme’ом едут в университет. Девочки, в особенности Катенька, с радостными, восторженными лицами смотрят в окно на стройную фигуру садящегося в экипаж Володи, папа говорит: «Дай бог, дай бог», – а бабушка, тоже притащившаяся к окну, со слезами на глазах, крестит Володю до тех пор, пока фаэтон не скрывается за углом переулка, и шепчет что-то.
Володя возвращается. Все с нетерпением спрашивают его: «Что? хорошо? сколько?», но уже по веселому лицу его видно, что хорошо. Володя получил пять. На другой день с теми же желаниями успеха и страхом провожают его, и встречают с тем же нетерпением и радостию. Так проходит девять дней. На десятый день предстоит последний, самый трудный экзамен – Закона Божьего, все стоят у окна и еще с бо́льшим нетерпением ожидают его. Уже два часа, а Володи нет.
– Боже мой! Батюшки!!! они!! они!! – кричит Любочка, прильнув к стеклу.
И действительно, в фаэтоне рядом с St.-Jérôme’ом сидит Володя, но уже не в синем фраке и серой фуражке, а в студенческом мундире с шитым голубым воротником, в треугольной шляпе и с позолоченной шпагой на боку.
– Что, ежели бы ты была жива! – вскрикивает бабушка, увидав Володю в мундире, и падает в обморок.
Володя с сияющим лицом вбегает в переднюю, целует и обнимает меня, Любочку, Мими и Катеньку, которая при этом краснеет до самых ушей. Володя не помнит себя от радости. И как он хорош в этом мундире! Как идет голубой воротник к его чуть пробивающимся черным усикам! Какая у него тонкая длинная талия и благородная походка! В этот достопамятный день все обедают в комнате бабушки, на всех лицах сияет радость, и за обедом, во время пирожного, дворецкий, с прилично-величавой и вместе веселой физиономией, приносит завернутую в салфетку бутылку шампанского. Бабушка в первый раз после кончины maman пьет шампанское, выпивает целый бокал, поздравляя Володю, и снова плачет от радости, глядя на него. Володя уже один в собственном экипаже выезжает со двора, принимает к себе своих знакомых, курит табак, ездит на балы, и даже я сам видел, как раз он в своей комнате выпил две бутылки шампанского с своими знакомыми и как они при каждом бокале называли здоровье каких-то таинственных особ и спорили о том, кому достанется le fond de la bouteille[78]. Он обедает, однако, регулярно дома и после обеда по-прежнему усаживается в диванной и о чем-то вечно таинственно беседует с Катенькой; но сколько я могу слышать – как не принимающий участия в их разговорах, – они толкуют только о героях и героинях прочитанных романов, о ревности, о любви; и я никак не могу понять, что они могут находить занимательного в таких разговорах и почему они так тонко улыбаются и горячо спорят.
Вообще я замечаю, что между Катенькой и Володей, кроме понятной дружбы между товарищами детства, существуют какие-то странные отношения, отдаляющие их от нас и таинственно связывающие их между собой.
Глава XXI Катенька и Любочка
Катеньке шестнадцать лет; она выросла; угловатость форм, застенчивость и неловкость движений, свойственные девочке в переходном возрасте, уступили место гармонической свежести и грациозности только что распустившегося цветка; но она не переменилась. Те же светло-голубые глаза и улыбающийся взгляд, тот же, составляющий почти одну линию со лбом, прямой носик с крепкими ноздрями и ротик с светлой улыбкой, те же крошечные ямочки на розовых прозрачных щечках, те же беленькие ручки… и к ней по-прежнему почему-то чрезвычайно идет название чистенькой девочки. Нового в ней только густая русая коса, которую она носит, как большие, и молодая грудь, появление которой заметно радует и стыдит ее.
Несмотря на то, что Любочка всегда росла и воспитывалась с нею вместе, она во всех отношениях совсем другая девочка.
Любочка невысока ростом и, вследствие английской болезни, у нее ноги до сих пор еще гусем и прегадкая талия. Хорошего во всей ее фигуре только глаза; и глаза эти действительно прекрасны – большие, черные, и с таким неопределимо приятным выражением важности и наивности, что они не могут не остановить внимания. Любочка во всем проста и натуральна; Катенька же как будто хочет быть похожей на кого-то. Любочка смотрит всегда прямо и иногда, остановив на ком-нибудь свои огромные черные глаза, не спускает их так долго, что ее бранят за это, говоря, что это неучтиво; Катенька, напротив, опускает ресницы, щурится и уверяет, что она близорука, тогда как я очень хорошо знаю, что она прекрасно видит. Любочка не любит ломаться при посторонних, и, когда кто-нибудь при гостях начинает целовать ее, она дуется и говорит, что терпеть не может нежностей; Катенька, напротив, при гостях всегда делается особенно нежна к Мими и любит, обнявшись с какой-нибудь девочкой, ходить по зале. Любочка страшная хохотунья и иногда, в припадке смеха, машет руками и бегает по комнате; Катенька, напротив, закрывает рот платком или руками, когда начинает смеяться. Любочка всегда сидит прямо и ходит опустив руки; Катенька держит голову несколько набок и ходит сложив руки. Любочка всегда ужасно рада, когда ей удается поговорить с большим мужчиной, и говорит, что она непременно выйдет замуж за гусара; Катенька же говорит, что все мужчины ей гадки, что она никогда не выйдет замуж, и делается совсем другая, как будто она боится чего-то, когда мужчина говорит с ней. Любочка вечно негодует на Мими за то, что ее так стягивают корсетами, что «дышать нельзя», и любит покушать; Катенька, напротив, часто, поддевая палец под мыс своего платья, показывает нам, как оно ей широко, и ест чрезвычайно мало. Любочка любит рисовать головки; Катенька же рисует только цветы и бабочек. Любочка играет очень отчетливо фильдовские концерты, некоторые сонаты Бетховена; Катенька играет варьяции и вальсы, задерживает темп, стучит, беспрестанно берет педаль и, прежде чем начинать играть что-нибудь, с чувством берет три аккорда arpeggio…
Но Катенька, по моему тогдашнему мнению, больше похожа на большую, и поэтому гораздо больше мне нравится.
Глава XXII Папа
Папа особенно весел с тех пор, как Володя поступил в университет, и чаще обыкновенного приходит обедать к бабушке. Впрочем, причина его веселья, как я узнал от Николая, состоит в том, что он в последнее время выиграл чрезвычайно много. Случается даже, что он вечером, перед клубом, заходит к нам, садится за фортепьяно, собирает нас вокруг себя и, притоптывая своими мягкими сапогами (он терпеть не может каблуков и никогда не носит их), поет цыганские песни. И надобно тогда видеть смешной восторг его любимицы Любочки, которая с своей стороны обожает его. Иногда он приходит в классы и с строгим лицом слушает, как я сказываю уроки, но по некоторым словам, которыми он хочет поправить меня, я замечаю, что он плохо знает то, чему меня учат. Иногда он потихоньку мигает и делает нам знаки, когда бабушка начинает ворчать и сердиться на всех без причины. «Ну, досталось же нам, дети», – говорит он потом. Вообще он понемногу спускается в моих глазах с той недосягаемой высоты, на которую его ставило детское воображение. Я с тем же искренним чувством любви и уважения целую его большую белую руку, но уже позволяю себе думать о нем, обсуживать его поступки, и мне невольно приходят о нем такие мысли, присутствие которых пугает меня. Никогда не забуду я случая, внушившего мне много таких мыслей и доставившего мне много моральных страданий.
Один раз, поздно вечером, он, в черном фраке и белом жилете, вошел в гостиную с тем, чтобы взять с собой на бал Володю, который в это время одевался в своей комнате. Бабушка в спальне дожидалась, чтобы Володя пришел показаться ей (она имела привычку перед каждым балом призывать его к себе, благословлять, осматривать и давать наставления). В зале, освещенной только одной лампой, Мими с Катенькой ходила взад и вперед, а Любочка сидела за роялем и твердила второй концерт Фильда, любимую пьесу maman.
Никогда ни в ком не встречал я такого фамильного сходства, как между сестрой и матушкой. Сходство это заключалось не в лице, не в сложении, но в чем-то неуловимом: в руках, в манере ходить, в особенности в голосе и в некоторых выражениях. Когда Любочка сердилась и говорила: «целый век не пускают», это слово целый век, которое имела тоже привычку говорить maman, она выговаривала так, что, казалось, слышал ее, как-то протяжно: це-е-лый век; но необыкновеннее всего было это сходство в игре ее на фортепьяно и во всех приемах при этом: она так же оправляла платье, так же поворачивала листы левой рукой сверху, так же с досады кулаком била по клавишам, когда долго не удавался трудный пассаж, и говорила: «ах, бог мой!», и та же неуловимая нежность и отчетливость игры, той прекрасной фильдовской игры, так хорошо названной jeu perlé[79], прелести которой не могли заставить забыть все фокус-покусы новейших пьянистов.
Папа вошел в комнату скорыми маленькими шажками и подошел к Любочке, которая перестала играть, увидев его.
– Нет, играй, Люба, играй, – сказал он, усаживая ее, – ты знаешь, как я люблю тебя слушать…
Любочка продолжала играть, а папа долго, облокотившись на руку, сидел против нее; потом, быстро подернув плечом, он встал и стал ходить по комнате. Подходя к роялю, он всякий раз останавливался и долго пристально смотрел на Любочку. По движениям и походке его я замечал, что он был в волнении. Пройдя несколько раз по зале, он, остановившись за стулом Любочки, поцеловал ее в черную голову и потом, быстро поворотившись, опять продолжал свою прогулку. Когда, окончив пьесу, Любочка подошла к нему с вопросом: «Хорошо ли?», он молча взял ее за голову и стал целовать в лоб и глаза с такою нежностию, какой я никогда не видывал от него.
– Ах, бог мой! ты плачешь! – вдруг сказала Любочка, выпуская из рук цепочку его часов и уставляя на его лицо свои большие удивленные глаза. – Прости меня, голубчик папа, я совсем забыла, что это мамашина пьеса.
– Нет, друг мой, играй почаще, – сказал он дрожащим от волнения голосом, – коли бы ты знала, как мне хорошо поплакать с тобой…
Он еще раз поцеловал ее и, стараясь пересилить внутреннее волнение, подергивая плечом, вышел в дверь, ведущую через коридор в комнату Володи.
– Вольдемар! скоро ли ты? – крикнул он, останавливаясь посреди коридора. В это самое время мимо него проходила горничная Маша, которая, увидав барина, потупилась и хотела обойти его. Он остановил ее.
– А ты все хорошеешь, – сказал он, наклоняясь к ней.
Маша покраснела и еще более опустила голову.
– Позвольте, – прошептала она.
– Вольдемар, что ж, скоро ли? – повторил папа, подергиваясь и покашливая, когда Маша прошла мимо и он увидал меня…
Я люблю отца, но ум человека живет независимо от сердца и часто вмещает в себя мысли, оскорбляющие чувство, непонятные и жестокие для него. И такие мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить их, приходят мне…
Глава XXIII Бабушка
Бабушка со дня на день становится слабее; ее колокольчик, голос ворчливой Гаши и хлопанье дверями чаще слышатся в ее комнате, и она принимает нас уже не в кабинете, в вольтеровском кресле, а в спальне, в высокой постели с подушками, обшитыми кружевами. Здороваясь с нею, я замечаю на ее руке бледно-желтоватую глянцевую опухоль, а в комнате тяжелый запах, который пять лет тому назад слышал в комнате матушки. Доктор три раза в день бывает у нее, и было уже несколько консультаций. Но характер, гордое и церемонное обращение ее со всеми домашними, а в особенности с папа, нисколько не изменились; она точно так же растягивает слова, поднимает брови и говорит: «Мой милый».
Но вот несколько дней нас уже не пускают к ней, и раз утром St.-Jérôme, во время классов, предлагает мне ехать кататься с Любочкой и Катенькой. Несмотря на то, что, садясь в сани, я замечаю, что перед бабушкиными окнами улица устлана соломой и что какие-то люди в синих чуйках стоят около наших ворот, я никак не могу понять, для чего нас посылают кататься в такой неурочный час. В этот день, во все время катанья, мы с Любочкой находимся почему-то в том особенно веселом расположении духа, в котором каждый простой случай, каждое слово, каждое движение заставляют смеяться.
Разносчик, схватившись за лоток, рысью перебегает через дорогу, и мы смеемся. Оборванный ванька галопом, помахивая концами вожжей, догоняет наши сани, и мы хохочем. У Филиппа зацепился кнут за полоз саней; он, оборачиваясь, говорит: «Эхма», – и мы помираем со смеху. Мими с недовольным видом говорит, что только глупые смеются без причины, и Любочка, вся красная от напряжения сдержанного смеха, исподлобья смотрит на меня. Глаза наши встречаются, и мы заливаемся таким гомерическим хохотом, что у нас на глазах слезы, и мы не в состоянии удержать порывов смеха, который душит нас. Только что мы немного успокаиваемся, я взглядываю на Любочку и говорю заветное словечко, которое у нас в моде с некоторого времени и которое уже всегда производит смех, и снова мы заливаемся.
Подъезжая назад к дому, я только открываю рот, чтоб сделать Любочке одну прекрасную гримасу, как глаза мои поражает черная крышка гроба, прислоненная к половинке двери нашего подъезда, и рот мой остается в том же искривленном положении.
– Votre grande-mère est morte![80] – говорит St.-Jérôme с бледным лицом, выходя нам навстречу.
Все время, покуда тело бабушки стоит в доме, я испытываю тяжелое чувство страха смерти, то есть мертвое тело живо и неприятно напоминает мне то, что и я должен умереть когда-нибудь, чувство, которое почему-то привыкли смешивать с печалью. Я не жалею о бабушке, да едва ли кто-нибудь искренно жалеет о ней. Несмотря на то, что дом полон траурных посетителей, никто не жалеет о ее смерти, исключая одного лица, которого неистовая горесть невыразимо поражает меня. И лицо это – горничная Гаша. Она уходит на чердак, запирается там, не переставая плачет, проклинает самое себя, рвет на себе волосы, не хочет слышать никаких советов и говорит, что смерть для нее остается единственным утешением после потери любимой госпожи.
Опять повторяю, что неправдоподобность в деле чувства есть вернейший признак истины.
Бабушки уже нет, но еще в нашем доме живут воспоминания и различные толки о ней. Толки эти преимущественно относятся до завещания, которое она сделала перед кончиной и которого никто не знает, исключая ее душеприказчика, князя Ивана Иваныча. Между бабушкиными людьми я замечаю некоторое волнение, часто слышу толки о том, кто кому достанется, и, признаюсь, невольно и с радостью думаю о том, что мы получаем наследство.
После шести недель Николай, всегдашняя газета новостей нашего дома, рассказывает мне, что бабушка оставила все имение Любочке, поручив до ее замужества опеку не папа, а князю Ивану Иванычу.
Глава XXIV Я
До поступления в университет мне остается уже только несколько месяцев. Я учусь хорошо. Не только без страха ожидая учителей, но даже чувствую некоторое удовольствие в классе.
Мне весело – ясно и отчетливо сказать выученный урок. Я готовлюсь в математический факультет, и выбор этот, по правде сказать, сделан мной единственно потому, что слова: синусы, тангенсы, дифференциалы, интегралы и т. д., чрезвычайно нравятся мне.
Я гораздо ниже ростом Володи, широкоплеч и мясист, по-прежнему дурен и по-прежнему мучусь этим. Я стараюсь казаться оригиналом. Одно утешает меня: это то, что про меня папа сказал как-то, что у меня умная рожа, и я вполне верю в это.
St.-Jérôme доволен мною, хвалит меня, и я не только не ненавижу его, но, когда он иногда говорит, что с моими способностями, с моим умом стыдно не сделать того-то и того-то, мне кажется даже, что я люблю его.
Наблюдения мои в девичьей давно уже прекратились, мне совестно прятаться за двери, да притом и убеждение в любви Маши к Василью, признаюсь, несколько охладило меня. Окончательно же исцеляет меня от этой несчастной страсти женитьба Василья, для которой я сам, по просьбе его, испрашиваю у папа позволения.
Когда молодые, с конфетами на подносе, приходят к папа благодарить его и Маша, в чепчике с голубыми лентами, тоже за что-то благодарит всех нас, целуя каждого в плечико, я чувствую только запах розовой помады от ее волос, но ни малейшего волнения.
Вообще я начинаю понемногу исцеляться от моих отроческих недостатков, исключая, впрочем, главного, которому суждено наделать мне еще много вреда в жизни, – склонности к умствованию.
Глава XXV Приятели Володи
Хотя в обществе знакомых Володи я играл роль, оскорблявшую мое самолюбие, я любил сидеть в его комнате, когда у него бывали гости, и молча наблюдать все, что там делалось. Чаще других приходили к Володе адъютант Дубков и студент князь Нехлюдов. Дубков был маленький жилистый брюнет, уже не первой молодости и немного коротконожка, но недурен собой и всегда весел. Он был один из тех ограниченных людей, которые особенно приятны именно своей ограниченностью, которые не в состоянии видеть предметы с различных сторон и которые вечно увлекаются. Суждения этих людей бывают односторонни и ошибочны, но всегда чистосердечны и увлекательны. Даже узкий эгоизм их кажется почему-то простительным и милым. Кроме того, для Володи и меня Дубков имел двоякую прелесть – воинственной наружности и, главное, возраста, с которым молодые люди почему-то имеют привычку смешивать понятие порядочности (comme il faut), очень высоко ценимую в эти года. Впрочем, Дубков и в самом деле был тем, что называют «un homme comme il faut». Одно, что было мне неприятно, – это то, что Володя как будто стыдился иногда перед ним за мои самые невинные поступки, а всего более за мою молодость.
Нехлюдов был нехорош собой: маленькие серые глаза, невысокий крутой лоб, непропорциональная длина рук и ног не могли быть названы красивыми чертами. Хорошего было в нем только – необыкновенно высокий рост, нежный цвет лица и прекрасные зубы. Но лицо это получало такой оригинальный и энергический характер от узких, блестящих глаз и переменчивого, то строгого, то детски-неопределенного выражения улыбки, что нельзя было не заметить его.
Он, казалось, был очень стыдлив, потому что каждая малость заставляла его краснеть до самых ушей; но застенчивость его не походила на мою. Чем больше он краснел, тем больше лицо его выражало решимость. Как будто он сердился на самого себя за свою слабость.
Несмотря на то, что он казался очень дружным с Дубковым и Володей, заметно было, что только случай соединил его с ними. Направления их были совершенно различны: Володя и Дубков как будто боялись всего, что было похоже на серьезные рассуждения и чувствительность; Нехлюдов, напротив, был энтузиаст в высшей степени и часто, несмотря на насмешки, пускался в рассуждения о философских вопросах и о чувствах. Володя и Дубков любили говорить о предметах своей любви (и бывали влюблены вдруг в нескольких и оба в одних и тех же); Нехлюдов, напротив, всегда серьезно сердился, когда ему намекали на его любовь к какой-то рыженькой.
Володя и Дубков часто позволяли себе, любя, подтрунивать над своими родными; Нехлюдова, напротив, можно было вывести из себя, с невыгодной стороны намекнув на его тетку, к которой он чувствовал какое-то восторженное обожание. Володя и Дубков после ужина ездили куда-то без Нехлюдова и называли его красной девушкой…
Князь Нехлюдов поразил меня с первого раза как своим разговором, так и наружностью. Но несмотря на то, что в его направлении я находил много общего с своим – или, может быть, именно поэтому, – чувство, которое он внушил мне, когда я в первый раз увидал его, было далеко не приязненное.
Мне не нравились его быстрый взгляд, твердый голос, гордый вид, но более всего совершенное равнодушие, которое он мне оказывал. Часто во время разговора мне ужасно хотелось противоречить ему; в наказание за его гордость хотелось переспорить его, доказать ему, что я умен, несмотря на то, что он не хочет обращать на меня никакого внимания.
Стыдливость удерживала меня.
Глава XXVI Рассуждения
Володя лежал с ногами на диване и, облокотившись на руку, читал какой-то французский роман, когда я, после вечерних классов, по своему обыкновению, вошел к нему в комнату. Он на секунду приподнял голову, чтобы взглянуть на меня, и снова принялся за чтение – движение самое простое и естественное, но которое заставило меня покраснеть. Мне показалось, что во взгляде его выражался вопрос, зачем я пришел сюда, а в быстром наклонении головы желание скрыть от меня значение взгляда. Эта склонность придавать значение самому простому движению составляла во мне характеристическую черту того возраста. Я подошел к столу и тоже взял книгу; но, прежде чем начал читать ее, мне пришло в голову, что как-то смешно, что мы, не видавшись целый день, ничего не говорим друг другу.
– Что́, ты дома будешь нынче вечером?
– Не знаю, а что?
– Так, – сказал я и, замечая, что разговор не клеится, взял книгу и начал читать.
Странно, что с глазу на глаз мы по целым часам проводили молча с Володей, но достаточно было только присутствия даже молчаливого третьего лица, чтобы между нами завязывались самые интересные и разнообразные разговоры. Мы чувствовали, что слишком хорошо знаем друг друга. А слишком много или слишком мало знать друг друга одинаково мешает сближению.
– Володя дома? – послышался в передней голос Дубкова.
– Дома, – сказал Володя, спуская ноги и кладя книгу на стол.
Дубков и Нехлюдов, в шинелях и шляпах, вошли в комнату.
– Что ж, едем в театр, Володя?
– Нет, мне некогда, – отвечал Володя, краснея.
– Ну, вот еще! – поедем, пожалуйста.
– Да у меня и билета нет.
– Билетов сколько хочешь у входа.
– Погоди, я сейчас приду, – уклончиво отвечал Володя и, подергивая плечом, вышел из комнаты.
Я знал, что Володе очень хотелось ехать в театр, куда его звал Дубков; что он отказывался потому только, что у него не было денег, и что он вышел затем, чтобы у дворецкого достать взаймы пять рублей до будущего жалованья.
– Здравствуйте, дипломат! – сказал Дубков, подавая мне руку.
Приятели Володи называли меня дипломатом, потому что раз, после обеда у покойницы бабушки, она как-то при них, разговорившись о нашей будущности, сказала, что Володя будет военный, а что меня она надеется видеть дипломатом, в черном фраке и с прической а la cog, составлявшей, по ее мнению, необходимое условие дипломатического звания.
– Куда это ушел Володя? – спросил меня Нехлюдов.
– Не знаю, – отвечал я, краснея при мысли, что они, верно, догадываются, зачем вышел Володя.
– Верно, у него денег нет! правда? О! дипломат! – прибавил он утвердительно, объясняя мою улыбку. – У меня тоже нет денег, а у тебя есть, Дубков?
– Посмотрим, – сказал Дубков, доставая кошелек и ощупывая в нем весьма тщательно несколько мелких монет своими коротенькими пальцами. – Вот пятацок, вот двугривенницик, а то ффффю! – сказал он, делая комический жест рукою.
В это время Володя вошел в комнату.
– Ну что, едем?
– Нет.
– Как ты смешон! – сказал Нехлюдов, – отчего ты не скажешь, что у тебя нет денег. Возьми мой билет, коли хочешь.
– А ты как же?
– Он поедет к кузинам в ложу, – сказал Дубков.
– Нет, я совсем не поеду.
– Отчего?
– Оттого, что, ты знаешь, я не люблю сидеть в ложе.
– Отчего?
– Не люблю, мне неловко.
– Опять старое! не понимаю, отчего тебе может быть неловко там, где все тебе очень рады. Это смешно, mon cher[81].
– Что ж делать, si je suis timide![82] Я уверен, ты в жизни своей никогда не краснел, а я всякую минуту, от малейших пустяков! – сказал он, краснея в это же время.
– Savez-vous d’où vient votre timidité?.. d’un excès d’amour propre, mon cher[83], – сказал Дубков покровительственным тоном.
– Какой тут excès d’amour propre! – отвечал Нехлюдов, задетый за живое. – Напротив, я стыдлив оттого, что у меня слишком мало amour propre; мне все кажется, напротив, что со мной неприятно, скучно… от этого…
– Одевайся же, Володя, – сказал Дубков, схватывая его за плечи и снимая с него сюртук. – Игнат, одеваться барину!
– От этого со мной часто бывает… – продолжал Нехлюдов.
Но Дубков уже не слушал его. «Трала-ла та-ра-ра-ла-ла», – запел он какой-то мотив.
– Ты не отделался, – сказал Нехлюдов, – я тебе докажу, что стыдливость происходит совсем не от самолюбия.
– Докажешь, ежели поедешь с нами.
– Я сказал, что не поеду.
– Ну, так оставайся тут и доказывай дипломату; а мы приедем, он нам расскажет.
– И докажу, – возразил Нехлюдов с детским своенравием, – только приезжайте скорей.
– Как вы думаете: я самолюбив? – сказал он, подсаживаясь ко мне.
Несмотря на то, что у меня на этот счет было составленное мнение, я так оробел от этого неожиданного обращения, что не скоро мог ответить ему.
– Я думаю, что да, – сказал я, чувствуя, как голос мой дрожит и краска покрывает лицо при мысли, что пришло время доказать ему, что я умный, – я думаю, что всякий человек самолюбив, и все то, что ни делает человек, – все из самолюбия.
– Так что же, по-вашему, самолюбие? – сказал Нехлюдов, улыбаясь несколько презрительно, как мне показалось.
– Самолюбие, – сказал я, – есть убеждение в том, что я лучше и умнее всех людей.
– Да как же могут быть все в этом убеждены?
– Уж я не знаю, справедливо ли, или нет, только никто, кроме меня, не признается; я убежден, что я умнее всех на свете, и уверен, что вы тоже уверены в этом.
– Нет, я про себя первого скажу, что я встречал людей, которых признавал умнее себя, – сказал Нехлюдов.
– Не может быть, – отвечал я с убеждением.
– Неужели вы в самом деле так думаете? – сказал Нехлюдов, пристально вглядываясь в меня.
– Серьезно, – отвечал я.
И тут мне вдруг пришла мысль, которую я тотчас же высказал.
– Я вам это докажу. Отчего мы самих себя любим больше других?.. Оттого, что мы считаем себя лучше других, более достойными любви. Ежели бы мы находили других лучше себя, то мы бы и любили их больше себя, а этого никогда не бывает. Ежели и бывает, то все-таки я прав, – прибавил я с невольной улыбкой самодовольствия.
Нехлюдов помолчал с минуту.
– Вот я никак не думал, чтобы вы были так умны! – сказал он мне с такой добродушной, милой улыбкой, что вдруг мне показалось, что я чрезвычайно счастлив.
Похвала так могущественно действует не только на чувство, но и на ум человека, что под ее приятным влиянием мне показалось, что я стал гораздо умнее, и мысли одна за другой с необыкновенной быстротой набирались мне в голову. С самолюбия мы незаметно перешли к любви, и на эту тему разговор казался неистощимым. Несмотря на то, что наши рассуждения для постороннего слушателя могли показаться совершенной бессмыслицею – так они были неясны и односторонни, – для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу.
Глава XXVII Начало дружбы
С той поры между мной и Дмитрием Нехлюдовым установились довольно странные, но чрезвычайно приятные отношения. При посторонних он не обращал на меня почти никакого внимания; но как только случалось нам быть одним, мы усаживались в уютный уголок и начинали рассуждать, забывая все и не замечая, как летит время.
Мы толковали и о будущей жизни, и об искусствах, и о службе, и о женитьбе, и о воспитании детей, и никогда нам в голову не приходило, что все то, что мы говорили, был ужаснейший вздор. Это не приходило нам в голову потому, что вздор, который мы говорили, был умный и милый вздор; а в молодости еще ценишь ум, веришь в него. В молодости все силы души направлены на будущее, и будущее это принимает такие разнообразные, живые и обворожительные формы под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счастия, что одни понятые и разделенные мечты о будущем счастии составляют уже истинное счастие этого возраста. В метафизических рассуждениях, которые бывали одним из главных предметов наших разговоров, я любил ту минуту, когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и, становясь все более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность идти далее.
Как-то раз, во время масленицы, Нехлюдов был так занят разными удовольствиями, что хотя несколько раз на день заезжал к нам, но ни разу не поговорил со мной, и меня это так оскорбило, что снова он мне показался гордым и неприятным человеком. Я ждал только случая, чтобы показать ему, что нисколько не дорожу его обществом и не имею к нему никакой особенной привязанности.
В первый раз, как он после масленицы снова хотел разговориться со мной, я сказал, что мне нужно готовить уроки, и ушел на верх; но через четверть часа кто-то отворил дверь в классную, и Нехлюдов подошел ко мне.
– Я вам мешаю? – сказал он.
– Нет, – отвечал я, несмотря на то, что хотел сказать, что у меня действительно есть дело.
– Так отчего же вы ушли от Володи? Ведь мы давно с вами не рассуждали. А уж я так привык, что мне как будто чего-то недостает.
Досада моя прошла в одну минуту, и Дмитрий снова стал в моих глазах тем же добрым и милым человеком.
– Вы, верно, знаете, отчего я ушел? – сказал я.
– Может быть, – отвечал он, усаживаясь подле меня, – но ежели я и догадываюсь, то не могу сказать отчего, а вы так можете, – сказал он.
– Я и скажу: я ушел потому, что был сердит на вас… не сердит, а мне досадно было. Просто: я всегда боюсь, что вы презираете меня за то, что я еще очень молод.
– Знаете, отчего мы так сошлись с вами, – сказал он, добродушным и умным взглядом отвечая на мое признание, – отчего я вас люблю больше, чем людей, с которыми больше знаком и с которыми у меня больше общего? Я сейчас решил это. У вас есть удивительное, редкое качество – откровенность.
– Да, я всегда говорю именно те вещи, в которых мне стыдно признаться, – подтвердил я, – но только тем, в ком я уверен.
– Да, но чтобы быть уверенным в человеке, надо быть с ним совершенно дружным, а мы с вами не дружны еще, Nicolas; помните, мы говорили о дружбе: чтобы быть истинными друзьями, нужно быть уверенным друг в друге.
– Быть уверенным в том, что ту вещь, которую я скажу вам, уже вы никому не скажете, – сказал я. – А ведь самые важные, интересные мысли именно те, которые мы ни за что не скажем друг другу.
– И какие гадкие мысли! такие подлые мысли, что ежели бы мы знали, что должны признаваться в них, они никогда не смели бы заходить к нам в голову. Знаете, какая пришла мне мысль, Nicolas, – прибавил он, вставая со стула и с улыбкой потирая руки. – Сделаемте это, и вы увидите, как это будет полезно для нас обоих: дадим себе слово признаваться во всем друг другу. Мы будем знать друг друга, и нам не будет совестно; а для того чтобы не бояться посторонних, дадим себе слово никогда ни с кем и ничего не говорить друг о друге. Сделаем это.
– Давайте, – сказал я.
И мы действительно сделали это. Что вышло из этого, я расскажу после.
Kapp сказал, что во всякой привязанности есть две стороны: одна любит, другая позволяет любить себя, одна целует, другая подставляет щеку. Это совершенно справедливо; и в нашей дружбе я целовал, а Дмитрий подставлял щеку; но и он готов был целовать меня. Мы любили ровно, потому что взаимно знали и ценили друг друга; но это не мешало ему оказывать влияние на меня, а мне подчиняться ему.
Само собою разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастия людские казалось удобоисполнимою вещью, – очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым…
А впрочем, бог один знает, точно ли смешны были эти благородные мечты юности, и кто виноват в том, что они не осуществились?..
Юность
Глава I Что я считаю началом юности
Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей, вытекающих из этого убеждения, и составлением блестящих планов нравственной, деятельной будущности; но жизнь моя шла все тем же мелочным, запутанным и праздным порядком.
Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали с обожаемым другом моим Дмитрием, чудесным Митей, как я сам с собою шепотом иногда называл его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, в ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им.
И с этого времени я считаю начало юности.
Мне был в то время шестнадцатый год в исходе. Учителя продолжали ходить ко мне. St.-Jérôme присматривал за моим учением, и я поневоле и неохотно готовился к университету. Вне учения занятия мои состояли: в уединенных бессвязных мечтах и размышлениях, в деланиях гимнастики, с тем чтобы сделаться первым силачом в мире, в шлянии без всякой определенной цели и мысли по всем комнатам и особенно коридору девичьей и в разглядывании себя в зеркало, от которого, впрочем, я всегда отходил с тяжелым чувством уныния и даже отвращения. Наружность моя, я убеждался, не только была некрасива, но я не мог даже утешать себя обыкновенными утешениями в подобных случаях. Я не мог сказать, что у меня выразительное, умное или благородное лицо. Выразительного ничего не было – самые обыкновенные, грубые и дурные черты; глаза маленькие, серые, особенно в то время, когда я смотрелся в зеркало, были скорее глупые, чем умные. Мужественного было еще меньше: несмотря на то, что я был не мал ростом и очень силен по летам, все черты лица были мягкие, вялые, неопределенные. Даже и благородного ничего не было; напротив, лицо мое было такое, как у простого мужика, и такие же большие ноги и руки; а это в то время мне казалось очень стыдно.
Глава II Весна
В тот год, как я вступил в университет, Святая была как-то поздно в апреле, так что экзамены были назначены на Фоминой, а на страстной я должен был и говеть, и уже окончательно приготавливаться.
Погода после мокрого снега, который, бывало, Карл Иваныч называл «сын за отцом пришел», уже дня три стояла тихая, теплая и ясная. На улицах не видно было клочка снега, грязное тесто заменилось мокрой, блестящей мостовой и быстрыми ручьями. С крыш уже на солнце стаивали последние капели, в палисаднике на деревьях надувались почки, на дворе была сухая дорожка, к конюшне мимо замерзлой кучи навоза и около крыльца между камнями зеленелась мшистая травка. Был тот особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека: яркое, на всем блестящее, но не жаркое солнце, ручьи и проталинки, пахучая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо с длинными прозрачными тучками. Не знаю почему, но мне кажется, что в большом городе еще ощутительнее и сильнее на душу влияние этого первого периода рождения весны, – меньше видишь, но больше предчувствуешь. Я стоял около окна, в которое утреннее солнце сквозь двойные рамы бросало пыльные лучи на пол моей невыносимо надоевшей мне классной комнаты, и решал на черной доске какое-то длинное алгебраическое уравнение. В одной руке я держал изорванную мягкую «Алгебру» Франкера, в другой – маленький кусок мела, которым испачкал уже обе руки, лицо и локти полуфрачка. Николай в фартуке, с засученными рукавами, отбивал клещами замазку и отгибал гвозди окна, которое отворялось в палисадник. Его занятие и стук, который он производил, развлекали мое внимание. Притом я был в весьма дурном, недовольном расположении духа. Все как-то мне не удавалось: я сделал ошибку в начале вычисления, так что надо было все начинать сначала; мел я два раза уронил, чувствовал, что лицо и руки мои испачканы, губка где-то пропала, стук, который производил Николай, как-то больно потрясал мои нервы. Мне хотелось рассердиться и поворчать; я бросил мел, «Алгебру» и стал ходить по комнате. Но мне вспомнилось, что нынче страстная середа, нынче мы должны исповедоваться и что надо удерживаться от всего дурного; и вдруг я пришел в какое-то особенное, кроткое состояние духа и подошел к Николаю.
– Позволь, я тебе помогу, Николай, – сказал я, стараясь дать своему голосу самое кроткое выражение; и мысль, что я поступаю хорошо, подавив свою досаду и помогая ему, еще более усилила во мне это кроткое настроение духа.
Замазка была отбита, гвозди отогнуты, но, несмотря на то, что Николай из всех сил дергал за перекладины, рама не подавалась.
«Если рама выйдет теперь сразу, когда я потяну с ним, – подумал я, – значит, грех, и не надо нынче больше заниматься». Рама подалась набок и вышла.
– Куда отнести ее? – сказал я.
– Позвольте, я сам управлюсь, – отвечал Николай, видимо, удивленный и, кажется, недовольный моим усердием, – надо не спутать, а то там, в чулане, они у меня по номерам.
– Я замечу ее, – сказал я, поднимая раму.
Мне кажется, что, если бы чулан был версты за две и рама весила бы вдвое больше, я был бы очень доволен. Мне хотелось измучиться, оказывая эту услугу Николаю. Когда я вернулся в комнату, кирпичики и соляные пирамидки были уже переложены на подоконник и Николай крылышком сметал песок и сонных мух в растворенное окно. Свежий пахучий воздух уже проник в комнату и наполнял ее. Из окна слышался городской шум и чиликанье воробьев в палисаднике.
Все предметы были освещены ярко, комната повеселела, легкий весенний ветерок шевелил листы моей «Алгебры» и волоса на голове Николая. Я подошел к окну, сел на него, перегнулся в палисадник и задумался.
Какое-то новое для меня, чрезвычайно сильное и приятное чувство вдруг проникло мне в душу. Мокрая земля, по которой кое-где выбивали ярко-зеленые иглы травы с желтыми стебельками, блестящие на солнце ручьи, по которым вились кусочки земли и щепки, закрасневшиеся прутья сирени с вспухлыми почками, качавшимися под самым окошком, хлопотливое чиликанье птичек, копошившихся в этом кусте, мокрый от таявшего на нем снега черноватый забор, а главное – этот пахучий сырой воздух и радостное солнце говорили мне внятно, ясно о чем-то новом и прекрасном, которое, хотя я не могу передать так, как оно сказывалось мне, я постараюсь передать так, как я воспринимал его, – все мне говорило про красоту, счастье и добродетель, говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня, что одно не может быть без другого, и даже что красота, счастье и добродетель – одно и то же. «Как мог я не понимать этого, как дурен я был прежде, как я мог бы и могу быть хорош и счастлив в будущем! – говорил я сам себе. – Надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе». Несмотря на это, я, однако, долго еще сидел на окне, мечтая и ничего не делая. Случалось ли вам летом лечь спать днем в пасмурную дождливую погоду и, проснувшись на закате солнца, открыть глаза и в расширяющемся четырехугольнике окна, из-под полотняной сторы, которая, надувшись, бьется прутом об подоконник, увидать мокрую от дождя, тенистую, лиловатую сторону липовой аллеи и сырую садовую дорожку, освещенную яркими косыми лучами, услыхать вдруг веселую жизнь птиц в саду и увидать насекомых, которые вьются в отверстии окна, просвечивая на солнце, почувствовать запах последождевого воздуха и подумать: «Как мне не стыдно было проспать такой вечер», – и торопливо вскочить, чтобы идти в сад порадоваться жизнью? Если случалось, то вот образчик того сильного чувства, которое я испытывал в это время.
Глава III Мечты
«Нынче я исповедаюсь, очищаюсь от всех грехов, – думал я, – и больше уж никогда не буду… (тут я припомнил все грехи, которые больше всего мучили меня). Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь, и еще после целый час читать Евангелие, потом из беленькой, которую я буду получать каждый месяц, когда поступлю в университет, непременно два с полтиной (одну десятую) я буду отдавать бедным, и так, чтобы никто не знал: и не нищим, а стану отыскивать таких бедных, сироту или старушку, про которых никто не знает.
У меня будет особенная комната (верно, St.-Jérôme’ова), и я буду сам убирать ее и держать в удивительной чистоте; человека же ничего для себя не буду заставлять делать. Ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком (а ежели мне дадут дрожки, то продам их и деньги эти отложу тоже на бедных) и в точности буду исполнять все (что было это «все», я никак бы не мог сказать тогда, но я живо понимал и чувствовал это «все» разумной, нравственной, безупречной жизни). Буду составлять лекции и даже вперед проходить предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссертацию; на втором курсе уже вперед буду знать все, и меня могут перевести прямо в третий курс, так что я восемнадцати лет кончу курс первым кандидатом с двумя золотыми медалями, потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России… даже в Европе я могу быть первым ученым… Ну, а потом? – спрашивал я сам себя, но тут я припомнил, что эти мечты – гордость, грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику, и возвратился к началу рассуждений: – Для приготовления к лекциям я буду ходить пешком на Воробьевы горы; выберу себе там местечко под деревом и буду читать лекции; иногда возьму с собой что-нибудь закусить: сыру или пирожок от Педотти, или что-нибудь. Отдохну и потом стану читать какую-нибудь хорошую книгу, или буду рисовать виды, или играть на каком-нибудь инструменте (непременно выучусь играть на флейте). Потом она тоже будет ходить гулять на Воробьевы горы и когда-нибудь подойдет ко мне и спросит: кто я такой? Я посмотрю на нее этак печально и скажу, что я сын священника одного и что я счастлив только здесь, когда один, совершенно один-одинешенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями, и я буду целовать ее… Нет, это нехорошо. Напротив, с нынешнего дня я уж больше не буду смотреть на женщин. Никогда, никогда не буду ходить в девичью, даже буду стараться не проходить мимо; а через три года выйду из-под опеки и женюсь непременно. Буду делать нарочно движенья как можно больше, гимнастику каждый день, так что, когда мне будет двадцать пять лет, я буду сильней Раппо. Первый день буду держать по полпуда «вытянутой рукой» пять минут, на другой день двадцать один фунт, на третий день двадцать два фунта и так далее, так что, наконец, по четыре пуда в каждой руке, и так, что буду сильнее всех в дворне; и когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно об ней, я возьму его так, просто, за грудь, подниму аршина на два от земли одной рукой и только подержу, чтоб чувствовал мою силу, и оставлю; но, впрочем, и это нехорошо; нет, ничего, ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я…»
Да не упрекнут меня в том, что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества. Я убежден в том, что, ежели мне суждено прожить до глубокой старости и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь. Буду мечтать о какой-нибудь прелестной Марии, которая полюбит меня, беззубого старика, как она полюбила Мазепу, о том, как мой слабоумный сын вдруг сделается министром по какому-нибудь необыкновенному случаю, или о том, как вдруг у меня будет пропасть миллионов денег. Я убежден, что нет человеческого существа и возраста, лишенного этой благодетельной, утешительной способности мечтания. Но, исключая общей черты невозможности – волшебности мечтаний, мечтания каждого человека и каждого возраста имеют свой отличительный характер. В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства: любовь к ней, к воображаемой женщине, о которой я мечтал всегда в одном и том же смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить. Эта она была немножко Сонечка, немножко Маша, жена Василья, в то время, как она моет белье в корыте, и немножко женщина с жемчугами на белой шее, которую я видел очень давно в театре, в ложе подле нас. Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя: Николай Иртеньев, и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство было надежда на необыкновенное, тщеславное счастье – такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Я так был уверен, что очень скоро, вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг сделаюсь самым богатым и самым знатным человеком в мире, что беспрестанно находился в тревожном ожидании чего-то волшебно счастливого. Я все ждал, что вот начнется, и я достигну всего, чего может желать человек, и всегда повсюду торопился, полагая, что уже начинается там, где меня нет. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастие, что оно не имело в себе ничего печального. Мне казалось так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего и развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир божий. Благой, отрадный голос, столько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и счастье в будущем, – благой, отрадный голос! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?
Глава IV Наш семейный кружок
Папа эту весну редко бывал дома. Но зато, когда это случалось, он бывал чрезвычайно весел, бренчал на фортепьянах свои любимые штучки, делал сладенькие глазки и выдумывал про всех нас и Мими шуточки, вроде того, что грузинский царевич видел Мими на катанье и так влюбился, что подал прошение в синод об разводной, что меня назначают помощником к венскому посланнику, – и с серьезным лицом сообщал нам эти новости; пугал Катеньку пауками, которых она боялась; был очень ласков с нашими приятелями Дубковым и Нехлюдовым и беспрестанно рассказывал нам и гостям свои планы на будущий год. Несмотря на то, что планы эти почти каждый день изменялись и противоречили один другому, они были так увлекательны, что мы их заслушивались, и Любочка, не смигивая, смотрела прямо на рот папа, чтобы не проронить ни одного слова. То план состоял в том, чтобы нас оставить в Москве в университете, а самому с Любочкой ехать на два года в Италию, то в том, чтоб купить именье в Крыму, на южном берегу, и ездить туда каждое лето, то в том, чтобы переехать в Петербург со всем семейством, и т. п. Но, кроме особенного веселья, в папа последнее время произошла еще перемена, очень удивлявшая меня. Он сшил себе модное платье – оливковый фрак, модные панталоны со штрипками и длинную бекешу, которая очень шла к нему, и часто от него прекрасно пахло духами, когда он ездил в гости, и особенно к одной даме, про которую Мими не говорила иначе, как со вздохом и с таким лицом, на котором так и читаешь слова: «Бедные сироты! Несчастная страсть! Хорошо, что ее уж нет», и т. п. Я узнал от Николая, потому что папа ничего не рассказывал нам про свои игорные дела, что он играл особенно счастливо эту зиму; выиграл что-то ужасно много, положил деньги в ломбард и весной не хотел больше играть. Верно, от этого, боясь не удержаться, ему так хотелось поскорее уехать в деревню. Он даже решил, не дожидаясь моего вступления в университет, тотчас после Пасхи ехать с девочками в Петровское, куда мы с Володей должны были приехать после.
Володя всю эту зиму и до самой весны был неразлучен с Дубковым (с Дмитрием же они начинали холодно расходиться). Главные их удовольствия, сколько я мог заключить по разговорам, которые слышал, постоянно заключались в том, что они беспрестанно пили шампанское, ездили в санях под окна барышни, в которую, как кажется, влюблены были вместе, и танцевали визави уже не на детских, а на настоящих балах. Это последнее обстоятельство, несмотря на то, что мы с Володей любили друг друга, очень много разъединило нас. Мы чувствовали слишком большую разницу – между мальчиком, к которому ходят учителя, и человеком, который танцует на больших балах, – чтобы решиться сообщать друг другу свои мысли. Катенька была уже совсем большая, читала очень много романов, и мысль, что она скоро может выйти замуж, уже не казалась мне шуткой; но, несмотря на то, что и Володя был большой, они не сходились с ним и даже, кажется, взаимно презирали друг друга. Вообще, когда Катенька бывала одна дома, ничто, кроме романов, ее не занимало, и она большей частью скучала; когда же бывали посторонние мужчины, то она становилась очень жива и любезна и делала глазами то, что уже я понять никак не мог, что она этим хотела выразить. Потом только, услыхав в разговоре от нее, что одно позволительное для девицы кокетство – это кокетство глаз, я мог объяснить себе эти странные неестественные гримасы глазами, которые других, кажется, вовсе не удивляли. Любочка тоже уже начинала носить почти длинное платье, так что ее гусиные ноги были почти не видны, но она была такая же плакса, как и прежде. Теперь она мечтала уже выйти замуж не за гусара, а за певца или музыканта и с этой целью усердно занималась музыкой. St.-Jérôme, который, зная, что остается у нас в доме только до окончания моих экзаменов, приискал себе место у какого-то графа, с тех пор как-то презрительно смотрел на наших домашних. Он редко бывал дома, стал курить папиросы, которые были тогда большим щегольством, и беспрестанно свистал через карточку какие-то веселенькие мотивы. Мими становилась с каждым днем все огорченнее и огорченнее и, казалось, с тех пор, как мы все начинали вырастать большими, ни от кого и ни от чего не ожидала ничего хорошего.
Когда я пришел обедать, я застал в столовой только Мими, Катеньку, Любочку и St.-Jérôme’a; папа не был дома, а Володя готовился к экзамену с товарищами в своей комнате и потребовал обед к себе. Вообще это последнее время большей частью первое место за столом занимала Мими, которую мы никто не уважали, и обед много потерял своей прелести. Обед уже не был, как при maman или бабушке, каким-то обрядом, соединяющим в известный час все семейство и разделяющим день на две половины. Мы позволяли себе опаздывать, приходить ко второму блюду, пить вино в стаканах (чему подавал пример сам St.-Jérôme), разваливаться на стуле, вставать не дообедав и тому подобные вольности. С тех пор обед перестал быть, как прежде, ежедневным семейным радостным торжеством. То ли дело, бывало, в Петровском, когда в два часа все, умытые, одетые к обеду, сидят в гостиной и, весело разговаривая, ждут условленного часа. Именно в то самое время, как хрипят часы в официантской, чтоб бить два, с салфеткой на руке, с достойным и несколько строгим лицом, тихими шагами входит Фока. «Кушанье готово!» – провозглашает он громким, протяжным голосом, и все с веселыми, довольными лицами, старшие впереди, младшие сзади, шумя крахмаленными юбками и поскрипывая сапогами и башмаками, идут в столовую и, негромко переговариваясь, рассаживаются на известные места. Или то ли дело, бывало, в Москве, когда все, тихо переговариваясь, стоят перед накрытым столом в зале, дожидаясь бабушки, которой Гаврило уже прошел доложить, что кушанье поставлено, – вдруг отворяется дверь, слышен шорох платья, шарканье ног, и бабушка, в чепце с каким-нибудь необыкновенным лиловым бантом, бочком, улыбаясь или мрачно косясь (смотря по состоянию здоровья), выплывает из своей комнаты. Гаврило бросается к ее креслу, стулья шумят, и, чувствуя, как по спине пробегает какой-то холод – предвестник аппетита, берешься за сыроватую крахмаленную салфетку, съедаешь корочку хлеба и с нетерпеливой и радостной жадностью, потирая под столом руки, поглядываешь на дымящие тарелки супа, которые по чинам, годам и вниманию бабушки разливает дворецкий.
Теперь я уже не испытывал никакой ни радости, ни волнения, приходя к обеду.
Болтовня Мими, St.-Jérôme’a и девочек о том, какие ужасные сапоги носит русский учитель, как у княжон Корнаковых платья с воланами и т. д., – болтовня их, прежде внушавшая мне искреннее презрение, которое я, особенно в отношении Любочки и Катеньки, не старался скрывать, не вывела меня из моего нового, добродетельного расположения духа. Я был необыкновенно кроток; улыбаясь, слушал их особенно ласково, почтительно просил передать мне квасу и согласился с St.-Jérôme’ом, поправившим меня в фразе, которую я сказал за обедом, говоря, что красивее говорить je puis, чем je peux[84]. Должен, однако, сознаться, что мне было несколько неприятно то, что никто не обратил особенного внимания на мою кротость и добродетель. Любочка показала мне после обеда бумажку, на которой она записала все свои грехи; я нашел, что это очень хорошо, но что еще лучше в душе своей записать все свои грехи, и что «все это не то».
– Отчего же не то? – спросила Любочка.
– Ну, да и это хорошо; ты меня не поймешь, – и я пошел к себе на верх, сказав St.-Jérôme’y, что иду заниматься, но, собственно, с тем, чтобы до исповеди, до которой оставалось часа полтора, написать себе на всю жизнь расписание своих обязанностей и занятий, изложить на бумаге цель своей жизни и правила, по которым всегда уже, не отступая, действовать.
Глава V Правила
Я достал лист бумаги и прежде всего хотел приняться за расписание обязанностей и занятий на следующий год. Надо было разлиневать бумагу. Но так как линейки у меня не нашлось, я употребил для этого латинский лексикон. Кроме того, что, проведя пером вдоль лексикона и потом отодвинув его, оказалось, что вместо черты я сделал по бумаге продолговатую лужу чернил, – лексикон не хватал на всю бумагу, и черта загнулась по его мягкому углу. Я взял другую бумагу и, передвигая лексикон, разлиневал кое-как. Разделив свои обязанности на три рода: на обязанности к самому себе, к ближним и к богу, я начал писать первые, но их оказалось так много и столько родов и подразделений, что надо было прежде написать «Правила жизни», а потом уже приняться за расписание. Я взял шесть листов бумаги, сшил тетрадь и написал сверху: «Правила жизни». Эти два слова были написаны так криво и неровно, что я долго думал: не переписать ли? и долго мучился, глядя на разорванное расписание и это уродливое заглавие. Зачем все так прекрасно, ясно у меня в душе и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю?..
– Духовник приехали, пожалуйте вниз правила слушать, – пришел доложить Николай.
Я спрятал тетрадь в стол, посмотрел в зеркало, причесал волосы кверху, что, по моему убеждению, давало мне задумчивый вид, и сошел в диванную, где уже стоял накрытый стол с образом и горевшими восковыми свечами. Папа в одно время со мною вошел из другой двери. Духовник, седой монах с строгим старческим лицом, благословил папа. Пала поцеловал его небольшую широкую сухую руку; я сделал то же.
– Позовите Вольдемара, – сказал папа. – Где он? Или нет, ведь он в университете говеет.
– Он занимается с князем, – сказала Катенька и посмотрела на Любочку. Любочка вдруг покраснела отчего-то, сморщилась, притворясь, что ей что-то больно, и вышла из комнаты. Я вышел вслед за нею. Она остановилась в гостиной и что-то снова записала карандашиком на свою бумажку.
– Что, еще новый грех сделала? – спросил я.
– Нет, ничего, так, – отвечала она, краснея.
В это время в передней послышался голос Дмитрия, который прощался с Володей.
– Вот, тебе все искушение, – сказала Катенька, входя в комнату и обращаясь к Любочке.
Я не мог понять, что делалось с сестрой: она была сконфужена так, что слезы выступили у нее на глаза и что смущение ее, дойдя до крайней степени, перешло в досаду на себя и на Катеньку, которая, видимо, дразнила ее.
– Вот видно, что ты иностранка (ничего не могло быть обиднее для Катеньки названия иностранки, с этой-то целью и употребила его Любочка), – перед этаким таинством, – продолжала она с важностью в голосе, – и ты меня нарочно расстраиваешь… ты бы должна понимать… это совсем не шутка…
– Знаешь, Николенька, что она написала? – сказала Катенька, разобиженная названием иностранки, – она написала…
– Не ожидала я, чтоб ты была такая злая, – сказала Любочка, совершенно разнюнившись, уходя от нас, – в такую минуту, и нарочно, целый век, все вводит в грех. Я к тебе не пристаю с твоими чувствами и страданиями.
Глава VI Исповедь
С этими и подобными рассеянными размышлениями я вернулся в диванную, когда все собрались туда и духовник, встав, приготовился читать молитву перед исповедью. Но как только посреди общего молчания раздался выразительный, строгий голос монаха, читавшего молитву, и особенно когда произнес к нам слова: «Откройте все ваши прегрешения без стыда, утайки и оправдания, и душа ваша очистится пред богом, а ежели утаите что-нибудь, большой грех будете иметь», – ко мне возвратилось чувство благоговейного трепета, которое я испытывал утром при мысли о предстоящем таинстве. Я даже находил наслаждение в сознании этого состояния и старался удержать его, останавливая все мысли, которые мне приходили в голову, и усиливаясь чего-то бояться.
Первый прошел исповедоваться папа. Он очень долго пробыл в бабушкиной комнате, и во все это время мы все в диванной молчали или шепотом переговаривались о том, кто пойдет прежде. Наконец опять из двери послышался голос монаха, читавшего молитву, и шаги папа. Дверь скрипнула, и он вышел оттуда, по своей привычке, покашливая, подергивая плечом и не глядя ни на кого из нас.
– Ну, теперь ты ступай, Люба, да смотри все скажи. Ты ведь у меня большая грешница, – весело сказал папа, щипнув ее за щеку.
Любочка побледнела и покраснела, вынула и опять спрятала записочку из фартука и, опустив голову, как-то укоротив шею, как будто ожидая удара сверху, прошла в дверь. Она пробыла там недолго, но, выходя оттуда, у нее плечи подергивались от всхлипываний.
Наконец после хорошенькой Катеньки, которая, улыбаясь, вышла из двери, настал и мой черед. Я с тем же тупым страхом и желанием умышленно все больше и больше возбуждать в себе этот страх вошел в полуосвещенную комнату. Духовник стоял перед налоем и медленно обратил ко мне свое лицо.
Я пробыл не более пяти минут в бабушкиной комнате, но вышел оттуда счастливым и, по моему тогдашнему убеждению, совершенно чистым, нравственно переродившимся и новым человеком. Несмотря на то, что меня неприятно поражала вся старая обстановка жизни, те же комнаты, те же мебели, та же моя фигура (мне бы хотелось, чтоб все внешнее изменилось так же, как, мне казалось, я сам изменился внутренно), – несмотря на это, я пробыл в этом отрадном настроении духа до самого того времени, как лег в постель.
Я уже засыпал, перебирая воображением все грехи, от которых очистился, как вдруг вспомнил один стыдный грех, который утаил на исповеди. Слова молитвы перед исповедью вспомнились мне и не переставая звучали у меня в ушах. Все мое спокойствие мгновенно исчезло. «А ежели утаите, большой грех будете иметь…» – слышалось мне беспрестанно, и я видел себя таким страшным грешником, что не было для меня достойного наказания. Долго я ворочался с боку на бок, передумывая свое положение и с минуты на минуту ожидая божьего наказания и даже внезапной смерти, – мысль, приводившая меня в неописанный ужас. Но вдруг мне пришла счастливая мысль: чем свет идти или ехать в монастырь к духовнику и снова исповедаться, – и я успокоился.
Глава VII Поездка в монастырь
Я несколько раз просыпался ночью, боясь проспать утро, и в шестом часу уж был на ногах. В окнах едва брезжилось. Я надел свое платье и сапоги, которые, скомканные и нечищенные, лежали у постели, потому что Николай еще не успел убрать, и, не молясь богу, не умываясь, вышел в первый раз в жизни один на улицу.
На противоположной стороне, из-за зеленой крыши большого дома, краснелась туманная, студеная заря. Довольно сильный утренний весенний мороз сковал грязь и ручьи, колол под ногами и щипал мне лицо и руки. В нашем переулке не было еще ни одного извозчика, на которых я рассчитывал, чтобы скорее съездить и вернуться. Только тянулись какие-то возы по Арбату, и два рабочие каменщика, разговаривая, прошли по тротуару. Пройдя шагов тысячу, стали попадаться люди и женщины, шедшие с корзинками на рынок; бочки, едущие за водой; на перекресток вышел пирожник; открылась одна калашная, и у Арбатских ворот попался извозчик, старичок, спавший, покачиваясь, на своих калиберных, облезлых, голубоватеньких и заплатанных дрожках. Он спросонков, должно быть, запросил с меня всего двугривенный до монастыря и назад, но потом вдруг опомнился и, только что я хотел садиться, захлестал свою лошаденку концами вожжей и совсем было уехал от меня. «Кормить лошадь надо! нельзя, барин», – бормотал он.
Насилу я уговорил его остановиться, предложив ему два двугривенных. Он остановил лошадь, внимательно осмотрел меня и сказал: «Садись, барин». Признаюсь, я боялся несколько, что он завезет меня в глухой переулок и ограбит. Ухватив его за воротник изорванного армячишка, причем его сморщенная шея над сильно сгорбленной спиной как-то жалобно обнажилась, я влез верхом на волнообразное голубенькое колыхающееся сиденье, и мы затряслись вниз по Воздвиженке. Дорогой я успел заметить, что спинка дрожек была обита кусочком зеленоватенькой материи, из которой был и армяк извозчика; это обстоятельство почему-то успокоило меня, и я уже не боялся, что извозчик завезет меня в глухой переулок и ограбит.
Солнце уже поднялось довольно высоко и ярко золотило куполы церквей, когда мы подъехали к монастырю. В тени еще держался мороз, но по всей дороге текли быстрые мутные ручьи, и лошадь шлепала по оттаявшей грязи. Войдя в монастырскую ограду, у первого лица, которое я увидал, я спросил, как бы мне найти духовника.
– Вон его келья, – сказал мне проходивший монах, останавливаясь на минутку и указывая на маленький домик с крылечком.
– Покорно вас благодарю, – сказал я…
Но что обо мне могли думать монахи, которые, друг за другом выходя из церкви, все глядели на меня? Я был ни большой, ни ребенок; лицо мое было не умыто, волосы не причесаны, платье в пуху, сапоги не чищены и еще в грязи. К какому разряду людей относили меня мысленно монахи, глядевшие на меня? А они смотрели на меня внимательно. Однако я все-таки шел по направлению, указанному мне молодым монахом.
Старичок в черной одежде, с густыми седыми бровями, встретился мне на узенькой дорожке, ведущей к кельям, и спросил, что мне надо?
Была минута, что я хотел сказать «ничего», бежать назад к извозчику и ехать домой, но, несмотря на надвинутые брови, лицо старика внушало доверие. Я сказал, что мне нужно видеть духовника, назвав его по имени.
– Пойдемте, барчук, я вас проведу, – сказал он, поворачиваясь назад и, по-видимому, сразу угадав мое положение, – батюшка в утрени, он скоро пожалует.
Он отворил дверь и через чистенькие сени и переднюю, по чистому полотняному половику, провел меня в келью.
– Вот тут и подождите, – сказал он мне с добродушным, успокоительным выражением и вышел.
Комнатка, в которой я находился, была очень невелика и чрезвычайно опрятно убрана. Всю мебель составляли столик, покрытый клеенкой, стоявший между двумя маленькими створчатыми окнами, на которых стояли два горшка гераней, стоечка с образами и лампадка, висевшая перед ними, одно кресло и два стула. В углу висели стенные часы с разрисованным цветочками циферблатом и подтянутыми на цепочках медными гирями; на перегородке, соединявшейся с потолком деревянными, выкрашенными известкой палочками (за которой, верно, стояла кровать), висело на гвоздиках две рясы.
Окна выходили на какую-то белую стену, видневшуюся в двух аршинах от них. Между ими и стеной был маленький куст сирени. Никакой звук снаружи не доходил в комнату, так что в этой тишине равномерное, приятное постукивание маятника казалось сильным звуком. Как только я остался один в этом тихом уголке, вдруг все мои прежние мысли и воспоминания выскочили у меня из головы, как будто их никогда не было, и я весь погрузился в какую-то невыразимо приятную задумчивость. Эта нанковая пожелтевшая ряса с протертой подкладкой, эти истертые кожаные черные переплеты книг с медными застежками, эти мутно-зеленые цветы с тщательно политой землей и обмытыми листьями, а особенно этот однообразно прерывистый звук маятника – говорили мне внятно про какую-то новую, доселе бывшую мне неизвестной, жизнь, про жизнь уединения, молитвы, тихого, спокойного счастия…
«Проходят месяцы, проходят годы, – думал я, – он все один, он все спокоен, он все чувствует, что совесть его чиста пред богом и молитва услышана им». С полчаса я просидел на стуле, стараясь не двигаться и не дышать громко, чтобы не нарушать гармонию звуков, говоривших мне так много. А маятник все стучал так же – направо громче, налево тише.
Глава VIII Вторая исповедь
Шаги духовника вывели меня из этой задумчивости.
– Здравствуйте, – сказал он, поправляя рукой свои седые волосы. – Что вам угодно?
Я попросил его благословить меня и с особенным удовольствием поцеловал его желтоватую небольшую руку.
Когда я объяснил ему свою просьбу, он ничего не сказал мне, подошел к иконам и начал исповедь.
Когда исповедь кончилась и я, преодолев стыд, сказал все, что было у меня на душе, он положил мне на голову руки и своим звучным, тихим голосом произнес: «Да будет, сын мой, над тобою благословение отца небесного, да сохранит он в тебе навсегда веру, кротость и смирение. Аминь».
Я был совершенно счастлив; слезы счастия подступали мне к горлу; я поцеловал складку его драдедамовой рясы и поднял голову. Лицо монаха было совершенно спокойно.
Я чувствовал, что наслаждаюсь чувством умиления, и, боясь чем-нибудь разогнать его, торопливо простился с духовником, и, не глядя по сторонам, чтобы не рассеяться, вышел за ограду и снова сел на колыхающиеся полосатые дрожки. Но толчки экипажа, пестрота предметов, мелькавших перед глазами, скоро разогнали это чувство; и я уже думал о том, как теперь духовник, верно, думает, что такой прекрасной души молодого человека, как я, он никогда не встречал в жизни, да и не встретит, что даже и не бывает подобных. Я в этом был убежден; и это убеждение произвело во мне чувство веселья такого рода, которое требовало того, чтобы кому-нибудь сообщить его.
Мне ужасно хотелось поговорить с кем-нибудь; но так как никого под рукой не было, кроме извозчика, я обратился к нему.
– Что, долго я был? – спросил я.
– Ничего-таки, долго, а лошадь давно кормить пора; ведь я ночной, – отвечал старичок извозчик, теперь, по-видимому, с солнышком, повеселевший сравнительно с прежним.
– А мне показалось, что я был всего одну минуту, – сказал я. – А знаешь, зачем я был в монастыре? – прибавил я, пересаживаясь в углублении, которое было на дрожках ближе к старичку извозчику.
– Наше дело какое? Куда седок скажет, туда и везем, – отвечал он.
– Нет, все-таки, как ты думаешь? – продолжал я допрашивать.
– Да, верно, хоронить кого, ездили место покупать, – сказал он.
– Нет, братец; а знаешь, зачем я ездил?
– Не могу знать, барин, – повторил он.
Голос извозчика показался мне таким добрым, что я решился в назидание его рассказать ему причины моей поездки и даже чувство, которое я испытывал.
– Хочешь, я тебе расскажу? Вот видишь ли…
И я рассказал ему все и описал, все свои прекрасные чувства. Я даже теперь краснею при этом воспоминании.
– Так-с, – сказал извозчик недоверчиво.
И долго после этого молчал и сидел недвижно, только изредка поправляя полу армяка, которая все выбивалась из-под его полосатой ноги, прыгавшей в большом сапоге на подножке калибера. Я уже думал, что и он думает про меня то же, что духовник, – то есть, что такого прекрасного молодого человека, как я, другого нет на свете; но он вдруг обратился ко мне:
– А что, барин, ваше дело господское.
– Что? – спросил я.
– Дело-то, дело господское, – повторил он, шамкая беззубыми губами.
«Нет, он меня не понял», – подумал я, но уже больше не говорил с ним до самого дома.
Хотя не самое чувство умиления и набожности, но самодовольство в том, что я испытал его, удержалось во мне всю дорогу, несмотря на народ, который при ярком солнечном блеске пестрел везде на улицах, но как только я приехал домой, чувство это совершенно исчезло. У меня не было двух двугривенных, чтоб заплатить извозчику. Дворецкий Гаврило, которому я уже был должен, не давал мне больше взаймы. Извозчик, увидав, как я два раза пробежал по двору, чтоб доставать деньги, должно быть, догадавшись, зачем я бегаю, слез с дрожек и, несмотря на то, что казался мне таким добрым, громко начал говорить, с видимым желанием уколоть меня, о том, как бывают шаромыжники, которые не платят за езду.
Дома еще все спали, так что, кроме людей, мне не у кого было занять двух двугривенных. Наконец Василий под самое честное, честное слово, которому (я по лицу его видел) он не верил нисколько, но так, потому что любил меня и помнил услугу, которую я ему оказал, заплатил за меня извозчику. Так дымом разлетелось это чувство. Когда я стал одеваться в церковь, чтоб со всеми вместе идти причащаться, и оказалось, что мое платье не было перешито и его нельзя было надеть, я пропасть нагрешил. Надев другое платье, я пошел к причастию в каком-то странном положении торопливости мыслей и с совершенным недоверием к своим прекрасным наклонностям.
Глава IX Как я готовлюсь к экзамену
В четверг на Святой папа, сестра и Мими с Катенькой уехали в деревню, так что во всем большом бабушкином доме оставались только Володя, я и St.-Jérôme. То настроение духа, в котором я находился в день исповеди и поездки в монастырь, совершенно прошло и оставило по себе только смутное, хотя и приятное, воспоминание, которое все более и более заглушалось новыми впечатлениями свободной жизни.
Тетрадь с заглавием «Правила жизни» тоже была спрятана с черновыми ученическими тетрадями. Несмотря на то, что мысль о возможности составить себе правила на все обстоятельства жизни и всегда руководиться ими нравилась мне, казалась чрезвычайно простою и вместе великою, и я намеревался все-таки приложить ее к жизни, я опять как будто забыл, что это нужно было делать сейчас же, и все откладывал до такого-то времени. Меня утешало, однако, то, что всякая мысль, которая приходила мне теперь в голову, подходила как раз под какое-нибудь из подразделений моих правил и обязанностей: или к правилам в отношении к ближним, или к себе, или к богу. «Вот тогда я это отнесу туда и еще много, много мыслей, которые мне придут тогда, по этому предмету», – говорил я сам себе. Часто теперь я спрашиваю себя: когда я был лучше и правее – тогда ли, когда верил во всемогущество ума человеческого, или теперь, когда, потеряв силу развития, сомневаюсь в силе и значении ума человеческого? – и не могу себе дать положительного ответа.
Сознание свободы и то весеннее чувство ожидания чего-то, про которое я говорил уже, до такой степени взволновали меня, что я решительно не мог совладеть с самим собою и приготавливался к экзамену очень плохо. Бывало, утром занимаешься в классной комнате и знаешь, что необходимо работать, потому что завтра экзамен из предмета, в котором целых два вопроса еще не прочитаны мной, но вдруг пахнёт из окна каким-нибудь весенним духом, – покажется, будто что-то крайне нужно сейчас вспомнить, руки сами собою опускают книгу, ноги сами собой начинают двигаться и ходить взад и вперед, а в голове, как будто кто-нибудь пожал пружинку и пустил в ход машину, в голове так легко и естественно и с такою быстротою начинают пробегать разные пестрые, веселые мечты, что только успеваешь замечать блеск их. И час и два проходят незаметно. Или тоже сидишь за книгой и кое-как сосредоточишь все внимание на то, что читаешь, вдруг по коридору услышишь женские шаги и шум платья, – и все выскочило из головы, и нет возможности усидеть на месте, хотя очень хорошо знаешь, что, кроме Гаши, старой бабушкиной горничной, никто не мог пройти по коридору. «Ну, а ежели это вдруг она? – приходит в голову, – ну, а если теперь-то вот и начнется, а я пропущу?» – и выскакиваешь в коридор, видишь, что это точно Гаша; но уж долго потом не совладеешь с головой. Пружинка пожата, и опять пошла кутерьма страшная. Или вечером сидишь один с сальной свечой в своей комнате; вдруг на секунду, чтоб снять со свечи или поправиться на стуле, отрываешься от книги и видишь, что везде в дверях, по углам темно, и слышишь, что везде в доме тихо, – опять невозможно не остановиться и не слушать этой тишины, и не смотреть на этот мрак отворенной двери в темную комнату, и долго-долго не пробыть в неподвижном положении или не пойти вниз и не пройти по всем пустым комнатам. Часто тоже долго по вечерам я просиживал незамеченным в зале, прислушиваясь к звуку «Соловья», которого двумя пальцами наигрывала на фортепьянах Гаша, сидя одна при сальной свечке в большой зале. А уж при лунном свете я решительно не мог не вставать с постели и не ложиться на окно в палисадник и, вглядываясь в освещенную крышу Шапошникова дома, и стройную колокольню нашего прихода, и в вечернюю тень забора и куста, ложившуюся на дорожку садика, не мог не просиживать так долго, что потом просыпался с трудом только в десять часов утра.
Так что, ежели бы не учителя, которые продолжали ходить ко мне, не St.-Jérôme, который изредка нехотя подстрекал мое самолюбие, и, главное, не желание показаться дельным малым в глазах моего друга Нехлюдова, то есть выдержать отлично экзамен, что, по его понятиям, было очень важною вещью, – ежели бы не это, то весна и свобода сделали бы то, что я забыл бы даже все то, что знал прежде, и ни за что бы не выдержал экзамена.
Глава X Экзамен истории
Шестнадцатого апреля я в первый раз под покровительством St.-Jérôme’a вошел в большую университетскую залу. Мы приехали с ним в нашем довольно щегольском фаэтоне. Я был во фраке в первый раз в моей жизни, и все платье, даже белье, чулки, было на мне самое новое и лучшее. Когда швейцар снял с меня внизу шинель и я предстал пред ним во всей красоте своей одежды, мне даже стало несколько совестно за то, что я так ослепителен. Однако, едва только я вступил в светлую паркетную залу, наполненную народом, и увидел сотни молодых людей в гимназических мундирах и во фраках, из которых некоторые равнодушно взглянули на меня, и в дальнем конце важных профессоров, свободно ходивших около столов и сидевших в больших креслах, как я в ту же минуту разочаровался в надежде обратить на себя общее внимание, и выражение моего лица, означавшее дома и еще в сенях как бы сожаление в том, что я против моей воли имею вид такой благородный и значительный, заменилось выражением сильнейшей робости и некоторого уныния. Я даже впал в другую крайность и обрадовался весьма, увидав на ближайшей лавке одного чрезвычайно дурно, нечистоплотно одетого господина, еще не старого, но почти совсем седого, который, в отдалении от других, сидел на задней лавке. Я тотчас же подсел к нему и стал рассматривать экзаменующихся и делать о них свои заключения. Много тут было разнообразных фигур и лиц, но все они, по моим тогдашним понятиям, легко распределялись на три рода.
Были такие же, как я, явившиеся на экзамен с гувернерами или родителями, и в числе их меньшой Ивин с знакомым мне Фростом и Иленька Грап с своим старым отцом. Все таковые были с пушистыми подбородками, имели выпущенное белье и сидели смирно, не раскрывая книг и тетрадей, принесенных с собою, и с видимой робостью смотрели на профессоров и экзаменные столы. Второго рода экзаменующиеся были молодые люди в гимназических мундирах, из которых многие уже брили бороды. Эти были большей частью знакомы между собой, говорили громко, по имени и отчеству называли профессоров, тут же готовили вопросы, передавали друг другу тетради, шагали через скамейки, из сеней приносили пирожки и бутерброды, которые тут же съедали, только немного наклонив голову на уровень лавки. И, наконец, третьего рода экзаменующиеся, которых, впрочем, было немного, были совсем старые, во фраках, но большей частью в сюртуках, и без видимого белья. Эти держали себя весьма серьезно, сидели уединенно и имели вид очень мрачный. Тот, который утешил меня тем, что наверно был одет хуже меня, принадлежал к этому последнему роду. Он, облокотившись на обе руки, сквозь пальцы которых торчали всклокоченные полуседые волосы, читал в книге и, только на мгновенье взглянув на меня не совсем доброжелательно своими блестящими глазами, мрачно нахмурился и еще выставил в мою сторону глянцевитый локоть, чтоб я не мог подвинуться к нему ближе. Гимназисты, напротив, были слишком общительны, и я их немножко боялся. Один, сунув мне в руку книгу, сказал: «Передайте вон ему»; другой, проходя мимо меня, сказал: «Пустите-ка, батюшка»; третий, перелезая через лавку, уперся на мое плечо, как на скамейку. Все это мне было дико и неприятно; я считал себя гораздо выше этих гимназистов и полагал, что они не должны были позволять себе со мною такой фамильярности. Наконец начали вызывать фамилии; гимназисты выходили смело и отвечали большей частью хорошо, возвращались весело; наша братья робела гораздо более, да и, как кажется, отвечала хуже. Из старых некоторые отвечали превосходно, другие очень плохо. Когда вызвали Семенова, то мой сосед с седыми волосами и блестящими глазами, грубо толкнув меня, перелез через мои ноги и пошел к столу. Как было заметно по виду профессоров, он отвечал отлично и смело. Возвратившись к своему месту, он, не узнавая о том, сколько ему поставили, спокойно взял свои тетрадки и вышел. Уж несколько раз я содрогался при звуке голоса, вызывающего фамилии, но еще до меня не доходила очередь по алфавитному списку, хотя уже вызывали фамилии, начинающиеся с К. «Иконин и Теньев», – вдруг прокричал кто-то из профессорского угла. Мороз пробежал у меня по спине и в волосах.
– Кого звали? Кто Бартеньев? – заговорили вокруг меня.
– Иконин, иди, тебя зовут; да кто же Бартеньев, Морденьев? я не знаю, признавайся, – говорил высокий румяный гимназист, стоявший за мной.
– Вам, – сказал St.-Jérôme.
– Моя фамилия Иртеньев, – сказал я румяному гимназисту. – Разве Иртеньева звали?
– Ну, да; что ж вы нейдете?.. Вишь, какой франт! – прибавил он не громко, но так, что я слышал его слова, выходя из-за скамейки. Впереди меня шел Иконин, высокий молодой человек лет двадцати пяти, принадлежавший к третьему роду, старых. На нем был оливковый узенький фрак, атласный синий галстук, на котором лежали сзади длинные белокурые волосы, тщательно причесанные а la мужик. Я заметил его наружность еще на лавках. Он был недурен собою, разговорчив; и меня особенно поразили в нем странные рыжие волоса, которые он отпустил себе на горле, и еще более странная привычка, которую он имел, – беспрестанно расстегивать жилет и чесать себе грудь под рубашкой.
Три профессора сидели за тем столом, к которому я подошел вместе с Икониным; ни один из них не ответил на наш поклон. Молодой профессор тасовал билеты, как колоду карт, другой профессор, с звездой на фраке, смотрел на гимназиста, говорившего что-то очень скоро про Карла Великого, к каждому слову прибавляя «наконец», и третий, старичок в очках, опустив голову, посмотрел на нас через очки и указал на билеты. Я чувствовал, что взгляд его был совокупно обращен на меня и Иконина и что в нас не понравилось ему что-то (может быть, рыжие волосы Иконина), потому что он сделал, глядя опять-таки на обоих нас вместе, нетерпеливый жест головой, чтоб мы скорее брали билеты. Мне было досадно и оскорбительно, во-первых, то, что никто не ответил на наш поклон, а во-вторых, то, что меня, видимо, соединяли с Икониным в одно понятие экзаменующихся и уже предубеждены против меня за рыжие волосы Иконина. Я взял билет без робости и готовился отвечать; но профессор указал глазами на Иконина. Я прочел свой билет: он был мне знаком, и я, спокойно ожидая своей очереди, наблюдал то, что происходило передо мной. Иконин нисколько не оробел и даже слишком смело, как-то всем боком двинулся, чтоб взять билет, встряхнул волосами и бойко прочел то, что было написано на билете. Он открыл было рот, как мне казалось, чтобы начать отвечать, как вдруг профессор со звездой, с похвалой отпустив гимназиста, посмотрел на него. Иконин как будто что-то вспомнил и остановился. Общее молчание продолжалось минуты две.
– Ну, – сказал профессор в очках.
Иконин открыл рот и снова замолчал.
– Ведь не вы одни; извольте отвечать или нет? – сказал молодой профессор, но Иконин даже не взглянул на него. Он пристально смотрел в билет и не произнес ни одного слова. Профессор в очках смотрел на него и сквозь очки, и через очки, и без очков, потому что успел в это время снять их, тщательно протереть стекла и снова надеть. Иконин не произнес ни одного слова. Вдруг улыбка блеснула на его лице, он встряхнул волосами, опять всем боком развернувшись к столу, положил билет, взглянул на всех профессоров поочередно, потом на меня, повернулся и бодрым шагом, размахивая руками, вернулся к лавкам. Профессора переглянулись между собой.
– Хорош голубчик! – сказал молодой профессор, – своекоштный!
Я подвинулся ближе к столу, но профессора продолжали почти шепотом говорить между собой, как будто никто из них и не подозревал моего присутствия. Я был тогда твердо убежден, что всех трех профессоров чрезвычайно занимал вопрос о том, выдержу ли я экзамен и хорошо ли я его выдержу, но что они так только, для важности, притворялись, что это им совершенно все равно и что они будто бы меня не замечают.
Когда профессор в очках равнодушно обратился ко мне, приглашая отвечать на вопрос, то, взглянув ему в глаза, мне немножко совестно было за него, что он так лицемерил передо мной, и я несколько замялся в начале ответа; но потом пошло легче и легче, и так как вопрос был из русской истории, которую я знал отлично, то я кончил блистательно и даже до того расходился, что, желая дать почувствовать профессорам, что я не Иконин и что меня смешивать с ним нельзя, предложил взять еще билет; но профессор, кивнув головой, сказал: «Хорошо-с», – и отметил что-то в журнале. Возвратившись к лавкам, я тотчас же узнал от гимназистов, которые, бог их знает как, все узнавали, что мне было поставлено пять.
Глава XI Экзамен математики
На следующих экзаменах, кроме Грапа, которого я считал недостойным своего знакомства, и Ивина, который почему-то дичился меня, я уже имел много новых знакомых. Некоторые уже здоровались со мной. Иконин даже обрадовался, увидав меня, и сообщил мне, что он будет переэкзаменовываться из истории, что профессор истории зол на него еще с прошлогоднего экзамена, на котором он будто бы тоже сбил его. Семенов, который поступал в один факультет со мной, в математический, до конца экзаменов все-таки дичился всех, сидел молча один, облокотясь на руки и засунув пальцы в свои седые волосы, и экзаменовался отлично. Он был вторым; первым же был гимназист первой гимназии. Это был высокий худощавый брюнет, весьма бледный, с подвязанной черным галстуком щекой и покрытым прыщами лбом. Руки у него были худые, красные, с чрезвычайно длинными пальцами, и ногти обкусаны так, что концы пальцев его казались перевязаны ниточками. Все это мне казалось прекрасным и таким, каким должно было быть у первого гимназиста. Он говорил со всеми так же, как и все, даже и я с ним познакомился, но все-таки, как мне казалось, в его походке, движениях губ и черных глазах было заметно что-то необыкновенное, магнетическое.
На экзамен математики я пришел раньше обыкновенного. Я знал предмет порядочно, но было два вопроса из алгебры, которые я как-то утаил от учителя и которые мне были совершенно неизвестны. Это были, как теперь помню: теории сочетаний и бином Ньютона. Я сел на заднюю лавку и просматривал два незнакомые вопроса; но непривычка заниматься в шумной комнате и недостаточность времени, которую я предчувствовал, мешали мне вникнуть в то, что я читал.
– Вот он, поди сюда, Нехлюдов, – послышался за мной знакомый голос Володи.
Я обернулся и увидал брата и Дмитрия, которые в расстегнутых сюртуках, размахивая руками, проходили ко мне между лавок. Сейчас видны были студенты второго курса, которые в университете как дома. Один вид их расстегнутых сюртуков выражал презрение к нашему брату поступающему, а нашему брату поступающему внушал зависть и уважение. Мне было весьма лестно думать, что все окружающие могли видеть, что я знаком с двумя студентами второго курса, и я поскорее встал им навстречу.
Володя даже не мог удержаться, чтоб не выразить чувства своего превосходства.
– Эх ты, горемычный! – сказал он. – Что, не экзаменовался еще?
– Нет.
– Что ты читаешь? Разве не приготовил?
– Да, два вопроса не совсем. Тут не понимаю.
– Что? Вот это? – сказал Володя и начал мне объяснять бином Ньютона, но так скоро и неясно, что, в моих глазах прочтя недоверие к своему знанию, он взглянул на Дмитрия и, в его глазах, должно быть, прочтя то же, покраснел, но все-таки продолжал говорить что-то, чего я не понимал.
– Нет, постой, Володя, дай я с ним пройду, коли успеем, – сказал Дмитрий, взглянув на профессорский угол, и подсел ко мне.
Я сейчас заметил, что друг мой был в том самодовольно-кротком расположении духа, которое всегда на него находило, когда он бывал доволен собой, и которое я особенно любил в нем. Так как математику он знал хорошо и говорил ясно, он так славно прошел со мной вопрос, что до сих пор я его помню. Но едва он кончил, как St.-Jérôme громким шепотом проговорил: «A vous, Nicolas!»[85] – и я вслед за Икониным вышел из-за лавки, не успев пройти другого незнакомого вопроса. Я подошел к столу, у которого сидело два профессора и стоял гимназист перед черной доской. Гимназист бойко выводил какую-то формулу, со стуком ломая мел о доску, и все писал, несмотря на то, что профессор уже сказал ему: «Довольно», – и велел нам взять билеты. «Ну что, ежели достанется теория сочетаний!» – подумал я, доставая дрожащими пальцами билет из мягкой кипы нарезанных бумажек. Иконин с тем же смелым жестом, как и в прошедший экзамен, раскачнувшись всем боком, не выбирая, взял верхний билет, взглянул на него и сердито нахмурился.
– Все этакие черти попадаются! – пробормотал он.
Я посмотрел на свой.
О ужас! это была теория сочетаний!..
– А у вас какой? – спросил Иконин.
Я показал ему.
– Этот я знаю, – сказал он.
– Хотите меняться?
– Нет, все равно, я чувствую, что не в духе, – едва успел прошептать Иконин, как профессор уж подозвал нас к доске.
«Ну, все пропало! – подумал я. – Вместо блестящего экзамена, который я думал сделать, я навеки покроюсь срамом, хуже Иконина». Но вдруг Иконин, в глазах профессора, поворотился ко мне, вырвал у меня из рук мой билет и отдал мне свой. Я взглянул на билет. Это был бином Ньютона.
Профессор был не старый человек, с приятным, умным выражением, которое особенно давала ему чрезвычайно выпуклая нижняя часть лба.
– Что это, вы билетами меняетесь, господа? – сказал он.
– Нет, это он так, давал мне свой посмотреть, господин профессор, – нашелся Иконин, и опять слово господин профессор было последнее слово, которое он произнес на этом месте; и опять, проходя назад мимо меня, он взглянул на профессоров, на меня, улыбнулся и пожал плечами, с выражением, говорившим: «Ничего, брат!» (Я после узнал, что Иконин уже третий год являлся на вступительный экзамен.)
Я отвечал отлично на вопрос, который только что прошел, – профессор даже сказал мне, что лучше, чем можно требовать, и поставил – пять.
Глава XII Латинский экзамен
Все шло отлично до латинского экзамена. Подвязанный гимназист был первым, Семенов – вторым, я – третьим. Я даже начинал гордиться и серьезно думать, что, несмотря на мою молодость, я совсем не шутка.
Еще с первого экзамена все с трепетом рассказывали про латинского профессора, который был будто бы какой-то зверь, наслаждавшийся гибелью молодых людей, особенно своекоштных, и говоривший будто бы только на латинском или греческом языке. St.-Jérôme, который был моим учителем латинского языка, ободрял меня, да и мне казалось, что, переводя без лексикона Цицерона, несколько од Горация и зная отлично Цумпта, я был приготовлен не хуже других, но вышло иначе. Все утро только и было слышно, что о погибели тех, которые выходили прежде меня: тому поставил нуль, тому единицу, того еще разбранил и хотел выгнать и т. д., и т. д. Только Семенов и первый гимназист, как всегда, спокойно вышли и вернулись, получив по пять каждый. Я уже предчувствовал несчастие, когда нас вызвали вместе с Икониным к маленькому столику, против которого страшный профессор сидел совершенно один. Страшный профессор был маленький, худой, желтый человек, с длинными маслеными волосами и с весьма задумчивой физиономией.
Он дал Иконину книгу речей Цицерона и заставил переводить его.
К великому удивлению моему, Иконин не только прочел, но и перевел несколько строк с помощью профессора, который ему подсказывал. Чувствуя свое превосходство перед таким слабым соперником, я не мог не улыбнуться и даже несколько презрительно, когда дело дошло до анализа и Иконин по-прежнему погрузился в очевидно безвыходное молчание. Я этой умной, слегка насмешливой улыбкой хотел понравиться профессору, но вышло наоборот.
– Вы, верно, лучше знаете, что улыбаетесь, – сказал мне профессор дурным русским языком, – посмотрим. Ну, скажите вы.
Впоследствии я узнал, что латинский профессор покровительствовал Иконину и что Иконин даже жил у него. Я ответил тотчас же на вопрос из синтаксиса, который был предложен Иконину, но профессор сделал печальное лицо и отвернулся от меня.
– Хорошо-с, придет и ваш черед, увидим, как вы знаете, – сказал он, не глядя на меня, и стал объяснять Иконину то, об чем его спрашивал.
– Ступайте, – добавил он; и я видел, как он в тетради баллов поставил Иконину четыре. «Ну, – подумал я, – он совсем не так строг, как говорили». После ухода Иконина он верных минут пять, которые мне показались за пять часов, укладывал книги, билеты, сморкался, поправлял кресла, разваливался на них, смотрел в залу, по сторонам и повсюду, но только не на меня. Все это притворство показалось ему, однако, недостаточным, он открыл книгу и притворился, что читает ее, как будто меня вовсе тут не было. Я подвинулся ближе и кашлянул.
– Ах, да! еще вы? Ну, переведите-ка что-нибудь, – сказал он, подавая мне какую-то книгу, – да нет, лучше вот эту. – Он перелистывал книгу Горация и развернул мне ее на таком месте, которое, как мне казалось, никто никогда не мог бы перевести.
– Я этого не готовил, – сказал я.
– А вы хотите отвечать то, что выучили наизусть, – хорошо! Нет, вот это переведите.
Кое-как я стал добираться до смысла, но профессор на каждый мой вопросительный взгляд качал головой и, вздыхая, отвечал только «нет». Наконец он закрыл книгу так нервически быстро, что захлопнул между листьями свой палец; сердито выдернув его оттуда, он дал мне билет из грамматики и, откинувшись назад на кресла, стал молчать самым зловещим образом. Я стал было отвечать, но выражение его лица сковывало мне язык, и все, что бы я ни сказал, мне казалось не то.
– Не то, не то, совсем не то, – заговорил он вдруг своим гадким выговором, быстро переменяя положение, облокачиваясь об стол и играя золотым перстнем, который у него слабо держался на худом пальце левой руки. – Так нельзя, господа, готовиться в высшее учебное заведение; вы все хотите только мундир носить с синим воротником; верхов нахватаетесь и думаете, что вы можете быть студентами; нет, господа, надо основательно изучать предмет, и т. д., и т. д.
Во все время этой речи, произносимой коверканным языком, я с тупым вниманием смотрел на его потупленные глаза. Сначала мучило меня разочарование не быть третьим, потом страх вовсе не выдержать экзамена, и, наконец, к этому присоединилось чувство сознания несправедливости, оскорбленного самолюбия и незаслуженного унижения; сверх того, презрение к профессору за то, что он не был, по моим понятиям, из людей comme il faut, – что я открыл, глядя на его короткие, крепкие и круглые ногти, – еще более разжигало во мне и делало ядовитыми все эти чувства. Взглянув на меня и заметив мои дрожащие губы и налитые слезами глаза, он перевел, должно быть, мое волнение просьбой прибавить мне балл и, как будто сжалившись надо мной, сказал (и еще при другом профессоре, который подошел в это время):
– Хорошо-с, я поставлю вам переходный балл (это значило два), хотя вы его не заслуживаете, но это только в уважение вашей молодости и в надежде, что вы в университете уже не будете так легкомысленны.
Последняя фраза его, сказанная при постороннем профессоре, который смотрел на меня так, как будто тоже говорил: «Да, вот видите, молодой человек!» – окончательно смутила меня. Была одна минута, когда глаза у меня застлало туманом: страшный профессор с своим столом показался мне сидящим где-то вдали, и мне с страшной, односторонней ясностью пришла в голову дикая мысль: «А что, ежели?.. что из этого будет?» Но я этого почему-то не сделал, а напротив, бессознательно, особенно почтительно поклонился обоим профессорам и, слегка улыбнувшись, кажется, той же улыбкой, какой улыбался Иконин, отошел от стола.
Несправедливость эта до такой степени сильно подействовала на меня тогда, что, ежели бы я был свободен в своих поступках, я бы не пошел больше экзаменоваться. Я потерял всякое честолюбие (уже нельзя было и думать о том, чтоб быть третьим), и остальные экзамены я спустил без всякого старания и даже волнения. В общем числе у меня было, однако, четыре с лишком, но это уже вовсе не интересовало меня; я сам с собою решил и доказал это себе весьма ясно, что чрезвычайно глупо и даже mauvais genre[86] стараться быть первым, а надо так, чтоб только ни слишком дурно, ни слишком хорошо, как Володя. Этого я намерен был держаться и впредь в университете, несмотря на то, что в этом случае я в первый раз расходился в мнениях с своим другом.
Я думал уже только о мундире, трехугольной шляпе, собственных дрожках, собственной комнате и, главное, о собственной свободе.
Глава XIII Я большой
Впрочем, и эти мысли имели свою прелесть.
Восьмого мая, вернувшись с последнего экзамена, Закона Божия, я нашел дома знакомого мне подмастерье от Розанова, который еще прежде приносил на живую нитку сметанные мундир и сюртук из глянцевитого черного сукна с отливом и отбивал мелом лацкана, а теперь принес совсем готовое платье, с блестящими золотыми пуговицами, завернутыми бумажками.
Надев это платье и найдя его прекрасным, несмотря на то, что St.-Jérôme уверял, что спинка сюртука морщила, я сошел вниз с самодовольной улыбкой, которая совершенно невольно распускалась на моем лице, и пошел к Володе, чувствуя и как будто не замечая взгляды домашних, которые из передней и из коридора с жадностью были устремлены на меня. Гаврило, дворецкий, догнал меня в зале, поздравил с поступлением, передал, по приказанию папа, четыре беленькие бумажки и сказал, что, тоже по приказанию папа, с нынешнего дня кучер Кузьма, пролетка и гнедой Красавчик в моем полном распоряжении. Я так обрадовался этому почти неожиданному счастью, что никак не мог притвориться равнодушным перед Гаврилой и, несколько растерявшись и задохнувшись, сказал первое, что мне пришло в голову, – кажется, что «Красавчик отличный рысак». Взглянув на головы, которые высовывались из дверей передней и коридора, не в силах более удерживаться, рысью побежал через залу в своем новом сюртуке с блестящими золотыми пуговицами. В то время как я входил к Володе, за мной послышались голоса Дубкова и Нехлюдова, которые приехали поздравить меня и предложить ехать обедать куда-нибудь и пить шампанское в честь моего вступления. Дмитрий сказал мне, что он, хотя и не любит пить шампанское, нынче поедет с нами, чтобы выпить со мною на ты; Дубков сказал, что я почему-то похож вообще на полковника; Володя не поздравил меня и весьма сухо только сказал, что теперь мы послезавтра можем ехать в деревню. Как будто, хотя он был и рад моему поступлению, ему немножко неприятно было, что теперь и я такой же большой, как и он. St.-Jérôme, который тоже пришел к нам, сказал очень напыщенно, что его обязанность кончена, что он не знает, хорошо ли, дурно ли она исполнена, но что он сделал все, что мог, и что завтра он переезжает к своему графу. В ответ на все, что мне говорили, я чувствовал, как против моей воли на лице моем расцветала сладкая, счастливая, несколько глупо-самодовольная улыбка, и замечал, что улыбка эта даже сообщалась всем, кто со мной говорил.
И вот у меня нет гувернера, у меня есть свои дрожки, имя мое напечатано в списке студентов, у меня шпага на портупее, будочники могут иногда делать мне честь… я большой, я, кажется, счастлив.
Обедать мы решили у Яра в пятом часу; но так как Володя поехал к Дубкову, а Дмитрий тоже по своей привычке исчез куда-то, сказав, что у него есть до обеда одно дело, то я мог употребить два часа времени, как мне хотелось. Довольно долго я ходил по всем комнатам и смотрелся во все зеркала то в застегнутом сюртуке, то совсем в расстегнутом, то в застегнутом на одну верхнюю пуговицу, и все мне казалось отлично. Потом, как мне ни совестно было показывать слишком большую радость, я не удержался, пошел в конюшню и каретный сарай, посмотрел Красавчика, Кузьму и дрожки, потом снова вернулся и стал ходить по комнатам, поглядывая в зеркала и рассчитывая деньги в кармане и все так же счастливо улыбаясь. Однако не прошло и часу времени, как я почувствовал некоторую скуку или сожаление в том, что никто меня не видит в таком блестящем положении, и мне захотелось движения и деятельности. Вследствие этого я велел заложить дрожки и решил, что мне лучше всего съездить на Кузнецкий мост сделать покупки.
Я вспомнил, что Володя при вступлении в университет купил себе литографии лошадей Виктора Адама, табаку и трубки, и мне показалось необходимым сделать то же самое.
При обращенных со всех сторон на меня взглядах и при ярком блеске солнца на моих пуговицах, кокарде шляпы и шпаге я приехал на Кузнецкий мост и остановился подле магазина картин Дациаро. Оглядываясь на все стороны, я вошел в него. Я не хотел покупать лошадей В. Адама, для того чтобы меня не могли упрекнуть в обезьянстве Володе, но, торопясь от стыда в беспокойстве, которое я доставлял услужливому магазинщику, выбрать поскорее, я взял гуашью сделанную женскую голову, стоявшую на окне, и заплатил за нее двадцать рублей. Однако, заплатив в магазине двадцать рублей, мне все-таки казалось совестно, что я обеспокоил двух красиво одетых магазинщиков такими пустяками, и притом казалось, что они все еще слишком небрежно на меня смотрят. Желая им дать почувствовать, кто я такой, я обратил внимание на серебряную штучку, которая лежала под стеклом, и, узнав, что это был porte-crayon[87], который стоил восемнадцать рублей, попросил завернуть его в бумажку и, заплатив деньги и узнав еще, что хорошие чубуки и табак можно найти рядом в табачном магазине, учтиво поклонясь обоим магазинщикам, вышел на улицу с картиной под мышкой. В соседнем магазине, на вывеске которого был написан негр, курящий сигару, я купил, тоже из желания не подражать никому, не Жукова, а султанского табаку, стамбулку трубку и два липовых и розовых чубука. Выходя из магазина к дрожкам, я увидел Семенова, который в штатском сюртуке, опустив голову, скорыми шагами шел по тротуару. Мне было досадно, что он не узнал меня. Я довольно громко сказал: «Подавай!» – и, сев на дрожки, догнал Семенова.
– Здравствуйте-с, – сказал я ему.
– Мое почтение, – отвечал он, продолжая идти.
– Что же вы не в мундире? – спросил я.
Семенов остановился, прищурил глаза и, оскалив свои белые зубы, как будто ему было больно смотреть на солнце, но собственно затем, чтобы показать свое равнодушие к моим дрожкам и мундиру, молча посмотрел на меня и пошел дальше.
С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской и хотя желал притвориться, что меня в кондитерской преимущественно интересуют газеты, не мог удержаться и начал есть один сладкий пирожок за другим. Несмотря на то, что мне было стыдно перед господином, который из-за газеты с любопытством посматривал на меня, я съел чрезвычайно быстро пирожков восемь всех тех сортов, которые только были в кондитерской.
Приехав домой, я почувствовал маленькую изжогу; но, не обратив на нее никакого внимания, занялся рассматриванием покупок, из которых картина так мне не понравилась, что я не только не обделал ее в рамку и не повесил в своей комнате, как Володя, но даже тщательно спрятал ее за комод, где никто не мог ее видеть. Porte-crayon дома мне тоже не понравился; я положил его в стол, утешая себя, однако, мыслью, что это вещь серебряная, капитальная и для студента очень полезная. Курительные же препараты я тотчас решил пустить в дело и испробовать.
Распечатав четвертку, тщательно набив стамбулку красно-желтым, мелкой резки, султанским табаком, я положил на нее горящий трут и, взяв чубук между средним и безымянным пальцем (положение руки, особенно мне нравившееся), стал тянуть дым.
Запах табака был очень приятен, но во рту было горько и дыхание захватывало. Однако скрепив сердце я довольно долго втягивал в себя дым, пробовал пускать кольца и затягиваться. Скоро комната вся наполнилась голубоватыми облаками дыма, трубка начала хрипеть, горячий табак подпрыгивать, а во рту я почувствовал горечь и в голове маленькое кружение. Я хотел уже перестать и только посмотреться с трубкой в зеркало, как, к удивлению моему, зашатался на ногах; комната дошла кругом, и, взглянув в зеркало, к которому я с трудом подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. Едва я успел упасть на диван, как почувствовал такую тошноту и такую слабость, что, вообразив себе, что трубка для меня смертельна, мне показалось, что я умираю. Я серьезно испугался и хотел уже звать людей на помощь и посылать за доктором.
Однако страх этот продолжался недолго. Я скоро понял, в чем дело, и с страшной головной болью, расслабленный, долго лежал на диване, с тупым вниманием вглядываясь в герб Бостонжогло, изображенный на четвертке, в валявшуюся на полу трубку, окурки и остатки кондитерских пирожков, и с разочарованием грустно думал: «Верно, я еще не совсем большой, если не могу курить, как другие, и что, видно, мне не судьба, как другим, держать чубук между средним и безымянным пальцем, затягиваться и пускать дым через русые усы».
Дмитрий, заехав за мною в пятом часу, застал меня в этом неприятном положении. Выпив стакан воды, однако, я почти оправился и был готов ехать с ним.
– И что вам за охота курить, – сказал он, глядя на следы моего курения. – Это всё глупости и напрасная трата денег. Я дал себе слово не курить… Однако поедем скорей, еще надо заехать за Дубковым.
Глава XIV Чем занимались Володя с Дубковым
Как только Дмитрий вошел ко мне в комнату, по его лицу, походке и по свойственному ему жесту во время дурного расположения духа, подмигивая глазом, гримасливо подергивать головой набок, как будто для того, чтобы поправить галстук, я понял, что он находился в своем холодно упрямом расположении духа, которое на него находило, когда он был недоволен собой, и которое всегда производило охлаждающее действие на мое к нему чувство. В последнее время я уже начинал наблюдать и обсуживать характер моего друга, но дружба наша вследствие этого нисколько не изменилась: она еще была так молода и сильна, что, с какой бы стороны я ни смотрел на Дмитрия, я не мог не видеть его совершенством. В нем было два различные человека, которые оба были для меня прекрасны. Один, которого я горячо любил, добрый, ласковый, кроткий, веселый и с сознанием этих любезных качеств. Когда он бывал в этом расположении духа, вся его наружность, звук голоса, все движения говорили, казалось: «Я кроток и добродетелен, наслаждаюсь тем, что я кроток и добродетелен, и вы все это можете видеть». Другой – которого я только теперь начинал узнавать и перед величавостью которого преклонялся – был человек холодный, строгий к себе и другим, гордый, религиозный до фанатизма и педантически нравственный. В настоящую минуту он был этим вторым человеком.
С откровенностью, составлявшей необходимое условие наших отношений, я сказал ему, когда мы сели в дрожки, что мне было грустно и больно видеть его в нынешний счастливый для меня день в таком тяжелом, неприятном для меня расположении духа.
– Верно, что-нибудь вас расстроило: отчего вы мне не скажете? – спросил я его.
– Николенька! – отвечал он неторопливо, нервически поворачивая голову набок и подмигивая. – Ежели я дал слово ничего не скрывать от вас, то вы и не имеете причин подозревать во мне скрытность. Нельзя всегда быть одинаково расположенным, а ежели что-нибудь меня расстроило, то я сам не могу себе дать отчета.
«Какой это удивительно открытый, честный характер», – подумал я и больше не заговаривал с ним.
Мы молча приехали к Дубкову. Квартира Дубкова была необыкновенно хороша, или показалась мне такою. Везде были ковры, картины, гардины, пестрые обои, портреты, изогнутые кресла, вольтеровские кресла, на стенах висели ружья, пистолеты, кисеты и какие-то картонные звериные головы. При виде этого кабинета я понял, кому подражал Володя в убранстве своей комнаты. Мы застали Дубкова и Володю за картами. Какой-то незнакомый мне господин (должно быть, неважный, судя по его скромному положению) сидел подле стола и очень внимательно смотрел на игру. Сам Дубков был в шелковом халате и мягких башмаках. Володя без сюртука сидел против него на диване и, судя по раскрасневшемуся лицу и недовольному беглому взгляду, который он, на секунду оторвав от карт, бросил на нас, был очень занят игрой. Увидев меня, он покраснел еще больше.
– Ну, тебе сдавать, – сказал он Дубкову. Я понял, что ему было неприятно, что я узнал про то, что он играет в карты. Но в его выражении не было заметно смущения, оно как будто говорило мне: «Да, играю, а ты удивляешься этому только потому, что еще молод. Это не только не дурно, но должно в наши лета».
Я тотчас почувствовал и понял это.
Дубков, однако, не стал сдавать карты, а встал, пожал нам руки, усадил и предложил трубки, от которых мы отказались.
– Так вот он, наш дипломат, виновник торжества, – сказал Дубков. – Ей-богу, ужасно похож на полковника.
– Гм! – промычал я, чувствуя опять на своем лице распускающуюся глупо-самодовольную улыбку.
Я уважал Дубкова, как только может уважать шестнадцатилетний мальчик двадцатисемилетнего адъютанта, про которого все большие говорят, что он чрезвычайно порядочный молодой человек, который отлично танцует, говорит по-французски и который, в душе презирая мою молодость, видимо, старается скрывать это.
Несмотря на все мое уважение, во все время нашего с ним знакомства, мне, бог знает отчего, бывало тяжело и неловко смотреть ему в глаза. А я заметил после, что мне бывает неловко смотреть в глаза трем родам людей – тем, которые гораздо хуже меня, тем, которые гораздо лучше меня, и тем, с которыми мы не решаемся сказать друг другу вещь, которую оба знаем. Может быть, Дубков был и лучше, может быть, и хуже меня, но наверное уже было то, что он очень часто лгал, не признаваясь в этом, что я заметил в нем эту слабость и, разумеется, не решался ему говорить о ней.
– Сыграем еще одного короля, – сказал Володя, подергивая плечом, как папа, и тасуя карты.
– Вот пристает! – сказал Дубков. – После доиграем. Ну, а впрочем, одного – давай.
В то время как они играли, я наблюдал их руки. У Володи была большая красивая рука; отдел большого пальца и выгиб остальных, когда он держал карты, были так похожи на руку папа, что мне даже одно время казалось, что Володя нарочно так держит руки, чтоб быть похожим на большого; но, взглянув на его лицо, сейчас видно было, что он ни о чем не думает, кроме игры. У Дубкова, напротив, руки были маленькие, пухлые, загнутые внутрь, чрезвычайно ловкие и с мягкими пальцами; именно тот сорт рук, на которых бывают перстни и которые принадлежат людям, склонным к ручным работам и любящим иметь красивые вещи.
Должно быть, Володя проиграл, потому что господин, смотревший ему в карты, заметил, что Владимиру Петровичу ужасное несчастье, и Дубков, достав портфель, записал туда что-то и, показав записанное Володе, сказал: «Так?»
– Так! – сказал Володя, притворно-рассеянно взглянув в записную книжку, – теперь поедемте.
Володя повез Дубкова, меня повез Дмитрий в своем фаэтоне.
– Во что это они играли? – спросил я Дмитрия.
– В пикет. Глупая игра, да и вообще игра – глупая вещь.
– А они в большие деньги играют?
– Не в большие, однако нехорошо.
– А вы не играете?
– Нет, я дал слово не играть; а Дубков не может, чтобы не обыграть кого-нибудь.
– Ведь это нехорошо с его стороны, – сказал я. – Володя, верно, хуже его играет?
– Разумеется, нехорошо, но дурного тут ничего особенно нет. Дубков любит играть и умеет играть, а все-таки он отличный человек.
– Да я совсем не думал… – сказал я.
– Да и нельзя об нем ничего дурного думать, потому что он точно прекрасный человек. И я его очень люблю и всегда буду любить, несмотря на его слабости.
Мне почему-то показалось, что именно потому, что Дмитрий слишком горячо заступался за Дубкова, он уже не любил и не уважал его, но не признавался в том из упрямства и из-за того, чтоб его никто не мог упрекнуть в непостоянстве. Он был один из тех людей, которые любят друзей на всю жизнь, не столько потому, что эти друзья остаются им постоянно любезны, сколько потому, что раз, даже по ошибке, полюбив человека, они считают бесчестным разлюбить его.
Глава XV Меня поздравляют
Дубков и Володя знали у Яра всех людей по имени, и от швейцара до хозяина все оказывали им большое уважение. Нам тотчас отвели особенную комнату и подали какой-то удивительный обед, выбранный Дубковым по французской карте. Бутылка замороженного шампанского, на которую я старался смотреть как можно равнодушнее, уже была приготовлена. Обед прошел очень приятно и весело, несмотря на то, что Дубков, по своему обыкновению, рассказывал самые странные, будто бы истинные случаи – между прочим, как его бабушка убила из мушкетона трех напавших на нее разбойников (причем я покраснел и, потупив глаза, отвернулся от него), – и несмотря на то, что Володя, видимо, робел всякий раз, как я начинал говорить что-нибудь (что было совершенно напрасно, потому что я не сказал, сколько помню, ничего особенно постыдного). Когда подали шампанское, все поздравили меня, и я выпил через руку «на ты» с Дубковым и Дмитрием и поцеловался с ними. Так как я не знал, кому принадлежит поданная бутылка шампанского (она была общая, как после мне объяснили), и я хотел угостить приятелей на свои деньги, которые я беспрестанно ощупывал в кармане, я достал потихоньку десятирублевую бумажку и, подозвав к себе человека, дал ему деньги и шепотом, но так, что все слышали, потому что молча смотрели на меня, сказал ему, чтоб он принес, пожалуйста, уже еще полбутылочка шампанского. Володя так покраснел, так стал подергиваться и испуганно глядеть на меня и на всех, что я почувствовал, как я ошибся, но полбутылочку принесли, и мы ее выпили с большим удовольствием. Продолжало казаться очень весело. Дубков врал без умолку, и Володя тоже рассказывал такие смешные штуки и так хорошо, что я никак не ожидал от него, и мы много смеялись. Характер их смешного, то есть Володи и Дубкова, состоял в подражании и усилении известного анекдота: «Что, вы были за границей?» – будто бы говорит один. «Нет, я не был, – отвечает другой, – но брат играет на скрипке». Они в этом роде комизма бессмыслия дошли до такого совершенства, что уже самый анекдот рассказывали так, что «брат мой тоже никогда не играл на скрипке». На каждый вопрос они отвечали друг другу в том же роде, а иногда и без вопроса старались только соединить две самые несообразные вещи, говорили эту бессмыслицу с серьезным лицом, – и выходило очень смешно. Я начинал понимать, в чем было дело, и хотел тоже рассказать смешное, но все робко смотрели или старались не смотреть на меня в то время, как я говорил, и анекдот мой не вышел. Дубков сказал: «Заврался, брат, дипломат», – но мне было так приятно от выпитого шампанского и общества больших, что это замечание только чуть-чуть оцарапало меня. Один Дмитрий, несмотря на то, что пил ровно с нами, продолжал быть в своем строгом серьезном расположении духа, которое несколько сдерживало общее веселье.
– Ну, послушайте, господа, – сказал Дубков, – после обеда ведь надо дипломата в руки забрать. Не поехать ли нам к тетке, там уж мы с ним распорядимся.
– Нехлюдов ведь не поедет, – сказал Володя.
– Несносный смиренник! ты, несносный смиренник! – сказал Дубков, обращаясь к нему. – Поедем с нами, увидишь, что отличная дама тетушка.
– Не только не поеду, но и его с вами не пущу, – отвечал Дмитрий, краснея.
– Кого? дипломата? Ведь ты хочешь, дипломат? Смотри, он даже весь просиял, как только заговорили об тетушке.
– Не то что не пущу, – продолжал Дмитрий, вставая с места и начиная ходить по комнате, не глядя на меня, – а не советую ему и не желаю, чтоб он ехал. Он не ребенок теперь, и ежели хочет, то может один, без вас ехать. А тебе это должно быть стыдно, Дубков; что ты делаешь нехорошо, так хочешь, чтоб и другие то же делали.
– Что ж тут дурного, – сказал Дубков, подмигивая Володе, – что я вас всех приглашаю к тетушке на чашку чаю? Ну, а ежели тебе неприятно, что мы едем, так изволь: мы поедем с Володей. Володя, поедешь?
– Гм, гм! – утвердительно сказал Володя, – съездим туда, а потом вернемся ко мне и будем продолжать пикет.
– Что, ты хочешь ехать с ними или нет? – сказал Дмитрий, подходя ко мне.
– Нет, – отвечал я, подвигаясь на диване, чтоб дать ему место подле себя, на которое он сел, – я и просто не хочу, а если ты не советуешь, то я ни за что не поеду.
– Нет, – прибавил я потом, – я неправду говорю, что мне не хочется с ними ехать; но я рад, что не поеду.
– И отлично, – сказал он, – живи по-своему и не пляши ни по чьей дудке, это лучше всего.
Этот маленький спор не только не расстроил нашего удовольствия, но еще увеличил его. Дмитрий вдруг пришел в мое любимое, кроткое расположение духа. Такое влияние имело на него, как я после не раз замечал, сознание хорошего поступка. Он теперь был доволен собой за то, что отстоял меня. Он чрезвычайно развеселился, потребовал еще бутылку шампанского (что было против его правил), зазвал в нашу комнату какого-то незнакомого господина и стал поить его, пел Gaudeamus igitur, просил, чтоб все вторили ему, и предлагал ехать в Сокольники кататься, на что Дубков заметил, что это слишком чувствительно.
– Давайте нынче веселиться, – говорил Дмитрий, улыбаясь, – в честь его вступления я в первый раз напьюсь пьян, уж так и быть. – Эта веселость как-то странно шла к Дмитрию. Он был похож на гувернера или доброго отца, который доволен своими детьми, разгулялся и хочет их потешить и вместе доказать, что можно честно и прилично веселиться; но, несмотря на это, на меня и на других, кажется, эта неожиданная веселость действовала заразительно, тем более что на каждого из нас пришлось уже почти по полбутылке шампанского.
В таком-то приятном настроении духа я вышел в большую комнату с тем, чтобы закурить папироску, которую мне дал Дубков.
Когда я встал с места, я заметил, что голова у меня немного кружилась, и ноги шли, и руки были в естественном положении только тогда, когда я об них пристально думал. В противном же случае ноги забирали по сторонам, а руки выделывали какие-то жесты. Я устремил на эти члены все внимание, велел рукам подняться, застегнуть сюртук и пригладить волосы (причем они как-то ужасно высоко подбросили локти), а ногам велел идти в дверь, что они исполнили, но ступали как-то очень твердо или слишком нежно, особенно левая нога все становилась на цыпочку. Какой-то голос прокричал мне: «Куда ты идешь? принесут свечку». Я догадался, что этот голос принадлежал Володе, и мне доставила удовольствие мысль, что я таки догадался, но в ответ ему я только слегка улыбнулся и пошел дальше.
Глава XVI Ссора
В большой комнате сидел за маленьким столом невысокий плотный штатский господин с рыжими усами и ел что-то. Рядом с ним сидел высокий брюнет без усов. Они говорили по-французски. Их взгляд смутил меня, но я все-таки решился закурить папироску у горевшей свечки, которая стояла перед ними. Поглядывая по сторонам, чтоб не встречать их взглядов, я подошел к столу и стал зажигать папироску. Когда папироска загорелась, я не утерпел и взглянул на обедавшего господина. Его серые глаза были пристально и недоброжелательно устремлены на меня. Только что я хотел отвернуться, рыжие усы его зашевелились, и он произнес по-французски:
– Не люблю, чтоб курили, когда я обедаю, милостивый государь.
Я пробормотал что-то непонятное.
– Да-с, не люблю, – продолжал строго господин с усами, бегло взглянув на господина без усов, как будто приглашая его полюбоваться на то, как он будет обрабатывать меня, – не люблю-с, милостивый государь, и тех, которые так невежливы, что приходят курить вам в нос, и тех не люблю. – Я тотчас же сообразил, что этот господин меня распекает, но мне казалось в первую минуту, что я был очень виноват перед ним.
– Я не думал, что это вам помешает, – сказал я.
– А, вы не думали, что вы невежа, а я думал! – закричал господин.
– Какое вы имеете право кричать? – сказал я, чувствуя, что он меня оскорбляет, и начиная сам сердиться.
– Такое, что я никогда никому не позволю мне манкировать и всегда буду учить таких молодцов, как вы. Как ваша фамилия, милостивый государь? и где вы живете?
Я был очень озлоблен, губы у меня тряслись, и дыхание захватывало. Но я все-таки чувствовал себя виноватым, должно быть, за то, что я выпил много шампанского, и не сказал этому господину никаких грубостей, а напротив, губы мои самым покорным образом назвали ему мою фамилию и наш адрес.
– Моя фамилия Колпиков, милостивый государь, а вы вперед будьте учтивее. Мы еще увидимся с вами (vous aurez de mes nouvelles[88]), – заключил он, так как весь разговор происходил по-французски.
Я сказал только: «Очень рад», стараясь дать голосу как можно более твердости, повернулся и с папиросой, которая успела потухнуть, вернулся в нашу комнату.
Я ничего не сказал о случившемся со мной ни брату, ни приятелям, тем более что они были заняты каким-то горячим спором, и уселся один в уголку, рассуждая об этом странном обстоятельстве. Слова: «Вы невежа, милостивый государь» (un mal élevé, monsieur) – так и звучали у меня в ушах, все более и более возмущая меня. Хмель у меня совершенно прошел. Когда я размышлял о том, как я поступил в этом деле, мне вдруг пришла страшная мысль, что я поступил как трус. «Какое он имел право нападать на меня? Отчего он просто не сказал мне, что это ему мешает? Стало быть, он был виноват? Отчего же, когда он мне сказал, что я невежа, я не сказал ему: невежа, милостивый государь, тот, кто позволяет себе грубость? или отчего я просто не крикнул на него: молчать! – это было бы отлично; зачем я не вызвал его на дуэль? Нет! я ничего этого не сделал, а, как подлый трусишка, проглотил обиду». «Вы невежа, милостивый государь!» – беспрестанно раздражающе звучало у меня в ушах. «Нет, этого нельзя так оставить», – подумал я и встал с твердым намерением пойти опять к этому господину и сказать ему что-нибудь ужасное, а может быть, даже и прибить его подсвечником по голове, коли придется. Я с величайшим наслаждением мечтал о последнем намерении, но не без сильного страха вошел снова в большую комнату. К счастию, г. Колпикова уже не было, один лакей был в большой комнате и убирал стол. Я хотел было сообщить лакею о случившемся и объяснить ему, что я нисколько не виноват, но почему-то раздумал и в самом мрачном расположении духа снова вернулся в нашу комнату.
– Что это с нашим дипломатом сделалось? – сказал Дубков, – он, верно, решает теперь судьбу Европы.
– Ах, оставь меня в покое, – сказал я угрюмо, отворачиваясь. Вслед за тем я, расхаживая по комнате, начал размышлять почему-то о том, что Дубков вовсе не хороший человек. «И что за вечные шутки и название «дипломат» – ничего тут любезного нет. Ему бы только обыгрывать Володю да ездить к тетушке какой-то… И ничего нет в нем приятного. Все, что ни скажет, солжет, или пошлость какая-нибудь, и вечно тоже хочет насмехаться. Мне кажется, он просто глуп, да и дурной человек». В таких-то размышлениях я провел минут пять, все более и более чувствуя почему-то враждебное чувство к Дубкову. Дубков же не обращал на меня внимания, это злило меня еще более. Я даже сердился на Володю и на Дмитрия за то, что они с ним разговаривают.
– Знаете что, господа? надо дипломата водой облить, – сказал вдруг Дубков, взглянув на меня с улыбкой, которая мне показалась насмешливою и даже предательскою, – а то он плох! Ей-богу, он плох.
– И вас надо облить, сами вы плохи, – отвечал я, злостно улыбаясь и забыв даже, что ему говорил «ты».
Этот ответ, должно быть, удивил Дубкова, но он равнодушно отвернулся от меня и продолжал разговаривать с Володей и Дмитрием.
Я попробовал было присоединиться к их беседе, но чувствовал, что решительно не мог притворяться, и снова удалился в свой угол, где и пробыл до самого отъезда.
Когда расплатились и стали надевать шинели, Дубков обратился к Дмитрию:
– Ну, а Орест и Пилад куда поедут? верно, домой беседовать о любви; то ли дело мы, проведаем милую тетушку, – лучше вашей кислой дружбы.
– Как вы смеете говорить, смеяться над нами? – заговорил я вдруг, подходя к нему очень близко и махая руками, – как вы смеете смеяться над чувствами, которых не понимаете? Я вам этого не позволю. Молчать! – закричал я и сам замолчал, не зная, что говорить дальше, и задыхаясь от волнения. Дубков сначала удивился; потом хотел улыбнуться и принять это в шутку, но, наконец, к моему великому удивлению, испугался и опустил глаза.
– Я вовсе не смеюсь над вами и вашими чувствами, я так только говорю, – сказал он уклончиво.
– То-то! – закричал я, но в это же самое время мне стало совестно за себя и жалко Дубкова, красное, смущенное лицо которого выражало истинное страдание.
– Что с тобой? – заговорили вместе Володя и Дмитрий. – Никто тебя не хотел обижать.
– Нет, он хотел оскорбить меня.
– Вот отчаянный господин твой брат, – сказал Дубков в то самое время, когда он уже выходил из двери, так что не мог бы слышать того, что я скажу.
Может быть, я бросился бы догонять его и наговорил бы ему еще грубостей, но в это время тот самый лакей, который присутствовал при моей истории с Колпиковым, подал мне шинель, и я тотчас же успокоился, притворяясь только перед Дмитрием рассерженным настолько, насколько это было необходимо, чтоб мгновенное успокоение не показалось странным. На другой день мы с Дубковым встретились у Володи, не поминали об этой истории, но остались на «вы», и смотреть друг другу в глаза стало нам еще труднее.
Воспоминание о ссоре с Колпиковым, который, впрочем, ни на другой день, ни после так и не дал мне de ses nouvelles[89], было многие года для меня ужасно живо и тяжело. Я подергивался и вскрикивал лет пять после этого, всякий раз, как вспоминал неотплаченную обиду, и утешал себя, с самодовольствием вспоминая о том, каким я молодцом показал себя зато в деле с Дубковым. Только гораздо после я стал совершенно иначе смотреть на это дело и с комическим удовольствием вспоминать о ссоре с Колпиковым и раскаиваться в незаслуженном оскорблении, которое я нанес доброму малому Дубкову.
Когда я в тот же день вечером рассказал Дмитрию свое приключение с Колпиковым, которого наружность я описал ему подробно, он удивился чрезвычайно.
– Да это тот самый! – сказал он, – можешь себе представить, что этот Колпиков известный негодяй, шулер, а главное трус, выгнан товарищами из полка за то, что получил пощечину и не хотел драться. Откуда у него прыть взялась? – прибавил он с доброй улыбкой, глядя на меня, – ведь он больше ничего не сказал, как «невежа»?
– Да, – отвечал я, краснея.
– Нехорошо, ну да еще не беда! – утешал меня Дмитрий.
Только гораздо после, размышляя уже спокойно об этом обстоятельстве, я сделал предположение довольно правдоподобное, что Колпиков, после многих лет почувствовав, что на меня напасть можно, выместил на мне, в присутствии брюнета без усов, полученную пощечину, точно так же, как я тотчас же выместил его «невежу» на невинном Дубкове.
Глава XVII Я собираюсь делать визиты
Проснувшись на другой день, первою мыслию моею было приключение с Колпиковым, опять я помычал, побегал по комнате, но делать было нечего; притом нынче был последний день, который я проводил в Москве, и надо было сделать, по приказанию папа, визиты, которые он мне сам написал на бумажке. Заботою о нас отца было не столько нравственность и образование, сколько светские отношения. На бумажке было написано его изломанным быстрым почерком: 1) к князю Ивану Ивановичу непременно, 2) к Ивиным непременно, 3) к князю Михайле, 4) к княгине Нехлюдовой и к Валахиной, ежели успеешь. И, разумеется, к попечителю, к ректору и к профессорам.
Последние визиты Дмитрий отсоветовал мне делать, говоря, что это не только не нужно, но даже было бы неприлично, но остальные надо было все сделать сегодня. Из них особенно пугали меня два первые визита, подле которых было написано непременно. Князь Иван Иваныч был генерал-аншеф, старик, богач и один; стало быть, я, шестнадцатилетний студент, должен был иметь с ним прямые отношения, которые, я предчувствовал, не могли быть для меня лестны. Ивины тоже были богачи, и отец их был какой-то важный штатский генерал, который всего только раз, при бабушке, сам был у нас. После же смерти бабушки, я замечал, младший Ивин дичился нас и как будто важничал. Старший, как я знал по слухам, уж кончил курс в Правоведении и служил в Петербурге; второй, Сергей, которого я обожал некогда, был тоже в Петербурге большим толстым кадетом в Пажеском корпусе.
Я в юности не только не любил отношений с людьми, которые считали себя выше меня, но такие отношения были для меня невыносимо мучительны, вследствие постоянного страха оскорбления и напряжения всех умственных сил на то, чтобы доказать им свою самостоятельность. Однако, не исполняя последнего приказания папа, надо было загладить вину исполнением первых. Я ходил по комнате, оглядывая разложенные на стульях платье, шпагу и шляпу, и собирался уж ехать, когда ко мне пришел с поздравлением старик Грап и привел с собой Иленьку. Отец Грап был обрусевший немец, невыносимо приторный, льстивый и весьма часто нетрезвый; он приходил к нам большею частью только для того, чтобы просить о чем-нибудь, и папа сажал его иногда у себя в кабинете, но обедать его никогда не сажали с нами. Его унижение и попрошайничество так слилось с каким-то внешним добродушием и привычкою к нашему дому, что все ставили ему в большую заслугу его будто бы привязанность ко всем нам, но я почему-то не любил его, и когда он говорил, мне всегда бывало стыдно за него.
Я был очень недоволен приходом этих гостей и не старался скрывать своего неудовольствия. На Иленьку я так привык смотреть свысока, и он так привык считать нас вправе это делать, что мне было несколько неприятно, что он такой же студент, как и я. Мне казалось, что и ему было несколько совестно передо мной за это равенство. Я холодно поздоровался с ним и, не пригласив их сесть, потому что мне было совестно это сделать, думая, что они это могут сделать и без моего приглашения, велел закладывать пролетку. Иленька был добрый, очень честный и весьма неглупый молодой человек, но он был то, что называется малый с дурью; на него беспрестанно находило, и, казалось, без всяких причин, какое-нибудь крайнее расположение духа – то плаксивость, то смешливость, то обидчивость за всякую малость; и теперь, как кажется, он находился в этом последнем настроении духа. Он ничего не говорил, злобно посматривал на меня и на отца и только, когда к нему обращались, улыбался своею покорной, принужденной улыбкой, под которой он уж привык скрывать все свои чувства и особенно чувство стыда за своего отца, которое он не мог не испытывать при нас.
– Так-то-с, Николай Петрович, – говорил мне старик, следуя за мной по комнате, в то время как я одевался, и почтительно медленно вертя между своими толстыми пальцами серебряную, подаренную бабушкой, табакерку, – как только узнал от сына, что вы изволили так отлично выдержать экзамен – ведь ваш ум всем известен, – тотчас прибежал поздравить, батюшка; ведь я вас на плече носил, и бог видит, что всех вас, как родных, люблю, и Иленька мой все просился к вам. Тоже и он привык уж к вам.
Иленька в это время сидел молча у окна, рассматривая будто бы мою треугольную шляпу, и чуть заметно что-то сердито бормотал себе под нос.
– Ну, а я вас хотел спросить, Николай Петрович, – продолжал старик, – как мой-то Илюша, хорошо экзаменовался? Он говорил, что будет с вами вместе, так вы уж его не оставьте, присмотрите за ним, посоветуйте.
– Что же, он прекрасно выдержал, – отвечал я, взглянув на Иленьку, который, почувствовав на себе мой взгляд, покраснел и перестал шевелить губами.
– А можно ему у вас пробыть нынче денек? – сказал старик с такой робкой улыбкой, как будто он очень боялся меня, и все, куда бы я ни подвинулся, оставаясь от меня в таком близком расстоянии, что винный и табачный запах, которым он весь был пропитан, ни на секунду не переставал мне быть слышен. Мне было досадно за то, что он ставил меня в такое фальшивое положение к своему сыну, и за то, что отвлекал мое внимание от весьма важного для меня тогда занятия – одеванья; а главное, этот преследующий меня запах перегара так расстроил меня, что я очень холодно сказал ему, что я не могу быть с Иленькой, потому что целый день не буду дома.
– Да ведь вы хотели идти к сестрице, батюшка, – сказал Иленька, улыбаясь и не глядя на меня, – да и мне дело есть. – Мне стало еще досаднее и совестнее, и чтобы загладить чем-нибудь свой отказ, я поспешил сообщить, что я не буду дома, потому что должен быть у князя Ивана Иваныча, у княгини Корнаковой, у Ивина, того самого, что имеет такое важное место, и что, верно, буду обедать у княгини Нехлюдовой. Мне казалось, что, узнав, к каким важным людям я еду, они уже не могли претендовать на меня. Когда они собрались уходить, я пригласил Иленьку заходить ко мне в другой раз; но Иленька только промычал что-то и улыбнулся с принужденным выражением. Видно было, что ноги его больше никогда у меня не будет.
Вслед за ними я поехал по своим визитам. Володя, которого еще утром я просил ехать вместе, чтобы мне было не так неловко одному, отказался, под предлогом, что это было бы слишком чувствительно, что два братца ездят вместе на одной пролеточке.
Глава XVIII Валахины
Итак, я отправился один. Первый визит был, по местности, к Валахиной, на Сивцевом Вражке. Я года три не видал Сонечки, и любовь моя к ней, разумеется, давным-давно прошла, но в душе оставалось еще живое и трогательное воспоминание прошедшей детской любви. Мне случалось в продолжение этих трех лет вспоминать об ней с такой силой и ясностью, что я проливал слезы и чувствовал себя снова влюбленным, но это продолжалось только несколько минут и возвращалось снова не скоро.
Я знал, что Сонечка с матерью была за границею, где они пробыли года два и где, рассказывали, их вывалили в дилижансе и Сонечке изрезали лицо стеклами кареты, отчего она будто бы очень подурнела. Дорогой к ним я живо вспоминал о прежней Сонечке и думал о том, какою теперь ее встречу. Вследствие двухлетнего пребывания ее за границей я воображал ее почему-то чрезвычайно высокой, с прекрасной талией, серьезной и важной, но необыкновенно привлекательной. Воображение мое отказывалось представлять ее с изуродованным шрамами лицом; напротив, слышав где-то про страстного любовника, оставшегося верным своему предмету, несмотря на изуродовавшую его оспу, я старался думать, что я влюблен в Сонечку, для того чтобы иметь заслугу, несмотря на шрамы, остаться ей верным. Вообще, подъезжая к дому Валахиных, я не был влюблен, но, расшевелив в себе старые воспоминания любви, был хорошо приготовлен влюбиться и очень желал этого; тем более что мне уже давно было совестно, глядя на всех своих влюбленных приятелей, за то, что я так отстал от них.
Валахины жили в маленьком чистеньком деревянном домике, вход которого был со двора. Дверь отпер мне, по звону в колокольчик, который был тогда еще большою редкостью в Москве, крошечный, чисто одетый мальчик. Он не умел или не хотел сказать мне, дома ли господа, и, оставив одного в темной передней, убежал в еще более темный коридор.
Я довольно долго оставался один в этой темной комнате, в которой, кроме входа и коридора, была еще одна запертая дверь, и отчасти удивлялся этому мрачному характеру дома, отчасти полагал, что это так должно быть у людей, которые были за границей. Минут через пять дверь в залу отперлась изнутри посредством того же мальчика и он провел меня в опрятную, но небогатую гостиную, в которую вслед за мною вошла Сонечка.
Ей было семнадцать лет. Она была очень мала ростом, очень худа и с желтоватым, нездоровым цветом лица. Шрамов на лице не было заметно никаких, но прелестные выпуклые глаза и светлая, добродушно веселая улыбка были те же, которые я знал и любил в детстве. Я совсем не ожидал ее такою и поэтому никак не мог сразу излить на нее то чувство, которое приготовил дорогой. Она подала мне руку по английскому обычаю, который был тогда такая же редкость, как и колокольчик, пожала откровенно мою руку и усадила подле себя на диване.
– Ах, как я рада вас видеть, милый Niсolas, – сказала она, вглядываясь мне в лицо с таким искренним выражением удовольствия, что в словах «милый Nicolas» я заметил дружеский, а не покровительственный тон. Она, к удивлению моему, после поездки за границу была еще проще, милее и родственнее в обращении, чем прежде. Я заметил два маленькие шрама около носу и на брови, но чудесные глаза и улыбка были совершенно верны с моими воспоминаниями и блестели по-старому.
– Как вы переменились! – говорила она, – совсем большой стали. Ну, а я – как вы находите?
– Ах, я бы вас не узнал, – отвечал я, несмотря на то, что в это самое время думал, что я всегда бы узнал ее. Я чувствовал себя снова в том беспечно веселом расположении духа, в котором я пять лет тому назад танцевал с ней гросфатер на бабушкином бале.
– Что ж, я очень подурнела? – спросила она, встряхивая головкой.
– Нет, совсем нет; выросли немного, старше стали, – заторопился я отвечать, – но напротив… и даже…
– Ну, да все равно; а помните наши танцы, игры, St.– Jérôme’а, madame Dorât? (Я не помнил никакой madame Dorât; она, видно, увлекалась наслаждением детских воспоминаний и смешивала их.) Ах, славное время было, – продолжала она, и та же улыбка, даже лучше той, которую я носил в воспоминании, и все те же глаза блестели передо мною. В то время как она говорила, я успел подумать о том положении, в котором я находился в настоящую минуту, и решил сам с собою, что в настоящую минуту я был влюблен. Как только я решил это, в ту же секунду исчезло мое счастливое, беспечное расположение духа, какой-то туман покрыл все, что было передо мной, – даже ее глаза и улыбку, мне стало чего-то стыдно, я покраснел и потерял способность говорить.
– Теперь другие времена, – продолжала она, вздохнув и подняв немного брови, – гораздо все хуже стало, и мы хуже стали, не правда ли, Nicolas?
Я не мог отвечать и молча смотрел на нее.
– Где все теперь тогдашние Ивины, Корнаковы? Помните? – продолжала она, с некоторым любопытством вглядываясь в мое раскрасневшееся, испуганное лицо, – славное было время!
Я все-таки не мог отвечать.
Из этого тяжелого положения вывел меня на время приход в комнату старой Валахиной. Я встал, поклонился и снова получил способность говорить; но зато с приходом матери с Сонечкой произошла странная перемена. Вся ее веселость и родственность вдруг исчезли, даже улыбка сделалась другая, и она вдруг, исключая высокого роста, стала той приехавшей из-за границы барышней, которую я воображал найти в ней. Казалось, такая перемена не имела никакой причины, потому что мать ее улыбалась так же приятно и во всех движениях выражала такую же кротость, как и в старину. Валахина села на большие кресла и указала мне место подле себя. Дочери она сказала что-то по-английски, и Сонечка тотчас же вышла, что меня еще более облегчило. Валахина расспрашивала про родных, про брата, про отца, потом рассказала мне про свое горе – потерю мужа, и уже, наконец, чувствуя, что со мною говорить больше нечего, смотрела на меня молча, как будто говоря: «Ежели ты теперь встанешь, раскланяешься и уедешь, то сделаешь очень хорошо, мой милый», – но со мной случилось странное обстоятельство. Сонечка вернулась в комнату с работой и села в другом углу гостиной так, что я чувствовал на себе ее взгляды. Во время рассказа Валахиной о потере мужа я еще раз вспомнил о том, что я влюблен, и подумал еще, что, вероятно, и мать уже догадалась об этом, и на меня снова нашел припадок застенчивости, такой сильной, что я чувствовал себя не в состоянии пошевелиться ни одним членом естественно. Я знал, что для того, чтобы встать и уйти, я должен буду думать о том, куда поставить ногу, что сделать с головой, что с рукой; одним словом, я чувствовал почти то же самое, что и вчера, когда выпил полбутылки шампанского. Я предчувствовал, что со всем этим я не управлюсь, и поэтому не мог встать, и действительно не мог встать. Валахина, верно, удивлялась, глядя на мое красное, как сукно, лицо и совершенную неподвижность; но я решил, что лучше сидеть в этом глупом положении, чем рисковать как-нибудь нелепо встать и выйти. Так я и сидел довольно долго, ожидая, что какой-нибудь непредвиденный случай выведет меня из этого положения. Случай этот представился в лице невидного молодого человека, который, с приемами домашнего, вошел в комнату и учтиво поклонился мне. Валахина встала, извиняясь, сказала, что ей надо поговорить с своим homme d’affaires[90], и взглянула на меня с недоумевающим выражением, говорившим: «Ежели вы век хотите сидеть, то я вас не выгоняю». Кое-как сделав страшное усилие над собою, я встал, но уже не был в состоянии поклониться, и выходя, провожаемый взглядами соболезнования матери и дочери, зацепил за стул, который вовсе не стоял на моей дороге, – но зацепил потому, что все внимание мое было устремлено на то, чтобы не зацепить за ковер, который был под ногами. На чистом воздухе, однако, – подергавшись и помычав так громко, что даже Кузьма несколько раз спрашивал: «Что угодно?» – чувство это рассеялось, и я стал довольно спокойно размышлять об моей любви к Сонечке и о ее отношениях к матери, которые мне показались странны. Когда я потом рассказывал отцу о моем замечании, что Валахина с дочерью не в хороших отношениях, он сказал:
– Да, она ее мучит, бедняжку, своей страшной скупостью, и странно, – прибавил он с чувством более сильным, чем то, которое мог иметь просто к родственнице. – Какая была прелестная, милая, чудная женщина! Я не могу понять, отчего она так переменилась. Ты не видел там, у ней, ее секретаря какого-то? И что за манера русской барыне иметь секретаря? – сказал он, сердито отходя от меня.
– Видел, – отвечал я.
– Что, он хорош собой, по крайней мере?
– Нет, совсем нехорош.
– Непонятно, – сказал папа и сердито подергал плечом и покашлял.
«Вот я и влюблен», – думал я, катясь далее в своих дрожках.
Глава XIX Корнаковы
Второй визит по дороге был к Корнаковым. Они жили в бельэтаже большого дома на Арбате. Лестница была чрезвычайно парадна и опрятна, но не роскошна. Везде лежали полосушки, прикрепленные чисто-начисто вычищенными медными прутами, но ни цветов, ни зеркал не было. Зала, через светло налощенный пол которой я прошел в гостиную, была также строго, холодно и опрятно убрана, все блестело и казалось прочным, хотя и не совсем новым, но ни картин, ни гардин, никаких украшений нигде не было заметно. Несколько княжон были в гостиной. Они сидели так аккуратно и праздно, что сейчас было заметно: они не так сидят, когда у них не бывает гостя.
– Maman сейчас выйдет, – сказала мне старшая из них, подсев ко мне ближе. С четверть часа эта княжна занимала меня разговором весьма свободно и так ловко, что разговор ни на секунду не умолкал. Но уж слишком заметно было, что она занимает меня, и поэтому она мне не понравилась. Она рассказала мне между прочим, что их брат Степан, которого они звали Этьен и которого года два тому назад отдали в Юнкерскую школу, был уже произведен в офицеры. Когда она говорила о брате и особенно о том, что он против воли maman пошел в гусары, она сделала испуганное лицо, и все младшие княжны, сидевшие молча, сделали тоже испуганные лица; когда она говорила о кончине бабушки, она сделала печальное лицо, и все младшие княжны сделали то же; когда она вспомнила о том, как я ударил St.-Jérôme’a и меня вывели, она засмеялась и показала дурные зубы, и все княжны засмеялись и показали дурные зубы.
Вошла княгиня; та же маленькая, сухая женщина с бегающими глазами и привычкой оглядываться на других, в то время как она говорила с вами. Она взяла меня за руку и подняла свою руку к моим губам, чтобы я поцеловал ее, чего бы я иначе, не полагая этого необходимым, никак не сделал.
– Как я рада вас видеть, – заговорила она с своей обыкновенной речивостью, оглядываясь на дочерей. – Ах, как он похож на свою maman. Не правда ли, Lise?
Lise сказала, что правда, хотя я знаю наверно, что во мне не было ни малейшего сходства с матушкой.
– Так вот как вы, уж и большой стали! И мой Этьен, вы его помните, ведь он ваш троюродный… нет, не троюродный, а как это, Lise? моя мать была Варвара Дмитриевна, дочь Дмитрия Николаича, а ваша бабушка Наталья Николаевна.
– Так четвероюродный, maman, – сказала старшая княжна.
– Ах, ты все путаешь, – сердито крикнула на нее мать, – совсем не троюродный, a issus de germains[91], – вот как вы с моим Этьеночкой. Он уж офицер, знаете? Только нехорошо, что уж слишком на воле. Вас, молодежь, надо еще держать в руках, и вот как!.. Вы на меня не сердитесь, на старую тетку, что я вам правду говорю; я Этьена держала строго и нахожу, что так надо.
– Да, вот как мы родня, – продолжала она, – князь Иван Иваныч мне дядя родной и вашей матери был дядя. Стало быть, двоюродные мы были с вашей maman, нет, троюродные, да, так. Ну, а скажите: вы были, мой друг, у кнезь Ивана?
Я сказал, что еще нет, но буду нынче.
– Ах, как это можно! – воскликнула она, – это вам первый визит надо было сделать. Ведь вы знаете, что кнезь Иван вам все равно что отец. У него детей нет, стало быть, его наследники только вы да мои дети. Вам надо его уважать и по летам, и по положению в свете, и по всему. Я знаю, вы, молодежь нынешнего века, уж не считаете родство и не любите стариков; но вы меня послушайте, старую тетку, потому что я вас люблю, и вашу maman любила, и бабушку тоже очень, очень любила и уважала. Нет, вы поезжайте, непременно, непременно поезжайте.
Я сказал, что непременно поеду, и так как уж визит, по моему мнению, продолжался достаточно долго, я встал и хотел уехать, но она удержала меня.
– Нет, постойте минутку. Где ваш отец, Lise? позовите его сюда; он так рад будет вас видеть, – продолжала она, обращаясь ко мне.
Через минуты две действительно вошел князь Михайло. Это был невысокий плотный господин, весьма неряшливо одетый, невыбритый и с каким-то таким равнодушным выражением в лице, что оно походило даже на глупое. Он нисколько не был рад меня видеть, по крайней мере, не выразил этого. Но княгиня, которой он, по-видимому, очень боялся, сказала ему:
– Не правда ли, как Вольдемар (она забыла, верно, мое имя) похож на свою maman? – и сделала такой жест глазами, что князь, должно быть, догадавшись, чего она хотела, подошел ко мне и с самым бесстрастным, даже недовольным выражением лица протянул мне свою небритую щеку, в которую я должен был поцеловать его.
– А ты еще не одет, а тебе надо ехать, – тотчас же после этого начала говорить ему княгиня сердитым тоном, который, видимо, был ей привычен в отношении с домашними, – опять чтоб на тебя сердились, опять хочешь восстановить против себя.
– Сейчас, сейчас, матушка, – сказал князь Михайло и вышел. Я раскланялся и вышел тоже.
Я в первый раз слышал, что мы были наследники князя Ивана Иваныча, и это известие неприятно поразило меня.
Глава XX Ивины
Мне еще тяжелей стало думать о предстоящем необходимом визите. Но прежде, чем к князю, по дороге надо было заехать к Ивиным. Они жили на Тверской, в огромном красивом доме. Не без боязни вошел я на парадное крыльцо, у которого стоял швейцар с булавой.
Я спросил его – дома ли?
– Кого вам надо? Генеральский сын дома, – сказал мне швейцар.
– А сам генерал? – спросил я храбро.
– Надо доложить. Как прикажете? – сказал швейцар и позвонил. Лакейские ноги в штиблетах показались на лестнице. Я так оробел, сам не знаю чего, что сказал лакею, чтоб он не докладывал генералу, а что я пройду прежде к генеральскому сыну. Когда я шел вверх по этой большой лестнице, мне показалось, что я сделался ужасно маленький (и не в переносном, а в настоящем значении этого слова). То же чувство я испытал и тогда, когда мои дрожки подъехали к большому крыльцу: мне показалось, что и дрожки, и лошадь, и кучер сделались маленькие. Генеральский сын лежал на диване с открытой перед ним книгой и спал, когда я вошел к нему. Его гувернер, г. Фрост, который все еще оставался у них в доме, вслед за мной своей молодецкой походкой вошел в комнату и разбудил своего воспитанника. Ивин не изъявил особенной радости при виде меня, и я заметил, что, разговаривая со мной, он смотрел мне в брови. Хотя он был очень учтив, мне казалось, что он занимает меня так же, как и княжна, и что особенного влеченья ко мне он не чувствовал, а надобности в моем знакомстве ему не было, так как у него, верно, был свой, другой круг знакомства. Все это я сообразил преимущественно потому, что он смотрел мне в брови. Одним словом, его отношения со мной были, как мне ни неприятно признаться в этом, почти такие же, как мои с Иленькой. Я начинал приходить в раздраженное состояние духа, каждый взгляд Ивина ловил на лету и, когда он встречался с глазами Фроста, переводил его вопросом: «И зачем он приехал к нам?»
Поговорив немного со мной, Ивин сказал, что его отец и мать дома, так не хочу ли я сойти к ним вместе.
– Сейчас я оденусь, – прибавил он, выходя в другую комнату, несмотря на то, что и в своей комнате был хорошо одет – в новом сюртуке и белом жилете. Через несколько минут он вышел ко мне в мундире, застегнутом на все пуговицы, и мы вместе пошли вниз. Парадные комнаты, через которые мы прошли, были чрезвычайно велики, высоки и, кажется, роскошно убраны, что-то было там мраморное, и золотое, и обвернутое кисеей, и зеркальное. Ивина в одно время с нами из другой двери вошла в маленькую комнату за гостиной. Она очень дружески-родственно приняла меня, усадила подле себя и с участием расспрашивала меня о всем нашем семействе.
Ивина, которую я прежде раза два видал мельком, а теперь рассмотрел внимательно, очень понравилась мне. Она была велика ростом, худа, очень бела и казалась постоянно грустной и изнуренной. Улыбка у нее была печальная, но чрезвычайно добрая; глаза были большие, усталые и несколько косые, что давало ей еще более печальное и привлекательное выражение. Она сидела не сгорбившись, а как-то опустившись всем телом, все движенья ее были падающие. Она говорила вяло, но звук голоса ее и выговор с неясным произношением p и л были очень приятны. Она не занимала меня. Ей, видимо, доставляли грустный интерес мои ответы об родных, как будто она, слушая меня, с грустью вспоминала лучшие времена. Сын ее вышел куда-то, она минуты две молча смотрела на меня и вдруг заплакала. Я сидел перед ней и никак не мог придумать, что бы мне сказать или сделать. Она продолжала плакать, не глядя на меня. Сначала мне было жалко ее, потом я подумал: «Не надо ли утешать ее, и как это надо сделать?» – и, наконец, мне стало досадно за то, что она ставила меня в такое неловкое положение. «Неужели я имею такой жалкий вид? – думал я, – или уж не нарочно ли она это делает, чтоб узнать, как я поступлю в этом случае?»
«Уйти же теперь неловко, – как будто я бегу от ее слез», – продолжал думать я. Я повернулся на стуле, чтоб хоть напомнить ей о моем присутствии.
– Ах, какая я глупая! – сказала она, взглянув на меня и стараясь улыбнуться, – бывают такие дни, что плачешь без всякой причины.
Она стала искать платок подле себя на диване и вдруг заплакала еще сильнее.
– Ах, боже мой! как это смешно, что я все плачу. Я так любила вашу мать, мы так дружны… были… и…
Она нашла платок, закрылась им и продолжала плакать. Опять повторилось мое неловкое положение и продолжалось довольно долго. Мне было и досадно, и еще больше жалко ее. Слезы ее казались искренни, и мне все думалось, что она не столько плакала об моей матери, сколько о том, что ей самой было не хорошо теперь, а когда-то, в те времена, было гораздо лучше. Не знаю, чем бы это кончилось, ежели бы не вошел молодой Ивин и не сказал, что старик Ивин ее спрашивает. Она встала и хотела уже идти, когда сам Ивин вошел в комнату. Это был маленький, крепкий, седой господин с густыми черными бровями, с совершенно седой, коротко обстриженной головой и чрезвычайно строгим и твердым выражением рта.
Я встал и поклонился ему, но Ивин, у которого было три звезды на зеленом фраке, не только не ответил на мой поклон, но почти не взглянул на меня, так что я вдруг почувствовал, что я не человек, а какая-то не стоящая внимания вещь – кресло или окошко, или ежели человек, то такой, который нисколько не отличается от кресла или окошка.
– А вы всё не написали графине, моя милая, – сказал он жене по-французски, с бесстрастным, но твердым выражением лица.
– Прощайте, monsieur Irteneff, – сказала мне Ивина, вдруг как-то гордо кивнув головой и так же, как сын, посмотрев мне в брови. Я поклонился еще раз и ей, и ее мужу, и опять на старого Ивина мой поклон подействовал так же, как ежели бы открыли или закрыли окошко. Студент Ивин проводил меня, однако, до двери и дорогой рассказал, что он переходит в Петербургский университет, потому что отец его получил там место (он назвал мне какое-то очень важное место).
«Ну, уж как папа хочет, – пробормотал я сам себе, садясь в дрожки, – а моя нога больше не будет здесь никогда; эта нюня плачет, на меня глядя, точно я несчастный какой-нибудь, а Ивин, свинья, не кланяется; я же ему задам…» Чем это я хотел задать ему, я решительно не знаю, но так это пришлось к слову.
После часто мне надо было выдерживать увещания отца, который говорил что необходимо кюльтивировать это знакомство и что я не могу требовать, чтоб человек в таком положении, как Ивин, занимался мальчишкой, как я; но я выдержал характер довольно долго.
Глава XXI Князь Иван Иваныч
– Ну, теперь последний визит на Никитскую, – сказал я Кузьме, и мы покатили к дому князя Ивана Иваныча.
Пройдя через несколько визитных испытаний, я обыкновенно приобретал самоуверенность и теперь подъезжал было к князю с довольно спокойным духом, как вдруг мне вспомнились слова княгини Корнаковой, что я наследник; кроме того, я увидел у крыльца два экипажа и почувствовал прежнюю робость.
Мне казалось, что и старый швейцар, который отворил мне дверь, и лакей, который снял с меня шинель, и три дамы и два господина, которых я нашел в гостиной, и в особенности сам князь Иван Иваныч, который в штатском сюртуке сидел на диване, – мне казалось, что все смотрели на меня как на наследника, и вследствие этого недоброжелательно. Князь был со мной очень ласков, поцеловал меня, то есть приложил на секунду к моей щеке мягкие, сухие и холодные губы, расспрашивал о моих занятиях, планах, шутил со мной, спрашивал, пишу ли я всё стихи, как те, которые написал в именины бабушки, и сказал, чтобы я приходил нынче к нему обедать. Но чем больше он был ласков, тем больше мне все казалось, что он хочет обласкать меня только с тем, чтобы не дать заметить, как ему неприятна мысль, что я его наследник. Он имел привычку, происходившую от фальшивых зубов, которых у него был полон рот, – сказав что-нибудь, поднимать верхнюю губу к носу и, производя легкий звук сопения, как будто втягивать эту губу себе в ноздри, и когда он это делал теперь, мне все казалось, что он про себя говорил: «Мальчишка, мальчишка, и без тебя знаю: наследник, наследник», и т. д.
Когда мы были детьми, мы называли князя Ивана Иваныча дедушкой, но теперь, в качестве наследника, у меня язык не ворочался сказать ему – «дедушка», а сказать – «ваше сиятельство», – как говорил один из господ, бывших тут, мне казалось унизительным, так что во все время разговора я старался никак не называть его. Но более всего меня смущала старая княжна, бывшая тоже наследницей князя и жившая в его доме. Во все время обеда, за которым я сидел рядом с княжной, я предполагал, что княжна не говорит со мной потому, что ненавидит меня за то, что я такой же наследник князя, как и она, и что князь не обращает внимания на нашу сторону стола потому, что мы – я и княжна – наследники, ему одинаково противны.
– Да, ты не поверишь, как мне было неприятно, – говорил я в тот же день вечером Дмитрию, желая похвастаться перед ним чувством отвращения к мысли о том, что я наследник (мне казалось, что это чувство очень хорошее), – как мне неприятно было нынче целых два часа пробыть у князя. Он прекрасный человек и был очень ласков ко мне, – говорил я, желая, между прочим, внушить своему другу, что все это я говорю не вследствие того, чтобы я чувствовал себя униженным перед князем, – но, – продолжал я, – мысль о том, что на меня могут смотреть, как на княжну, которая живет у него в доме и подличает перед ним, – ужасная мысль. Он чудесный старик и со всеми чрезвычайно добр и деликатен, а больно смотреть, как он мальтретирует эту княжну. Эти отвратительные деньги портят все отношения! Знаешь, я думаю, гораздо бы лучше прямо объясниться с князем, – говорил я, – сказать ему, что я его уважаю как человека, но о наследстве его не думаю и прошу его, чтобы он мне ничего не оставлял, и что только в этом случае я буду ездить к нему.
Дмитрий не расхохотался, когда я сказал ему это; напротив, он задумался и, помолчав несколько минут, сказал мне:
– Знаешь что? Ты не прав. Или тебе не должно вовсе предполагать, чтоб о тебе могли думать так же, как об этой вашей княжне какой-то, или ежели уж ты предполагаешь это, то предполагай дальше, то есть что ты знаешь, что о тебе могут думать, но что мысли эти так далеки от тебя, что ты их презираешь и на основании их ничего не будешь делать. Ты предполагай, что они предполагают, что ты предполагаешь это… но, одним словом, – прибавил он, чувствуя, что путается в своем рассуждении, – гораздо лучше вовсе и не предполагать этого.
Мой друг был совершенно прав; только гораздо, гораздо позднее я из опыта жизни убедился в том, как вредно думать и еще вреднее говорить многое, кажущееся очень благородным, но что́ должно навсегда быть спрятано от всех в сердце каждого человека, – и в том, что благородные слова редко сходятся с благородными делами. Я убежден в том, что уже по одному тому, что хорошее намерение высказано, – трудно, даже большей частью невозможно, исполнить это хорошее намерение. Но как удержать от высказывания благородно-самодовольные порывы юности? Только гораздо позже вспоминаешь их и жалеешь о них, как о цветке, который – не удержался – сорвал нераспустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным.
Я, который сейчас только говорил Дмитрию, своему другу, о том, как деньги портят отношения, на другой день утром, перед нашим отъездом в деревню, когда оказалось, что я промотал все свои деньги на разные картинки и стамбулки, взял у него двадцать пять рублей ассигнациями на дорогу, которые он предложил мне, и потом очень долго оставался ему должен.
Глава XXII Задушевный разговор с моим другом
Теперешний разговор наш происходил в фаэтоне на дороге в Кунцево. Дмитрий отсоветовал мне ехать утром с визитом к своей матери, а заехал за мной после обеда, чтоб увезти на весь вечер, и даже ночевать, на дачу, где жило его семейство. Только когда мы выехали из города и грязно-пестрые улицы и несносный оглушительный шум мостовой заменились просторным видом полей и мягким похряскиванием колес по пыльной дороге и весенний пахучий воздух и простор охватил меня со всех сторон, только тогда я немного опомнился от разнообразных новых впечатлений и сознания свободы, которые в эти два дня совершенно меня запутали. Дмитрий был общителен и кроток, не поправлял головой галстука, не подмигивал нервически и не зажмуривался; я был доволен теми благородными чувствами, которые ему высказал, полагая, что за них он совершенно простил мне мою постыдную историю с Колпиковым, не презирает меня за нее, и мы дружно разговорились о многом таком задушевном, которое не во всяких условиях говорится друг другу. Дмитрий рассказывал мне про свое семейство, которого я еще не знал, про мать, тетку, сестру и ту, которую Володя и Дубков считали пассией моего друга и называли рыженькой. Про мать он говорил с некоторой холодной и торжественной похвалой, как будто с целью предупредить всякое возражение по этому предмету; про тетку он отзывался с восторгом, но и с некоторой снисходительностью; про сестру он говорил очень мало и как будто бы стыдясь мне говорить о ней; но про рыженькую, которую по-настоящему звали Любовью Сергеевной и которая была пожилая девушка, жившая по каким-то семейным отношениям в доме Нехлюдовых, он говорил мне с одушевлением.
– Да, она удивительная девушка, – говорил он, стыдливо краснея, но тем с большей смелостью глядя мне в глаза, – она уж не молодая девушка, даже скорей старая, и совсем нехороша собой, но ведь что за глупость, бессмыслица – любить красоту! – я этого не могу понять, так это глупо (он говорил это, как будто только что открыл самую новую, необыкновенную истину), а такой души, сердца и правил… я уверен, не найдешь подобной девушки в нынешнем свете (не знаю, от кого перенял Дмитрий привычку говорить, что все хорошее редко в нынешнем свете, но он любил повторять это выражение, и оно как-то шло к нему). Только я боюсь, – продолжал он спокойно, совершенно уже уничтожив своим рассуждением людей, которые имели глупость любить красоту, – я боюсь, что ты не поймешь и не узнаешь ее скоро: она скромна и даже скрытна, не любит показывать свои прекрасные, удивительные качества. Вот матушка, которая, ты увидишь, прекрасная и умная женщина, – она знает Любовь Сергеевну уже несколько лет и не может и не хочет понять ее. Я даже вчера… я скажу тебе, отчего я был не в духе, когда ты у меня спрашивал. Третьего дня Любовь Сергеевна желала, чтоб я съездил с ней к Ивану Яковлевичу, – ты слышал, верно, про Ивана Яковлевича, который будто бы сумасшедший, а действительно – замечательный человек. Любовь Сергеевна чрезвычайно религиозна, надо тебе сказать, и понимает совершенно Ивана Яковлевича. Она часто ездит к нему, беседует с ним и дает ему для бедных деньги, которые сама вырабатывает. Она удивительная женщина, ты увидишь. Ну, и я ездил с ней к Ивану Яковлевичу и очень благодарен ей за то, что видел этого замечательного человека. А матушка никак не хочет понять этого, видит в этом суеверие. И вчера у меня с матушкой в первый раз в жизни был спор, и довольно горячий, – заключил он, сделав судорожное движение шеей, как будто в воспоминание о чувстве, которое он испытывал при этом споре.
– Ну, и как же ты думаешь? то есть как, когда ты воображаешь, что выйдет… или вы с нею говорите о том, что будет и чем кончится ваша любовь или дружба? – спросил я, желая отвлечь его от неприятного воспоминания.
– Ты спрашиваешь, думаю ли я жениться на ней? – спросил он меня, снова краснея, но смело, повернувшись, глядя мне в лицо.
«Что ж в самом деле, – подумал я, успокаивая себя, – это ничего, мы большие, два друга, едем в фаэтоне и рассуждаем о нашей будущей жизни. Всякому даже приятно бы было теперь со стороны послушать и посмотреть на нас».
– Отчего ж нет? – продолжал он после моего утвердительного ответа, – ведь моя цель, как и всякого благоразумного человека, – быть счастливым и хорошим, сколько возможно; и с ней, ежели только она захочет этого, когда я буду совершенно независим, я с ней буду и счастливее и лучше, чем с первой красавицей в мире.
В таких разговорах мы и не заметили, как подъезжали к Кунцеву, – не заметили и того, что небо заволокло и собирался дождик. Солнце уже стояло невысоко, направо, над старыми деревьями кунцевского сада и половина блестящего красного круга была закрыта серой, слабо просвечивающей тучей; из другой половины брызгами вырывались раздробленные огненные лучи и поразительно ярко освещали старые деревья сада, неподвижно блестевшие своими зелеными густыми макушками еще на ясном, освещенном месте лазури неба. Блеск и свет этого края неба был резко противоположен лиловой тяжелой туче, которая залегла перед нами над молодым березняком, видневшимся на горизонте.
Немного правее виднелись уже из-за кустов и дерев разноцветные крыши дачных домиков, из которых некоторые отражали на себе блестящие лучи солнца, некоторые принимали на себя унылый характер другой стороны неба. Налево внизу синел неподвижный пруд, окруженный бледно-зелеными ракитами, которые темно отражались на его матовой, как бы выпуклой поверхности. За прудом, по полугорью, расстилалось паровое чернеющее поле, и прямая линия ярко-зеленой межи, пересекавшей его, уходила вдаль и упиралась в свинцовый грозовой горизонт. С обеих сторон мягкой дороги, по которой мерно покачивался фаэтон, резко зеленела сочная уклочившаяся рожь, уж кое-где начинавшая выбивать в трубку. В воздухе было совершенно тихо и пахло свежестью; зелень деревьев, листьев и ржи была неподвижна и необыкновенно чиста и ярка. Казалось, каждый лист, каждая травка жили своей отдельной, полной и счастливой жизнью. Около дороги я заметил черноватую тропинку, которая вилась между темно-зеленой, уже больше чем на четверть поднявшейся рожью, и эта тропинка почему-то мне чрезвычайно живо напомнила деревню и, вследствие воспоминания о деревне, по какой-то странной связи мыслей, чрезвычайно живо напомнила мне Сонечку и то, что я влюблен в нее.
Несмотря на всю дружбу мою к Дмитрию и на удовольствие, которое доставляла мне его откровенность, мне не хотелось более ничего знать о его чувствах и намерениях в отношении Любовь Сергеевны, а непременно хотелось сообщить про свою любовь к Сонечке, которая мне казалась любовью гораздо высшего разбора. Но я почему-то не решился сказать ему прямо свои предположения о том, как будет хорошо, когда я, женившись на Сонечке, буду жить в деревне, как у меня будут маленькие дети, которые, ползая по полу, будут называть меня папой, и как я обрадуюсь, когда он с своей женой, Любовью Сергеевной, приедет ко мне в дорожном платье… а сказал вместо всего этого, указывая на заходящее солнце: «Дмитрий, посмотри, какая прелесть!»
Дмитрий ничего не сказал мне, видимо, недовольный тем, что на его признание, которое, вероятно, стоило ему труда, я отвечал, обращая его внимание на природу, к которой он вообще был хладнокровен. Природа действовала на него совсем иначе, чем на меня; она действовала на него не столько красотой, сколько занимательностью; он любил ее более умом, чем чувством.
– Я очень счастлив, – сказал я ему вслед за этим, не обращая внимания на то, что он, видимо, был занят своими мыслями и совершенно равнодушен к тому, что я мог сказать ему. – Я ведь тебе говорил, помнишь, про одну барышню, в которую я был влюблен, бывши ребенком; я видел ее нынче, – продолжал я с увлечением, – и теперь я решительно влюблен в нее…
И я рассказал ему, несмотря на продолжавшееся на лице его выражение равнодушия, про свою любовь и про все планы о будущем супружеском счастии. И странно, что как только я рассказал подробно про всю силу своего чувства, так в то же мгновение я почувствовал, как чувство это стало уменьшаться.
Дождик захватил нас, когда уже мы повернули в березовую аллею, ведущую к даче. Но он не замочил нас. Я знал, что шел дождик, только потому, что несколько капель упало мне на нос и на руку и что что-то зашлепало по молодым клейким листьям берез, которые, неподвижно повесив свои кудрявые ветви, казалось, с наслаждением, выражающимся тем сильным запахом, которым они наполняли аллею, принимали на себя эти чистые, прозрачные капли. Мы вышли из коляски, чтоб поскорее до дома пробежать садом. Но у самого входа в дом столкнулись с четырьмя дамами, из которых две с работами, одна с книгой, а другая с собачкой скорыми шагами шли с другой стороны. Дмитрий тут же представил меня своей матери, сестре, тетке и Любовь Сергеевне. На секунду они остановились, но дождик начинал накрапывать чаще и чаще.
– Пойдемте на галерею, там ты его еще раз представишь, – сказала та, которую я принял за мать Дмитрия, и мы вместе с дамами взошли на лестницу.
Глава XXIII Нехлюдовы
В первую минуту из всего этого общества более всех поразила меня Любовь Сергеевна, которая, держа на руках болонку, сзади всех, в толстых вязаных башмаках, всходила на лестницу и раза два, остановившись, внимательно оглянулась на меня и тотчас после этого поцеловала свою собачку. Она была очень нехороша собой: рыжа, худа, невелика ростом, немного кривобока. Что еще более делало некрасивым ее некрасивое лицо, была странная прическа с пробором сбоку (одна из тех причесок, которые придумывают для себя плешивые женщины). Как я ни старался в угодность своему другу, я не мог в ней найти ни одной красивой черты. Даже карие глаза ее, хотя и выражавшие добродушие, были слишком малы и тусклы и решительно нехороши; даже руки, эта характеристическая черта, хотя и небольшие и недурной формы, были красны и шершавы.
Когда я вслед за ними вошел на террасу – исключая Вареньки, сестры Дмитрия, которая только внимательно посмотрела на меня своими большими темно-серыми глазами, – каждая из дам сказала мне несколько слов, прежде чем они снова взяли каждая свою работу, а Варенька вслух начала читать книгу, которую она держала у себя на коленях, заложив пальцем.
Княгиня Марья Ивановна была высокая, стройная женщина лет сорока. Ей можно бы было дать больше, судя по буклям полуседых волос, откровенно выставленных из-под чепца, но по свежему, чрезвычайно нежному, почти без морщин лицу, в особенности же по живому, веселому блеску больших глаз ей казалось гораздо меньше. Глаза у нее были карие, очень открытые; губы слишком тонкие, немного строгие; нос довольно правильный и немного на левую сторону; рука у нее была без колец, большая, почти мужская, с прекрасными продолговатыми пальцами. На ней было темно-синее закрытое платье, крепко стягивающее ее стройную и еще молодую талию, которой она, видимо, щеголяла. Она сидела чрезвычайно прямо и шила какое-то платье. Когда я вошел на галерею, она взяла мою руку, притянула меня к себе, как будто с желанием рассмотреть меня поближе, и сказала, взглянув на меня тем же несколько холодным, открытым взглядом, который был у ее сына, что она меня давно знает по рассказам Дмитрия и что для того, чтобы ознакомиться хорошенько с ними, она приглашает меня пробыть у них целые сутки.
– Делайте все, что вам вздумается, нисколько не стесняясь нами, так же как и мы не будем стесняться вами, – гуляйте, читайте, слушайте или спите, ежели вам это веселее, – прибавила она.
Софья Ивановна была старая девушка и младшая сестра княгини, но на вид она казалась старше. Она имела тот особенный переполненный характер сложения, который только встречается у невысоких ростом, очень полных старых дев, носящих корсеты. Как будто все здоровье ее ей подступило кверху с такой силой, что всякую минуту угрожало задушить ее. Ее коротенькие толстые ручки не могли соединяться ниже выгнутого мыска лифа, и самый туго-натуго натянутый мысок лифа она уже не могла видеть.
Несмотря на то, что княгиня Марья Ивановна была черноволосая и черноглазая, а Софья Ивановна белокура и с большими живыми и вместе с тем (что большая редкость) спокойными голубыми глазами, между сестрами было большое семейное сходство; то же выражение, тот же нос, те же губы; только у Софьи Ивановны и нос и губы были потолще немного и на правую сторону, когда она улыбалась, тогда как у княгини они были на левую. Софья Ивановна, судя по одежде и прическе, еще, видимо, молодилась и не выставила бы седых буклей, ежели бы они у нее были. Ее взгляд и обращение со мною показались мне в первую минуту очень гордыми и смутили меня; тогда как с княгиней, напротив, я чувствовал себя совершенно развязным. Может быть, эта толщина и некоторое сходство с портретом Екатерины Великой, которое поразило меня в ней, придавали ей в моих глазах гордый вид; но я совершенно оробел, когда она, пристально глядя на меня, сказала мне: «Друзья наших друзей – наши друзья». Я успокоился и вдруг совершенно переменил о ней мнение только тогда, когда она, сказав эти слова, замолчала и, открыв рот, тяжело вздохнула. Должно быть, от полноты у нее была привычка после нескольких сказанных слов глубоко вздыхать, открывая немного рот и несколько закатывая свои большие голубые глаза. В этой привычке почему-то выражалось такое милое добродушие, что вслед за этим вздохом я потерял к ней страх, и она даже мне очень понравилась. Глаза ее были прелестны, голос звучен и приятен, даже эти очень круглые линии сложения в ту пору моей юности казались мне не лишенными красоты.
Любовь Сергеевна, как друг моего друга (я полагал), должна была сейчас же сказать мне что-нибудь очень дружеское и задушевное, и она даже смотрела на меня довольно долго молча, как будто в нерешимости – не будет ли уж слишком дружески то, что она намерена сказать мне; но она прервала это молчание только для того, чтобы спросить меня, в каком я факультете. Потом снова она довольно долго пристально смотрела на меня, видимо колеблясь: сказать или не сказать это задушевное дружеское слово; и я, заметив это сомнение, выражением лица умолял ее сказать мне все, но она сказала: «Нынче, говорят, в университете уже мало занимаются науками», – и подозвала свою собачку Сюзетку.
Любовь Сергеевна весь этот вечер говорила такими большею частию не идущими ни к делу, ни друг к другу изречениями; но я так верил Дмитрию, и он так заботливо весь этот вечер смотрел то на меня, то на нее с выражением, спрашивавшим: «Ну, что?» – что я, как это часто случается, хотя в душе был уже убежден, что в Любовь Сергеевне ничего особенного нет, еще чрезвычайно далек был от того, чтобы высказать эту мысль даже самому себе.
Наконец последнее лицо этого семейства, Варенька, была очень полная девушка лет шестнадцати.
Только темно-серые большие глаза, выражением, соединявшим веселость и спокойную внимательность, чрезвычайно похожие на глаза тетки, очень большая русая коса и чрезвычайно нежная и красивая рука – были хороши в ней.
– Вам, я думаю, скучно, monsieur Nicolas, слушать из середины, – сказала мне Софья Ивановна с своим добродушным вздохом, переворачивая куски платья, которое она шила.
Чтение в это время прекратилось, потому что Дмитрий куда-то вышел из комнаты.
– Или, может быть, вы уже читали «Роброя»?
В то время я считал своею обязанностию, вследствие уже одного того, что носил студенческий мундир, с людьми мало мне знакомыми на каждый даже самый простой вопрос отвечать непременно очень умно и оригинально и считал величайшим стыдом короткие и ясные ответы, как: да, нет, скучно, весело и тому подобное. Взглянув на свои новые модные панталоны и блестящие пуговицы сюртука, я отвечал, что не читал «Роброя», но что мне было очень интересно слушать, потому что я больше люблю читать книги из средины, чем с начала.
– Вдвое интересней: догадываешься о том, что было и что будет, – добавил я, самодовольно улыбаясь.
Княгиня засмеялась как будто бы неестественным смехом (впоследствии я заметил, что у ней не было другого смеха).
– Однако это, должно быть, правда, – сказала она. – А что, вы долго здесь пробудете, Nicolas? Вы не обидитесь, что я вас зову без monsieur? Когда вы едете?
– Не знаю, может быть, завтра, а может быть, пробудем еще довольно долго, – отвечал я почему-то, несмотря на то, что мы наверное должны были ехать завтра.
– Я бы желала, чтоб вы остались, и для вас, и для моего Дмитрия, – заметила княгиня, глядя куда-то далеко, – в ваши года дружба славная вещь.
Я чувствовал, что все смотрели на меня и ожидали того, что я скажу, хотя Варенька и притворялась, что смотрит работу тетки; я чувствовал, что мне делают в некотором роде экзамен и что надо показаться как можно выгодней.
– Да, для меня, – сказал я, – дружба Дмитрия полезна, но я не могу ему быть полезен: он в тысячу раз лучше меня. (Дмитрий не мог слышать того, что я говорил, иначе я бы боялся, что он почувствует неискренность моих слов.)
Княгиня засмеялась снова неестественным, ей естественным смехом.
– Ну, а послушать его, – сказала она, – так c’est vous qui êtes un petit monstre de perfection[92].
«Monstre de perfection – это отлично, надо запомнить», – подумал я.
– Но, впрочем, не говоря об вас, он на это мастер, – продолжала она, понизив голос (что мне было особенно приятно) и указывая глазами на Любовь Сергеевну, – он открыл в бедной тетеньке (так называлась у них Любовь Сергеевна), которую я двадцать лет знаю с ее Сюзеткой, такие совершенства, каких я и не подозревала… Варя, вели мне дать стакан воды, – прибавила она, снова взглянув вдаль, должно быть найдя, что было еще рано или вовсе не нужно посвящать меня в семейные отношения, – или нет, лучше он сходит. Он ничего не делает, а ты читай. Идите, мой друг, прямо в дверь и, пройдя пятнадцать шагов, остановитесь и скажите громким голосом: «Петр, подай Марье Ивановне стакан воды со льдом», – сказала она мне и снова слегка засмеялась своим неестественным смехом.
«Верно, она хочет про меня поговорить, – подумал я, выходя из комнаты, – верно, хочет сказать, что она заметила, что я очень и очень умный молодой человек». Я еще не успел пройти пятнадцати шагов, как толстая, запыхавшаяся Софья Ивановна, однако скорыми и легкими шагами, догнала меня.
– Merci, mon cher[93], – сказала она, – я сама иду туда, так скажу.
Глава XXIV Любовь
Софья Ивановна, как я ее после узнал, была одна из тех редких немолодых женщин, рожденных для семейной жизни, которым судьба отказала в этом счастии и которые вследствие этого отказа весь тот запас любви, который так долго хранился, рос и креп в их сердце для детей и мужа, решаются вдруг изливать на некоторых избранных. И запас этот у старых девушек такого рода бывает так неистощим, что, несмотря на то, что избранных много, еще остается много любви, которую они изливают на всех окружающих, на всех добрых и злых людей, которые только сталкиваются с ними в жизни.
Есть три рода любви:
1) Любовь красивая,
2) Любовь самоотверженная и
3) Любовь деятельная.
Я говорю не о любви молодого мужчины к молодой девице и наоборот, я боюсь этих нежностей и был так несчастлив в жизни, что никогда не видал в этом роде любви ни одной искры правды, а только ложь, в которой чувственность, супружеские отношения, деньги, желание связать или развязать себе руки до того запутывали самое чувство, что ничего разобрать нельзя было. Я говорю про любовь к человеку, которая, смотря по большей или меньшей силе души, сосредоточивается на одном, на некоторых или изливается на многих, про любовь к матери, к отцу, к брату, к детям, к товарищу, к подруге, к соотечественнику, про любовь к человеку.
Любовь красивая заключается в любви красоты самого чувства и его выражения. Для людей, которые так любят, – любимый предмет любезен только настолько, насколько он возбуждает то приятное чувство, сознанием и выражением которого они наслаждаются. Люди, которые любят красивой любовью, очень мало заботятся о взаимности, как о обстоятельстве, не имеющем никакого влияния на красоту и приятность чувства. Они часто переменяют предметы своей любви, так как их главная цель состоит только в том, чтоб приятное чувство любви было постоянно возбуждаемо. Для того чтобы поддержать в себе это приятное чувство, они постоянно в самых изящных выражениях говорят о своей любви как самому предмету, так и всем тем, кому даже и нет до этой любви никакого дела. В нашем отечестве люди известного класса, любящие красиво, не только всем рассказывают про свою любовь, но рассказывают про нее непременно по-французски. Смешно и странно сказать, но я уверен, что было очень много и теперь есть много людей известного общества, в особенности женщин, которых любовь к друзьям, мужьям, детям сейчас бы уничтожилась, ежели бы им только запретили про нее говорить по-французски.
Второго рода любовь – любовь самоотверженная, заключается в любви к процессу жертвования собой для любимого предмета, не обращая никакого внимания на то, хуже или лучше от этих жертв любимому предмету. «Нет никакой неприятности, которую бы я не решился сделать самому себе, для того чтобы доказать всему свету и ему или ей свою преданность». Вот формула этого рода любви. Люди, любящие так, никогда не верят взаимности (потому что еще достойнее жертвовать собою для того, кто меня не понимает), всегда бывают болезненны, что тоже увеличивает заслугу жертв; большей частью постоянны, потому что им тяжело бы было потерять заслугу тех жертв, которые они сделали любимому предмету; всегда готовы умереть для того, чтоб доказать ему или ей всю свою преданность, но пренебрегают мелкими ежедневными доказательствами любви, в которых не нужно особенных порывов самоотвержения. Им все равно, хорошо ли вы ели, хорошо ли спали, весело ли вам, здоровы ли вы, и они ничего не сделают, чтоб доставить вам эти удобства, ежели они в их власти; но стать под пулю, броситься в воду, в огонь, зачахнуть от любви – на это они всегда готовы, ежели только встретится случай. Кроме того, люди, склонные к любви самоотверженной, бывают всегда горды своею любовью, взыскательны, ревнивы, недоверчивы и, странно сказать, желают своим предметам опасностей, чтоб избавлять от них, несчастий, чтоб утешать, и даже пороков, чтоб исправлять от них.
Вы одни живете в деревне с своей женой, которая любит вас с самоотвержением. Вы здоровы, спокойны, у вас есть занятия, которые вы любите; любящая жена ваша так слаба, что не может заниматься ни домашним хозяйством, которое передано на руки слуг, ни детьми, которые на руках нянек, ни даже каким-нибудь делом, которое бы она любила, потому что она ничего не любит, кроме вас. Она видимо больна, но, не желая вас огорчить, не хочет говорить вам этого; она видимо скучает, но для вас она готова скучать всю свою жизнь; ее видимо убивает то, что вы так пристально занимаетесь своим делом (какое бы оно ни было: охота, книги, хозяйство, служба); она видит, что эти занятия погубят вас, – но она молчит и терпит. Но вот вы сделались больны, – любящая жена ваша забывает свою болезнь и неотлучно, несмотря на ваши просьбы не мучить себя напрасно, сидит у вашей постели, и вы всякую секунду чувствуете на себе ее соболезнующий взгляд, говорящий: «Что же, я говорила, но мне все равно, и я все-таки не оставлю тебя». Утром вам немного получше, вы выходите в другую комнату. Комната не протоплена, не убрана; суп, который один вам можно есть, не заказан повару, за лекарством не послано; но, изнуренная от ночного бдения, любящая жена ваша все с таким же выражением соболезнования смотрит на вас, ходит на цыпочках и шепотом отдает слугам непривычные и неясные приказания. Вы хотите читать – любящая жена с вздохом говорит вам, что она знает, что вы ее не послушаетесь, будете сердиться на нее, но она уж привыкла к этому, – вам лучше не читать; вы хотите пройтись по комнате – вам этого тоже лучше не делать; вы хотите поговорить с приехавшим приятелем – вам лучше не говорить. Ночью у вас снова жар, вы хотите забыться, но любящая жена ваша, худая, бледная, изредка вздыхая, в полусвете ночника сидит против вас на кресле и малейшим движением, малейшим звуком возбуждает в вас чувства досады и нетерпения. У вас есть слуга, с которым вы живете уж двадцать лет, к которому вы привыкли, который с удовольствием и отлично служит вам, потому что днем выспался и получает за свою службу жалованье, но она не позволяет ему служить вам. Она все делает сама своими слабыми, непривычными пальцами, за которыми вы не можете не следить с сдержанной злобой, когда эти белые пальцы тщетно стараются откупорить стклянку, тушат свечку, проливают лекарство или брезгливо дотрагиваются до вас. Ежели вы нетерпеливый, горячий человек и попросите ее уйти, вы услышите своим раздраженным, болезненным слухом, как она за дверью будет покорно вздыхать и плакать и шептать какой-нибудь вздор вашему человеку. Наконец, ежели вы не умерли, любящая жена ваша, которая не спала двадцать ночей во время вашей болезни (что она беспрестанно вам повторяет), делается больна, чахнет, страдает и становится еще меньше способна к какому-нибудь занятию и, в то время как вы находитесь в нормальном состоянии, выражает свою любовь самоотвержения только кроткой скукой, которая невольно сообщается вам и всем окружающим.
Третий род – любовь деятельная, заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания, прихоти, даже пороки любимого существа. Люди, которые любят так, любят всегда на всю жизнь, потому что чем больше они любят, тем больше узнают любимый предмет и тем легче им любить, то есть удовлетворять его желания. Любовь их редко выражается словами, и если выражается, то не только не самодовольно, красиво, но стыдливо, неловко, потому что они всегда боятся, что любят недостаточно. Люди эти любят даже пороки любимого существа, потому что пороки эти дают им возможность удовлетворять еще новые желания. Они ищут взаимности, охотно даже обманывая себя, верят в нее и счастливы, если имеют ее; но любят всё так же даже и в противном случае и не только желают счастия для любимого предмета, но всеми теми моральными и материальными, большими и мелкими средствами, которые находятся в их власти, постоянно стараются доставить его.
И вот эта-то деятельная любовь к своему племяннику, племяннице, к сестре, к Любовь Сергеевне, ко мне даже, за то, что меня любил Дмитрий, светилась в глазах, в каждом слове и движении Софьи Ивановны.
Только гораздо после я оценил вполне Софью Ивановну, но и тогда мне пришел в голову вопрос: почему Дмитрий, старавшийся понимать любовь совершенно иначе, чем обыкновенно молодые люди, и имевший всегда перед глазами милую, любящую Софью Ивановну, вдруг страстно полюбил непонятную Любовь Сергеевну и только допускал, что в его тетке есть тоже хорошие качества. Видно, справедливо изречение: «Нет пророка в отечестве своем». Одно из двух: или действительно в каждом человеке больше дурного, чем хорошего, или человек больше восприимчив к дурному, чем к хорошему. Любовь Сергеевну он знал недавно, а любовь тетки он испытывал с тех пор, как родился.
Глава XXV Я ознакомливаюсь
Когда я вернулся на галерею, там вовсе не говорили обо мне, как я предполагал; но Варенька не читала, а, отложив в сторону книгу, с жаром спорила с Дмитрием, который, расхаживая взад и вперед, поправлял шеей галстук и зажмуривался. Предмет споров был будто бы Иван Яковлевич и суеверие; но спор был слишком горяч для того, чтобы подразумеваемый смысл его не был другой, более близкий всему семейству. Княгиня и Любовь Сергеевна сидели молча, вслушиваясь в каждое слово, видимо, желая иногда принять участие в споре, но удерживаясь и предоставляя говорить за себя, одна – Вареньке, другая – Дмитрию. Когда я вошел, Варенька взглянула на меня с выражением такого равнодушия, что видно было, спор сильно занимал ее, и ей было все равно, буду ли я или не буду слышать то, что она говорила. Такое же выражение имел взгляд княгини, которая, видимо, была на стороне Вареньки. Но Дмитрий еще горячее стал спорить при мне, а Любовь Сергеевна как будто очень испугалась моего прихода и сказала, не обращаясь ни к кому в особенности:
– Правду говорят старые люди – si jeunesse savait, si vieillesse pouvait[94].
Но это изречение не прекратило спора, а только навело меня на мысль, что сторона Любовь Сергеевны и моего друга была неправая сторона. Хотя мне было несколько совестно присутствовать при маленьком семейном раздоре, однако и было приятно видеть настоящие отношения этого семейства, выказывавшиеся вследствие спора, и чувствовать, что мое присутствие не мешало им выказываться.
Как часто бывает, что вы года видите семейство под одной и той же ложной завесой приличия, и истинные отношения его членов остаются для вас тайной (я даже замечал, что чем непроницаемее и потому красивее эта завеса, тем грубее бывают истинные, скрытые от вас отношения)! Но случится раз, совершенно неожиданно поднимется в кругу этого семейства какой-нибудь, иногда кажущийся незначащим, вопрос о какой-нибудь блонде или визите на мужниных лошадях, – и, без всякой видимой причины, спор становится ожесточеннее и ожесточеннее, под завесой уже становится тесно для разбирательства дела, и вдруг, к ужасу самих спорящих и к удивлению присутствующих, все истинные, грубые отношения вылезают наружу, завеса, уже ничего не прикрывая, праздно болтается между воюющими сторонами и только напоминает вам о том, как долго вы были ею обмануты. Часто не так больно со всего размаху удариться головой о притолоку, как чуть-чуть, легонько дотронуться до наболевшего, натруженного места. И такое натруженное, больное место бывает почти в каждом семействе. В семействе Нехлюдовых такое натруженное место была странная любовь Дмитрия к Любовь Сергеевне, возбуждавшая в сестре и матери если не чувство зависти, то оскорбленное родственное чувство. Поэтому-то и спор об Иване Яковлевиче и суеверии имел для всех них такое серьезное значение.
– Ты всегда стараешься видеть в том, над чем другие смеются и что все презирают, – говорила Варенька своим звучным голосом и отчетливо выговаривая каждую букву, – ты именно во всем этом стараешься находить что-нибудь необыкновенно хорошее.
– Во-первых, только самый легкомысленный человек может говорить о презрении к такому замечательному человеку, как Иван Яковлевич, – отвечал Дмитрий, судорожно подергивая головою в противную сторону от сестры, – а во-вторых, напротив, ты стараешься нарочно не видать хорошего, которое у тебя стоит перед глазами.
Вернувшись к нам, Софья Ивановна несколько раз испуганно посмотрела то на племянника, то на племянницу, то на меня и раза два, как будто сказав что-то мысленно, открыв рот, тяжело вздохнула.
– Варя, пожалуйста, читай поскорее, – сказала она, подавая ей книгу и ласково потрепав ее по руке, – я непременно хочу знать, нашел ли он ее опять. (Кажется, что в романе и речи не было о том, чтобы кто-нибудь находил кого-нибудь.) А ты, Митя, лучше бы завязал щеку, мой дружок, а то свежо и опять у тебя разболятся зубы, – сказала она племяннику, несмотря на недовольный взгляд, который он бросил на нее, должно быть за то, что она прервала логическую нить его доводов. Чтение продолжалось.
Эта маленькая ссора нисколько не расстроила того семейного спокойствия и разумного согласия, которым дышал этот женский кружок.
Этот кружок, которому направление и характер, видимо, давала княгиня Марья Ивановна, имел для меня совершенно новый и привлекательный характер какой-то логичности и вместе с тем простоты и изящества. Этот характер выражался для меня и в красоте, чистоте и прочности вещей – колокольчика, переплета книги, кресла, стола, – и в прямой, поддержанной корсетом, позе княгини, и в выставленных напоказ буклях седых волос, и в манере называть меня при первом свидании просто Nicolas и он, в их занятиях, в чтении, и в шитье платья, и в необыкновенной белизне дамских рук. (У них у всех была в руке общая семейная черта, состоящая в том, что мякоть ладони с внешней стороны была алого цвета и отделялась резкой прямой чертой от необыкновенной белизны верхней части руки.) Но более всего этот характер выражался в их манере, всех трех, отлично говорить по-русски и по-французски, отчетливо выговаривая каждую букву, с педантической точностью доканчивая каждое слово и предложение. Все это, и особенно то, что в этом обществе со мной обращались просто и серьезно, как с большим, говорили мне свои, слушали мои мнения, – к этому я так мало привык, что, несмотря на блестящие пуговицы и голубые обшлага, я все боялся, что вдруг мне скажут: «Неужели вы думаете, что с вами серьезно разговаривают? ступайте-ка учиться», – все это делало то, что в этом обществе я не чувствовал ни малейшей застенчивости. Я вставал, пересаживался с места на место и смело говорил со всеми, исключая Вареньки, с которой мне казалось еще неприлично, почему-то запрещено было говорить для первого разу.
Во время чтения, слушая ее приятный, звучный голос, я, поглядывая то на нее, то на песчаную дорожку цветника, на которой образовывались круглые темнеющие пятна дождя, и на липы, по листьям которых продолжали шлепать редкие капли дождя из бледного, просвечивающего синевой края тучи, которым захватило нас, то снова на нее, то на последние багряные лучи заходившего солнца, освещающего мокрые от дождя, густые старые березы, и снова на Вареньку, – я подумал, что она вовсе не дурна, как мне показалось сначала.
«А жалко, что я уже влюблен, – подумал я, – и что Варенька не Сонечка; как бы хорошо было вдруг сделаться членом этого семейства: вдруг бы у меня сделалась и мать, и тетка, и жена». В то же самое время, как я думал это, я пристально глядел на читавшую Вареньку и думал, что я ее магнетизирую и что она должна взглянуть на меня. Варенька подняла голову от книги, взглянула на меня и, встретившись с моими глазами, отвернулась.
– Однако дождик не перестает, – сказала она.
И вдруг я испытал странное чувство: мне вспомнилось, что именно все, что было теперь со мною, – повторение того, что было уже со мною один раз: что и тогда точно так же шел маленький дождик, и заходило солнце за березами, и я смотрел на нее, и она читала, и я магнетизировал ее, и она оглянулась, и даже я вспомнил, что это еще раз прежде было.
«Неужели она… она? – подумал я. – Неужели начинается?» Но я скоро решил, что она не она и что еще не начинается. «Во-первых, она нехороша, – подумал я, – да и она просто барышня, и с ней я познакомился самым обыкновенным манером, а та будет необыкновенная, с той я встречусь где-нибудь в необыкновенном месте; и потом мне так нравится это семейство только потому, что еще я не видел ничего, – рассудил я, – а такие, верно, всегда бывают, и их еще очень много я встречу в жизни».
Глава XXVI Я показываюсь с самой выгодной стороны
Во время чая чтение прекратилось и дамы занялись разговором между собой о лицах и обстоятельствах мне незнакомых, как мне казалось, только для того, чтобы, несмотря на ласковый прием, все-таки дать мне почувствовать ту разницу, которая по годам и положению в свете была между мною и ими. В разговорах же общих, в которых я мог принимать участие, искупая свое предшествовавшее молчание, я старался выказать свой необыкновенный ум и оригинальность, к чему особенно я считал себя обязанным своим мундиром. Когда зашел разговор о дачах, я вдруг рассказал, что у князя Ивана Иваныча есть такая дача около Москвы, что на нее приезжали смотреть из Лондона и из Парижа, что там есть решетка, которая стоит триста восемьдесят тысяч, и что князь Иван Иваныч мне очень близкий родственник, и я нынче у него обедал, и он звал меня непременно приехать к нему на эту дачу жить с ним целое лето, но что я отказался, потому что знаю хорошо эту дачу, несколько раз бывал на ней, и что все эти решетки и мосты для меня незанимательны, потому что я терпеть не могу роскоши, особенно в деревне, а люблю, чтоб в деревне уж было совсем как в деревне… Сказав эту страшную, сложную ложь, я сконфузился и покраснел, так что все, верно, заметили, что я лгу. Варенька, передававшая мне в это время чашку чая, и Софья Ивановна, смотревшая на меня в то время, как я говорил, обе отвернулись от меня и заговорили о другом, с выражением лица, которое потом я часто встречал у добрых людей, когда очень молодой человек начинает очевидно лгать им в глаза, и которое значит: «Ведь мы знаем, что он лжет, и зачем он это делает, бедняжка!..»
Что я сказал, что у князя Ивана Иваныча есть дача, – это потому, что я не нашел лучшего предлога рассказать про свое родство с князем Иваном Иванычем и про то, что я нынче у него обедал; но для чего я рассказал про решетку, стоившую триста восемьдесят тысяч, и про то, что я так часто бывал у него, тогда как я ни разу не был и не могу быть у князя Ивана Иваныча, жившего только в Москве или Неаполе, что очень хорошо знали Нехлюдовы, – для чего я это сказал, я решительно не могу дать себе отчета. Ни в детстве, ни в отрочестве, ни потом в более зрелом возрасте я не замечал за собой порока лжи; напротив, я скорее был слишком правдив и откровенен; но в эту первую эпоху юности на меня часто находило странное желание, без всякой видимой причины, лгать самым отчаянным образом. Я говорю именно «отчаянным образом», потому что я лгал в таких вещах, в которых очень легко было поймать меня. Мне кажется, что тщеславное желание выказать себя совсем другим человеком, чем есть, соединенное с несбыточною в жизни надеждой лгать, не быв уличенным в лжи, было главной причиной этой странной наклонности.
После чая, так как дождик прошел и погода на вечерней заре была тихая и ясная, княгиня предложила идти гулять в нижний сад и полюбоваться ее любимым местом. Следуя своему правилу быть всегда оригинальным и считая, что такие умные люди, как я и княгиня, должны стоять выше банальной учтивости, я отвечал, что терпеть не могу гулять без всякой цели, и ежели уж люблю гулять, то совершенно один. Я вовсе не сообразил, что это было просто грубо; но мне тогда казалось, что так же, как нет ничего стыднее пошлых комплиментов, так и нет ничего милее и оригинальнее некоторой невежливой откровенности. Однако, очень довольный своим ответом, я пошел-таки гулять вместе со всем обществом.
Любимое место княгини было совершенно внизу, в самой глуши сада, на маленьком мостике, перекинутом через узкое болотце. Вид был очень ограниченный, но очень задумчивый и грациозный. Мы так привыкли смешивать искусство с природою, что очень часто те явления природы, которые никогда не встречали в живописи, нам кажутся неестественными, как будто природа ненатуральна, и наоборот: те явления, которые слишком часто повторялись в живописи, кажутся нам избитыми, некоторые же виды, слишком проникнутые одной мыслью и чувством, встречающиеся нам в действительности, кажутся вычурными. Вид с любимого места княгини был в таком роде. Его составляли небольшой, заросший с краев прудик, сейчас же за ним крутая гора вверх, поросшая огромными старыми деревьями и кустами, часто перемешивающими свою разнообразную зелень, и перекинутая над прудом, у начала горы, старая береза, которая, держась частью своих толстых корней в влажном береге пруда, макушкой оперлась на высокую, стройную осину и повесила кудрявые ветви над гладкой поверхностью пруда, отражавшего в себе эти висящие ветки и окружавшую зелень.
– Что за прелесть! – сказала княгиня, покачивая головой и не обращаясь ни к кому в особенности.
– Да, чудесно, но только, мне кажется, ужасно похоже на декорацию, – сказал я, желая доказать, что я во всем имею свое собственное мнение.
Как будто не слыхав моего замечания, княгиня продолжала любоваться видом и, обращаясь к сестре и Любовь Сергеевне, указывала на частности: на кривой висевший сук и на его отражение, которые ей особенно нравились. Софья Ивановна говорила, что все это прекрасно и что сестра ее по нескольким часам проводит здесь, но видно было, что все это она говорила только для удовольствия княгини. Я замечал, что люди, одаренные способностью деятельной любви, редко бывают восприимчивы к красотам природы. Любовь Сергеевна восхищалась тоже, спрашивала, между прочим: «Чем эта береза держится? долго ли она простоит?» – и беспрестанно поглядывала на свою Сюзетку, которая, махая пушистым хвостом, взад и вперед бегала на своих кривых ножках по мостику с таким хлопотливым выражением, как будто ей в первый раз в жизни довелось быть не в комнате. Дмитрий завел с матерью очень логическое рассуждение о том, что никак не может быть прекрасен вид, в котором горизонт ограничен. Варенька ничего не говорила. Когда я оглянулся на нее, она, опершись на перила мостика, стояла ко мне в профиль и смотрела вперед. Что-то, верно, сильно занимало ее и даже трогало, потому что она, видимо, забылась и мысли не имела о себе и о том, что на нее смотрят. В выражении ее больших глаз было столько пристального внимания и спокойной, ясной мысли, в позе ее столько непринужденности и, несмотря на ее небольшой рост, даже величавости, что снова меня поразило как будто воспоминание о ней, и снова я спросил себя: «Не начинается ли?» И снова я ответил себе, что я уже влюблен в Сонечку, а что Варенька – просто барышня, сестра моего друга. Но она мне понравилась в эту минуту, и вследствие этого я почувствовал неопределенное желание сделать или сказать ей какую-нибудь небольшую неприятность.
– Знаешь что, Дмитрий, – сказал я моему другу, подходя ближе к Вареньке, так чтобы она могла слышать то, что я буду говорить, – я нахожу, что ежели бы не было комаров, и то ничего хорошего нет в этом месте, а уж теперь, – прибавил я, щелкнув себя по лбу и действительно раздавив комара, – это совсем плохо.
– Вы, кажется, не любите природы? – сказала мне Варенька, не поворачивая головы.
– Я нахожу, что это праздное, бесполезное занятие, – отвечал я, очень довольный тем, что я сказал-таки ей маленькую неприятность, и притом оригинальную. Варенька чуть-чуть подняла на мгновение брови с выражением сожаления и точно так же спокойно продолжала смотреть прямо.
Мне стало досадно на нее, но, несмотря на это, серенькие с полинявшей краской перильца мостика, на которые она оперлась, отражение в темном пруде опустившегося сука перекинутой березы, которое, казалось, хотело соединиться с висящими ветками, болотный запах, чувство на лбу раздавленного комара и ее внимательный взгляд и величавая поза – часто потом совершенно неожиданно являлись вдруг в моем воображении.
Глава XXVII Дмитрий
Когда после прогулки мы вернулись домой, Варенька не хотела петь, как она это обыкновенно делала по вечерам, и я был так самонадеян, что принял это на свой счет, воображая, что причиной тому было то, что я ей сказал на мостике. Нехлюдовы не ужинали и расходились рано, а в этот день, так как у Дмитрия, по предсказанию Софьи Ивановны, точно разболелись зубы, мы ушли в его комнату еще раньше обыкновенного. Полагая, что я исполнил все, что требовали от меня мой синий воротник и пуговицы, и что всем очень понравился, я находился в весьма приятном, самодовольном расположении духа; Дмитрий же, напротив, вследствие спора и зубной боли, был молчалив и мрачен. Он сел к столу, достал свои тетради – дневник и тетрадь, в которой он имел обыкновение каждый вечер записывать свои будущие и прошедшие занятия, и, беспрестанно морщась и дотрагиваясь рукой до щеки, довольно долго писал в них.
– Ах, оставьте меня в покое! – закричал он на горничную, которая от Софьи Ивановны пришла спросить его: как его зубы? и не хочет ли он сделать себе припарку? Вслед за тем, сказав, что постель мне сейчас постелят и что он сейчас вернется, он пошел к Любовь Сергеевне.
«Как жалко, что Варенька не хорошенькая и вообще не Сонечка, – мечтал я, оставшись один в комнате, – как бы хорошо было, выйдя из университета, приехать к ним и предложить ей руку. Я бы сказал: «Княжна, я уже не молод – не могу любить страстно, но буду постоянно любить вас, как милую сестру». «Вас я уже уважаю, – я сказал бы матери, – а вас, Софья Ивановна, поверьте, что очень и очень ценю. Так скажите просто и прямо: хотите ли вы быть моей женой?» – «Да». И она подаст мне руку, я пожму ее и скажу: «Любовь моя не на словах, а на деле». Ну, а что, – пришло мне в голову, – ежели бы вдруг Дмитрий влюбился в Любочку, – ведь Любочка влюблена в него, – и захотел бы жениться на ней? Тогда кому-нибудь из нас ведь нельзя бы было жениться. И это было бы отлично. Тогда бы я вот что сделал. Я бы сейчас заметил это, ничего бы не сказал, пришел бы к Дмитрию и сказал бы: «Напрасно, мой друг, мы стали бы скрываться друг от друга: ты знаешь, что любовь к твоей сестре кончится только с моей жизнию; но я все знаю, ты лишил меня лучшей надежды, ты сделал меня несчастным; но знаешь, как Николай Иртеньев отплачивает за несчастие всей своей жизни? Вот тебе моя сестра», – и подал бы ему руку Любочки. Он бы сказал: «Нет, ни за что!..», а я сказал бы: «Князь Нехлюдов! напрасно вы хотите быть великодушнее Николая Иртеньева. Нет в мире человека великодушнее его». Поклонился бы и вышел. Дмитрий и Любочка в слезах выбежали бы за мною и умоляли бы, чтобы я принял их жертву. И я бы мог согласиться и мог бы быть очень, очень счастлив, ежели бы только я был влюблен в Вареньку…» Мечты эти были так приятны, что мне очень хотелось сообщить их моему другу, но, несмотря на наш обет взаимной откровенности, я чувствовал почему-то, что нет физической возможности сказать этого.
Дмитрий вернулся от Любовь Сергеевны с каплями на зубу, которые она дала ему, еще более страдающий и, вследствие этого, еще более мрачный. Постель мне была еще не постлана, и мальчик, слуга Дмитрия, пришел спросить его, где я буду спать.
– Убирайся к черту! – крикнул Дмитрий, топнув ногой. – Васька! Васька! Васька! – закричал он, только что мальчик вышел, с каждым разом возвышая голос. – Васька! стели мне на полу.
– Нет, лучше я лягу на полу, – сказал я.
– Ну, все равно, стели где-нибудь, – тем же сердитым тоном продолжал Дмитрий. – Васька! что же ты не стелешь?
Но Васька, видимо, не понимал, чего от него требовали, и стоял не двигаясь.
– Ну, что ж ты? стели, стели! Васька! Васька! – закричал Дмитрий, входя вдруг в какое-то бешенство.
Но Васька, все еще не понимая и оробев, не шевелился.
– Так ты поклялся меня погуб… взбесить?
И Дмитрий, вскочив со стула и подбежав к мальчику, изо всех сил несколько раз ударил по голове кулаком Ваську, который стремглав убежал из комнаты. Остановившись у двери, Дмитрий оглянулся на меня, и выражение бешенства и жестокости, которое за секунду было на его лице, заменилось таким кротким, пристыженным и любящим детским выражением, что мне стало жалко его, и, как ни хотелось отвернуться, я не решился этого сделать. Он ничего не сказал мне, но долго молча ходил по комнате, изредка поглядывая на меня с тем же просящим прощения выражением, потом достал из стола тетрадь, записал что-то в нее, снял сюртук, тщательно сложил его, подошел к углу, где висел образ, сложил на груди свои большие белые руки и стал молиться. Он молился так долго, что Васька успел принести тюфяк и постлать на полу, что я ему объяснил шепотом. Я разделся и лег на постланную на полу постель, а Дмитрий еще все продолжал молиться. Глядя на немного сутуловатую спину Дмитрия и его подошвы, которые как-то покорно выставлялись передо мной, когда он клал земные поклоны, я еще сильнее любил Дмитрия, чем прежде, и думал все о том: «Сказать или не сказать ему то, что я мечтал об наших сестрах?» Окончив молитву, Дмитрий лег ко мне на постель и, облокотясь на руку, долго, молча, ласковым и пристыженным взглядом смотрел на меня. Ему, видимо, было тяжело это, но он как будто наказывал себя. Я улыбнулся, глядя на него. Он улыбнулся тоже.
– А отчего ж ты мне не скажешь, – сказал он, – что я гадко поступил? ведь ты об этом сейчас думал?
– Да, – отвечал я, хотя и думал о другом, но мне показалось, что действительно я об этом думал, – да, это очень нехорошо, я даже и не ожидал от тебя этого, – сказал я, чувствуя в эту минуту особенное удовольствие в том, что я говорил ему ты. – Ну, что зубы твои? – прибавил я.
– Прошли. Ах, Николенька, мой друг! – заговорил Дмитрий так ласково, что слезы, казалось, стояли в его блестящих глазах, – я знаю и чувствую, как я дурен, и бог видит, как я желаю и прошу его, чтоб он сделал меня лучше; но что ж мне делать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характер? что же мне делать? Я стараюсь удерживаться, исправляться, но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне. Вот Любовь Сергеевна – она понимает меня и много помогла мне в этом. Я знаю по своим запискам, что я в продолжение года уж много исправился. Ах, Николенька, душа моя! – продолжал он с особенной непривычной нежностью и уж более спокойным тоном после этого признания, – как это много значит влияние такой женщины, как она! Боже мой, как может быть хорошо, когда я буду самостоятелен с таким другом, как она! Я с ней совершенно другой человек.
И вслед за этим Дмитрий начал развивать мне свои планы женитьбы, деревенской жизни и постоянной работы над самим собою.
– Я буду жить в деревне, ты приедешь ко мне, может быть, и ты будешь женат на Сонечке, – говорил он, – дети наши будут играть. Ведь все это кажется смешно и глупо, а может ведь случиться.
– Еще бы! и очень может, – сказал я, улыбаясь и думая в это время о том, что было бы еще лучше, ежели бы я женился на его сестре.
– Знаешь, что я тебе скажу? – сказал он мне, помолчав немного, – ведь ты только воображаешь, что ты влюблен в Сонечку, а, как я вижу, – это пустяки, и ты еще не знаешь, что такое настоящее чувство.
Я не возражал, потому что почти соглашался с ним. Мы помолчали немного.
– Ты заметил, верно, что я нынче опять был в гадком духе и нехорошо спорил с Варей. Мне потом ужасно неприятно было, особенно потому, что это было при тебе. Хоть она о многом думает не так, как следует, но она славная девочка, очень хорошая, вот ты ее покороче узнаешь.
Его переход в разговоре от того, что я не влюблен, к похвалам своей сестре чрезвычайно обрадовал меня и заставил покраснеть, но я все-таки ничего не сказал ему о его сестре, и мы продолжали говорить о другом.
Так мы проболтали до вторых петухов, и бледная заря уже глядела в окно, когда Дмитрий перешел на свою постель и потушил свечку.
– Ну, теперь спать, – сказал он.
– Да, – отвечал я, – только одно слово.
– Ну.
– Отлично жить на свете? – сказал я.
– Отлично жить на свете, – отвечал он таким голосом, что я в темноте, казалось, видел выражение его веселых, ласкающих глаз и детской улыбки.
Глава XXVIII В деревне
На другой день мы с Володей на почтовых уехали в деревню. Дорогой, перебирая в голове разные московские воспоминания, я вспомнил про Сонечку Валахину, но и то вечером, когда мы уже отъехали пять станций. «Однако странно, – подумал я, – что я влюблен и вовсе забыл об этом; надо думать об ней». И я стал думать об ней так, как думается дорогой, – несвязно, но живо, и додумался до того, что, приехав в деревню, два дня почему-то считал необходимым казаться грустным и задумчивым перед всеми домашними и особенно перед Катенькой, которую считал большим знатоком в делах этого рода и которой я намекнул кое-что о состоянии, в котором находилось мое сердце. Но, несмотря на все старание притворства перед другими и самим собой, несмотря на умышленное усвоение всех признаков, которые я замечал в других в влюбленном состоянии, я только в продолжение двух дней, и то не постоянно, а преимущественно по вечерам, вспоминал, что я влюблен, и, наконец, как скоро вошел в новую колею деревенской жизни и занятий, совсем забыл о своей любви к Сонечке.
Мы приехали в Петровское ночью, и я спал так крепко, что не видал ни дома, ни березовой аллеи и никого из домашних, которые уже все разошлись и давно спали. Сгорбленный старик Фока, босиком, в какой-то жениной ваточной кофточке, с свечой в руках, отложил нам крючок двери. Увидав нас, он затрясся от радости, расцеловал нас в плечи, торопливо убрал свой войлок и стал одеваться. Сени и лестницу я прошел, еще не проснувшись хорошенько, но в передней замок двери, задвижка, косая половица, ларь, старый подсвечник, закапанный салом по-старому, тени от кривой, холодной, только что зажженной светильни сальной свечи, всегда пыльное, не выставлявшееся двойное окно, за которым, как я помнил, росла рябина, – все это так было знакомо, так полно воспоминаний, так дружно между собой, как будто соединено одной мыслью, что я вдруг почувствовал на себе ласку этого милого старого дома. Мне невольно представился вопрос: как могли мы, я и дом, быть так долго друг без друга? – и, торопясь куда-то, я побежал смотреть, всё те же ли другие комнаты? Все было то же, только все сделалось меньше, ниже, а я как будто сделался выше, тяжелее и грубее; но и таким, каким я был, дом радостно принимал меня в свои объятия и каждой половицей, каждым окном, каждой ступенькой лестницы, каждым звуком пробуждал во мне тьмы образов, чувств, событий невозвратимого счастливого прошедшего. Мы пришли в нашу детскую спальню: все детские ужасы снова те же таились во мраке углов и дверей; прошли гостиную – та же тихая, нежная материнская любовь была разлита по всем предметам, стоявшим в комнате; прошли залу – шумливое, беспечное детское веселье, казалось, остановилось в этой комнате и ждало только того, чтобы снова оживили его. В диванной, куда нас провел Фока и где он постлал нам постель, казалось, все – зеркало, ширмы, старый деревянный образ, каждая неровность стены, оклеенной белой бумагой, – все говорило про страдания, про смерть, про то, чего уже больше никогда не будет.
Мы улеглись, и Фока, пожелав спокойной ночи, оставил нас.
– А ведь в этой комнате умерла maman? – сказал Володя.
Я не отвечал ему и притворился спящим. Если бы я сказал что-нибудь, я бы заплакал. Когда я проснулся на другой день утром, папа, еще не одетый, в торжковских сапожках и халате, с сигарой в зубах, сидел на постели у Володи и разговаривал и смеялся с ним. Он с веселым подергиваньем вскочил от Володи, подошел ко мне и, шлепнув меня своей большой рукой по спине, подставил мне щеку и прижал ее к моим губам.
– Ну, отлично, спасибо, дипломат, – говорил он с своей особенной шутливой лаской, вглядываясь в меня своими маленькими блестящими глазками. – Володя говорит, что хорошо выдержал, молодцом, – ну и славно. Ты, коли захочешь не дурить, ты у меня тоже славный малый. Спасибо, дружок. Теперь мы тут заживем славно, а зимой, может, в Петербург переедем; только, жалко, охота кончилась, а то бы я вас потешил; ну, с ружьем можешь охотиться, Вольдемар? дичи пропасть, я, пожалуй, сам пойду с тобой когда-нибудь. Ну, а зимой, бог даст, в Петербург переедем, увидите людей, связи сделаете; вы теперь у меня ребята большие, вот я сейчас Вольдемару говорил: вы теперь стоите на дороге, и мое дело кончено, можете идти сами, а со мной, коли хотите советоваться, советуйтесь, я теперь ваш не дядька, а друг, по крайней мере, хочу быть другом и товарищем и советчиком, где могу, и больше ничего. Как это по твоей философии выходит, Коко? А? Хорошо или дурно? а?
Я, разумеется, сказал, что отлично, и действительно находил это таковым. Папа в этот день имел какое-то особенно привлекательное, веселое, счастливое выражение, и эти новые отношения со мной, как с равным, как с товарищем, еще более заставляли меня любить его.
– Ну, рассказывай же мне, был ты у всех родных? у Ивиных? видел старика? что он тебе сказал? – продолжал он расспрашивать меня. – Был у князя Ивана Иваныча?
И мы так долго разговаривали, не одеваясь, что солнце уже начинало уходить из окон диванной, и Яков (который все точно так же был стар, все так же вертел пальцами за спиной и говорил опять-таки) пришел в нашу комнату и доложил папа, что колясочка готова.
– Куда ты едешь? – спросил я папа.
– Ах, я и забыл было, – сказал папа с досадливым подергиваньем и покашливаньем, – я к Епифановым обещал ехать нынче. Помнишь Епифанову, la belle Flamande? еще езжала к вашей maman. Они славные люди. – И папа, как мне показалось, застенчиво подергивая плечом, вышел из комнаты.
Любочка во время нашей болтовни уже несколько раз подходила к двери и все спрашивала: «можно ли войти к нам?», но всякий раз папа кричал ей через дверь, что «никак нельзя, потому что мы не одеты».
– Что за беда! ведь я видала тебя в халате?
– Нельзя тебе видеть братьев без невыразимых, – кричал он ей, – а вот каждый из них постучит тебе в дверь, довольно с тебя? Постучите. А даже и говорить с тобой в таком неглиже им неприлично.
– Ах, какие вы несносные! Так приходите, по крайней мере, скорей в гостиную, Мими так хочет вас видеть! – кричала из-за двери Любочка.
Как только папа ушел, я живо оделся в студенческий сюртук и пришел в гостиную; Володя же, напротив, не торопился и долго просидел на верху, разговаривая с Яковом о том, где водятся дупеля и бекасы. Он, как я уже говорил, ничего в мире так не боялся, как нежностей с братцем, папашей или сестрицей, как он выражался, и, избегая всякого выражения чувства, впадал в другую крайность – холодности, часто больно оскорблявшую людей, не понимавших причин ее. В передней я столкнулся с папа, который мелкими, скорыми шажками шел садиться в экипаж. Он был в своем новом модном московском сюртуке, и от него пахло духами. Увидав меня, он весело кивнул мне головой, как будто говоря: «Видишь, славно?» – и снова меня поразило то счастливое выражение его глаз, которое я еще утром заметил.
Гостиная была все та же, светлая, высокая комната с желтеньким английским роялем и с большими открытыми окнами, в которые весело смотрели зеленые деревья и желтые, красноватые дорожки сада. Расцеловавшись с Мими и Любочкой и подходя к Катеньке, мне вдруг пришло в голову, что уже неприлично целоваться с ней, и я, молча и краснея, остановился. Катенька, не сконфузившись нисколько, протянула мне свою беленькую ручку и поздравила с вступлением в университет. Когда Володя пришел в гостиную, с ним, при свидании с Катенькой, случилось то же самое. Действительно, трудно было решить, после того как мы вместе выросли и в продолжение всего этого времени виделись каждый день, как теперь, после первой разлуки, нам должно было встречаться. Катенька гораздо больше покраснела, чем мы все; Володя нисколько не смутился и, слегка поклонившись ей, отошел к Любочке, с которой тоже поговорив немного и то несерьезно, пошел один гулять куда-то.
Глава XXIX Отношения между нами и девочками
Володя имел такой странный взгляд на девочек, что его могло занимать: сыты ли они, выспались ли, прилично ли одеты, не делают ли ошибок по-французски, за которые бы ему было стыдно перед посторонними, – но он не допускал мысли, чтобы они могли думать или чувствовать что-нибудь человеческое, и еще меньше допускал возможность рассуждать с ними о чем-нибудь. Когда им случалось обращаться к нему с каким-нибудь серьезным вопросом (чего они, впрочем, уже старались избегать), если они спрашивали его мнения про какой-нибудь роман или про его занятия в университете, он делал им гримасу и молча уходил или отвечал какой-нибудь исковерканной французской фразой: ком си три жоли и т. п., или, сделав серьезное, умышленно глупое лицо, говорил какое-нибудь слово, не имеющее никакого смысла и отношения с вопросом, произносил, вдруг сделав мутные глаза, слова: булку, или поехали, или капусту, или что-нибудь в этом роде. Когда случалось, что я повторял ему слова, сказанные мне Любочкой или Катенькой, он всегда говорил мне:
– Гм! Так ты еще рассуждаешь с ними? Нет, ты, я вижу, еще плох.
И надо было слышать и видеть его в это время, чтобы оценить то глубокое, неизменное презрение, которое выражалось в этой фразе. Володя уже два года был большой, влюблялся беспрестанно во всех хорошеньких женщин, которых встречал; но, несмотря на то, что каждый день виделся с Катенькой, которая тоже уже два года как носила длинное платье и с каждым днем хорошела, ему и в голову не приходила мысль о возможности влюбиться в нее. Происходило ли это оттого, что прозаические воспоминания детства – линейка, простыня, капризничанье – были еще слишком свежи в памяти, или от отвращения, которое имеют очень молодые люди ко всему домашнему, или от общей людской слабости, встречая на первом пути хорошее и прекрасное, обходить его, говоря себе: «Э! еще такого я много встречу в жизни», – но только Володя еще до сих пор не смотрел на Катеньку, как на женщину.
Володя все это лето, видимо, очень скучал; скука его происходила от презрения к нам, которое, как я говорил, он и не старался скрывать. Постоянное выражение его лица говорило: «Фу! скука какая, и поговорить не с кем!» Бывало, с утра он или один уйдет с ружьем на охоту, или в своей комнате, не одеваясь до обеда, читает книгу. Ежели папа не было дома, он даже к обеду приходил с книгой, продолжая читать ее и не разговаривая ни с кем из нас, отчего мы все чувствовали себя перед ним как будто виноватыми. Вечером тоже он ложился с ногами на диван в гостиной, спал, облокотившись на руку, или врал с серьезнейшим лицом страшную бессмыслицу, иногда и не совсем приличную, от которой Мими злилась и краснела пятнами, а мы помирали со смеху; но никогда ни с кем из нашего семейства, кроме с папа и изредка со мною, он не удостаивал говорить серьезно. Я совершенно невольно в взгляде на девочек подражал брату, несмотря на то, что не боялся нежностей так, как он, и презрение мое к девочкам еще далеко не было так твердо и глубоко. Я даже в это лето пробовал несколько раз от скуки сблизиться и беседовать с Любочкой и Катенькой, но всякий раз встречал в них такое отсутствие способности логического мышления и такое незнание самых простых, обыкновенных вещей, как, например, что такое деньги, чему учатся в университете, что такое война и т. п., и такое равнодушие к объяснению всех этих вещей, что эти попытки только больше подтверждали мое о них невыгодное мнение.
Помню, раз вечером Любочка в сотый раз твердила на фортепьяно какой-то невыносимо надоевший пассаж, Володя лежал в гостиной, дремля на диване, и изредка, с некоторой злобной иронией, не обращаясь ни к кому в особенности, бормотал: «Ай да валяет… музыкантша… Битховен!.. (это имя он произносил с особенной иронией), лихо… ну еще раз… вот так», и т. п. Катенька и я оставались за чайным столом, и не помню, как Катенька навела разговор о своем любимом предмете – любви. Я был в расположении духа пофилософствовать и начал свысока определять любовь желанием приобрести в другом то, чего сам не имеешь, и т. д. Но Катенька отвечала мне, что, напротив, это уже не любовь, коли девушка думает выйти замуж за богача, и что, по ее мнению, состояние самая пустая вещь, а что истинная любовь только та, которая может выдержать разлуку (это, я понял, она намекала на свою любовь к Дубкову). Володя, который, верно, слышал наш разговор, вдруг приподнялся на локте и вопросительно прокричал:
– Катенька! Русских?
– Вечно вздор! – сказала Катенька.
– В перешницу? – продолжал Володя, ударяя на каждую гласную. И я не мог не подумать, что Володя был совершенно прав.
Отдельно от общих, более или менее развитых в лицах способностей ума, чувствительности, художнического чувства, существует частная, более или менее развитая в различных кружках общества и особенно в семействах, способность, которую я назову пониманием. Сущность этой способности состоит в условленном чувстве меры и в условленном одностороннем взгляде на предметы. Два человека одного кружка или одного семейства, имеющие эту способность, всегда до одной и той же точки допускают выражение чувства, далее которой они оба вместе уже видят фразу; в одну и ту же минуту они видят, где кончается похвала и начинается ирония, где кончается увлечение и начинается притворство, – что для людей с другим пониманием может казаться совершенно иначе. Для людей с одним пониманием каждый предмет одинаково для обоих бросается в глаза преимущественно своей смешной, или красивой, или грязной стороной. Для облегчения этого одинакового понимания между людьми одного кружка или семейства устанавливается свой язык, свои обороты речи, даже – слова, определяющие те оттенки понятий, которые для других не существуют. В нашем семействе, между папа и нами, братьями, понимание это было развито в высшей степени. Дубков тоже как-то хорошо пришелся к нашему кружку и понимал, но Дмитрий, несмотря на то, что был гораздо умнее его, был туп на это. Но ни с кем, как с Володей, с которым мы развивались в одинаковых условиях, не довели мы этой способности до такой тонкости. Уже и папа давно отстал от нас, и многое, что для нас было так же ясно, как дважды два, было ему непонятно. Например, у нас с Володей установились, бог знает как, следующие слова с соответствующими понятиями: изюм означало тщеславное желание показать, что у меня есть деньги, шишка (причем надо было соединить пальцы и сделать особенное ударение на оба ш) означало что-то свежее, здоровое, изящное, но не щегольское; существительное, употребленное во множественном числе, означало несправедливое пристрастие к этому предмету и т. д., и т. д. Но, впрочем, значение зависело больше от выражения лица, от общего смысла разговора, так что, какое бы новое выражение для нового оттенка ни придумал один из нас, другой по одному намеку уже понимал его точно так же. Девочки не имели нашего понимания, и это-то было главною причиною нашего морального разъединения и презрения, которое мы к ним чувствовали.
Может быть, у них было свое понимание, но оно до того не сходилось с нашим, что там, где мы уже видели фразу, они видели чувство, наша ирония была для них правдой, и т. д. Но тогда я не понимал того, что они не виноваты в этом отношении и что это отсутствие понимания не мешает им быть и хорошенькими и умными девочками, а я презирал их. Притом, раз напав на мысль об откровенности, доведя приложение этой мысли до крайности в себе, я обвинял в скрытности и притворстве спокойную, доверчивую натуру Любочки, не видевшей никакой необходимости в выкапывании и рассматривании всех своих мыслей и душевных влечений. Например, то, что Любочка каждый день на ночь крестила папа, то, что она и Катенька плакали в часовне, когда ездили служить панихиду по матушке, то, что Катенька вздыхала и закатывала глаза, играя на фортепьянах, – все это мне казалось чрезвычайным притворством, и я спрашивал себя: когда они выучились так притворяться, как большие, и как это им не совестно?
Глава XXX Мои занятия
Несмотря на это, я в нынешнее лето больше, чем в другие года, сблизился с нашими барышнями по случаю явившейся во мне страсти к музыке. Весной к нам в деревню приезжал рекомендоваться один сосед, молодой человек, который, как только вошел в гостиную, все смотрел на фортепьяно и незаметно подвигал к нему стул, разговаривая, между прочим, с Мими и Катенькой. Поговорив о погоде и приятностях деревенской жизни, он искусно навел разговор на настройщика, на музыку, на фортепьяно и, наконец, объявил, что он играет, и очень скоро сыграл три вальса, причем Любочка, Мими и Катенька стояли около фортепьян и смотрели на него. Молодой человек этот после ни разу не был у нас, но мне очень нравилась его игра, поза за фортепьянами, встряхиванье волосами и особенно манера брать октавы левой рукой, быстро расправляя мизинец и большой палец на ширину октавы и потом медленно сводя их и снова быстро расправляя. Этот грациозный жест, небрежная поза, встряхиванье волосами и внимание, которое оказали наши дамы его таланту, дали мне мысль играть на фортепьяно. Вследствие этой мысли, убедившись, что я имею талант и страсть к музыке, я принялся учиться. В этом отношении я действовал так же, как миллионы мужеского и особенно женского пола учащихся без хорошего учителя, без истинного призвания и без малейшего понятия о том, что может дать искусство и как нужно приняться за него, чтобы оно дало что-нибудь. Для меня музыка, или скорее игра на фортепьяно, была средство прельщать девиц своими чувствами. С помощью Катеньки выучившись нотам и выломав немного свои толстые пальцы, на что я, впрочем, употребил месяца два такого усердия, что даже за обедом на коленке и в постели на подушке я работал непокорным безымянным пальцем, я тотчас же принялся играть пьесы, и играл их, разумеется, с душой, avec âme, в чем соглашалась и Катенька, но совершенно без такта.
Выбор пьес был известный – вальсы, галопы, романсы (arrangés) и т. п., – всё тех милых композиторов, которых всякий человек с немного здравым вкусом отберет вам в нотном магазине небольшую кипу из кучи прекрасных вещей и скажет: «Вот чего не надо играть, потому что хуже, безвкуснее и бессмысленнее этого никогда ничего не было писано на нотной бумаге», и которых, должно быть, именно поэтому, вы найдете на фортепьянах у каждой русской барышни. Правда, у нас были и несчастные, навеки изуродованные барышнями «Sonate Pathétique»[95] и Cis-moll-ная сонаты Бетховена, которые, в воспоминание maman, играла Любочка, и еще другие хорошие вещи, которые ей задал ее московский учитель, но были и сочинения этого учителя, нелепейшие марши и галопы, которые тоже играла Любочка. Мы же с Катенькой не любили серьезных вещей, а предпочитали всему «Le Fou»[96] и «Соловья», которого Катенька играла так, что пальцев не было видно, и я уже начинал играть довольно громко и слитно. Я усвоил себе жест молодого человека и часто жалел о том, что некому из посторонних посмотреть, как я играю. Но скоро Лист и Калькбренер показались мне не по силам, и я увидел невозможность догнать Катеньку. Вследствие этого, вообразив себе, что классическая музыка легче, и отчасти для оригинальности, я решил вдруг, что я люблю ученую немецкую музыку, стал приходить в восторг, когда Любочка играла «Sonate Pathétique», несмотря на то, что по правде сказать, эта соната давно уже опротивела мне до крайности, сам стал играть Бетховена и выговаривать Бееетховен. Сквозь всю эту путаницу и притворство, как я теперь вспоминаю, во мне, однако, было что-то вроде таланта, потому что часто музыка делала на меня до слез сильное впечатление, и те вещи, которые мне нравились, я кое-как умел сам без нот отыскивать на фортепьяно; так что, ежели бы тогда кто-нибудь научил меня смотреть на музыку, как на цель, как на самостоятельное наслаждение, а не на средство прельщать девиц быстротой и чувствительностью своей игры, может быть, я бы сделался действительно порядочным музыкантом.
Чтение французских романов, которых много привез с собой Володя, было другим моим занятием в это лето. В то время только начинали появляться Монтекристы и разные «Тайны», и я зачитывался романами Сю, Дюма и Поль де Кока. Все самые неестественные лица и события были для меня так же живы, как действительность, я не только не смел заподозрить автора во лжи, но сам автор не существовал для меня, а сами собой являлись передо мной, из печатной книги, живые, действительные люди и события. Ежели я нигде не встречал лиц, похожих на те, про которых я читал, то я ни секунды не сомневался в том, что они будут.
Я находил в себе все описываемые страсти и сходство со всеми характерами, и с героями, и с злодеями каждого романа, как мнительный человек находит в себе признаки всех возможных болезней, читая медицинскую книгу. Нравились мне в этих романах и хитрые мысли, и пылкие чувства, и волшебные события, и цельные характеры: добрый, так уж совсем добрый; злой, так уж совсем злой, – именно так, как я воображал себе людей в первой молодости; нравилось очень, очень много и то, что все это было по-французски и что те благородные слова, которые говорили благородные герои, я мог запомнить, упомянуть при случае в благородном деле. Сколько я с помощью романов придумал различных французских фраз для Колпикова, ежели бы я когда-нибудь с ним встретился, и для нее, когда я ее, наконец, встречу и буду открываться ей в любви! Я приготовил им сказать такое, что они погибли бы, услышав меня. На основании романов у меня даже составились новые идеалы нравственных достоинств, которых я желал достигнуть. Прежде всего я желал быть во всех своих делах и поступках «noble» (я говорю noble, a не благородный, потому что французское слово имеет другое значение, что поняли немцы, приняв слово nobel и не смешивая с ним понятия ehrlich), потом быть страстным и, наконец, к чему у меня и прежде была наклонность, быть как можно более comme il faut. Я даже наружностью и привычками старался быть похожим на героев, имевших какое-нибудь из этих достоинств. Помню, что в одном из прочитанных мною в это лето сотни романов был один чрезвычайно страстный герой с густыми бровями, и мне так захотелось быть похожим на него наружностью (морально я чувствовал себя точно таким, как он), что я, рассматривая свои брови перед зеркалом, вздумал простричь их слегка, чтоб они выросли гуще, но раз, начав стричь, случилось так, что я выстриг в одном месте больше, – надо было подравнивать, и кончилось тем, что я, к ужасу своему, увидел себя в зеркало безбровым и вследствие этого очень некрасивым. Однако, надеясь, что скоро у меня вырастут густые брови, как у страстного человека, я утешился и только беспокоился о том, что сказать всем нашим, когда они увидят меня безбровым. Я достал пороху у Володи, натер им брови и поджег. Хотя порох не вспыхнул, я был достаточно похож на опаленного, никто не узнал моей хитрости, и действительно у меня, когда я уже забыл про страстного человека, выросли брови гораздо гуще.
Глава XXXI Comme il faut
Уже несколько раз в продолжение этого рассказа я намекал на понятие, соответствующее этому французскому заглавию, и теперь чувствую необходимость посвятить целую главу этому понятию, которое в моей жизни было одним из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом.
Род человеческий можно разделять на множество отделов – на богатых и бедных, на добрых и злых, на военных и статских, на умных и глупых и т. д., и т. д., но у каждого человека есть непременно свое любимое главное подразделение, под которое он бессознательно подводит каждое новое лицо. Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas[97]. Второй род подразделялся еще на людей собственно не comme il faut и простой народ. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения; вторых – притворялся, что презираю, но, в сущности, ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали – я их презирал совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?» – с ядовитой насмешкой спрашивал я его мысленно. Второе условие comme il faut были ногти – длинные, отчищенные и чистые; третье было уменье кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнаты, печатки, почерка, экипажа, были ноги. Отношение сапог к панталонам тотчас решало в моих глазах положение человека. Сапоги без каблука с угловатым носком и концы панталон узкие, без штрипок, – это был простой; сапог с узким круглым носком и каблуком и панталоны узкие внизу, со штрипками, облегающие ногу, или широкие, со штрипками, как балдахин стоящие над носком, – это был человек mauvais genre[98], и т. п.
Странно то, что ко мне, который имел положительную неспособность к comme il faut, до такой степени привилось это понятие. А может быть, именно оно так сильно вросло в меня оттого, что мне стоило огромного труда, чтобы приобрести это comme il faut. Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение этого качества. Всем, кому я подражал, – Володе, Дубкову и большей части моих знакомых, – все это, казалось, доставалось легко. Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, над разговором, танцеваньем, над вырабатываньем в себе ко всему равнодушия и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами, – и все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели. А комнату, письменный стол, экипаж – все это я никак не умел устроить так, чтобы было comme il faut, хотя усиливался, несмотря на отвращение к практическим делам, заниматься этим. У других же без всякого, казалось, труда все шло отлично, как будто не могло быть иначе. Помню раз, после усиленного и тщетного труда над ногтями, я спросил у Дубкова, у которого ногти были удивительно хороши, давно ли они у него такие и как он это сделал? Дубков мне отвечал: «С тех пор, как себя помню, никогда ничего не делал, чтобы они были такие, я не понимаю, как могут быть другие ногти у порядочного человека». Этот ответ сильно огорчил меня. Я тогда еще не знал, что одним из главных условий comme il faut была скрытность в отношении тех трудов, которыми достигается comme il faut. Comme il faut было для меня не только важной заслугой, прекрасным качеством, совершенством, которого я желал достигнуть, но это было необходимое условие жизни, без которого не могло быть ни счастия, ни славы, ничего хорошего на свете. Я не уважал бы ни знаменитого артиста, ни ученого, ни благодетеля рода человеческого, если бы он не был comme il faut. Человек comme il faut стоял выше и вне сравнения с ними; он предоставлял им писать картины, ноты, книги, делать добро, – он даже хвалил их за это, отчего же не похвалить хорошего, в ком бы оно ни было, – но он не мог становиться с ними под один уровень, он был comme il faut, а они нет, – и довольно. Мне кажется даже, что, ежели бы у нас был брат, мать или отец, которые бы не были comme il faut, я бы сказал, что это несчастие, но что уж между мной и ими не может быть ничего общего. Но ни потеря золотого времени, употребленного на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий comme il faut, исключающих всякое серьезное увлечение, ни ненависть и презрение к девяти десятым рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне кружка comme il faut, – все это еще было не главное зло, которое мне причинило это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что comme il faut есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он comme il faut; что, достигнув этого положения, он уж исполняет свое назначение и даже становится выше большей части людей.
В известную пору молодости, после многих ошибок и увлечений, каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей; но с человеком comme il faut это редко случается. Я знал и знаю очень, очень много людей старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете: «Кто ты такой? и что там делал?» – не будут в состоянии ответить иначе как: «Je fus un homme très comme il faut»[99].
Эта участь ожидала меня.
Глава XXXII Юность
Несмотря на происходившую у меня в голове путаницу понятий, я в это лето был юн, невинен, свободен и поэтому почти счастлив.
Иногда, и довольно часто, я вставал рано. (Я спал на открытом воздухе, на террасе, и яркие косые лучи утреннего солнца будили меня.) Я живо одевался, брал под мышку полотенце и книгу французского романа и шел купаться в реке в тени березника, который был в полверсте от дома. Там я ложился в тени на траве и читал, изредка отрывая глаза от книги, чтобы взглянуть на лиловатую в тени поверхность реки, начинающую колыхаться от утреннего ветра, на поле желтеющей ржи на том берегу, на светло-красный утренний свет лучей, ниже и ниже окрашивающий белые стволы берез, которые, прячась одна за другую, уходили от меня в даль чистого леса, и наслаждался сознанием в себе точно такой же свежей, молодой силы жизни, какой везде кругом меня дышала природа. Когда на небе были утренние серые тучки и я озябал после купанья, я часто без дороги отправлялся ходить по полям и лесам, с наслаждением сквозь сапоги промачивая ноги по свежей росе. В это время я живо мечтал о героях последнего прочитанного романа и воображал себя то полководцем, то министром, то силачом необыкновенным, то страстным человеком и с некоторым трепетом оглядывался беспрестанно кругом, в надежде вдруг встретить где-нибудь ее на полянке или за деревом. Когда в таких прогулках я встречал крестьян и крестьянок на работах, несмотря на то, что простой народ не существовал для меня, я всегда испытывал бессознательное сильное смущение и старался, чтоб они меня не видели. Когда уже становилось жарко, но дамы наши еще не выходили к чаю, я часто ходил в огород или сад есть все те овощи и фрукты, которые поспевали. И это занятие доставляло мне одно из главных удовольствий. Заберешься, бывало, в яблочный сад, в самую середину высокой заросшей, густой малины. Над головой – яркое горячее небо, кругом – бледно-зеленая колючая зелень кустов малины, перемешанных с сорною заростью. Темно-зеленая крапива с тонкой цветущей макушкой стройно тянется вверх; разлапистый репейник с неестественно лиловыми колючими цветками грубо растет выше малины и выше головы и кое-где вместе с крапивою достает даже до развесистых бледно-зеленых ветвей старых яблонь, на которых наверху, в упор жаркому солнцу, зреют глянцевитые, как косточки, круглые, еще сырые яблоки. Внизу молодой куст малины, почти сухой, без листьев, искривившись, тянется к солнцу; зеленая игловатая трава и молодой лопух, пробившись сквозь прошлогодний лист, увлаженные росой, сочно зеленеют в вечной тени, как будто и не знают о том, как на листьях яблони ярко играет солнце.
В чаще этой всегда сыро, пахнет густой постоянной тенью, паутиной, падалью-яблоком, которое, чернея, уже валяется на прелой земле, малиной, иногда и лесным клопом, которого проглотишь нечаянно с ягодой и поскорее заешь другою. Подвигаясь вперед, спугиваешь воробьев, которые всегда живут в этой глуши, слышишь их торопливое чириканье и удары о ветки их маленьких быстрых крыльев, слышишь жужжание на одном месте жировой пчелы и где-нибудь по дорожке шаги садовника, дурачка Акима, и его вечное мурлыканье себе под нос. Думаешь себе: «Нет! ни ему, никому на свете не найти меня тут…», обеими руками направо и налево снимаешь с белых конических стебельков сочные ягоды и с наслаждением глотаешь одну за другою. Ноги, даже выше колен, насквозь мокры, в голове какой-нибудь ужаснейший вздор (твердишь тысячу раз сряду мысленно: и-и-и по-оо-о двад-ца-а-ать и-и-и по семь), руки и ноги сквозь промоченные панталоны обожжены крапивой, голову уже начинают печь прорывающиеся в чащу прямые лучи солнца, есть уже давно не хочется, а все сидишь в чаще, поглядываешь, послушиваешь, подумываешь и машинально обрываешь и глотаешь лучшие ягоды.
Часу в одиннадцатом я обыкновенно приходил в гостиную, большей частью после чаю, когда уже дамы сидели за занятиями. Около первого окна, с опущенной на солнце небеленой холстинной сторой, сквозь скважины которой яркое солнце кладет на все, что ни попадется, такие блестящие огненные кружки, что глазам больно смотреть на них, стоят пяльцы, по белому полотну которых тихо гуляют мухи. За пяльцами сидит Мими, беспрестанно сердито встряхивая головой и передвигаясь с места на место от солнца, которое, вдруг прорвавшись где-нибудь, проложит ей то там, то сям на лице или на руке огненную полосу. Сквозь другие три окна, с тенями рам, лежат цельные яркие четырехугольники; на некрашеном полу гостиной, на одном из них, по старой привычке, лежит Милка и, насторожив уши, вглядывается в ходящих мух по светлому четырехугольнику. Катенька вяжет или читает, сидя на диване, и нетерпеливо отмахивается своими беленькими, кажущимися прозрачными в ярком свете ручками или, сморщившись, трясет головкой, чтоб выгнать забившуюся в золотистые густые волоса бьющуюся там муху. Любочка или ходит взад и вперед по комнате, заложив за спину руки, дожидаясь того, чтоб пошли в сад, или играет на фортепьяно какую-нибудь пьесу, которой я давно знаю каждую нотку. Я сажусь где-нибудь, слушаю эту музыку или чтение и дожидаюсь того, чтобы мне можно было самому сесть за фортепьяно. После обеда я иногда удостаивал девочек ездить верхом с ними (ходить гулять пешком я считал несообразным с моими годами и положением в свете). И наши прогулки, в которых я провожу их по необыкновенным местам и оврагам, бывают очень приятны. С нами случаются иногда приключения, в которых я себя показываю молодцом, и дамы хвалят мою езду и смелость и считают меня своим покровителем. Вечером, ежели гостей никого нет, после чаю, который мы пьем в тенистой галерее, и после прогулки с папа по хозяйству я ложусь на старое свое место, в вольтеровское кресло, и, слушая Катенькину или Любочкину музыку, читаю и вместе с тем мечтаю по-старому. Иногда, оставшись один в гостиной, когда Любочка играет какую-нибудь старинную музыку, я невольно оставляю книгу, и, вглядываясь в растворенную дверь балкона в кудрявые висячие ветви высоких берез, на которых уже заходит вечерняя тень, и в чистое небо, на котором, как смотришь пристально, вдруг показывается как будто пыльное желтоватое пятнышко и снова исчезает; и, вслушиваясь в звуки музыки из залы, скрипа ворот, бабьих голосов и возвращающегося стада на деревне, я вдруг живо вспоминаю и Наталью Савишну, и maman, и Карла Иваныча, и мне на минуту становится грустно. Но душа моя так полна в это время жизнью и надеждами, что воспоминание это только крылом касается меня и летит дальше.
После ужина и иногда ночной прогулки с кем-нибудь по саду – один я боялся ходить по темным аллеям – я уходил один спать на полу на галерею, что, несмотря на миллионы ночных комаров, пожиравших меня, доставляло мне большое удовольствие. В полнолуние я часто целые ночи напролет проводил сидя на своем тюфяке, вглядываясь в свет и тени, вслушиваясь в тишину и звуки, мечтая о различных предметах, преимущественно о поэтическом, сладострастном счастии, которое мне тогда казалось высшим счастием в жизни, и тоскуя о том, что мне до сих пор дано было только воображать его. Бывало, только что все разойдутся и огни из гостиной перейдут в верхние комнаты, где слышны становятся женские голоса и стук отворяющихся и затворяющихся окон, я отправляюсь на галерею и расхаживаю по ней, жадно прислушиваясь ко всем звукам засыпающего дома. До тех пор пока есть маленькая, беспричинная надежда хотя на неполное такое счастие, о котором я мечтаю, я еще не могу спокойно строить для себя воображаемое счастие.
При каждом звуке босых шагов, кашле, вздохе, толчке окошка, шорохе платья я вскакиваю с постели, воровски прислушиваюсь, приглядываюсь и без видимой причины прихожу в волнение. Но вот огни исчезают в верхних окнах, звуки шагов и говора заменяются храпением, караульщик по-ночному начинает стучать в доску, сад стал и мрачнее и светлее, как скоро исчезли на нем полосы красного света из окон, последний огонь из буфета переходит в переднюю, прокладывая полосу света по росистому саду, и мне видна через окно сгорбленная фигура Фоки, который в кофточке, со свечой в руках, идет к своей постели. Часто я находил большое волнующее наслаждение, крадучись по мокрой траве в черной тени дома, подходить к окну передней и, не переводя дыхания, слушать храпение мальчика, покряхтыванье Фоки, полагавшего, что никто его не слышит, и звук его старческого голоса, долго, долго читавшего молитвы. Наконец тушилась его последняя свечка, окно захлопывалось, я оставался совершенно один и, робко оглядываясь по сторонам, не видно ли где-нибудь, подле клумбы или подле моей постели, белой женщины, – рысью бежал на галерею. И вот тогда-то я ложился на свою постель, лицом к саду, и, закрывшись, сколько возможно было, от комаров и летучих мышей, смотрел в сад, слушал звуки ночи и мечтал о любви и счастии.
Тогда все получало для меня другой смысл: и вид старых берез, блестевших с одной стороны на лунном небе своими кудрявыми ветвями, с другой – мрачно застилавших кусты и дорогу своими черными тенями, и спокойный, пышный, равномерно, как звук, возраставший блеск пруда, и лунный блеск капель росы на цветах перед галереей, тоже кладущих поперек серой рабатки свои грациозные тени, и звук перепела за прудом, и голос человека с большой дороги, и тихий, чуть слышный скрип двух старых берез друг о друга, и жужжание комара над ухом под одеялом, и падение зацепившегося за ветку яблока на сухие листья, и прыжки лягушек, которые иногда добирались до ступеней террасы и как-то таинственно блестели на месяце своими зеленоватыми спинками, – все это получало для меня странный смысл – смысл слишком большой красоты и какого-то недоконченного счастия. И вот являлась она, с длинной черной косой, высокой грудью, всегда печальная и прекрасная, с обнаженными руками, с сладострастными объятиями. Она любила меня, я жертвовал для одной минуты ее любви всей жизнью. Но луна все выше, выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился яснее и яснее, тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее, и, вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мне, что и она, с обнаженными руками и пылкими объятиями, еще далеко, далеко не все счастие, что и любовь к ней далеко, далеко еще не все благо; и чем больше я смотрел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и благо казались мне выше и выше, чище и чище, и ближе и ближе к Нему, к источнику всего прекрасного и благого, и слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мне на глаза.
И все я был один, и все мне казалось, что таинственно величавая природа, притягивающий к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком неопределенном месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собой все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой воображения и любви, – мне все казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я, мы были одно и то же.
Глава XXXIII Соседи
Меня очень удивило в первый день нашего приезда то, что папа назвал наших соседей Епифановых славными людьми, и еще больше удивило то, что он ездил к ним. У нас с Епифановыми с давних пор была тяжба за какую-то землю. Будучи ребенком, не раз я слышал, как папа сердился за эту тяжбу, бранил Епифановых, призывал различных людей, чтобы, по моим понятиям, защититься от них, слышал, как Яков называл их нашими неприятелями и черными людьми, и помню, как maman просила, чтоб в ее доме и при ней даже не упоминали про этих людей.
По этим данным я в детстве составил себе такое твердое и ясное понятие о том, что Епифановы наши враги, которые готовы зарезать или задушить не только папа, но и сына его, ежели бы он им попался, и что они в буквальном смысле черные люди, что, увидев в год кончины матушки Авдотью Васильевну Епифанову, la belle Flamande, ухаживающей за матушкой, я с трудом мог поверить тому, что она была из семейства черных людей, и все-таки удержал об этом семействе самое низкое понятие. Несмотря на то, что в это лето мы часто виделись с ними, я продолжал быть странно предубежден против всего этого семейства. В сущности же, вот кто такие были Епифановы. Семейство их состояло из матери, пятидесятилетней вдовы, еще свеженькой и веселенькой старушки, красавицы дочери Авдотьи Васильевны и сына, заики, Петра Васильевича, отставного холостого поручика, весьма серьезного характера.
Анна Дмитриевна Епифанова лет двадцать до смерти мужа жила врозь с ним, изредка в Петербурге, где у нее были родственники, но большею частию в своей деревне Мытищах, которая была в трех верстах от нас. В околодке рассказывали про ее образ жизни такие ужасы, что Мессалина в сравнении с нею была невинное дитя. Вследствие этого-то матушка и просила, чтобы в ее доме не поминали даже имени Епифановой; но, совершенно не иронически говоря, нельзя было верить и десятой доле самых злостных из всех родов сплетней – деревенских соседских сплетней. Но в то время, когда я узнал Анну Дмитриевну, хотя и был у нее в доме из крепостных конторщик Митюша, который, всегда напомаженный, завитой и в сюртуке на черкесский манер, стоял во время обеда за стулом Анны Дмитриевны, и она часто при нем по-французски приглашала гостей полюбоваться его прекрасными глазами и ртом, ничего и похожего не было на то, что продолжала говорить молва. Действительно, кажется, уж лет десять тому назад, именно с того времени, как Анна Дмитриевна выписала из службы к себе своего почтительного сына Петрушу, она совершенно переменила свой образ жизни. Имение Анны Дмитриевны было небольшое, всего с чем-то сто душ, а расходов во времена ее веселой жизни было много, так что лет десять тому назад, разумеется, заложенное и перезаложенное, имение было просрочено и неминуемо должно было продаться с аукциона. В этих-то крайних обстоятельствах, полагая, что опека, опись имения, приезд суда и тому подобные неприятности происходят не столько от неплатежа процентов, сколько оттого, что она женщина, Анна Дмитриевна писала в полк к сыну, чтоб он приехал спасти свою мать в этом случае. Несмотря на то, что служба Петра Васильевича шла так хорошо, что он скоро надеялся иметь свой кусок хлеба, он все бросил, вышел в отставку и, как почтительный сын, считавший своею первою обязанностию успокаивать старость матери (что он совершенно искренно и писал ей в письмах), приехал в деревню.
Петр Васильевич, несмотря на свое некрасивое лицо, неуклюжесть и заиканье, был человек с чрезвычайно твердыми правилами и необыкновенным практическим умом. Кое-как, мелкими займами, оборотами, просьбами и обещаниями, он удержал имение. Сделавшись помещиком, Петр Васильевич надел отцовскую бекешу, хранившуюся в кладовой, уничтожил экипажи и лошадей, отучил гостей ездить в Мытища, а раскопал копани, увеличил запашку, уменьшил крестьянской земли, срубил своими и хозяйственно продал рощу – и поправил дела. Петр Васильевич дал себе и сдержал слово – до тех пор, пока не уплатятся все долги, не носить другого платья, как отцовскую бекешу и парусиновое пальто, которое он сшил себе, и не ездить иначе, как в тележке, на крестьянских лошадях. Этот стоический образ жизни он старался распространить на все семейство, сколько позволяло ему подобострастное уважение к матери, которое он считал своим долгом. В гостиной он, заикаясь, раболепствовал перед матерью, исполнял все ее желания, бранил людей, ежели они не делали того, что приказывала Анна Дмитриевна, у себя же в кабинете и в конторе строго взыскивал за то, что взяли к столу без его приказания утку или послали к соседке мужика по приказанию Анны Дмитриевны узнать о здоровье, или крестьянских девок, вместо того чтобы полоть в огороде, послали в лес за малиной.
Года через четыре долги все были заплачены, и Петр Васильевич, съездив в Москву, вернулся оттуда в новом платье и тарантасе. Но, несмотря на это цветущее положение дел, он удержал те же стоические наклонности, которыми, казалось, мрачно гордился перед своими и посторонними, и часто, заикаясь, говорил, что «кто меня истинно хочет видеть, тот рад будет видеть меня и в тулупе, тот будет и щи и кашу мою есть. Я же ем ее», – прибавлял он. В каждом слове и движении его выражалась гордость, основанная на сознании того, что он пожертвовал собой для матери и выкупил имение, и презрение к другим за то, что они ничего подобного не сделали.
Мать и дочь были совершенно других характеров и во многом различны между собою. Мать была одна из самых приятных, всегда одинаково добродушно-веселых в обществе женщин. Все милое, веселое истинно радовало ее. Даже – черта, встречаемая только у самых добродушных старых людей, – способность наслаждаться видом веселящейся молодежи была у нее в высшей степени. Дочь ее, Авдотья Васильевна, была, напротив, серьезного характера или, скорее, того особенного равнодушно рассеянного и без всякого основания высокомерного нрава, которого обыкновенно бывают незамужние красавицы. Когда же она хотела быть веселой, то веселье ее выходило какое-то странное – не то она смеялась над собой, не то над тем, с кем говорила, не то над всем светом, чего она, верно, не хотела. Часто я удивлялся и спрашивал себя, что она хотела этим сказать, когда говорила подобные фразы: да, я ужасно как хороша собой; как же, все в меня влюблены, и т. п. Анна Дмитриевна была всегда деятельна; имела страсть к устройству домика и садика, к цветам, канарейкам и хорошеньким вещицам. Ее комнатки и садик были небольшие и небогатые, но все это было устроено так аккуратно, чисто и все носило такой общий характер той легонькой веселости, которую выражает хорошенький вальс или полька, что слово игрушечка, употребляемое часто в похвалу гостями, чрезвычайно шло к садику и комнаткам Анны Дмитриевны. И сама Анна Дмитриевна была игрушечка – маленькая, худенькая, с свежим цветом лица, с хорошенькими маленькими ручками, всегда веселая и всегда к лицу одетая. Только немного слишком выпукло обозначавшиеся темно-лиловые жилки на ее маленьких ручках расстраивали этот общий характер. Авдотья Васильевна, напротив, почти никогда ничего не делала и не только не любила заниматься какими-нибудь вещицами или цветочками, но даже слишком мало занималась собой и всегда убегала одеваться, когда приезжали гости. Но, одетая возвратившись в комнату, она бывала необыкновенно хороша, исключая общего всем очень красивым лицам холодного и однообразного выражения глаз и улыбки. Ее строго правильное, прекрасное лицо и ее стройная фигура, казалось, постоянно говорили вам: «Извольте, можете смотреть на меня».
Но, несмотря на живой характер матери и равнодушно рассеянную внешность дочери, что-то говорило вам, что первая никогда – ни прежде, ни теперь – ничего не любила, исключая хорошенького и веселенького, а что Авдотья Васильевна была одна из тех натур, которые ежели раз полюбят, то жертвуют уже всею жизнию тому, кого они полюбят.
Глава XXXIV Женитьба отца
Отцу было сорок восемь лет, когда он во второй раз женился на Авдотье Васильевне Епифановой.
Приехав один весной с девочками в деревню, папа, я воображаю, находился в том особенном тревожно счастливом и общительном расположении духа, в котором обыкновенно бывают игроки, забастовав после большого выигрыша. Он чувствовал, что много еще оставалось у него неизрасходованного счастия, которое, ежели он не хотел больше употреблять на карты, он мог употребить вообще на успехи в жизни. Потом была весна, у него было неожиданно много денег, он был совершенно один и скучал. Толкуя с Яковом о делах и вспомнив о бесконечной тяжбе с Епифановым и о красавице Авдотье Васильевне, которую он давно не видел, я воображаю, как он сказал Якову: «Знаешь, Яков Харлампыч, чем нам возиться с этой тяжбой, я думаю просто уступить им эту проклятую землю, а? как ты думаешь?..»
Воображаю, как отрицательно завертелись за спиной пальцы Якова при таком вопросе и как он доказывал, что «опять-таки дело наше правое, Петр Александрович».
Но папа велел заложить колясочку, надел свою модную оливковую бекешу, зачесал остатки волос, вспрыснул платок духами и в самом веселом расположении духа, в которое приводило его убеждение, что он поступает по-барски, а главное – надежда увидать хорошенькую женщину, поехал к соседям.
Мне известно только то, что папа в первый свой визит не застал Петра Васильевича, который был в поле, и пробыл один часа два с дамами. Я воображаю, как он рассыпался в любезностях, как обворожал их, притопывая своим мягким сапогом, пришепетывая и делая сладенькие глазки. Я воображаю тоже, как его вдруг нежно полюбила веселенькая старушка и как развеселилась ее холодная красавица дочь.
Когда дворовая девка, запыхавшись, прибежала доложить Петру Васильевичу, что сам старый Иртеньев приехал, я воображаю, как он сердито отвечал: «Ну, что ж, что приехал?» – и как вследствие этого он пошел домой как можно тише, может быть, еще, вернувшись в кабинет, нарочно надел самое грязное пальто и послал сказать повару, чтобы отнюдь не смел, ежели барыни прикажут, ничего прибавлять к обеду.
Я потом часто видал папа с Епифановым, поэтому живо представляю себе это первое свидание. Воображаю, как, несмотря на то, что папа предложил ему мировой окончить тяжбу, Петр Васильевич был мрачен и сердит за то, что пожертвовал своей карьерой матери, а папа подобного ничего не сделал, как ничто не удивляло его и как папа, будто не замечая этой мрачности, был игрив, весел и обращался с ним, как с удивительным шутником, чем иногда обижался Петр Васильевич и чему иногда против своего желания не мог не поддаваться. Папа, с своею склонностию из всего делать шутку, называл Петра Васильевича почему-то полковником и, несмотря на то, что Епифанов при мне раз, хуже чем обыкновенно заикнувшись и покраснев от досады, заметил, что он не по-по-по-полковник, а по-по-по-ру-чик, папа через пять минут назвал его опять полковником.
Любочка рассказывала мне, что, когда еще нас не было в деревне, они каждый день виделись с Епифановыми, и было чрезвычайно весело. Папа, с своим умением устраивать все как-то оригинально, шутливо и вместе с тем просто и изящно, затеивал то охоты, то рыбные ловли, то какие-то фейерверки, на которых присутствовали Епифановы. И было бы еще веселее, ежели бы не этот несносный Петр Васильевич, который дулся, заикался и все расстраивал, говорила Любочка.
С тех пор как мы приехали, Епифановы только два раза были у нас, и раз мы все ездили к ним. После же Петрова дня, в который, на именинах папа, были они и пропасть гостей, отношения наши с Епифановыми почему-то совершеннно прекратились, и только папа один продолжал ездить к ним.
В то короткое время, в которое я видел папа вместе с Дунечкой, как ее звала мать, вот что я успел заметить. Папа был постоянно в том же счастливом расположении духа, которое поразило меня в нем в день нашего приезда. Он был так весел, молод, полон жизни и счастлив, что лучи этого счастия распространялись на всех окружающих и невольно сообщали им такое же расположение. Он ни на шаг не отходил от Авдотьи Васильевны, когда она была в комнате, беспрестанно говорил ей такие сладенькие комплименты, что мне совестно было за него, или молча, глядя на нее, как-то страстно и самодовольно подергивал плечом и покашливал, и иногда, улыбаясь, говорил с ней даже шепотом; но все это делал с тем выражением, так, шутя, которое в самых серьезных вещах было ему свойственно.
Авдотья Васильевна, казалось, усвоила себе от папа выражение счастия, которое в это время блестело в ее больших голубых глазах почти постоянно, исключая тех минут, когда на нее вдруг находила такая застенчивость, что мне, знавшему это чувство, было жалко и больно смотреть на нее. В такие минуты она, видимо, боялась каждого взгляда и движения, ей казалось, что все смотрят на нее, думают только об ней и все в ней находят неприличным. Она испуганно оглядывалась на всех, краска беспрестанно приливала и отливала от ее лица, и она начинала громко и смело говорить, большею частию глупости, чувствуя это, чувствуя, что все и папа слышат это, и краснела еще больше. Но в таких случаях папа и не замечал ее глупостей, он все так же страстно, покашливая, с веселым восторгом смотрел на нее. Я заметил, что припадки застенчивости хотя и находили на Авдотью Васильевну без всякой причины, иногда следовали тотчас же за тем, как при папа упоминали о какой-нибудь молодой и красивой женщине. Частые переходы от задумчивости к тому роду ее странной, неловкой веселости, про которую я уже говорил, повторение любимых слов и оборотов речи папа, продолжение с другими начатых с папа разговоров – все это, если б действующим лицом был не мой отец и я бы был постарше, объяснило бы мне отношения папа и Авдотьи Васильевны, но я ничего не подозревал в то время, даже и тогда, когда при мне папа, получив какое-то письмо от Петра Васильевича, очень расстроился им и до конца августа перестал ездить к Епифановым.
В конце августа папа снова стал ездить к соседям и за день до нашего (моего и Володи) отъезда в Москву объявил нам, что он женится на Авдотье Васильевне Епифановой.
Глава XXXV Как мы приняли это известие
Накануне этого официального извещения все в доме уже знали и различно судили об этом обстоятельстве. Мими не выходила целый день из своей комнаты и плакала. Катенька сидела с ней и вышла только к обеду, с каким-то оскорбленным выражением лица, явно заимствованным от своей матери; Любочка, напротив, была очень весела и говорила за обедом, что она знает отличный секрет, который, однако, она никому не расскажет.
– Ничего нет отличного в твоем секрете, – сказал ей Володя, не разделяя ее удовольствия, – коли бы ты могла думать о чем-нибудь серьезно, ты бы поняла, что это, напротив, очень худо.
Любочка с удивлением, пристально посмотрела на него и замолчала.
После обеда Володя хотел меня взять за руку, но, испугавшись, должно быть, что это будет похоже на нежность, только тронул меня за локоть и кивнул в залу.
– Ты знаешь, про какой секрет говорила Любочка? – сказал он мне, убедившись, что мы были одни.
Мы редко говорили с Володей с глазу на глаз и о чем-нибудь серьезном, так что, когда это случалось, мы испытывали какую-то взаимную неловкость, и в глазах у нас начинали прыгать мальчики, как говорил Володя; но теперь, в ответ на смущение, выразившееся в моих глазах, он пристально и серьезно продолжал глядеть мне в глаза с выражением, говорившим: «Тут нечего смущаться, все-таки мы братья и должны посоветоваться между собой о важном семейном деле». Я понял его, и он продолжал:
– Папа женится на Епифановой, ты знаешь?
Я кивнул головой, потому что уже слышал про это.
– Ведь это очень нехорошо, – продолжал Володя.
– Отчего же?
– Отчего? – отвечал он с досадой, – очень приятно иметь этакого дядюшку-заику, полковника, и все это родство. Да и она теперь только кажется добрая и ничего, а кто ее знает, что будет. Нам, положим, все равно, но Любочка ведь скоро должна выезжать в свет. С этакой belle-mère[100] не очень приятно, она даже по-французски плохо говорит, и какие манеры она может ей дать. Пуассардка – и больше ничего; положим, добрая, но все-таки пуассардка, – заключил Володя, видимо, очень довольный этим наименованием «пуассардки».
Как ни странно мне было слышать, что Володя так спокойно судит о выборе папа, мне казалось, что он прав.
– Из чего же папа женится? – спросил я.
– Это темная история, бог их знает; я знаю только, что Петр Васильевич уговаривал его жениться, требовал, что папа не хотел, а потом ему пришла фантазия, какое-то рыцарство, – темная история. Я теперь только начал понимать отца, – продолжал Володя (то, что он называл его отцом, а не папа, больно кольнуло меня), – что он прекрасный человек, добр и умен, но такого легкомыслия и ветренности… это удивительно! он не может видеть хладнокровно женщину. Ведь ты знаешь, что нет женщины, которую бы он знал и в которую бы не влюбился. Ты знаешь, Мими ведь тоже.
– Что ты?
– Я тебе говорю; я недавно узнал, он был влюблен в Мими, когда она была молода, стихи ей писал, и что-то у них было. Мими до сих пор страдает. – И Володя засмеялся.
– Не может быть! – сказал я с удивлением.
– Но главное, – продолжал Володя снова серьезно и вдруг начиная говорить по-французски, – всей родне нашей как будет приятна такая женитьба! И дети ведь у нее, верно, будут.
Меня так поразил здравый смысл и предвидение Володи, что я не знал, что отвечать.
В это время к нам подошла Любочка.
– Так вы знаете? – спросила она с радостным лицом.
– Да, – оказал Володя, – только я удивляюсь, Любочка: ведь ты уже не в пеленках дитя, что тебе может быть радости, что папа женится на какой-нибудь дряни?
Любочка вдруг сделала серьезное лицо и задумалась.
– Володя! отчего же дряни? как ты смеешь так говорить про Авдотью Васильевну? Коли папа на ней женится, так, стало быть, она не дрянь.
– Да, не дрянь, я так сказал, но все-таки…
– Нечего «но все-таки», – перебила Любочка, разгорячившись, – я не говорила, что дрянь эта барышня, в которую ты влюблен; как же ты можешь говорить про папа и про отличную женщину? Хоть ты старший брат, но ты мне не говори, ты не должен говорить.
– Да отчего ж нельзя рассуждать про…
– Нельзя рассуждать, – опять перебила Любочка, – нельзя рассуждать про такого отца, как наш. Мими может рассуждать, а не ты, старший брат.
– Нет, ты еще ничего не понимаешь, – сказал Володя презрительно, – ты пойми. Что, это хорошо, что какая-нибудь Епифанова Дунечка заменит тебе maman покойницу?
Любочка замолчала на минутку, и вдруг слезы выступили у нее на глаза.
– Я знала, что ты гордец, но не думала, чтоб ты был такой злой, – сказала она и ушла от нас.
– В булку, – сказал Володя, сделав серьезно-комическое лицо и мутные глаза. – Вот рассуждай с ними, – продолжал он, как будто упрекая себя в том, что он до того забылся, что решился снизойти до разговора с Любочкой.
На другой день погода была дурная, и еще ни папа, ни дамы не выходили к чаю, когда я пришел в гостиную. Ночью был осенний холодный дождик, по небу бежали остатки вылившейся ночью тучи, сквозь которую неярко просвечивало обозначавшееся светлым кругом, довольно высоко уже стоявшее солнце. Было ветрено, сыро и сиверко. Дверь в сад была открыта, на почерневшем от мокроты полу террасы высыхали лужи ночного дождя. Открытая дверь подергивалась от ветра на железном крючке, дорожки были сыры и грязны; старые березы с оголенными белыми ветвями, кусты и трава, крапива, смородина, бузина с вывернутыми бледной стороной листьями бились на одном месте и, казалось, хотели оторваться от корней; из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, летели желтые круглые листья и, промокая, ложились на мокрую дорогу и на мокрую темно-зеленую отаву луга. Мысли мои заняты были будущей женитьбой отца, с той точки зрения, с которой смотрел на нее Володя. Будущее сестры, нас и самого отца не представляло мне ничего хорошего. Меня возмущала мысль, что посторонняя, чужая и, главное, молодая женщина, не имея на то никакого права, вдруг займет место во многих отношениях – кого же? – простая молодая барышня, и займет место покойницы матушки! Мне было грустно, и отец казался мне все больше и больше виноватым. В это время я услышал его и Володин голоса, говорившие в официантской. Я не хотел видеть отца в эту минуту и отошел от двери; но Любочка пришла за мною и сказала, что папа меня спрашивает.
Он стоял в гостиной, опершись рукой о фортепьяно, и нетерпеливо и вместе с тем торжественно смотрел в мою сторону. На лице его уже не было того выражения молодости и счастия, которое я замечал на нем все это время. Он был печален. Володя с трубкой в руке ходил по комнате. Я подошел к отцу и поздоровался с ним.
– Ну, друзья мои, – сказал он решительно, поднимая голову и тем особенным быстрым тоном, которым говорятся вещи, очевидно, неприятные, но о которых судить уже поздно, – вы знаете, я думаю, что я женюсь на Авдотье Васильевне. – Он помолчал немного. – Я никогда не хотел жениться после вашей maman, но… – он остановился на минутку, – но… но, видно, судьба. Дунечка добрая, милая девушка, уж не очень молода; я надеюсь, вы ее полюбите, дети, а она уже вас любит от души, она хорошая. Теперь вам, – сказал он, обращаясь ко мне и Володе и как будто торопясь говорить, чтоб мы не успели перебить его, – вам пора уж ехать, а я пробуду здесь до нового года и приеду в Москву, – опять он замялся, – уже с женою и с Любочкой. – Мне стало больно видеть отца, как будто робеющего и виноватого перед нами, я подошел к нему ближе, но Володя, продолжая курить, опустив голову, все ходил по комнате.
– Так-то, друзья мои, вот ваш старик что выдумал, – заключил папа, краснея, покашливая и подавая мне и Володе руки. Слезы у него были на глазах, когда он сказал это, и рука, которую он протянул Володе, бывшему в это время в другом конце комнаты, я заметил, немного дрожала. Вид этой дрожащей руки больно поразил меня, и мне пришла странная мысль, еще более тронувшая меня, – мне пришла мысль, что папа служил в 12-м году и был, известно, храбрым офицером. Я задержал его большую жилистую руку и поцеловал ее. Он крепко пожал мою и вдруг, всхлипнув от слез, взял обеими руками Любочку за ее черную головку и стал целовать ее в глаза. Володя притворился, что уронил трубку, и, нагнувшись, потихоньку вытер глаза кулаком и, стараясь быть незамеченным, вышел из комнаты.
Глава XXXVI Университет
Свадьба должна была быть через две недели; но лекции наши начинались, и мы с Володей в начале сентября поехали в Москву. Нехлюдовы тоже вернулись из деревни. Дмитрий (с которым мы, расставаясь, дали слово писать друг другу и, разумеется, не писали ни разу) тотчас же приехал ко мне, и мы решили, что он меня на другой день повезет в первый раз в университет на лекции.
Был яркий солнечный день.
Как только вошел я в аудиторию, я почувствовал, как личность моя исчезает в этой толпе молодых, веселых лиц, которая в ярком солнечном свете, проникавшем в большие окна, шумно колебалась по всем дверям и коридорам. Чувство сознания себя членом этого огромного общества было очень приятно. Но из всех этих лиц не много было мне знакомых, да и с теми знакомство ограничивалось кивком головы и словами: «Здравствуйте, Иртеньев!» Вокруг же меня жали друг другу руки, толкались, слова дружбы, улыбки, приязни, шуточки сыпались со всех сторон. Я везде чувствовал связь, соединяющую все это молодое общество, и с грустью чувствовал, что связь эта как-то обошла меня. Но это было только минутное впечатление. Вследствие его и досады, порожденной им, напротив, я даже скоро нашел, что очень хорошо, что я не принадлежу ко всему этому обществу, что у меня должен быть свой кружок, людей порядочных, и уселся на третьей лавке, где сидели граф Б., барон З., князь Р., Ивин и другие господа в том же роде, из которых я был знаком с Ивиным и графом Б. Но и эти господа смотрели на меня так, что я чувствовал себя не совсем принадлежащим и к их обществу. Я стал наблюдать все, что происходило вокруг меня. Семенов, с своими седыми всклокоченными волосами и белыми зубами, в расстегнутом сюртуке, сидел недалеко от меня и, облокотясь, грыз перо. Гимназист, выдержавший первым экзамен, сидел на первой лавке, все с подвязанной черным галстуком щекой, и играл серебряным ключиком часов на атласном жилете. Иконин, который поступил-таки в университет, сидя на верхней лавке, в голубых панталонах с кантом, закрывавших весь сапог, хохотал и кричал, что он на Парнасе. Иленька, который, к удивлению моему, не только холодно, но даже презрительно мне поклонился, как будто желая напомнить о том, что здесь мы все равны, сидел передо мной и, поставив особенно развязно свои худые ноги на лавку (как мне казалось, на мой счет), разговаривал с другим студентом и изредка взглядывал на меня. Подле меня компания Ивина говорила по-французски. Эти господа казались мне ужасно глупы. Всякое слово, которое я слышал из их разговора, не только казалось мне бессмысленно, но неправильно, просто не по-французски (ce n’est pas Français, говорил я себе мысленно), а позы, речи и поступки Семенова, Иленьки и других казались мне неблагородны, непорядочны, не comme il faut.
Я не принадлежал ни к какой компании и, чувствуя себя одиноким и неспособным к сближению, злился. Один студент на лавке передо мной грыз ногти, которые были все в красных заусенцах, и это мне показалось до того противно, что я даже пересел от него подальше. В душе же мне, помню, в этот первый день было очень грустно.
Когда вошел профессор и все, зашевелившись, замолкли, я помню, что я и на профессора распространил свой сатирический взгляд, и меня поразило то, что профессор начал лекцию вводной фразой, в которой, по моему мнению, не было никакого толка. Я хотел, чтобы лекция от начала до конца была такая умная, чтобы из нее нельзя было выкинуть и нельзя было к ней прибавить ни одного слова. Разочаровавшись в этом, я сейчас же, под заглавием «первая лекция», написанным в красиво переплетенной тетрадке, которую я принес с собою, нарисовал восемнадцать профилей, которые соединялись в кружок в виде цветка, и только изредка водил рукой по бумаге, для того чтобы профессор (который, я был уверен, очень занимается мною) думал, что я записываю. На этой же лекции решив, что записывание всего, что будет говорить всякий профессор, не нужно и даже было бы глупо, я держался этого правила до конца курса.
На следующих лекциях я уже не чувствовал так сильно одиночества, познакомился со многими, жал руки, разговаривал, но между мной и товарищами настоящего сближения все-таки не делалось отчего-то, и еще часто мне случалось в душе грустить и притворяться. С компанией Ивина и аристократов, как их все называли, я не мог сойтись, потому что, как теперь вспоминаю, я был дик и груб с ними и кланялся им только тогда, когда они мне кланялись, а они очень мало, по-видимому, нуждались в моем знакомстве. С большинством же это происходило от совершенно другой причины. Как только я чувствовал, что товарищ начинал быть ко мне расположен, я тотчас же давал ему понять, что я обедаю у князя Ивана Иваныча и что у меня есть дрожки. Все это я говорил только для того, чтобы показать себя с более выгодной стороны и чтобы товарищ меня полюбил еще больше за это; но почти всякий раз, напротив, вследствие сообщенного известия о моем родстве с князем Иваном Иванычем и дрожках, к удивлению моему, товарищ вдруг становился со мной горд и холоден.
Был у нас казеннокоштный студент Оперов, скромный, очень способный и усердный молодой человек, который подавал всегда руку, как доску, не сгибая пальцев и не делая ею никакого движения, так что шутники-товарищи иногда так же подавали ему руку и называли это подавать руку «дощечкой». Я почти всегда садился с ним рядом и часто разговаривал. Оперов особенно понравился мне теми свободными мнениями, которые он высказывал о профессорах. Он очень ясно и отчетливо определял достоинства и недостатки преподавания каждого профессора и даже иногда подтрунивал над ними, что особенно странно и поразительно действовало на меня, сказанное его тихим голоском, выходящим из его крошечного ротика. Несмотря на то, он, однако, тщательно записывал своим мелким почерком без исключения все лекции. Мы начинали уже сходиться с ним, решились готовиться вместе, и его маленькие серые близорукие глазки уже начинали с удовольствием обращаться на меня, когда я приходил садиться рядом с ним на свое место. Но я нашел нужным раз в разговоре объяснить ему, что моя матушка, умирая, просила отца не отдавать нас в казенное заведение и что я начинаю убеждаться в том, что все казенные воспитанники, может, и очень учены, но они для меня… совсем не то, ce ne sont pas des gens comme il faut[101], сказал я, заминаясь и чувствуя, что я почему-то покраснел. Оперов ничего не сказал мне, но на следующих лекциях не здоровался со мной первый, не подавал своей дощечки, не разговаривал, и когда я садился на место, то он, бочком пригнув голову на палец от тетрадей, делал, как будто вглядывался в них. Я удивлялся беспричинному охлаждению Оперова. Но pour un jeune homme de bonne maison[102] я считал неприличным заискивать в казеннокоштном студенте Оперове и оставил его в покое, хотя, признаюсь, его охлаждение мне было грустно. Раз я пришел прежде его, и так как лекция была любимого профессора, на которую сошлись студенты, не имевшие обыкновения всегда ходить на лекции, и места все были заняты, я сел на место Оперова, положил на пюпитр свои тетради, а сам вышел. Возвратясь в аудиторию, я увидел, что мои тетради переложены на заднюю лавку, а Оперов сидит на своем месте. Я заметил ему, что я тут положил тетради.
– Я не знаю, – отвечал он, вдруг вспыхнув и не глядя на меня.
– Я вам говорю, что я положил тут тетради, – сказал я, начиная нарочно горячиться, думая испугать его своей храбростью. – Все видели, – прибавил я, оглядываясь на студентов; но хотя многие с любопытством смотрели на меня, никто не ответил.
– Тут мест не откупают, а кто пришел прежде, тот и садится, – сказал Оперов, сердито поправляясь на своем месте и на мгновение взглянув на меня возмущенным взглядом.
– Это значит, что вы невежа, – сказал я.
Кажется, что Оперов пробормотал что-то, кажется даже, что он пробормотал: «А ты глупый мальчишка», – но я решительно не слыхал этого. Да и какая бы была польза, ежели бы я это слышал? браниться, как manants[103] какие-нибудь, больше ничего? (Я очень любил это слово manant, и оно мне было ответом и разрешением многих запутанных отношений.) Может быть, я бы сказал еще что-нибудь, но в это время хлопнула дверь, и профессор в синем фраке, расшаркиваясь, торопливо прошел на кафедру.
Однако перед экзаменом, когда мне понадобились тетради, Оперов, помня свое обещание, предложил мне свои и пригласил заниматься вместе.
Глава XXXVII Сердечные дела
Сердечные дела занимали меня в эту зиму довольно много. Я был влюблен три раза. Раз я страстно влюбился в очень полную даму, которая ездила при мне в манеже Фрейтага, вследствие чего каждый вторник и пятницу – дни, в которые она ездила, – я приходил в манеж смотреть на нее, но всякий раз так боялся, что она меня увидит, и потому так далеко всегда становился от нее и бежал так скоро с того места, где она должна была пройти, так небрежно отворачивался, когда она взглядывала в мою сторону, что я даже не рассмотрел хорошенько ее лица и до сих пор не знаю, была ли она точно хороша собой или нет.
Дубков, который был знаком с этой дамой, застав меня однажды в манеже, где я стоял, спрятавшись за лакеями и шубами, которые они держали, и узнав от Дмитрия о моей страсти, так испугал меня предложением познакомить меня с этой амазонкой, что я опрометью убежал из манежа и, при одной мысли о том, что он ей сказал обо мне, больше не смел входить в манеж, даже до лакеев, боясь встретить ее.
Когда я бывал влюблен в незнакомых и особенно замужних женщин, на меня находила застенчивость, еще в тысячу раз сильнее той, которую я испытывал с Сонечкой. Я боялся больше всего на свете того, чтобы мой предмет не узнал о моей любви и даже о моем существовании. Мне казалось, что ежели бы она узнала о том чувстве, которое я к ней испытывал, то это было бы для нее таким оскорблением, которого она не могла бы мне простить никогда. И в самом деле, ежели бы эта амазонка знала подробно, как я, глядя на нее из-за лакеев, воображал, похитив ее, увезти в деревню и как с ней жить там и что с ней делать, может быть, она справедливо бы очень оскорбилась. Но я не мог ясно сообразить того, что, зная меня, она не могла еще узнать вдруг все мои об ней мысли и что поэтому ничего не было постыдного просто познакомиться с ней.
В другой раз я влюбился в Сонечку, увидав ее у сестры. Вторая любовь моя к ней уже давно прошла, но я влюбился в третий раз вследствие того, что Любочка дала мне тетрадку стишков, переписанных Сонечкой, в которой «Демон» Лермонтова был во многих мрачно-любовных местах подчеркнут красными чернилами и заложен цветочками. Вспомнив, как Володя целовал прошлого года кошелек своей барышни, я попробовал сделать то же, и действительно, когда я один вечером в своей комнате стал мечтать, глядя на цветок, и прикладывать его к губам, я почувствовал некоторое приятно-слезливое расположение и снова был влюблен или так предполагал в продолжение нескольких дней.
В третий раз, наконец, в эту зиму я влюбился в барышню, в которую был влюблен Володя и которая езжала к нам. В барышне этой, как я теперь вспоминаю, ровно ничего не было хорошего, и именно того хорошего, что мне обыкновенно нравилось. Она была дочь известной московской умной и ученой дамы, маленькая, худенькая, с длинными русыми английскими буклями и с прозрачным профилем. Все говорили, что эта барышня еще умнее и ученее своей матери; но я никак не мог судить об этом, потому что, чувствуя какой-то подобострастный страх при мысли о ее уме и учености, я только один раз говорил с ней, и то с неизъяснимым трепетом. Но восторг Володи, который никогда не стеснялся присутствующими в выражении своего восторга, сообщился мне с такой силой, что я страстно влюбился в эту барышню. Чувствуя, что Володе будет неприятно известие о том, что два братца влюблены в одну девицу, я не говорил ему о своей любви. Мне же, напротив, в этом чувстве больше всего доставляла удовольствие мысль, что любовь наша так чиста, что, несмотря на то, что предмет ее одно и то же прелестное существо, мы остаемся дружны и готовы, ежели встретится необходимость, жертвовать собой друг для друга. Впрочем, насчет готовности жертвовать Володя, кажется, не совсем разделял мое мнение, потому что он был влюблен так страстно, что хотел дать пощечину и вызвать на дуэль одного настоящего дипломата, который, говорили, должен был жениться на ней. Мне же очень приятно было жертвовать своим чувством, может быть оттого, что не стоило большого труда, так как я с этой барышней только раз вычурно поговорил о достоинстве ученой музыки, и любовь моя, как я ни старался поддерживать ее, прошла на следующей неделе.
Глава XXXVIII Свет
Светские удовольствия, которым, вступая в университет, я мечтал предаться в подражание старшему брату, совершенно разочаровали меня в эту зиму. Володя танцевал очень много, папа тоже езжал на балы с своей молодой женой; но меня, должно быть, считали или еще слишком молодым, или неспособным для этих удовольствий, и никто не представлял меня в те дома, где давались балы. Несмотря на обещание откровенности с Дмитрием, я никому, и ему тоже, не говорил о том, как мне хотелось ездить на балы и как больно и досадно было то, что про меня забывали и, видимо, смотрели как на какого-то философа, которым я вследствие того и прикидывался.
Но в эту зиму был вечер у княгини Корнаковой. Она сама пригласила всех нас и между прочими меня, и я в первый раз должен был ехать на бал. Володя, перед тем как ехать, пришел ко мне в комнату и желал видеть, как я оденусь. Меня очень удивил и озадачил этот поступок с его стороны. Мне казалось, что желание быть хорошо одетым весьма стыдно и что нужно скрывать его; он же, напротив, считал это желание до такой степени естественным и необходимым, что совершенно откровенно говорил, что боится, чтобы я не осрамился. Он велел мне непременно надеть лаковые сапоги, пришел в ужас, когда я хотел надеть замшевые перчатки, надел мне часы как-то особенным манером и повез на Кузнецкий мост к парикмахеру. Меня завили. Володя отошел и посмотрел на меня издали.
– Вот теперь хорошо, только неужели нельзя пригладить этих вихров? – сказал он, обращаясь к парикмахеру.
Но сколько ни мазал m-r Charles какой-то липкой эссенцией мои вихры, они все-таки встали, когда я надел шляпу, и вообще моя завитая фигура мне казалась еще гораздо хуже, чем прежде. Мое одно спасенье была эффектация небрежности. Только в таком виде наружность моя была на что-нибудь похожа.
Володя, кажется, был того же мнения, потому что попросил меня разбить завивку, и когда я это сделал и все-таки было нехорошо, он больше не смотрел на меня и всю дорогу до Корнаковых был молчалив и печален.
К Корнаковым вместе с Володей я вошел смело; но когда меня княгиня пригласила танцевать и я почему-то, несмотря на то, что ехал с одной мыслью танцевать очень много, сказал, что я не танцую, я оробел и, оставшись один между незнакомыми людьми, впал в свою обычную непреодолимую, все возрастающую застенчивость. Я молча стоял на одном месте целый вечер.
Во время вальса одна из княжон подошла ко мне и с общей всему семейству официальной любезностью спросила меня, отчего я не танцую. Помню, как я оробел при этом вопросе, но как вместе с тем, совершенно невольно для меня, на лице моем распустилась самодовольная улыбка, и я начал говорить по-французски самым напыщенным языком с вводными предложениями такой вздор, который мне теперь, даже после десятков лет, совестно вспомнить. Должно быть, так подействовала на меня музыка, возбуждавшая мои нервы и заглушавшая, как я полагал, не совсем понятную часть моей речи. Я говорил что-то про высшее общество, про пустоту людей и женщин и, наконец, так заврался, что остановился на половине слова какой-то фразы, которую не было никакой возможности кончить.
Даже светская по породе княжна смутилась и с упреком посмотрела на меня. Я улыбался. В эту критическую минуту Володя, который, заметив, что я разговариваю горячо, верно желал знать, каково я в разговорах искупаю то, что не танцую, подошел к нам вместе с Дубковым. Увидав мое улыбающееся лицо и испуганную мину княжны и услыхав тот ужасный вздор, которым я кончил, он покраснел и отвернулся. Княжна встала и отошла от меня. Я все-таки улыбался, но так страдал в эту минуту сознанием своей глупости, что готов был провалиться сквозь землю и что во что бы то ни стало чувствовал потребность шевелиться и говорить что-нибудь, чтобы как-нибудь изменить свое положение. Я подошел к Дубкову и спросил его, много ли он протанцевал вальсов с ней. Это я будто бы был игрив и весел, но, в сущности, умолял о помощи того самого Дубкова, которому я прокричал: «Молчать!» – на обеде у Яра. Дубков сделал, будто не слышит меня, и повернулся в другую сторону. Я пододвинулся к Володе и сказал через силу, стараясь дать тоже шутливый тон голосу: «Ну что, Володя, умаялся?» Но Володя посмотрел на меня так, как будто хотел сказать: «Ты так не говоришь со мной, когда мы одни», – и молча отошел от меня, видимо, боясь, чтобы я еще не прицепился к нему как-нибудь.
«Боже мой, и брат мой покидает меня!» – подумал я.
Однако у меня почему-то недостало силы уехать. Я до конца вечера мрачно простоял на одном месте, и только когда все, разъезжаясь, столпились в передней и лакей надел мне шинель на конец шляпы, так что она поднялась, я сквозь слезы болезненно засмеялся и, не обращаясь ни к кому в особенности, сказал-таки: «Comme c’est gracieux»[104].
Глава XXXIX Кутеж
Несмотря на то, что под влиянием Дмитрия я еще не предавался обыкновенным студенческим удовольствиям, называемым кутежами, мне случилось уже в эту зиму раз участвовать в таком увеселении, и я вынес из него не совсем приятное чувство. Вот как это было. В начале года, раз на лекции барон З., высокий белокурый молодой человек, с весьма серьезным выражением правильного лица, пригласил всех нас к себе на товарищеский вечер. Всех нас – значит, всех товарищей более или менее comme il faut нашего курса, в числе которых, разумеется, не были ни Грап, ни Семенов, ни Оперов, ни все эти плохонькие господа. Володя презрительно улыбнулся, узнав, что я еду на кутеж первокурсников; но я ожидал необыкновенного и большого удовольствия от этого еще совершенно неизвестного мне препровождения времени и пунктуально в назначенное время, в восемь часов, был у барона З.
Барон З., в расстегнутом сюртуке и белом жилете, принимал гостей в освещенной зале и гостиной небольшого домика, в котором жили его родители, уступившие ему на вечер этого торжества парадные комнаты. В коридоре виднелись платья и головы любопытных горничных, и в буфете мелькнуло раз платье дамы, которую я принял за самую баронессу. Гостей было человек двадцать, и все были студенты, исключая г. Фроста, приехавшего вместе с Ивиным, и одного румяного высокого штатского господина, распоряжавшегося пиршеством и которого со всеми знакомили как родственника барона и бывшего студента Дерптского университета. Слишком яркое освещение и обыкновенное казенное убранство парадных комнат сначала действовали так охладительно на все это молодое общество, что все невольно держались по стенкам, исключая некоторых смельчаков и дерптского студента, который, уже расстегнув жилет, казалось, находился в одно и то же время в каждой комнате и в каждом угле каждой комнаты и наполнял, казалось, всю комнату своим звучным, приятным, неумолкающим тенором. Товарищи же больше молчали или скромно разговаривали о профессорах, науках, экзаменах, вообще серьезных и неинтересных предметах. Все без исключения поглядывали на дверь буфета и, хотя старались скрывать это, имели выражение, говорившее: «Что ж, пора бы и начинать». Я тоже чувствовал, что пора бы начинать, и ожидал начала с нетерпеливою радостью.
После чая, которым лакеи обнесли гостей, дерптский студент спросил у Фроста по-русски:
– Умеешь делать жженку, Фрост?
– О ja![105] – отвечал Фрост, потрясая икрами, но дерптский студент снова по-русски сказал ему:
– Так ты возьмись за это дело (они были на «ты», как товарищи по Дерптскому университету), – и Фрост, делая большие шаги своими выгнутыми мускулистыми ногами, стал переходить из гостиной в буфет, из буфета в гостиную, и скоро на столе оказалась большая суповая чаша с стоящей на ней десятифунтовой головкой сахару посредством трех перекрещенных студенческих шпаг. Барон З. в это время беспрестанно подходил ко всем гостям, которые собрались в гостиной, глядя на суповую чашу, и с неизменно серьезным лицом говорил всем почти одно и то же: «Давайте, господа, выпьемте все по-студенчески круговую, брудершафт, а то у нас совсем нет товарищества в нашем курсе. Да расстегнитесь же или совсем снимите, вот как он». Действительно, дерптский студент, сняв сюртук и засучив белые рукава рубашки выше белых локтей и решительно расставив ноги, уже поджигал ром в суповой чаше.
– Господа! тушите свечи! – закричал вдруг дерптский студент так приемисто и громко, как только можно было крикнуть тогда, когда бы мы все кричали. Мы же все безмолвно смотрели на суповую чашу и белую рубашку дерптского студента и все чувствовали, что наступила торжественная минута.
– Löschen Sie die Lichter aus, Frost![106] – снова прокричал дерптский студент уже по-немецки, должно быть, слишком разгорячившись. Фрост и мы все принялись тушить свечи. В комнате стало темно, одни белые рукава и руки, поддерживавшие голову сахару на шпагах, освещались голубоватым пламенем. Громкий тенор дерптского студента уже не был одиноким, потому что во всех углах комнаты заговорило и засмеялось. Многие сняли сюртуки (особенно те, у которых были тонкие и совершенно свежие рубашки), я сделал то же и понял, что началось. Хотя веселого еще ничего не было, я был твердо уверен, что все-таки будет отлично, когда мы все выпьем по стакану готовившегося напитка.
Напиток поспел. Дерптский студент, сильно закапав стол, разлил жженку по стаканам и закричал: «Ну, теперь, господа, давайте». Когда мы каждый взяли в руку по полному липкому стакану, дерптский студент и Фрост запели немецкую песню, в которой часто повторялось восклицание Юхе! Мы все нескладно запели за ними, стали чокаться, кричать что-то, хвалить жженку и друг с другом через руку и просто пить сладкую и крепкую жидкость. Теперь уж нечего было дожидаться, кутеж был во всем разгаре. Я выпил уже целый стакан жженки, мне налили другой, в висках у меня стучало, огонь казался багровым, кругом меня все кричало и смеялось, но все-таки не только не казалось весело, но я даже был уверен, что и мне и всем было скучно и что я и все только почему-то считали необходимым притворяться, что им очень весело. Не притворялся, может быть, только дерптский студент; он все более и более становился румяным и вездесущим, всем подливал пустые стаканы и все больше и больше заливал стол, который весь сделался сладким и липким. Не помню, как и что следовало одно за другим, но помню, что в этот вечер я ужасно любил дерптского студента и Фроста, учил наизусть немецкую песню и обоих их целовал в сладкие губы; помню тоже, что в этот вечер я ненавидел дерптского студента и хотел пустить в него стулом, но удержался; помню, что, кроме того чувства неповиновения всех членов, которое я испытал и в день обеда у Яра, у меня в этот вечер так болела и кружилась голова, что я ужасно боялся умереть сию же минуту; помню тоже, что мы зачем-то все сели на пол, махали руками, подражая движению веслами, пели «Вниз по матушке по Волге» и что я в это время думал о том, что этого вовсе не нужно было делать; помню еще, что я, лежа на полу, цепляясь нога за ногу, боролся по-цыгански, кому-то свихнул шею и подумал, что этого не случилось бы, ежели бы он не был пьян; помню еще, что ужинали и пили что-то другое, что я выходил на двор освежиться, и моей голове было холодно, и что, уезжая, я заметил, что было ужасно темно, что подножка пролетки сделалась покатая и скользкая и за Кузьму нельзя было держаться, потому что он сделался слаб и качался, как тряпка; но помню главное: что в продолжение всего этого вечера я беспрестанно чувствовал, что я очень глупо делаю, притворяясь, будто бы мне очень весело, будто бы я люблю очень много пить и будто бы я и не думал быть пьяным, и беспрестанно чувствовал, что и другие очень глупо делают, притворяясь в том же. Мне казалось, что каждому отдельно было неприятно, как и мне, но, полагая, что такое неприятное чувство испытывал он один, каждый считал себя обязанным притворяться веселым, для того чтобы не расстроить общего веселья; притом же – странно сказать – я себя считал обязанным к притворству по одному тому, что в суповую чашу влито было три бутылки шампанского по десяти рублей и десять бутылок рому по четыре рубля, что всего составляло семьдесят рублей, кроме ужина. Я так был убежден в этом, что на другой день на лекции меня чрезвычайно удивило то, что товарищи мои, бывшие на вечере барона З., не только не стыдились вспоминать о том, что они там делали, но рассказывали про вечер так, чтобы другие студенты могли слышать. Они говорили, что был отличнейший кутеж, что дерптские – молодцы на эти дела, и что там было выпито на двадцать человек сорок бутылок рому, и что многие замертво остались под столами. Я не мог понять, для чего они не только рассказывали, но и лгали на себя.
Глава XL Дружба с Нехлюдовыми
В эту зиму я очень часто виделся не только с одним Дмитрием, который ездил нередко к нам, но и со всем его семейством, с которым я начинал сходиться.
Нехлюдовы – мать, тетка и дочь – все вечера проводили дома, и княгиня любила, чтоб по вечерам приезжала к ней молодежь, мужчины такого рода, которые, как она говорила, в состоянии провести весь вечер без карт и танцев. Но, должно быть, таких мужчин было мало, потому что я, который ездил к ним почти каждый вечер, редко встречал у них гостей. Я привык к лицам этого семейства, к различным их настроениям, сделал себе уже ясное понятие о их взаимных отношениях, привык к комнатам и мебели и, когда гостей не было, чувствовал себя совершенно свободным, исключая тех случаев, когда оставался один в комнате с Варенькой. Мне все казалось, что она, как не очень красивая девушка, очень бы желала, чтобы я влюбился в нее. Но и это смущение начинало проходить. Она так естественно показывала вид, что ей было все равно говорить со мной, с братом или с Любовью Сергеевной, что и я усвоил привычку смотреть на нее просто, как на человека, которому ничего нет постыдного и опасного выказывать удовольствие, доставляемое его обществом. Во все время моего с ней знакомства она мне казалась – днями – то очень некрасивой, то не слишком дурной девушкой, но я даже не спрашивал себя насчет ее ни разу: влюблен ли я или нет. Мне случалось разговаривать с ней прямо, но чаще я разговаривал с нею, обращая при ней речь к Любовь Сергеевне или к Дмитрию, и этот последний способ особенно мне нравился. Я находил большое удовольствие говорить при ней, слушать ее пение и вообще знать о ее присутствии в той же комнате, в которой был я; но мысль о том, какие будут впоследствии мои отношения с Варенькой, и мечты о самопожертвовании для своего друга, ежели он влюбится в мою сестру, уже редко приходили мне в голову. Ежели же мне приходили такие мечты и мысли, то я, чувствуя себя довольным настоящим, бессознательно старался отгонять мысль о будущем.
Несмотря, однако, на это сближение, я продолжал считать своею непременною обязанностью скрывать от всего общества Нехлюдовых, и в особенности от Вареньки, свои настоящие чувства и наклонности и старался выказывать себя совершенно другим молодым человеком от того, каким я был в действительности, и даже таким, какого не могло быть в действительности. Я старался казаться страстным, восторгался, ахал, делал страстные жесты, когда что-нибудь мне будто бы очень нравилось, вместе с тем старался казаться равнодушным ко всякому необыкновенному случаю, который видел или про который мне рассказывали; старался казаться злым насмешником, не имеющим ничего святого, и вместе с тем тонким наблюдателем; старался казаться логическим во всех своих поступках, точным и аккуратным в жизни, и вместе с тем презирающим все материальное. Могу смело сказать, что я был гораздо лучше в действительности, чем то странное существо, которое я пытался представлять из себя; но все-таки и таким, каким я притворялся, Нехлюдовы меня полюбили и, к счастию моему, не верили, как кажется, моему притворству. Одна Любовь Сергеевна, считавшая меня величайшим эгоистом, безбожником и насмешником, как кажется, не любила меня и часто спорила со мной, сердилась и поражала меня своими отрывочными, бессвязными фразами. Но Дмитрий оставался все в тех же странных, больше чем дружеских отношениях с нею и говорил, что ее никто не понимает и что она чрезвычайно много делает ему добра. Его дружба с нею точно так же продолжала огорчать все семейство.
Раз Варенька, разговаривая со мной про эту непонятную для всех нас связь, объяснила ее так:
– Дмитрий самолюбив. Он слишком горд и, несмотря на весь свой ум, очень любит похвалу и удивление, любит быть всегда первым, а тетенька в невинности души находится в адмирации перед ним и не имеет довольно такту, чтобы скрывать от него эту адмирацию, и выходит, что она льстит ему, только не притворно, а искренно.
Это рассуждение запомнилось мне, и потом, разбирая его, я не мог не подумать, что Варенька очень умна, и с удовольствием, вследствие этого, возвысил ее в своем мнении. Такого рода возвышения, вследствие открываемого мною в ней ума и других моральных достоинств, я производил, хотя и с удовольствием, с некоторой строгой умеренностью и никогда не доходил до восторга, крайней точки этого возвышения. Так, когда Софья Ивановна, не устававшая говорить про свою племянницу, рассказала мне, как Варенька в деревне, будучи ребенком, четыре года тому назад отдала без позволения все свои платья и башмаки крестьянским детям, так что их надо было отобрать после, я еще не сразу принял этот факт как достойный к возвышению ее в моем мнении, а еще подтрунивал мысленно над нею за такой непрактический взгляд на вещи.
Когда у Нехлюдовых бывали гости и между прочими иногда Володя и Дубков, я самодовольно и с некоторым спокойным сознанием силы домашнего человека удалялся на последний план, не разговаривал и только слушал, что говорили другие. И все, что говорили другие, мне казалось до того неимоверно глупо, что я внутренно удивлялся, как такая умная, логическая женщина, как княгиня, и все ее логическое семейство могло слушать эти глупости и отвечать на них. Ежели б мне тогда пришло в голову сравнить с тем, что говорили другие, то, что я говорил сам, когда бывал один, я бы, верно, нисколько не удивлялся. Еще бы меньше я удивлялся, ежели бы я поверил, что наши домашние – Авдотья Васильевна, Любочка и Катенька – были такие же женщины, как и все, нисколько не ниже других, и вспомнил бы, что по целым вечерам говорили, весело улыбаясь, Дубков, Катенька и Авдотья Васильевна; как почти всякий раз Дубков, придравшись к чему-нибудь, читал с чувством стихи: «Au banquet de la vie, infortuné convive…»[107] или отрывки «Демона», и вообще с каким удовольствием и какой вздор они говорили в продолжение нескольких часов сряду.
Разумеется, что, когда бывали гости, Варенька меньше обращала на меня внимания, чем когда мы были одни, – и тогда уже не было ни чтения, ни музыки, которую я очень любил слушать. Разговаривая с гостями, она теряла для меня главную свою прелесть – спокойной рассудительности и простоты. Помню, как ее разговоры о театре и погоде с братом моим Володей странно поразили меня. Я знал, что Володя больше всего на свете избегал и презирал банальности, Варенька тоже всегда смеялась над притворно занимательными разговорами о погоде и т. п., – почему же, сойдясь вместе, они оба постоянно говорили самые несносные пошлости, и как будто стыдясь друг за друга? Всякий раз после таких разговоров я втихомолку злился на Вареньку, на другой день подсмеивался над бывшими гостями, но находил еще больше удовольствия быть одному в семейном кружке Нехлюдовых.
Как бы то ни было, я начинал находить больше удовольствия быть с Дмитрием в гостиной его матери, чем с ним одним с глазу на глаз.
Глава XLI Дружба с Нехлюдовым
Именно в эту пору дружба моя с Дмитрием держалась только на волоске. Я уже слишком давно начал обсуживать его для того, чтобы не найти в нем недостатков; а в первой молодости мы любим только страстно и поэтому только людей совершенных. Но как скоро начинает мало-помалу уменьшаться туман страсти или сквозь него невольно начинают пробивать ясные лучи рассудка, и мы видим предмет нашей страсти в его настоящем виде с достоинствами и недостатками, – одни недостатки, как неожиданность, ярко, преувеличенно бросаются нам в глаза, чувства влечения к новизне и надежды на то, что не невозможно совершенство в другом человеке, поощряют нас не только к охлаждению, но к отвращению к прежнему предмету страсти, и мы, не жалея, бросаем его и бежим вперед, искать нового совершенства. Ежели со мною не случилось того же в отношении Дмитрия, то я обязан только его упорной, педантической, более рассудочной, чем сердечной привязанности, которой бы мне слишком совестно было изменить. Сверх того, нас связывало наше странное правило откровенности. Разойдясь, мы слишком боялись оставить во власти один другого все поверенные, постыдные для себя, моральные тайны. Впрочем, наше правило откровенности уже давно, очевидно для нас, не соблюдалось и часто стесняло нас и производило странные между нами отношения.
У Дмитрия в эту зиму я почти всякий раз, как приезжал, заставал его товарища по университету, студента Безобедова, с которым он занимался. Безобедов был маленький, рябой, худой человечек, с крошечными, покрытыми веснушками ручками и огромными нечесаными рыжими волосами, всегда оборванный, грязный, необразованный и даже плохо занимавшийся. Отношения Дмитрия с ним, так же как и с Любовью Сергеевной, были мне непонятны. Единственная причина, по которой он мог выбрать его из всех товарищей и сойтись с ним, могла быть только та, что хуже Безобедова на вид не было студента во всем университете. Но, должно быть, именно поэтому Дмитрию приятно было наперекор всем оказывать ему дружбу. Во всех его отношениях с этим студентом выражалось это гордое чувство: «Вот, мол, мне все равно, кто бы вы ни были, мне все равны, и его люблю, значит, и он хорош».
Я удивлялся, как ему не тяжело было постоянно принуждать себя и как несчастный Безобедов выдерживал свое неловкое положение. Мне очень не нравилась эта дружба.
Раз я приехал вечером к Дмитрию с тем, чтобы с ним вместе провести вечер в гостиной его матери, разговаривать и слушать пение или чтение Вареньки; но Безобедов сидел на верху. Дмитрий резким тоном ответил мне, что он не может идти вниз, потому что, как я вижу, у него гости.
– И что там веселого? – прибавил он. – Гораздо лучше здесь посидим, поболтаем. – Хотя меня вовсе не прельщала мысль просидеть часа два с Безобедовым, я не решался один пойти в гостиную и с досадой в душе на странности моего друга уселся на качающемся кресле и молча стал качаться. Мне очень досадно было на Дмитрия и на Безобедова за то, что они лишили меня удовольствия быть внизу; я ждал, скоро ли уйдет Безобедов, и злился на него и на Дмитрия, молча слушая их разговор. «Очень приятный гость! Сиди с ним!» – думал я, когда лакей принес чай и Дмитрий должен был раз пять просить Безобедова взять стакан, потому что робкий гость при первом и втором стакане считал своей обязанностью отказываться и говорить: «Кушайте сами». Дмитрий, видимо принуждая себя, занимал гостя разговором, в который тщетно несколько раз хотел втянуть меня. Я мрачно молчал.
«Нечего делать такое лицо, что никто не смей подозревать, что я скучаю», – мысленно обращался я к Дмитрию, молча, равномерно раскачиваясь на кресле. Я все больше и больше, с некоторым удовольствием, разжигал в себе чувство тихой ненависти к своему другу. «Вот дурак, – думал я про него, – мог бы провести приятно вечер с милыми родными, – нет, сидит с этим скотом; а теперь время проходит, будет уже поздно идти в гостиную», – и я взглядывал из-за края кресла на своего друга. И рука его, и поза, и шея, и в особенности затылок и коленки казались мне до того противны и оскорбительны, что я бы с наслаждением в эту минуту сделал ему какую-нибудь, даже большую, неприятность.
Наконец Безобедов встал, но Дмитрий не мог сразу отпустить такого приятного гостя; он ему предложил ночевать, на что, к счастию, Безобедов не согласился и вышел.
Проводив его, Дмитрий вернулся и, слегка самодовольно улыбаясь и потирая руки, – должно быть, и тому, что он таки выдержал характер, и тому, что избавился наконец от скуки, – стал ходить по комнате, изредка взглядывая на меня. Он был мне еще противнее. «Как он смеет ходить и улыбаться?» – думал я.
– Зачем ты злишься? – сказал он вдруг, останавливаясь против меня.
– Я совсем не злюсь, – отвечал я, как всегда отвечают в подобных случаях, – а только мне досадно, что ты притворяешься и передо мной, и перед Безобедовым, и перед самим собой.
– Какой вздор! Я никогда ни перед кем не притворяюсь.
– Я не забываю нашего правила откровенности, я тебе говорю прямо. Как я уверен, – сказал я, – тебе несносен этот Безобедов так же, как и мне, потому что он глуп и бог знает что такое, но тебе приятно важничать перед ним.
– Нет! И во-первых, Безобедов прекрасный человек…
– А я говорю: да; я скажу тебе даже, что и твоя дружба к Любовь Сергеевне основана тоже на том, что она считает тебя богом.
– Да я тебе говорю, что нет.
– А я говорю, что да, потому что я знаю это по себе, – отвечал я с жаром сдержанной досады и своею откровенностью желая обезоружить его, – я тебе говорил и повторяю, что мне всегда кажется, что я люблю тех людей, которые мне говорят приятное, а как разберу хорошенько, то вижу, что настоящей привязанности нет.
– Нет, – продолжал Дмитрий, сердитым движением шеи поправляя галстук, – когда я люблю, то ни похвалы, ни брань не могут изменить моего чувства.
– Неправда; ведь я тебе признавался, что, когда папа меня назвал дрянью, я несколько времени ненавидел его и желал его смерти; так же и ты…
– Говори за себя. Очень жалко, коли ты такой…
– Напротив, – вскричал я, вскакивая с кресел и с отчаянной храбростью глядя ему в глаза, – это нехорошо, что ты говоришь; разве ты мне не говорил про брата, – я тебе про это не поминаю, потому что это бы было нечестно, – разве ты мне не говорил… а я тебе скажу, как я тебя теперь понимаю.
И я, стараясь уколоть его еще больнее, чем он меня, стал доказывать ему, что он никого не любит, и высказывать ему все то, в чем, мне казалось, я имел право упрекнуть его. Я был очень доволен тем, что высказал ему все, совершенно забывая то, что единственно возможная цель этого высказывания, состоящая в том, чтоб он признался в недостатках, которые я обличал в нем, не могла быть достигнута в настоящую минуту, когда он был разгорячен. В спокойном же состоянии, когда он мог сознаться, я никогда не говорил ему этого.
Спор уже переходил в ссору, когда вдруг Дмитрий замолчал и ушел от меня в другую комнату. Я пошел было за ним, продолжая говорить, но он не отвечал мне. Я знал, что в графе его пороков была вспыльчивость, и он теперь преодолевал себя. Я проклинал все его расписания.
Так вот к чему повело нас наше правило говорить друг другу все, что мы чувствовали, и никогда третьему ничего не говорить друг о друге. Мы доходили иногда в увлечении откровенностью до самых бесстыдных признаний, выдавая, к своему стыду, предположение, мечту за желание и чувство, как, например, то, что я сейчас сказал ему; и эти признания не только не стягивали больше связь, соединявшую нас, но сушили самое чувство и разъединяли нас; а теперь вдруг самолюбие не допустило его сделать самое пустое признанье, и мы в жару спора воспользовались теми оружиями, которые прежде сами дали друг другу и которые поражали ужасно больно.
Глава XLII Мачеха
Несмотря на то, что папа хотел приехать с женою в Москву только после нового года, он приехал в октябре, осенью, в то время, когда была еще отличная езда с собаками. Папа говорил, что он изменил свое намерение, потому что дело его в сенате должно было слушаться; но Мими рассказывала, что Авдотья Васильевна в деревне так скучала, так часто говорила про Москву и так притворялась нездоровою, что папа решился исполнить ее желание.
– Потому что она никогда не любила его, а только всем уши прожужжала своею любовью, желая выйти замуж за богатого человека, – прибавляла Мими, задумчиво вздыхая, как бы говоря: «Не то бы сделали для него некоторые люди, если бы он сумел оценить их».
Некоторые люди были несправедливы к Авдотье Васильевне; ее любовь к папа, страстная, преданная любовь самоотвержения, была видна в каждом слове, взгляде и движении. Но такая любовь не мешала ей нисколько вместе с желанием не расставаться с обожаемым мужем – желать необыкновенного чепчика от мадам Аннет, шляпы с необыкновенным голубым страусовым пером и синего, венецианского бархата, платья, которое бы искусно обнажало стройную белую грудь и руки, до сих пор еще никому не показанные, кроме мужа и горничных. Катенька, разумеется, была на стороне матери, между же нами и мачехой установились сразу, со дня ее приезда, какие-то странные, шуточные отношения. Как только она вышла из кареты, Володя, сделав серьезное лицо и мутные глаза, расшаркиваясь и раскачиваясь, подошел к ее руке и сказал, как будто представляя кого-то:
– Имею честь поздравить с приездом милую мамашу и целовать ее ручку.
– А, милый сынок! – сказала Авдотья Васильевна, улыбаясь своей красивой, однообразной улыбкой.
– И второго сынка не забудьте, – сказал я, подходя тоже к ее руке и стараясь невольно перенять выражение лица и голоса Володи.
Ежели бы мы и мачеха были уверены во взаимной привязанности, это выражение могло бы означать пренебрежение к изъявлению признаков любви; ежели бы мы уже были дурно расположены друг к другу, оно могло бы означать иронию, или презрение к притворству, или желание скрыть от присутствующего отца наши настоящие отношения и еще много других чувств и мыслей; но в настоящем случае выражение это, которое очень пришлось к духу Авдотьи Васильевны, ровно ничего не значило и только скрывало отсутствие всяких отношений. Я впоследствии часто замечал и в других семействах, когда члены их предчувствуют, что настоящие отношения будут не совсем хороши, такого рода шуточные, подставные отношения; и эти-то отношения невольно установились между нами и Авдотьей Васильевной. Мы почти никогда не выходили из них, мы всегда были приторно учтивы с ней, говорили по-французски, расшаркивались и называли ее chère maman[108], на что она всегда отвечала шуточками в том же роде и красивой, однообразной улыбкой. Одна плаксивая Любочка, с ее гусиными ногами и нехитрыми разговорами, полюбила мачеху и весьма наивно и иногда неловко старалась сблизить ее со всем нашим семейством; зато и единственное лицо во всем мире, к которому, кроме ее страстной любви к папа, Авдотья Васильевна имела хоть каплю привязанности, была Любочка. Авдотья Васильевна оказывала ей даже какое-то восторженное удивление и робкое уважение, очень удивлявшее меня.
Авдотья Васильевна в первое время часто любила, называя себя мачехой, намекать на то, как всегда дети и домашние дурно и несправедливо смотрят на мачеху и вследствие этого как тяжело бывает ее положение. Но, предвидя всю неприятность этого положения, она ничего не сделала, чтобы избежать его: приласкать того, подарить этого, не быть ворчливой, что бы ей было очень легко, потому что она была от природы невзыскательна и очень добра. И не только она не сделала этого, но, напротив, предвидя всю неприятность своего положения, она без нападения приготовилась к защите, и, предполагая, что все домашние хотят всеми средствами делать ей неприятности и оскорбления, она во всем видела умысел и полагала самым достойным для себя терпеть молча и, разумеется, своим бездействием не снискивая любви, снискивала нерасположение. Притом в ней было такое отсутствие той в высшей степени развитой в нашем доме способности понимания, о которой я уже говорил, и привычки ее были так противоположны тем, которые укоренились в нашем доме, что уже это одно дурно располагало в ее пользу. В нашем аккуратном, опрятном доме она вечно жила, как будто только сейчас приехала: вставала и ложилась то поздно, то рано; то выходила, то не выходила к обеду; то ужинала, то не ужинала. Ходила почти всегда, когда не было гостей, полуодетая и не стыдилась нам и даже слугам показываться в белой юбке и накинутой шали, с голыми руками. Сначала эта простота понравилась мне, но потом очень скоро, именно вследствие этой простоты, я потерял последнее уважение, которое имел к ней. Еще страннее было для нас то, что в ней было, при гостях и без гостей, две совершенно различные женщины: одна, при гостях, молодая, здоровая и холодная красавица, пышно одетая, не глупая, не умная, но веселая; другая, без гостей, была уже немолодая, изнуренная, тоскующая женщина, неряшливая и скучающая, хотя и любящая. Часто, глядя на нее, когда она, улыбающаяся, румяная от зимнего холоду, счастливая сознанием своей красоты, возвращалась с визитов и, сняв шляпу, подходила осмотреться в зеркало, или, шумя пышным бальным открытым платьем, стыдясь и вместе гордясь перед слугами, проходила в карету, или дома, когда у нас бывали маленькие вечера, в закрытом шелковом платье и каких-то тонких кружевах около нежной шеи, сияла на все стороны однообразной, но красивой улыбкой, – я думал, глядя на нее: что бы сказали те, которые восхищались ей, ежели б видели ее такою, как я видел ее, когда она, по вечерам оставаясь дома, после двенадцати часов дожидаясь мужа из клуба, в каком-нибудь капоте, с нечесаными волосами, как тень ходила по слабо освещенным комнатам. То она подходила к фортепьянам и играла на них, морщась от напряжения, единственный вальс, который знала, то брала книгу романа и, прочтя несколько строк из средины, бросала его, то, чтоб не будить людей, сама подходила к буфету, доставала оттуда огурец и холодную телятину и съедала ее, стоя у окошка буфета, то снова, усталая, тоскующая, без цели шлялась из комнаты в комнату. Но более всего разъединяло нас с ней отсутствие понимания, выражавшееся преимущественно в свойственной ей манере снисходительного внимания, когда с ней говорили о вещах, для нее непонятных. Она была не виновата в том, что сделала бессознательную привычку слегка улыбаться одними губами и наклонять голову, когда ей рассказывали вещи, для нее мало занимательные (а кроме ее самой и мужа, ничто ее не занимало); но эта улыбка и наклонение головы, часто повторенные, были невыносимо отталкивающие. Ее веселость, как будто подсмеивающаяся над собой, над вами и над всем светом, была тоже неловкая, никому не сообщавшаяся; ее чувствительность – слишком приторная. А главное – она не стыдилась беспрестанно говорить всякому о своей любви к папа. Хотя она нисколько не лгала, говоря про то, что вся жизнь ее заключается в любви к мужу, и хотя она доказывала это всей своей жизнью, но, по нашему пониманию, такое беззастенчивое, беспрестанное твержение про свою любовь было отвратительно, и мы стыдились за нее, когда она говорила это при посторонних, еще более, чем когда она делала ошибки во французском языке.
Она любила своего мужа более всего на свете, и муж любил ее, особенно первое время и когда он видел, что она не ему одному нравилась. Единственная цель ее жизни была приобретение любви своего мужа; но она делала, казалось, нарочно все, что только могло быть ему неприятно, и все с целью доказать ему всю силу своей любви и готовности самопожертвования.
Она любила наряды, отец любил видеть ее в свете красавицей, возбуждавшей похвалы и удивление; она жертвовала своей страстью к нарядам для отца и больше и больше привыкала сидеть дома в серой блузе. Папа, считавший всегда свободу и равенство необходимым условием в семейных отношениях, надеялся, что его любимица Любочка и добрая молодая жена сойдутся искренно и дружески; но Авдотья Васильевна жертвовала собой и считала необходимым оказывать настоящей хозяйке дома, как она называла Любочку, неприличное уважение, больно оскорблявшее папа. Он играл много в эту зиму, под конец много проигрывал и, как всегда, не желая смешивать игру с семейною жизнию, скрывал свои игорные дела от всех домашних. Авдотья Васильевна жертвовала собой и, иногда больная, под конец зимы даже беременная, считала своей обязанностью, в серой блузе, с нечесаной головой, хоть в четыре или пять часов утра, раскачиваясь, идти навстречу папа, когда он, иногда усталый, проигравшийся, пристыженный, после восьмого штрафа, возвращался из клуба. Она спрашивала его рассеянно о том, был ли он счастлив в игре, и с снисходительной внимательностью, улыбаясь и покачивая головою, слушала, что он говорил ей о том, что он делал в клубе, и о том, что он в сотый раз ее просит никогда не дожидаться его. Но хотя проигрыш и выигрыш, от которого, по его игре, зависело все состояние папа, нисколько не интересовали ее, она снова каждую ночь первая встречала его, когда он возвращался из клуба. К этим встречам, впрочем, кроме своей страсти к самопожертвованию, побуждала ее еще затаенная ревность, от которой она страдала в сильнейшей степени. Никто в мире не мог бы ее убедить, что папа возвращался поздно из клуба, а не от любовницы. Она старалась прочесть на лице папа его любовные тайны; и не прочтя ничего, с некоторым наслаждением горя вздыхала и предавалась созерцанию своего несчастия.
Вследствие этих и многих других беспрестанных жертв в обращении папа с его женою в последние месяцы этой зимы, в которые он много проигрывал и оттого был большей частью не в духе, стало уже заметно перемежающееся чувство тихой ненависти, того сдержанного отвращения к предмету привязанности, которое выражается бессознательным стремлением делать все возможные мелкие моральные неприятности этому предмету.
Глава XLIII Новые товарищи
Зима прошла незаметно, и уже опять начинало таять, и в университете уже было прибито расписание экзаменов, когда я вдруг вспомнил, что надо было отвечать из восемнадцати предметов, которые я слушал и из которых я не слышал, не записывал и не приготовил ни одного. Странно, как такой ясный вопрос: как же держать экзамен? – ни разу мне не представился. Но я был всю зиму эту в таком тумане, происходившем от наслаждения тем, что я большой и что я comme il faut, что, когда мне и приходило в голову: как же держать экзамен? – я сравнивал себя с своими товарищами и думал: «Они же будут держать, а бо́льшая часть их еще не comme il faut, стало быть, у меня еще лишнее перед ними преимущество, и я должен выдержать». Я приходил на лекции только потому, что уж так привык и что папа усылал меня из дома. Притом же знакомых у меня было много, и мне было часто весело в университете. Я любил этот шум, говор, хохотню по аудиториям; любил во время лекции, сидя на задней лавке, при равномерном звуке голоса профессора мечтать о чем-нибудь и наблюдать товарищей; любил иногда с кем-нибудь сбегать к Матерну выпить водки и закусить и, зная, что за это могут распечь, после профессора, робко скрипнув дверью, войти в аудиторию; любил участвовать в проделке, когда курс на курс с хохотом толпился в коридоре. Все это было очень весело.
Когда уже все начали ходить аккуратнее на лекции, профессор физики кончил свой курс и простился до экзаменов, студенты стали собирать тетрадки и партиями готовиться, я тоже подумал, что надо готовиться. Оперов, с которым мы продолжали кланяться, но были в самых холодных отношениях, как я говорил уже, предложил мне не только тетрадки, но и пригласил готовиться по ним вместе с ним и другими студентами. Я поблагодарил его и согласился, надеясь этой честью совершенно загладить свою бывшую размолвку с ним, но просил только, чтоб непременно все собирались у меня всякий раз, так как у меня квартира хорошая.
Мне отвечали, что будут готовиться по переменкам, то у того, то у другого, и там, где ближе. В первый раз собрались у Зухина. Это была маленькая комнатка за перегородкой в большом доме на Трубном бульваре. В первый назначенный день я опоздал и пришел, когда уже читали. Маленькая комнатка была вся закурена, даже не вакштафом, а махоркой, которую курил Зухин. На столе стоял штоф водки, рюмка, хлеб, соль и кость баранины.
Зухин, не вставая, пригласил меня выпить водки и снять сюртук.
– Вы, я думаю, к такому угощенью не привыкли, – прибавил он.
Все были в грязных ситцевых рубашках и нагрудниках. Стараясь не выказывать своего к ним презрения, я снял сюртук и лег по-товарищески на диван. Зухин, изредка справляясь по тетрадкам, читал, другие останавливали его, делая вопросы, а он объяснял сжато, умно и точно. Я стал вслушиваться и, не понимая многого, потому что не знал предыдущего, сделал вопрос.
– Э, батюшка, да вам нельзя слушать, коли вы этого не знаете, – сказал Зухин, – я вам дам тетрадки, вы пройдите это к завтраму; а то что ж вам объяснять.
Мне стало совестно за свое незнание, и вместе с тем, чувствуя всю справедливость замечания Зухина, я перестал слушать и занялся наблюдениями над этими новыми товарищами. По подразделению людей на comme il faut и не comme il faut они принадлежали, очевидно, ко второму разряду и вследствие этого возбуждали во мне не только чувство презрения, но и некоторой личной ненависти, которую я испытывал к ним за то, что, не быв comme il faut, они как будто считали меня не только равным себе, но даже добродушно покровительствовали меня. Это чувство возбуждали во мне их ноги и грязные руки с обгрызенными ногтями, и один отпущенный на пятом пальце длинный ноготь у Оперова, и розовые рубашки, и нагрудники, и ругательства, которые они ласкательно обращали друг к другу, и грязная комната, и привычка Зухина беспрестанно немножко сморкаться, прижав одну ноздрю пальцем, и в особенности их манера говорить, употреблять и интонировать некоторые слова. Например, они употребляли слова: глупец, вместо дурак, словно вместо точно, великолепно вместо прекрасно, движучи и т. п., что мне казалось книжно и отвратительно непорядочно. Но еще более возбуждали во мне эту комильфотную ненависть интонации, которые они делали на некоторые русские и в особенности иностранные слова: они говорили ма́шина вместо маши́на, дея́тельность вместо де́ятельность, на́рочно вместо наро́чно, в камине́ вместо в ками́не, Ше́кспир вместо Шекспи́р, и т. д., и т. д.
Несмотря, однако, на эту, в то время для меня непреодолимо отталкивающую, внешность, я, предчувствуя что-то хорошее в этих людях и завидуя тому веселому товариществу, которое соединяло их, испытывал к ним влеченье и желал сблизиться с ними, как это ни было для меня трудно. Кроткого и честного Оперова я уже знал; теперь же бойкий, необыкновенно умный Зухин, который, видимо, первенствовал в этом кружке, чрезвычайно нравился мне. Это был маленький плотный брюнет с несколько оплывшим и всегда глянцевитым, но чрезвычайно умным, живым и независимым лицом. Это выражение особенно придавали ему невысокий, но горбатый над глубокими черными глазами лоб, щетинистые короткие волоса и частая черная борода, казавшаяся всегда небритой. Он, казалось, не думал о себе (что всегда мне особенно нравилось в людях), но видно было, что никогда ум его не оставался без работы. У него было одно из тех выразительных лиц, которые несколько часов после того, как вы их увидите в первый раз, вдруг совершенно изменяются в ваших глазах. Это случилось под конец вечера, в моих глазах, с лицом Зухина. Вдруг на его лице показались новые морщины, глаза ушли глубже, улыбка стала другая, и все лицо так изменилось, что я с трудом бы узнал его.
Когда кончили читать, Зухин, другие студенты и я, чтоб доказать свое желание быть товарищем, выпили по рюмке водки, и в штофе почти ничего не осталось. Зухин спросил, у кого есть четвертак, чтоб еще послать за водкой какую-то старую женщину, которая прислуживала ему. Я предложил было своих денег, но Зухин, как будто не слыхав меня, обратился к Оперову, и Оперов, достав бисерный кошелек, дал ему требуемую монету.
– Ты смотри не запей, – сказал Оперов, который сам ничего не пил.
– Небось, – отвечал Зухин, высасывая мозг из бараньей кости (я помню, в это время я думал: от этого-то он так умен, что ест много мозгу).
– Небось, – продолжал Зухин, слегка улыбаясь, а улыбка у него была такая, что вы невольно замечали ее и были ему благодарны за эту улыбку, – хоть и запью, так не беда; уж теперь, брат, посмотрим, кто кого собьет, он ли меня, или я его. Уж готово, брат, – добавил он, хвастливо щелкнув себя по лбу. – Вот Семенов не провалился бы, он что-то сильно закутил.
Действительно, тот самый Семенов с седыми волосами, который в первый экзамен меня так обрадовал тем, что на вид был хуже меня, и который, выдержав вторым вступительный экзамен, первый месяц студенчества аккуратно ходил на лекции, закутил еще до репетиций и под конец курса уже совсем не показывался в университете.
– Где он? – спросил кто-то.
– Уж и я его из виду потерял, – продолжал Зухин, – в последний раз мы с ним вместе Лиссабон разбили. Великолепная штука вышла. Потом, говорят, какая-то история была… Вот голова! Что́ огня в этом человеке! Что́ ума! Жаль, коли пропадет. А пропадет наверно: не такой мальчик, чтоб с его порывами он усидел в университете.
Поговорив еще немного, все стали расходиться, условившись и на следующие дни собираться к Зухину, потому что его квартира была ближе ко всем прочим. Когда все вышли во двор, мне стало несколько совестно, что все шли пешком, а я один ехал на дрожках, и я, стыдясь, предложил Оперову довезти его. Зухин вышел вместе с нами и, заняв у Оперова целковый, пошел на всю ночь куда-то в гости. Доро́гой Оперов рассказал мне многое про характер и образ жизни Зухина, и, приехав домой, я долго не спал, думая об этих новых, узнанных мною людях. Я долго, не засыпая, колебался, с одной стороны, между уважением к ним, к которому располагали меня их знания, простота, честность и поэзия молодости и удальства, с другой стороны – между отталкивающей меня их непорядочной внешностью. Несмотря на все желание, мне было в то время буквально невозможно сойтись с ними. Наше понимание было совершенно различно. Была бездна оттенков, составлявших для меня всю прелесть и весь смысл жизни, совершенно непонятных для них, и наоборот. Но главною причиною невозможности сближения были мое двадцатирублевое сукно на сюртуке, дрожки и голландская рубашка. Эта причина была в особенности важна для меня: мне казалось, что я невольно оскорбляю их признаками своего благосостояния. Я чувствовал себя перед ними виноватым и, то смиряясь, то возмущаясь против своего незаслуженного смирения и переходя к самонадеянности, никак не мог войти с ними в ровные, искренние отношения. Грубая же, порочная сторона в характере Зухина до такой степени заглушалась в то время для меня той сильной поэзией удальства, которую я предчувствовал в нем, что она нисколько не неприятно действовала на меня.
Недели две почти каждый день я ходил по вечерам заниматься к Зухину. Занимался я очень мало, потому что, как говорил уже, отстал от товарищей и, не имея сил один заняться, чтоб догнать их, только притворялся, что слушаю и понимаю то, что они читают. Мне кажется, что и товарищи догадывались о моем притворстве, и часто я замечал, что они пропускали места, которые сами знали, и никогда не спрашивали меня.
С каждым днем я больше и больше извинял непорядочность этого кружка, втягиваясь в их быт и находя в нем много поэтического. Только одно честное слово, данное мною Дмитрию, не ездить никуда кутить с ними, удержало меня от желания разделять их удовольствия.
Раз я хотел похвастаться перед ними своими знаниями в литературе, в особенности французской, и завел разговор на эту тему. К удивлению моему, оказалось, что, хотя они выговаривали иностранные заглавия по-русски, они читали гораздо больше меня, знали, ценили английских и даже испанских писателей, Лесажа, про которых я тогда и не слыхивал. Пушкин и Жуковский были для них литература (а не так, как для меня, книжки в желтом переплете, которые я читал и учил ребенком). Они презирали равно Дюма, Сю и Феваля и судили, в особенности Зухин, гораздо лучше и яснее о литературе, чем я, в чем я не мог не сознаться. В знании музыки я тоже не имел перед ними никакого преимущества. Еще к большему удивлению моему, Оперов играл на скрипке, другой из занимавшихся с нами студентов играл на виолончели и фортепьяно, и оба играли в университетском оркестре, порядочно знали музыку и ценили хорошую. Одним словом, все, чем я хотел похвастаться перед ними, исключая выговора французского и немецкого языков, они знали лучше меня и нисколько не гордились этим. Мог бы я похвастаться в моем положении светскостью, но ее я не имел, как Володя. Так что же такое было та высота, с которой я смотрел на них? Мое знакомство с князем Иваном Иванычем? выговор французского языка? дрожки? голландская рубашка? ногти? Да уж не вздор ли все это? – начинало мне глухо приходить иногда в голову под влиянием чувства зависти к товариществу и добродушному молодому веселью, которое я видел перед собой. Они все были на «ты». Простота их обращения доходила до грубости, но и под этой грубой внешностью был постоянно виден страх хоть чуть-чуть оскорбить друг друга. Подлец, свинья, употребляемые ими в ласкательном смысле, только коробили меня и мне подавали повод к внутреннему подсмеиванию, но эти слова не оскорбляли их и не мешали им быть между собой на самой искренней дружеской ноге. В обращении между собой они были так осторожны и деликатны, как только бывают очень бедные и очень молодые люди. Главное же, что-то широкое, разгульное чуялось мне в этом характере Зухина и его похождениях в Лиссабоне. Я предчувствовал, что эти кутежи должны были быть что-то совсем другое, чем то притворство с жженым ромом и шампанским, в котором я участвовал у барона З.
Глава XLIV Зухин и Семенов
Не знаю, к какому сословию принадлежал Зухин, но знаю, что он был из С. гимназии, без всякого состояния и, кажется, не дворянин. Ему было в то время лет восемнадцать, хотя на вид казалось гораздо больше. Он был необычайно умен, в особенности понятлив: ему легче было сразу обнять целый многосложный предмет, предвидеть все его частности и выводы, чем посредством сознания обсудить законы, по которым производились эти выводы. Он знал, что он был умен, гордился этим и вследствие этой гордости был одинаково со всеми прост в обращении и добродушен. Должно быть, он много испытал в жизни. Его пылкая, восприимчивая натура уже успела отразить в себе и любовь, и дружбу, и дела, и деньги. Хотя в малой мере, хотя в низших слоях общества, но не было вещи, к которой бы он, испытав ее, не имел не то презрения, не то какого-то равнодушия и невнимания, происходящих от слишком большой легкости, с которой ему все доставалось. Он, казалось, с таким жаром брался за все новое только для того, чтоб, достигнув цели, презирать то, чего он достигнул, и способная натура его достигала всегда и цели и права на презрение. В отношении науки было то же самое: занимаясь мало, не записывая, он знал математику превосходно и не хвастался, говоря, что собьет профессора. Ему казалось много вздоров в том, что ему читали, но с свойственным его натуре бессознательным практическим плутовством он тотчас же подделывался под то, что было нужно профессору, и все профессора его любили. Он был прям в отношениях с начальством, но начальство уважало его. Он не только не уважал и не любил науки, но презирал даже тех, которые серьезно занимались тем, что ему так легко доставалось. Науки, как он понимал их, не занимали десятой доли его способностей; жизнь в его студенческом положении не представляла ничего такого, чему бы он мог весь отдаться, а пылкая, деятельная, как он говорил, натура требовала жизни, и он вдался в кутеж такого рода, какой возможен был по его средствам, и предался ему с страстным жаром и желанием уходить себя, чем больше во мне силы. Теперь, перед экзаменами, предсказание Оперова сбылось. Он пропал недели на две, так что мы готовились уже последнее время у другого студента. Но в первый экзамен он, бледный, изнуренный, с дрожащими руками, явился в залу и блестящим образом перешел во второй курс.
С начала курса в шайке кутил, главою которых был Зухин, было человек восемь. В числе их сначала были Иконин и Семенов, но первый удалился от общества, не вынесши того неистового разгула, которому они предавались в начале года, второй же удалился потому, что ему и этого казалось мало. В первые времена все в нашем курсе с каким-то ужасом смотрели на них и рассказывали друг другу их подвиги.
Главными героями этих подвигов были Зухин, а в конце курса – Семенов. На Семенова все последнее время смотрели с каким-то даже ужасом, и когда он приходил на лекцию, что случалось довольно редко, то в аудитории происходило волнение.
Семенов перед самыми экзаменами кончил свое кутежное поприще самым энергическим и оригинальным образом, чему я был свидетелем благодаря своему знакомству с Зухиным. Вот как это было. Раз вечером, только что мы сошлись к Зухину, и Оперов, приникнув головой к тетрадкам и поставив около себя, кроме сальной свечи в подсвечнике, сальную свечу в бутылке, начал читать своим тоненьким голоском свои мелко исписанные тетрадки физики, как в комнату вошла хозяйка и объявила Зухину, что к нему пришел кто-то с запиской.
Зухин вышел и скоро вернулся, опустив голову и с задумчивым лицом, держа в руках открытую записку на серой оберточной бумаге и две десятирублевые ассигнации.
– Господа! Необыкновенное событие, – сказал он, подняв голову и как-то торжественно-серьезно взглянув на нас.
– Что ж, за кондиции деньги получил? – сказал Оперов, перелистывая свою тетрадку.
– Ну, давайте читать дальше, – сказал кто-то.
– Нет, господа! Я больше не читаю, – продолжал Зухин тем же тоном, – я вам говорю, непостижимое событие! Семенов прислал мне с солдатом вот двадцать рублей, которые занял когда-то, и пишет, что ежели я его хочу видеть, то чтоб приходил в казармы. Вы знаете, что это значит? – прибавил он, оглянув всех нас. Мы все молчали. – Я сейчас иду к нему, – продолжал Зухин, – пойдемте, кто хочет.
Сейчас же все надели сюртуки и собрались идти к Семенову.
– Не будет ли это неловко, – сказал Оперов своим тоненьким голоском, – что все мы, как редкость, придем смотреть на него?
Я был совершенно согласен с замечанием Оперова, особенно в отношении меня, который был почти незнаком с Семеновым, но мне так приятно было знать себя участвующим в общем товарищеском деле и так хотелось видеть самого Семенова, что я ничего не сказал на это замечание.
– Вздор! – сказал Зухин. – Что ж тут неловкого, что мы все идем проститься с товарищем, где бы он ни был. Пустяки! Идем, кто хочет.
Мы взяли извозчиков, посадили с собой солдата и поехали. Дежурный унтер-офицер уже не хотел нас пускать в казарму, но Зухин как-то уговорил его, и тот же самый солдат, который приходил с запиской, провел нас в большую, почти темную, слабо освещенную несколькими ночниками комнату, в которой с обеих сторон на нарах, с бритыми лбами, сидели и лежали рекруты в серых шинелях. Вступив в казарму, меня поразил особенный тяжелый запах, звук храпения нескольких сотен людей, и, проходя за нашим проводником и Зухиным, который твердыми шагами шел впереди всех между нарами, я с трепетом вглядывался в положение каждого рекрута и к каждому прикладывал оставшуюся в моем воспоминании сбитую жилистую фигуру Семенова с длинными всклокоченными, почти седыми волосами, белыми зубами и мрачными блестящими глазами. В самом крайнем углу казармы у последнего глиняного горшочка, налитого черным маслом, в котором дымно, свесившись, коптился нагоревший фитиль, Зухин ускорил шаг и вдруг остановился.
– Здорово, Семенов, – сказал он одному рекруту с таким же бритым лбом, как и другие, который, в толстом солдатском белье и в серой шинели внакидку, сидел с ногами на нарах и, разговаривая с другим рекрутом, ел что-то. Это был он, с обстриженными под гребенку седыми волосами, выбритым синим лбом и с своим всегдашним мрачным и энергическим выражением лица. Я боялся, что взгляд мой оскорбит его, и поэтому отворачивался. Оперов, кажется, тоже разделяя мое мнение, стоял сзади всех; но звук голоса Семенова, когда он своей обыкновенной отрывистой речью приветствовал Зухина и других, совершенно успокоил нас, и мы поторопились выйти вперед и подать – я свою руку, Оперов свою дощечку, но Семенов еще прежде нас протянул свою черную большую руку, избавляя нас этим от неприятного чувства делать как будто бы честь ему. Он говорил неохотно и спокойно, как и всегда:
– Здравствуй, Зухин. Спасибо, что зашел. А, господа, садитесь. Ты пусти, Кудряшка, – обратился он к рекруту, с которым ужинал и разговаривал, – с тобой после договорим. Садитесь же. Что? удивило тебя, Зухин? А?
– Ничего меня от тебя не удивило, – отвечал Зухин, усаживаясь подле него на нары, немножко с тем выражением, с каким доктор садится на постель больного, – меня бы удивило, коли бы ты на экзамены пришел, вот так-так. Да расскажи, где ты пропадал и как это случилось?
– Где пропадал? – отвечал он своим густым, сильным голосом, – пропадал в трактирах, кабаках, вообще в заведениях. Да садитесь же все, господа, тут места много. Подожми ноги-то, ты! – крикнул он повелительно, показав на мгновение свои белые зубы, на рекрута, который с левой стороны его лежал на нарах, положив голову на руку, и с ленивым любопытством смотрел на нас. – Ну, кутил. И скверно. И хорошо, – продолжал он, изменяя при каждом отрывистом предложении выражение энергического лица. – Историю с купцом знаешь: умер каналья. Меня хотели выгнать. Что были деньги – все промотал. Да это все бы ничего. Долгов гибель оставалась – и гадких. Расплатиться было нечем. Ну, и все.
– Как же мысль могла прийти тебе, – сказал Зухин.
– А вот как: кутил раз в Ярославле, знаешь, на Стоженке, кутил с каким-то барином из купцов. Он рекрутский поставщик. Говорю: «Дайте тысячу рублей – пойду». И пошел.
– Да ведь как же, ты – дворянин, – сказал Зухин.
– Пустяки! Все обделал Кирилл Иванов.
– Кто, Кирилл Иванов?
– Который меня купил (при этом он особенно – и странно, и забавно, и насмешливо блеснул глазами и как будто улыбнулся). Разрешение в сенате взяли. Еще покутил, долги заплатил, да и пошел. Вот и все. Что же, сечь меня не могут… пять рублей есть… А может, война…
Потом он начал рассказывать Зухину свои странные, непостижимые похождения, беспрестанно изменяя выражение энергического лица и мрачно блестя глазами.
Когда нельзя было больше оставаться в казармах, мы стали прощаться с ним. Он подал всем нам руку, крепко пожал наши и, не вставая, чтоб проводить нас, сказал:
– Заходите еще когда-нибудь, господа, нас еще, говорят, только в будущем месяце погонят, – и снова он как будто улыбнулся.
Зухин, однако, пройдя несколько шагов, снова вернулся назад. Мне хотелось видеть их прощанье, я тоже приостановился и видел, что Зухин достал из кармана деньги, подавал их ему, и Семенов оттолкнул его руку. Потом я видел, что они поцеловались, и слышал, как Зухин, снова приближаясь к нам, довольно громко прокричал:
– Прощай, голова! Да уж, наверно, я курса не кончу – ты будешь офицером.
В ответ на это Семенов, который никогда не смеялся, захохотал звонким, непривычным смехом, который чрезвычайно больно поразил меня. Мы вышли.
Всю дорогу домой, которую мы прошли пешком, Зухин молчал и беспрестанно немножко сморкался, приставляя палец то к одной, то к другой ноздре. Придя домой, он тотчас же ушел от нас и с того самого дня запил до самых экзаменов.
Глава XLV Я проваливаюсь
Наконец настал первый экзамен, дифференциалов и интегралов, а я все был в каком-то странном тумане и не отдавал себе ясного отчета о том, что меня ожидало. По вечерам на меня, после общества Зухина и других товарищей, находила мысль о том, что надо переменить что-то в своих убеждениях, что что-то в них не так и не хорошо, но утром, с солнечным светом, я снова становился comme il faut, был очень доволен этим и не желал в себе никаких изменений.
В таком расположении духа я приехал на первый экзамен. Я сел на лавку в той стороне, где сидели князья, графы и бароны, стал разговаривать с ними по-французски, и (как ни странно сказать) мне и мысль не приходила о том, что сейчас надо будет отвечать из предмета, который я вовсе не знаю. Я хладнокровно смотрел на тех, которые подходили экзаменоваться, и даже позволял себе подтрунивать над некоторыми.
– Ну что, Грап, – сказал я Иленьке, когда он возвращался от стола, – набрались страха?
– Посмотрим, как вы, – сказал Иленька, который, с тех пор как поступил в университет, совершенно взбунтовался против моего влияния, не улыбался, когда я говорил с ним, и был дурно расположен ко мне.
Я презрительно улыбнулся на ответ Иленьки, несмотря на то, что сомнение, которое он выразил, на минуту заставило меня испугаться. Но туман снова застлал это чувство, и я продолжал быть рассеян и равнодушен, так что даже тотчас после того, как меня проэкзаменуют (как будто для меня это было самое пустячное дело), я обещался пойти вместе с бароном З. закусить к Матерну. Когда меня вызвали вместе с Икониным, я оправил фалды мундира и весьма хладнокровно подошел к экзаменному столу.
Легкий мороз испуга пробежал у меня по спине только тогда, когда молодой профессор, тот самый, который экзаменовал меня на вступительном экзамене, посмотрел мне прямо в лицо и я дотронулся до почтовой бумаги, на которой были написаны билеты. Иконин, хотя взял билет с тем же раскачиваньем всем телом, с каким он это делал на предыдущих экзаменах, отвечал кое-что, хотя и очень плохо; я же сделал то, что он делал на первых экзаменах, я сделал даже хуже, потому что взял другой билет и на другой ничего не ответил. Профессор с сожалением посмотрел мне в лицо и тихим, но твердым голосом сказал:
– Вы не перейдете на второй курс, господин Иртеньев. Лучше не ходите экзаменоваться. Надо очистить факультет. И вы тоже, господин Иконин, – добавил он.
Иконин просил позволения переэкзаменоваться, как будто милостыни, но профессор отвечал ему, что он в два дня не успеет сделать того, чего не сделал в продолжение года, и что он никак не перейдет. Иконин снова жалобно, униженно умолял; но профессор снова отказал.
– Можете идти, господа, – сказал он тем же негромким, но твердым голосом.
Только тогда я решился отойти от стола, и мне стало стыдно за то, что я своим молчаливым присутствием как будто принимал участие в униженных мольбах Иконина. Не помню, как я прошел залу мимо студентов, что отвечал на их вопросы, как вышел в сени и как добрался до дому. Я был оскорблен, унижен, я был истинно несчастлив.
Три дня я не выходил из комнаты, никого не видел, находил, как в детстве, наслаждение в слезах и плакал много. Я искал пистолетов, которыми бы мог застрелиться, ежели бы мне этого уж очень захотелось. Я думал, что Иленька Грап плюнет мне в лицо, когда меня встретит, и, сделав это, поступит справедливо; что Оперов радуется моему несчастью и всем про него рассказывает; что Колпиков был совершенно прав, осрамив меня у Яра; что мои глупые речи с княжной Корнаковой не могли иметь других последствий, и т. д., и т. д. Все тяжелые, мучительные для самолюбия минуты в жизни одна за другой приходили мне в голову; я старался обвинить кого-нибудь в своем несчастии: думал, что кто-нибудь все это сделал нарочно, придумывал против себя целую интригу, роптал на профессоров, на товарищей, на Володю, на Дмитрия, на папа, за то, что он меня отдал в университет; роптал на провидение, за то, что оно допустило меня дожить до такого позора. Наконец, чувствуя свою окончательную погибель в глазах всех тех, кто меня знал, я просился у папа идти в гусары или на Кавказ. Папа был недоволен мною, но, видя мое страшное огорчение, утешал меня, говоря, что, как это ни скверно, еще все дело можно поправить, ежели я перейду на другой факультет. Володя, который тоже не видел в моей беде ничего ужасного, говорил, что на другом факультете мне, по крайней мере, не будет совестно перед новыми товарищами.
Наши дамы вовсе не понимали и не хотели или не могли понять, что такое экзамен, что такое не перейти, и жалели обо мне только потому, что видели мое горе.
Дмитрий ездил ко мне каждый день и был все время чрезвычайно нежен и кроток; но мне именно поэтому казалось, что он охладел ко мне. Мне казалось всегда больно и оскорбительно, когда он, приходя ко мне на верх, молча близко подсаживался ко мне, немножко с тем выражением, с которым доктор садится на постель тяжелого больного. Софья Ивановна и Варенька прислали мне чрез него книги, которые я прежде желал иметь, и желали, чтобы я пришел к ним; но именно в этом внимании я видел гордое, оскорбительное для меня снисхождение к человеку, упавшему уже слишком низко. Дня через три я немного успокоился; но до самого отъезда в деревню я никуда не выходил из дома и, все думая о своем горе, праздно шлялся из комнаты в комнату, стараясь избегать всех домашних.
Я думал, думал и, наконец, раз поздно вечером, сидя один внизу и слушая вальс Авдотьи Васильевны, вдруг вскочил, взбежал на верх, достал тетрадь, на которой написано было: «Правила жизни», открыл ее, и на меня нашла минута раскаяния и морального порыва. Я заплакал, но уже не слезами отчаяния. Оправившись, я решился снова писать правила жизни и твердо был убежден, что я уже никогда не буду делать ничего дурного, ни одной минуты не проведу праздно и никогда не изменю своим правилам.
Долго ли продолжался этот моральный порыв, в чем он заключался и какие новые начала положил он моему моральному развитию, я расскажу в следующей, более счастливой половине юности.
24 сентября, Ясная Поляна.
Примечания
1
Вставать, дети, вставать!.. пора. Мать уже в зале (нем.).
(обратно)2
Ну, ну, лентяй! (нем.)
(обратно)3
Ах, оставьте (нем.).
(обратно)4
Скоро ли вы будете готовы? (нем.)
(обратно)5
«История путешествий» (фр.).
(обратно)6
Милый (нем.).
(обратно)7
Арпеджио – звуки аккорда, следующие один за другим.
(обратно)8
Раз, два, три, раз, два, три (фр.).
(обратно)9
Благодарю, милый (нем.).
(обратно)10
Откуда вы идете? (нем.)
(обратно)11
Я иду из кофейни (нем.).
(обратно)12
Вы не читали газеты? (нем.)
(обратно)13
Из всех пороков самый ужасный… написали? (нем.)
(обратно)14
Самый ужасный – это неблагодарность… с прописной буквы (нем.).
(обратно)15
Точка (лат.).
(обратно)16
Говорите же по-французски (фр.).
(обратно)17
«Ешьте же с хлебом», «Как вы держите вилку?» (фр.)
(обратно)18
Так он безразлично называл всех мужчин. (Примеч. Л.Н. Толстого.)
(обратно)19
я верю в них недаром (фр.).
(обратно)20
«Швейцарского Робинзона» (фр.).
(обратно)21
Это жест горничной (фр.).
(обратно)22
удачливым (фр.).
(обратно)23
и потом, в сущности, он славный малый (фр.).
(обратно)24
Прелестно (фр.).
(обратно)25
моя добрая тетушка (фр.).
(обратно)26
тетушка (фр.).
(обратно)27
мальчик, подающий надежды (фр.).
(обратно)28
скажите на милость (фр.).
(обратно)29
Здравствуйте, дорогая кузина (фр.).
(обратно)30
Ах! мой дорогой (фр.).
(обратно)31
Э, мой добрый друг (фр.).
(обратно)32
вполне порядочного человека (фр.).
(обратно)33
Какой очаровательный ребенок! (фр.)
(обратно)34
Посмотрите, моя дорогая (фр.).
(обратно)35
посмотрите, как расфрантился этот молодой человек, чтобы танцевать с вашей дочерью (фр.).
(обратно)36
шен, жетэ-ассамбле – фигуры в танце.
(обратно)37
шассе-ан-аван, шассе-ан-арьер, глиссад – фигуры в танце.
(обратно)38
Вы постоянно живете в Москве? (фр.)
(обратно)39
А я еще никогда не посещал столицы (фр.).
(обратно)40
посещать (фр.).
(обратно)41
па-де-баск – старинное па мазурки (фр.).
(обратно)42
Роза или крапива? (фр.)
(обратно)43
роза (фр.).
(обратно)44
Не нужно было танцевать, если не умеешь! (фр.)
(обратно)45
Красавица фламандка (фр.).
(обратно)46
детей из хорошей семьи (фр.).
(обратно)47
подмастерьем (нем.).
(обратно)48
рекрутский набор (нем.).
(обратно)49
жребий (нем.).
(обратно)50
кружек пива (нем.).
(обратно)51
но француз бросил свое ружье и запросил пощады (нем.).
(обратно)52
взад и вперед (нем.).
(обратно)53
«Кто идет?» (фр.) – сказал он вдруг (нем.).
(обратно)54
«Кто идет?» (фр.) – сказал он второй раз (нем.).
(обратно)55
«Кто идет?» (фр.) – сказал он в третий раз (нем.).
(обратно)56
Амалия! – сказал вдруг мой отец (нем.).
(обратно)57
«Маменька! – сказал я, – я ваш сын, ваш Карл!» – и она бросилась в мои объятия (нем.).
(обратно)58
несчастье повсюду меня преследовало!.. (нем.)
(обратно)59
сюртуке (нем.).
(обратно)60
ночной сторож (нем.).
(обратно)61
«Отворите!» (нем.)
(обратно)62
«Отворите именем закона!» (нем.)
(обратно)63
Я нанес один удар (нем.).
(обратно)64
Я пришел в Эмс (нем.).
(обратно)65
Понедельник, от 2 до 3, учитель истории и географии (фр.).
(обратно)66
Ну же, господа! займитесь вашим туалетом и идемте вниз (фр.).
(обратно)67
игры (фр.).
(обратно)68
Длинный нос (нем.).
(обратно)69
Хорошо (фр.).
(обратно)70
фиалки (фр.).
(обратно)71
О мой отец, о мой благодетель, дай мне в последний раз свое благословение, и да совершится воля Божия! (фр.)
(обратно)72
на колени! (фр.)
(обратно)73
Так-то вы повинуетесь своей второй матери, так-то вы отплачиваете за ее доброту (фр.).
(обратно)74
на колени! (фр.)
(обратно)75
Ради бога, успокойтесь, графиня (фр.).
(обратно)76
сечь (фр.).
(обратно)77
негодяй, мерзавец (фр.).
(обратно)78
последний глоток (фр.).
(обратно)79
блистательной игрой (фр.).
(обратно)80
Ваша бабушка скончалась! (фр.)
(обратно)81
мой дорогой (фр.).
(обратно)82
если я застенчив! (фр.)
(обратно)83
Знаете, отчего происходит ваша застенчивость?.. от избытка самолюбия, мой дорогой (фр.).
(обратно)84
я могу (фр.).
(обратно)85
Вам, Николай! (фр.)
(обратно)86
дурной тон (фр.).
(обратно)87
вставка для карандаша (фр.).
(обратно)88
вы еще услышите обо мне (фр.).
(обратно)89
известий о себе (фр.).
(обратно)90
поверенным (фр.).
(обратно)91
четвероюродный брат (фр.).
(обратно)92
это вы – чудовищное совершенство (фр.).
(обратно)93
Благодарю, мой дорогой (фр.).
(обратно)94
если бы молодость знала, если бы старость могла (фр.).
(обратно)95
«Патетическая соната» (фр.).
(обратно)96
«Безумца» (фр.).
(обратно)97
на благовоспитанных и неблаговоспитанных (фр.).
(обратно)98
дурного тона (фр.).
(обратно)99
Я был очень благовоспитанным человеком (фр.).
(обратно)100
мачехой (фр.).
(обратно)101
это люди неблаговоспитанные (фр.).
(обратно)102
для молодого человека из хорошей семьи (фр.).
(обратно)103
мужичье (фр.).
(обратно)104
Как это мило (фр.).
(обратно)105
О да! (нем.)
(обратно)106
Потушите свечи, Фрост! (нем.)
(обратно)107
«На жизненном пиру несчастный сотрапезник…» (фр.)
(обратно)108
дорогой мамашей (фр.).
(обратно)
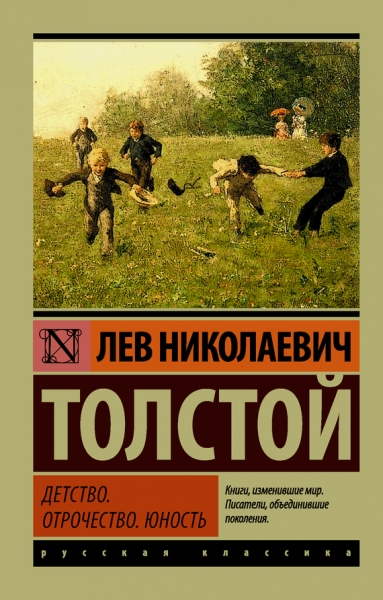



Комментарии к книге «Детство. Отрочество. Юность», Лев Николаевич Толстой
Всего 0 комментариев