Александр Дюма Исаак Лакедем
Пролог
ВИА АППИА
Не угодно ли читателю перенестись вместе с нами на виа Аппиа, к подножию Альбанских гор, туда, где эта древняя, пережившая два тысячелетия дорога в трех льё от Рима сливается с новой, имеющей от роду лишь два века и ведущей мимо старинных гробниц к воротам Сан-Джованни ди Латерано?
Пусть он соблаговолит предположить, что сейчас утро Великого четверга лета 1469; что во Франции правит Людовик XI, в Испании — Хуан II, в Неаполе — Фердинанд I; что на императорском престоле Германии пребывает Фридрих III, а Иван III, сын Василия Васильевича, княжит в Московии; что Кристофоро Моро — венецианский дож, а Павел II — первосвятитель римский.
Именно в этот день Страстной недели, как читатель, надеюсь, помнит, владыка мирской и церковный, облачившись в расшитое золотом одеяние и возложив на главу тиару, встанет под драгоценным балдахином, который будут над ним держать восемь кардиналов, в крытой галерее уже обреченной древней базилики Константина (на ее месте Браманте и Микеланджело вскоре возведут новый собор) и во имя святых апостолов Петра и Павла благословит Рим и вселенную, обращаясь к городу и миру — urbi et orbi.
Понятно, что в день столь торжественный все жители близлежащих селений высыпают на дороги, ведущие в Священный город из Браччано, Тиволи, Палестрины, Фраскати, и идут на звон колоколов — прощальный звон, ибо вскоре римские колокольни умолкнут и это погрузит в траур весь христианский мир.
Дороги тогда, если взглянуть на них со склонов ближних гор, покрываются бесконечным движущимся ковром. Его окаймляют вереницы поселянок в пунцовых юбках и золотистых корсажах; они тянут за собой усталых детей или несут их на плечах. Погонщики скота, потрясая пиками, так быстро мчатся на маленьких горских лошадках с алыми в медных бляшках чепраками, что ветер распахивает их бурые плащи, позволяя полюбоваться голубыми бархатными полукафтанами с серебряными пуговицами. Посреди толпы плывут массивные повозки, запряженные парой волов с длинными черными рогами; в них восседают почтенные матроны с бесстрастными лицами, похожие на ожившие статуи фивейской Исиды или элевсинской Цереры. Дороги эти, словно гигантские артерии, несут через иссохшую пустыню римских равнин кровь и жизнь старому городу.
Но есть среди них одна, по которой не ходит никто. Вступить на нее мы и приглашаем читателя.
Дорога безжизненна не потому, что высоты Альбанских гор обезлюдели или миловидные крестьянки из Дженцано и Веллетри остались дома. Нет, они, как и пастухи с Понтийских болот на длинногривых лошадях с развевающимися хвостами и дамы из Неттуно и Мондрагоны в своих колесницах, влекомых огнеглазыми шумно дышащими быками, — все спешат в Рим. Но благочестивый кортеж паломников, достигнув развилки, сворачивает с древнего пути, оставляя влево от себя двойную цепочку гробниц (их истории мы еще посвятим несколько строк), и по поросшей высокими травами равнине движется в обход, новым путем, что выходит на Тускульскую дорогу и упирается в ворота церкви святого Иоанна Латеранского.
Если бы серая остывшая лава, из которой грубо высечены широкие серые плиты, устилающие старую Аппиеву дорогу, не была смертоносна для всякой растительности, в зазорах между ними давно бы кустились сорные травы. Но не всегда эта дорога была такой пустынной. Некогда ее называли великой, царицей дорог, путем в Элизиум. Она служила местом встреч живых и мертвых, всех, кто в Риме эпохи цезарей был богат, благороден и изыскан.
И вдоль других дорог — Латинской, Фламиниевой — стояли усыпальницы; но счастлив был тот, чья гробница находилась у Аппиевой дороги!
Интерес и уважение к смерти в Древнем Риме были столь же велики, как в нынешней Англии. В годы правления Тиберия, Калигулы и Нерона, когда мания самоубийств превратилась в подлинную эпидемию, римляне чрезвычайно пеклись о месте, где их тело упокоится навеки. Некогда мертвецов погребали в городе, а порой последним приютом милого праха становились даже стены родного дома. Однако впоследствии этот обычай был признан пагубным для здоровья живущих. Кроме того, похоронные обряды в любую минуту могли осквернить церемонии городских жертвоприношений. Поэтому вышел закон, запрещавший хоронить или сжигать покойников в черте города. Подобное право сохранили за собой лишь роды Публикол, Тубертов и Фабрициев, и эта привилегия, дарованная в награду за особые заслуги, внушала согражданам отчаянную зависть.
Помимо покойников из этих родов, столь высокой чести мог удостоиться лишь победоносный военачальник, скончавшийся во время своего триумфа.
Вот почему живые весьма редко передоверяли наследникам заботы о своих гробницах. Немалым развлечением было наблюдать за сооружением своей усыпальницы. На большинстве доныне сохранившихся надгробий начертаны две буквы: V.F., что значит: «Vivusfecit»[1], или три: V.S.P., то есть «Vivus sibiposuit»[2], а то еще V.F. С. — «Vivusfaciendum curavit»[3].
Как можно убедиться, похороны для римлянина были делом важным. Согласно стойкому верованию, не вовсе исчезнувшему даже ко времени Цицерона, душа человека, лишенного погребения, осуждена сотню лет блуждать по берегам Стикса. Поэтому всякий, кто встретит на своем пути мертвое тело и не захоронит его, совершает святотатство, искупить которое возможно только принесением в жертву Церере свиньи. Впрочем, чтобы умилостивить богиню, достаточно было трижды приблизиться к трупу и каждый раз бросить на него горсть земли: это освобождало от иных обязанностей по отношению к почившему.
Однако опустить умершего в могилу — лишь поддела, главное — обеспечить ему там подобающий уют. Языческая смерть кокетливее нашей, и к умирающим века Августа она подкрадывалась отнюдь не в виде скелета с голым черепом и пустыми глазницами, со зловещим смешком потрясающего над своей жертвой изогнутою косой. Нет, она являлась ему в прекрасном обличье дочери Сна и Ночи — бледной, с длинными распущенными волосами, белоснежными холодными руками и ледяными лобзаниями. Она выходила из мрака как пришедшая на зов незнакомая подруга, медленно, торжественно и молчаливо склонялась к изголовью и одним траурным поцелуем запечатывала губы и глаза страдальца. С этого мига он оставался, глух, нем и бесчувствен до поры, когда пламя погребального костра отделит дух от материи, тело станет пеплом, а душа приобщится к манам — обожествленным духам предков. Тогда новое божество, невидимое для живых, вспоминает о былых привычках, склонностях и страстях: можно сказать, что умерший вновь обретает свои чувства, возлюби то, что прежде любил, возненавидя то, что ненавидел.
Вот почему в могилу клали: воину — его щит, дротики и меч; женщине — ее драгоценные булавки, золотые цепочки и жемчужные ожерелья; ребенку — любимые игрушки, хлеб, фрукты и на дне алебастровой чаши — несколько капель молока, не успевшего иссякнуть в материнской груди.
Если убранство дома, где смертному суждено провести краткие годы земной жизни, представлялось римлянину достойным немалых забот, — судите сами, с каким тщанием он подходил к выбору места, внешнего плана и внутреннего устройства того приюта, где, следуя своим наклонностям и пристрастиям, он, став богом, намеревался с надлежащей приятностью коротать вечность. Ведь маны — домоседы. Они прикованы к своим могилам: им позволено разве что прогуливаться окрест. Потому иные любители сельских утех, люди с бесхитростными буколическими устремлениями, повелевали возводить усыпальницы в своих загородных поместьях, садах или лесах, чтобы вечно услаждать себя соседством с нимфами, фавнами и дриадами, под ласковый шелест листвы, лепет ручья, бегущего по каменистому ложу, и пение укрывшихся в ветвях птиц. Такие люди слыли философами и мудрецами; впрочем, их было немного… Остальные (это было огромное большинство), томимые жаждой действия, любящие шум и суету столь же сильно, как первые — одиночество, тишину и сосредоточенность, покупали за немыслимые деньги участки у большой дороги, по которой шли путешественники, неся в Европу вести из Азии и Африки, из всех стран мира. Такие-то и селились навечно около Латинской и Фламиниевой дорог, но особенно (особенно!) Аппиевой. Проложенная цензором Аппием Клавдием Цеком, эта дорога вскоре превратилась из имперского тракта в одно из римских предместий. Конечно, она все еще вела к Неаполю, а оттуда к Брундизию, однако пролегала меж двух рядов домов, похожих на дворцы, и гробниц, построенных как величественные усыпальницы. Вот почему маны счастливцев, обитавших здесь, не только видели знакомых и неведомых им путников, не только слышали новости из Азии и Африки, но и сами обращались к путешественникам устами могил и словами своих эпитафий.
Поскольку, как мы установили, индивидуальные склонности переживали владельца, скромный сообщал:
Я был, и нет меня. Вот суть моей жизни и моей смерти.Богатый же провозглашал:
Здесь покоится СТАВИРИЙ. Он был призван карать, хотя и не добивался этого. Он мог бы запять высокую должность в любой сенатской декурии, но не захотел этого. Набожный, храбрый, верный, он вышел из ничтожества, а оставил после себя тридцать миллионов сестерциев и никогда не желал слушать философов. Будь здоров и подражай ему.Не удовольствовавшись сказанным, богатый Стабирий приказал высечь над своей эпитафией солнечные часы, чтобы уж несомненно привлечь внимание прохожих. Сочинитель взывал:
Путник! Сколь ни спешишь ты к цели своего странствия, этот камень просит, чтобы ты обратил на него взгляд и прочел написанное: «Здесь покоятся кости поэта МАРКА ПАКУВИЯ». Это все, что я хотел тебе сообщить. Прощай!Некто весьма скрытный предупреждал:
Мое имя, происхождение и состояние, то, кем я был, и то, чем стал, да не будет тебе известно. Замолкнув навечно, я превратился в горстку праха и костей, в ничто! Явившись из небытия, я вернулся туда, откуда пришел. Мой жребий ждет и тебя. Прощай!Тот, кто был всем доволен, восклицал:
На этом свете я славно пожил! Моя пьеса закончена. Да и ваша близится к концу. Прощайте! Рукоплещите!А на могиле девочки, бедняжки, ушедшей из мира в возрасте семи лет, чья-то рука, должно быть отцовская, начертала:
Земля! Не дави на нее! Ведь она тебя не обременяла!Эти мертвецы, так цеплявшиеся за жизнь, к кому обращали они свои посмертные призывы? Чье внимание старались они привлечь, подобно куртизанкам, постукивающим по оконному стеклу, чтобы заставить прохожих обернуться? С кем эти духи желали незримо общаться? Кто беззаботно проходил мимо, не видя их и не слыша?
То был цвет римского общества, все молодое, красивое, изысканное, богатое и аристократичное, чем блистала империя. Виа Аппиа — это Лоншан античности. Но этот Лоншан длится не три дня, а круглый год.
К четырем часам пополудни, когда спадает зной и притушенный солнечный диск клонится к Тирренскому морю, а тени сосен, каменных дубов и пальм вытягиваются с запада на восток; когда сицилийский олеандр отряхивает дневную пыль под первыми порывами ветерка, срывающегося с голубоватых вершин горной гряды, над которыми высится храм Юпитера Латиариса; когда индийская магнолия поднимает к небу все цветки, словно чашечки из слоновой кости, готовые принять в себя ароматную вечернюю росу, а каспийский лотос, пережидавший полдневный жар во влажном лоне озера, всплывает на поверхность, чтобы всеми лепестками впитать свежесть ночи, — вот тогда из Аппиевых ворот выступает своего рода передовой отряд местных прелестников: троссулы, «троянские юнцы», меж тем как обитатели предместья, тоже раскрывшие двери навстречу вечерней прохладе, готовятся произвести смотр великолепной публике, усевшись на принесенные из домашних атриев стулья и кресла, прислонившись к каменным столбикам, что служат подножкой для всадника, садящегося на коня, или полулежа на округлых скамьях, приставленных к жилищам мертвых для вящего удобства живущих.
Никогда парижане, вытягивающиеся двумя живыми изгородями вдоль Елисейских полей, или флорентийцы, бегущие по Каскино, или жители Вены, спешащие на Пратер, или неаполитанцы, теснящиеся на улице Толедо либо Кьяйе, не видывали зрелища столь разнообразного и не испытывали воодушевления столь пылкого!
Вначале появлялись всадники на нумидийских скакунах с чепраками из золотой парчи или тигровых шкур. Некоторые наездники предпочитали прогулку шагом; тогда перед ними бежали гонцы в легких сандалиях и коротких туниках, с переброшенными через левое плечо накидками, полы которых перехватывал кожаный пояс (его легко можно было затягивать или распускать на ходу в зависимости от скорости бега). Другие, как на скачках, мчались во весь опор и за несколько минут преодолевали всю Аппиеву дорогу, пустив впереди лошади великолепных громадных молосских псов в серебряных ошейниках. Горе тому, кто попадется им на пути, кого завертит этот вихрь пыли, ржания и лая! Беднягу порвут собаки, истопчут кони, а когда его вытащат на обочину в крови и с переломанными костями, молодой патриций, виновник несчастья, не замедлит бега, лишь оглянется с хохотом, показывая, как ловко он может править обернувшись затылком к голове летящего галопом скакуна.
Вослед нумидийским лошадям, этим детям пустыни, чьих предков завезли в Рим вместе с плененным Югуртой, устремлялись, почти соперничая с ними в скорости, легкие колесницы — цизии, похожие на нынешние тильбюри; их влекли тройки мулов, запряженных веером, так что пристяжные неслись галопом, встряхивая серебряными бубенцами, а коренные шли рысью, неуклонно держа направление, и напоминали пущенную из лука стрелу. За ними следовали вознесенные высоко над землей карру к и (теперешнее корриколо — их далекий потомок); ими римские щеголи редко правили сами — это делал раб-нубиец в живописном одеянии его родной страны.
За цизиями и карруками следовали четырехколесные экипажи — рэды, с горами пурпурных подушек и богатыми коврами, свешивающимися наружу, а также ко виннусы — колесницы, плотно закрытые со всех сторон и зачастую прятавшие от римских зевак многие альковные прегрешения. И наконец, замыкали процессию вызывающе несхожие между собой матроны и куртизанки. Первые, в длинных столах, закутанные в толстые паллы, с неподвижностью статуй восседали в двухколесных к а р п е н — ту мах — особой формы колесницах, в которых имели право ездить лишь патрицианки. Вторые, облаченные в тончайший косский газ — подобие тканого воздуха, пряжи из тумана, — томно возлежали на носилках, которые несли восемь прислужников в роскошных пену л ах. Обычно справа от носилок скользила вольноотпущенница-гречанка, поверенная в любовных делах, ночная Ирида, сейчас обмахивавшая свою хозяйку опахалом из павлиньих перьев; а слева — раб из Либурнии с маленькой обитой бархатом скамеечкой-подножкой и бархатной длинной ковровой дорожкой, чтобы благородная жрица наслаждений, реши она сойти с носилок и усесться, где пожелает, не касалась дорожной пыли обнаженной ступней с унизанными перстнями пальцами.
Ведь стоило блистательным римлянам и римлянкам пересечь Марсово поле и через Капенские ворота выехать на виа Аппиа, далеко не все продолжали прогулку верхами или в экипажах. Многие сходили на землю и, оставив лошадей и повозку на попечении рабов, прохаживались у могил и домов или брали у бродячих торговцев стул либо скамеечку за полсестерция в час. Ах, вот где удавалось лицезреть истинную изысканность! Вот где самовластно царила мода! Вот где можно было изучать формы бород и причесок, покрой туник и проникнуться величием вопроса, некогда разрешенного Цезарем, но вновь поставленного под сомнение новыми поколениями, а именно: надо ли предпочесть длинную тунику короткой и свободную — плотно облегающей тело. Цезарь носил широкую и волочившуюся по земле, но со времени его смерти мода шагнула так далеко! Там страстно спорят о том, насколько тяжелыми должны быть зимние муфты, дискутируют о составе лучших румян или притираний из бобового масла для разглаживания морщин и умягчения кожи, о самых благоуханных пастилках из масла мирта и мастикового дерева, замешанных на старинном вине и призванных очищать дыхание. Внимая глубокомысленным суждениям знатоков, женщины, будто жонглеры, перебрасывают из ладони в ладонь шарики амбры, освежающие воздух и наполняющие его ароматами. Они выказывают одобрение наклоном головы, взглядом, а нередко и рукоплещут самым ученым и смелым теориям; их зубы, приоткрываясь в улыбке, блестят словно жемчужины; откинутые на спину покрывала позволяют восхищаться не только сверканием черных глаз под эбеновыми бровями, но и чудесно оттеняющими их густыми белокурыми прядями волос с рыжеватым, золотистым или пепельным отливом. Чтобы изменить их первоначальный цвет, прелестницы пользуются мылом с буковой золой и козьим жиром — пришедшему из Галлии средству, к смеси уксусного осадка и масла мастикового дерева или, наконец, просто покупают дивные шевелюры в лавчонках у портика Минуция, что напротив храма Геркулеса Мусагета. Бедные девушки из Германии продают свои белокурые волосы стригалям за пятьдесят сестерциев, а те перепродают их за полталанта.
На это-то зрелище с завистью глазеют и полуголый плебей, и голодный бродяга-грек, «готовый взобраться на небеса за одну миску похлебки», и философ в продранном плаще и с пустым кошельком, черпающий здесь темы для своих выступлений против роскоши и богатства.
И все эти возлежащие, сидящие, прогуливающиеся, переминающиеся с ноги на ногу люди, что воздевают руки к небесам только для того, чтобы рукава, соскользнув к локтю, обнажили руки с выведенными пемзой волосами, хохочут, клянутся друг другу в любви, перемывают кости ближним, напевают под нос песенки из Кадиса либо Александрии, совершенно забыв о мертвецах, которые прислушиваются к живущим и немо призывают их; праздные горожане говорят всякий вздор на языке Вергилия или перебрасываются каламбурами по-гречески в подражание Демосфену, предпочитая этот язык родному, ибо греческий воистину создан для любовных излияний, а потому куртизанка, не умеющая сказать своему любовнику на языке Тайс или Аспасии: «Zcor| коа \|/vооr|» («Душа моя и жизнь!»), — годна лишь на то, чтобы быть потаскушкой для иноплеменных наемников-дикарей с кожаными щитами и наколенниками.
Пройдет еще полтора века, и лже-Квинтилиан на своем опыте убедится, что значит не уметь говорить по-гречески!
При всем том именно для развлечения этих людей, ради того, чтобы насытить их хлебом и зрелищами, усладить глаза и уши праздной легкомысленной толпе, пустоголовым молокососам и красавицам с истасканными сердцами, сынкам высокопоставленных семейств, растратившим свое здоровье по лупанарам, а достояние — по харчевням, всему этому ленивому и разнеженному племени будущих итальянцев, уже тогда кичившихся собой, словно теперешние англичане, гордых, как испанцы, и задиристых, как галлы, — ради народа, тратящего время на прогулки под портиками, беседы в банях, рукоплескания в цирках, чтобы угодить этим юнцам и девам, праздному молодому поколению богатых и процветающих римлян, Вергилий, сладостный мантуанский лебедь, поэт-христианин по сердечной склонности, хотя и не по воспитанию, воспевает простые сельские радости, взывает к республиканским добродетелям, бичует святотатства гражданских войн и готовит прекраснейшую и величайшую из поэм, созданных после Гомера, чтобы затем сжечь ее, сочтя недостойной не только потомков, но и современников! Ради них, ради того, чтобы вернуться к ним, Гораций, забросив подальше щит, бежит при Филиппах. Чтобы они узнавали и окликали его, он с рассеянным видом прогуливается на Форуме и по Марсову полю, блуждает по берегам Тибра, доводя до совершенства то, что потом назовет своими безделицами: «Оды», «Сатиры», «Науку поэзии». От разлуки с ними терзается жестокой тоской вольнодумец Овидий, вот уже пять лет как изгнанный во Фракию, где он искупает мимолетное (к тому же весьма доступное!) удовольствие прослыть возлюбленным императорской дочери или, быть может, гибельную случайность, приоткрывшую ему секрет рождения юного Агриппы. Это к ним поэт взывает в «Скорбных элегиях», «Посланиях с Понта» и «Метаморфозах». О счастье вновь оказаться среди них он грезит, вымаливая сначала у Августа, затем у Тиберия позволение вернуться в Рим. О них он будет скорбеть, когда вдали от родины смежит навсегда веки, но прежде единым всевидящим взглядом окинет роскошные сады Саллюстия, бедные домишки Субуры, полноводный Тибр, где в битве против Кассия едва не утонул Цезарь, и тинистый ручеек Велабр, струящийся под сенью священной рощи, где некогда Ромул и Рем приникали к сосцам волчицы. Ради этих людей, в жажде сохранить их привязанность, изменчивую, как апрельский день, Меценат, потомок царей Этрурии и друг Августа, передвигающийся лишь опершись на плечи двух евнухов, более мужественных, чем он сам, любвеобильный Меценат тратит деньги, содержа поэтов, оплачивая картины и фрески, представления актеров, гримасы мима Пилада и прыжки танцора Батилла! Для их увеселения Бальб открывает театр, Филипп возводит музей, Поллион строит храмы. Агриппа бесплатно раздает им лотерейные билеты, на которые выпадают выигрыши в двадцать тысяч сестерциев, дарит расшитые серебром и золотом ткани, вывезенные с Понта Эвксинского, столики и скамьи с узорами из перламутра и слоновой кости… Им в угоду он основывает бани, где можно проводить время с восхода до заката, пока тебя бреют, растирают, умащают благовониями, поят и кормят за его счет; для них роет каналы протяженностью в тридцать льё и строит акведуки длиной в шестьдесят семь льё, чтобы ежедневно доставлять в Рим более двух миллионов кубических метров воды для двух сотен фонтанов, ста тридцати водонапорных башен и ста семидесяти бассейнов! Им же на потребу, чтобы превратить их кирпичный город в мраморный, привести обелиски из Египта, воздвигнуть форумы, базилики, театры, мудрый император Август повелел переплавить всю золотую посуду, сохранив для себя от богатств Птолемеев лишь один драгоценный мурринский сосуд, а из того, что оставили ему отец Октавий и дядя Цезарь, что принесли победа над Антонием и завоевание целого мира, — только сто пятьдесят миллионов сестерциев (тридцать миллионов наших франков). Ради их удобства он заново вымостил Фламиниеву дорогу до Римини, а чтобы потешить их, выписал из Греции буффонов и философов, из Кадиса — танцоров и танцовщиц, из Галлии и Германии — гладиаторов, из Африки — удавов, гиппопотамов, жирафов, тигров, слонов и львов. И наконец, к ним, обитателям Вечного города, он обратился, умирая: «Довольны ли вы мною, римляне?.. Хорошо ли я исполнил роль императора?.. Если да, то рукоплещите!»
Вот чем были виа Аппиа, Рим и римляне времен Августа. Но к Великому четвергу лета 1469, в эпоху, о которой мы повествуем, все так изменилось! Императоры исчезли, унесенные вихрем времен, разрушившим империю. Римский колосс, тень которого накрывала треть обитаемого мира, рухнул. Аврелианова стена не защитила Рим, и его принялись завоевывать все, кто этого хотел: Аларих, Гейзерих, Одоакр… Засыпая старые руины и возводя на их месте то, что разрушит следующий набег варваров, город поднялся над первыми мостовыми на высоту двадцати ступней. Искалеченный, разграбленный, выпотрошенный, он был в конце концов пожалован Пипином Коротким папе Стефану II, а Карл Великий подтвердил права святого престола на город вместе с прилежащим к нему дукатом. Крест, столь долгое время униженный и поруганный, гордо вознесся сначала над пантеоном Агриппы, затем над колонной Антонина, а там и над Капитолийским холмом.
Тогда-то, воспарив с фронтона базилики святого Петра, духовная власть верховного понтифика распростерла крыла над миром: на севере до Исландии, на востоке до Синая, на юге до Гибралтарского пролива, на западе до самого дальнего мыса Бретани, в который, словно в корму огромного корабля Европы, бились атлантические валы, вздымаясь и опадая в такт далекому дыханию Великого океана и Индийского моря. Но светская, земная власть пап замкнулась в стенах Рима, теснимого свирепыми кондотьерами средневековья, чья дерзость, подобно прибою, пока разбивалась о театр Марцелла и отступала перед аркой Траяна.
От этой-то арки и берет начало виа Аппиа.
Что сделали с царицей дорог крушение империй, нашествия варваров, преображение рода человеческого? Во что превратилась она, великая дорога, путь в Элизиум? Почему она внушает такой ужас, что устрашенные поселяне избегают ее и прокладывают иные пути по равнине, только бы не вступить на плиты из лавы, не пройти меж двух рядов полуразрушенных гробниц?
Увы, подобно хищным птицам — орлам, грифам, кречетам, коршунам и соколам, люди-хищники из родов Франджипани, Гаэтани, Орсини, Колонна и Савелли овладели этими печальными руинами, возведя над ними свои крепости и увенчав их стягами, возвещающими не о рыцарской доблести, а о мрачной славе разбойничьих вертепов.
Но странное дело! Солдаты с Фискальной башни, которым в этот святой день запретили совершать вылазки на равнину, не могут понять, что происходит: в то время как все паломники по-прежнему стараются держаться подальше от древней дороги, один из них, пеший, безоружный, не сворачивает и продолжает идти к их башне — аванпосту длинной линии крепостей.
Солдаты удивленно переглядываются, спрашивая друг друга:
— Откуда он взялся? Куда идет? Чего хочет?
И добавляют с угрожающей усмешкой, покачивая головами:
— Да он помешался, не иначе!..
Откуда явился незнакомец, мы сейчас расскажем, куда направляется, вскоре увидим, а вот чего он ищет, узнаем несколько позже.
ПУТНИК
Человек шел из Неаполя. По крайней мере, было похоже на то.
На восходе дня его видели выходящим из Дженцано. Провел ли он там ночь или до утра прошагал в темноте по Понтийским болотам, в сыром безлюдье которых бодрствуют лишь лихорадка и бандиты?
Никто не знал.
Из Дженцано он направился в Ариччу; мало-помалу дорога заполнялась крестьянами и крестьянками, державшими путь туда же. По-видимому, он спешил в Рим с той же целью, что и все, — получить святейшее благословение.
В отличие от обычных паломников, он не пускался в разговоры с попутчиками, да и его никто не окликал. Шел он довольно быстро, той ровной поступью, что свойственна бывалым путешественникам, решившимся на долгий переход.
В Аричче большинство крестьян делало остановку: одни затем, чтобы переброситься словцом с близкими и дальними знакомцами, другие толпились у кабачков, собираясь выпить стаканчик вина из Веллетри или Орвьето.
Этот же ни с кем не поздоровался, ничего не пил и продолжал путь без промедления.
Так он дошел до Альбано, где задерживались почти все, даже самые торопливые странники. Альбано был весьма (а в ту эпоху особенно) богат достойными обозрения развалинами, этот крестник Альба Лонги, родившийся посреди поместья Помпея и со своими восемьюстами домов и тремя тысячами жителей неспособный заполнить обширные земли, которые император Домициан повелел присоединить к поместью победителя при Силаре и побежденного при Фарсале.
Но путник не остановился поглядеть на эти руины.
Выходя из Альбано, он увидел справа от дороги гробницу Аскания, сына Энея, основателя Альбы, что примерно в одном льё пути от могилы Телегона, сына Улисса, основателя Тускула. Эти два города и два героя, принадлежавшие враждующим племенам греков и азиатов, воплотили в себе драму старой Европы. При древних царях Рима и в республиканскую эпоху города соперничали, а их обитатели взаимно враждовали. Поединок отцов под стенами Трои продолжался здесь между детьми. Славнейшими родами в Альбе и Тускуле были Юлии, давшие Риму Цезаря, и Порции, подарившие ему Катона Утического. Все знают о непримиримой распре этих двоих, о том, как троянское единоборство тысячелетие спустя закончилось в Утике: Цезарь, потомок побежденных, отомстил отпрыскам победителей за гибель Гектора.
Эти воспоминания о былом величии навевают возвышенные мысли и, без сомнения, требуют хотя бы краткой задержки перед гробницей Энеева сына. Однако иноземец то ли не знал истории, то ли этот предмет оставлял его равнодушным. Он прошел мимо могилы Аскания, не удостоив ее даже взглядом.
Заметим, что с тем же бесстрастием или пренебрежением он миновал храм Юпитера Латиариса, в котором поверхностный взгляд видит лишь груду ничем не примечательных развалин, но вдумчивый историк почтительно прозревает в них некий символ власти, воздвигнутый Тарквинием, дабы заключить латинскую цивилизацию в узилище цивилизации римской.
Вот почему, хотя среди паломников, следующих тем же путем, что и наш молчаливый и неутомимый странник, нашлись такие, кто считал, будто они идут быстрее, им вскоре пришлось убедиться, что он незаметным образом опередил их. Теперь они взирали на него с удивлением, почти со страхом. Казалось, этот путник принадлежит к. иной людской породе, нежели те, кого он оставлял позади так равнодушно, словно не признавал с ними родства. Он проходил сквозь людские потоки подобно Роне, что пересекает Женевское озеро, не смешивая свои мутноватые ледяные воды с теплой прозрачной влагой Лемана.
Однако, взойдя на вершину горы Альбано, откуда Рим, римская равнина и Тирренское море не только внезапно открываются глазу, но, кажется, устремляются вам навстречу, он остановился в задумчивости и, опершись обеими руками на посох из лавра, окинул быстрым взором представшую перед ним картину.
Впрочем, на лице его при этом не отразился восторг изумления: то было чувство человека, припоминающего нечто давным-давно знакомое.
Воспользуемся этим кратким мигом, чтобы описать читателям хотя бы внешность таинственного незнакомца.
Это был суховатый костистый мужчина сорока — сорока двух лет, росту чуть выше среднего, на вид способный перенести любые тяготы и опасности. Помимо синего плаща, перекинутого через плечо, на нем была серая туника, оставлявшая открытыми ноги со стальными мышцами и могучие руки; казалось, его сандалии за годы странствий пропитались пылью бесконечных дорог.
Голова его была непокрыта, и обожженное солнцем, иссеченное ветром лицо невольно притягивало взгляд.
В его чертах великолепно отпечаталась выразительная красота семитской расы: большие глубокие глаза то затмевались меланхолической грустью, глядя из-под полуопущенных век, то, широко распахнувшись, мерцали мрачным огнем. Нос с крепкой переносицей, прямой и точеный, чуть изгибался на конце, подобно клюву больших хищных птиц. Насколько позволяла разглядеть длинная черная борода, рот был большим, красивой формы, с чуть вздернутыми то ли в презрительной, то ли в страдальческой усмешке уголками губ и острыми белыми зубами. Не тронутые стрижкой черные, как и борода, волосы ниспадали на плечи, словно у римских императоров-варваров или франкских королей, вторгнувшихся в Галлию. Эбеновый ореол бороды и волос великолепно обрамлял это лицо, казалось отлитое из красной меди, а лоб, затененный спускавшейся почти до бровей шевелюрой, рассекала глубокая морщина — след перенесенных горестей или мучительных раздумий.
Как мы уже сказали, этот человек внезапно застыл прямо посреди дороги, и река паломников расступилась, обтекая его подобно водопаду, что двумя потоками низвергается с горы, разделенный у самой вершины несокрушимым утесом.
Даже в ранний утренний час, под веселыми лучами юного апрельского солнца суровая неподвижность этого человека невольно смущала взгляд. Какой же ужас он должен внушать ночной порой, когда ветер развевает его длинные черные волосы и широкий плащ, а он, несмотря на грозу и бурю, озаряемый молниями, размеренным и быстрым шагом продолжает свой путь сквозь лесную чащу, по пустынным дюнам или скалистому морскому берегу, похожий на гения лесов, демона вересковых пустошей или духа Океана!
Воистину, нельзя не понять того безотчетного страха, что заставлял крестьян отшатываться от сумрачного путника.
Он же, между тем, стоя спиной к востоку и лицом к западу, видел справа длинную гряду холмов, что упирается в гору Соракт, являя собою естественную границу первых завоеваний Рима, — своеобразной котловины, напоминающей цирк, где, как гладиаторы, поочередно погибали племена фалисков, эквов, вольсков, сабинян и герников; слева — Тирренское море с россыпью голубоватых островков, схожих с облаками, навечно ставшими на якорь в небесной вышине; наконец, прямо перед незнакомцем в трех льё высился Рим, к которому натянутой струной пролегла Аппиева дорога, что ощетинилась сторожевыми башнями, возведенными в одиннадцатом, двенадцатом и тринадцатом веках. Ведь античные дороги не признавали отклонений. Их прочерчивали с прямолинейной неуклонностью, перебрасывая мосты через реки, вгрызаясь в горы и засыпая низины.
Путник простоял так несколько минут.
Затем, окинув взглядом необъятную панораму, хранившую отпечаток двух тысячелетий истории, он медленно провел рукой по лбу, поднял к небесам глаза, в которых читались мольба и угроза, испустил глубокий вздох и тронулся дальше.
Однако, дойдя до развилки двух дорог, он не повернул вправо, подобно остальным, избегавшим приближаться к орлиным разбойничьим гнездам, что наводили трепет на всю округу. Вместо того чтобы, как все, войти в город через ворота Сан-Джованни ди Латерано, он зашагал прямо к Фискальной башне, решительно и бесстрашно, будто не допускал мысли, что у крепости, над которой реял стяг Орсини, воинственных племянников папы Николая III, его может подстерегать хоть малейшая опасность.
Тогда-то часовой с башни и заметил, как он отделился от толпы, чтобы пройти там, где не ступал никто, и, размеренным шагом, безоружный, приближался, похоже нимало не заботясь ни о тех, кого оставил позади, ни о тех, кто ожидал его.
Солдат подозвал одного из своих товарищей и указал ему на странника. Тот был так поражен дерзостью путника, что позвал других. Таким образом, когда неизвестный приблизился, на крепостной стене уже толпилась добрая дюжина любопытных, для которых не было зрелища забавнее, чем вид ничего не подозревающего простака, идущего навстречу беде, какой постарался бы избежать и истинный храбрец.
Напомним, что в эту эпоху войн, грабежей и пожарищ, превративших римскую равнину в романтически-мрачную пустыню, каковой она остается поныне, всякий солдат был бандитом, а офицер — предводителем шайки головорезов.
Мнилось, что после страшных чумных поветрий одиннадцатого и двенадцатого веков, уменьшивших число жителей на добрую треть, после походов европейцев на Восток — походов, которые в дополнение к арабскому нашествию оставили на дорогах Сирии, под стенами Константинополя, на берегах Нила и вокруг тунисского озера более двух миллионов трупов, — после всего этого род человеческий, обезумев от страха слишком размножиться и потерять свое место на земле, прибегнул как к последнему средству к нескончаемой кровожадной войне. В пятнадцатом веке христианский мир, казалось, сдался на милость королевы в кипарисовом венце с окровавленным скипетром, что восседает на залитом слезами троне среди огромного могильника и зовется Погибелью. Италия стала ее владениями, а весь мир — ее camposanto[4]. Можно было подумать, что в эту эпоху ужаса жизнь утратила цену и перестала что-либо значить на весах, вложенных Господом в десницу Провидения.
…Меж тем, по мере продвижения к крепости, путник, казалось не подозревавший об этом, подвергся тщательному осмотру, и, надо признать, это не послужило к его пользе. Диковинная его одежда, далекая от моды тех дней, серая туника с обтрепанными от старости краями, перехваченная вервием вместо пояса, непокрытая голова, голые руки и ноги, наконец, отсутствие оружия, более всего остального свидетельствовавшее о его ничтожности, — все это выдавало в нем нищего, бродягу, возможно даже прокаженного. Нет, его не следовало подпускать, и солдаты, придя меж собой к согласию на этот счет, как только он приблизился на расстояние человеческого голоса, велели часовому не зевать.
Часовой, который и сам нетерпеливо ожидал этого мгновения, не заставил товарищей повторять дважды. Он крикнул:
— Стой, кто идет?
Однако странник, то ли не расслышав, то ли слишком занятый собственными мыслями, не чувствовал опасности: он молчал.
Солдаты переглядывались. Их любопытство еще более возросло. Часовой, выждав несколько мгновений, закричал громче:
— Стой, кто идет?
Но и второй окрик остался, подобно первому, без ответа, путник же продолжал приближаться к башне.
Солдаты вновь переглянулись, а бдительный страж, зловеще похохатывая, запалил фитиль своей аркебузы. Если неосторожный путник смолчит в третий раз, уж он выкажет свою ловкость в стрельбе по движущейся цели!
Он мог бы с этим и не медлить, но, должно быть, приняв во внимание Великий четверг, для очистки совести набрал в грудь как можно больше воздуху и крикнул изо всех сил:
— Стой, кто идет?
На сей раз не ответить мог разве что глухой либо немой. Солдаты решили, что путник, верно, глух: будь он немым, он сделал бы знак рукой или головой, но ни того ни другого не последовало.
Однако, поскольку никому не запрещено убивать глухих и, напротив, настоятельно рекомендуется стрелять в тех, кто не отзывается, часовой, честно и великодушно дав страннику несколько мгновений на размышление, а может, и для того, чтобы, размышляя, тот приблизился еще на десяток шагов и сделался более удобной мишенью, припал плечом к прикладу аркебузы, неторопливо прицелился и среди молчания замерших от любопытства товарищей нажал на спусковой крючок.
К досаде стрелка, пока фитиль падал на полку, чья-то рука просунулась из-за солдатских спин, приподняла ствол аркебузы, и та выпалила в воздух.
Стрелявший в ярости обернулся, решив, что над ним подшутил кто-то из своих, и намереваясь отомстить за потраченный напрасно заряд.
Но стоило часовому узнать того, кто позволил себе эту выходку, как выражение бешенства на его лице тотчас сменилось покорностью, а вместо ругательства, чуть не сорвавшегося с уст, все услышали удивленное:
— Монсиньор Наполеоне!..
Часовой почтительно отступил на два шага, прочие кондотьеры также отодвинулись, расчистив место для молодого человека двадцати пяти — двадцати шести лет. Он только что появился на вышке, незаметно приблизившись к солдатам.
Лицо вновь прибывшего являло взору тип истинного сына Италии во всей его утонченности, живости и силе. Он был тоже одет по-военному, хотя и налегке, то есть облачен в доспехи, с которыми офицер пятнадцатого века не расставался никогда: кроме латного нашейника и кольчуги для защиты тела, он имел при себе для нападения меч и кинжал, а на голове — легкий бархатный шлем с атласными отворотами и длинным личником (между богатой тканью и не менее дорогой подкладкой шляпных, а вернее, оружейных дел мастер позаботился подложить тонкий стальной шишак, способный выдержать один-два удара мечом). Наряд довершали сапоги из буйволовой кожи, подбитые плюшем, доходящие до середины ляжки, но сейчас подвернутые ниже колена. В таком или примерно в таком облачении щеголяли почти все тогдашние кавалеры и предводители шаек.
Вдобавок с его шеи на длинной золотой цепочке свисал медальон, на котором были вырезаны два соединенных щита, а на них — золотом по эмали — сверкали гербы папы и святого престола: юный офицер занимал при верховном понтифике значительный пост.
То был Наполеоне Орсини, сын Карло Орсини, графа ди Тальякоццо. Хотя ему не исполнилось еще тридцати, его святейшество Павел II только что назначил молодого человека гонфалоньером пресвятой Церкви, наградив титулом, на который знатность предков, собственные таланты и далеко идущие притязания давали ему больше прав, нежели кому бы то ни было.
К тому времени он остался самым достойным из отпрысков семейства Орсини, с одиннадцатого века занимавшего весьма влиятельное положение в римском обществе. Этот род был так угоден Богу, что сподобился чести стать причастным к первому из чудес, сотворенных святым Домиником. В Великий четверг 1217 года один из Орсини, тоже Наполеоне, гнал коня вскачь, спеша к Фискальной башне, уже тогда принадлежавшей ему, как потом его потомку и тезке, но лошадь сбросила его, и он разбился насмерть перед воротами монастыря святого Сикста. На его счастье, в эту минуту святой Доминик выходил из обители. Увидев оруженосцев, пажей, прислужников, плачущих над бездыханным телом своего господина, он справился о том, какого рода и состояния был почивший, и узнал, что это знаменитый Наполеоне Орсини, слава Рима, оплот Церкви и достойнейший из наследников знатного имени. Святой приблизился к безутешной свите, проникнувшись состраданием к семейной утрате (из-за высокого ранга жертвы ставшей горем общественным), воздел длань и произнес:
— Не плачьте, ибо милостью Божьей ваш хозяин не умер.
А поскольку челядь покойного, не внимая словам бедного монаха, которого они приняли за безумца, замотала головами и завопила еще громче, основатель инквизиции промолвил:
— Наполеоне Орсини, поднимись, сядь на коня и продолжи свой путь… Тебя ожидают в Касале-Ротондо.
Что мертвец тотчас и исполнил, к немалому удивлению окружающих и своему собственному, ведь он так долго пролежал без признаков жизни, что душа его достигла уже третьего круга нездешнего мира, а кости закоченели от промозглого замогильного ветра.
Полный благодарности за такое чудо, Наполеоне Орсини, живший в тринадцатом веке, завещал — конечно, лишь в тех случаях, когда подобное было допустимо, — чтобы в Великий четверг, то есть в годовщину знаменательного дня, когда он умер и воскрес милостью Божьей и благодаря вмешательству святого Доминика, все потомки, носящие его имя, а равно их солдаты, прислужники и наемные воины воздерживались от человекоубийства в течение полных суток.
Вот почему Наполеоне Орсини века пятнадцатого, гонфалоньер святой Церкви, помешал солдату, не ведавшему о древнем запрете, метким выстрелом нарушить предписание великого предка.
Через шестьдесят лет после воскрешения Наполеоне Орсини его сын, Джованни Гаэтано Орсини был избран папой под именем Николая III.
И тогда все убедились, что чудо святого Доминика совершилось ради вящего блага Церкви, ибо этот достойный ее глава, рожденный через год после воскрешения Наполеоне Орсини, заставил Рудольфа Габсбургского вернуть под папский скипетр Имолу, Болонью и Фаэнцу, а Карла Анжуйского вынудил отказаться от звания имперского викария в Тоскане и титула римского патриция.
После вступления Гаэтано Орсини на папский трон это благородное семейство неуклонно возвышалось. Раймондо Орсини, граф Леве, получил княжество Тарент, Бертольдо Орсини был назначен главнокомандующим во Флоренцию. Антонио Джованни Орсини, лишь десяти лет не доживший до описываемых событий, за полвека был поочередно то могучим союзником, то опаснейшим противником неаполитанских королей, у которых он два или три раза похищал корону, а затем возвращал ее. Наконец, наш герой, не менее могущественный и знаменитый, нежели его предшественники, одновременно вел войну с неаполитанским семейством Колонна, с урбинским герцогом Федериго ди Монтефельтро и с графом Аверса, недавно захватившим Ангвиллару, ленное владение Орсини, что не помешало им сохранить черного угря в своем гербе, подобно тому как Англия даже после потери Кале оставила себе геральдические французские лилии.
Судьбе было угодно, чтобы в то утро Наполеоне Орсини навестил свою крепость Касале-Ротондо, аванпостом которой служила Фискальная башня, ибо желал собственными глазами увидеть, истинно ли, что, как ему донесли, его злейший враг, неаполитанский коннетабль Просперо Колонна, прибыл в город Бовилле, расположенный в Альбанских горах примерно в трех четвертях льё от Фискальной башни.
Бовилле принадлежал семье Колонна вместе с мощной линией укреплений, протянувшихся мимо Неаполя вплоть до Абруцци. Подобная же линия фортификаций, принадлежавших Орсини, начинаясь у Касале-Ротондо, далеко углублялась в Тоскану и сходила на нет, упершись в старые города Этрурии.
Мы стали свидетелями того, как внезапное появление молодого гонфалоньера и его решительное вмешательство, возможно, сохранили жизнь загадочному путнику, который по рассеянности либо из равнодушия не посчитал нужным ответить на троекратное «Кто идет?» часового.
Тем не менее, звук выстрела произвел действие, какого не смогли вызвать угрожающие окрики: путешественник в серой тунике и синем плаще поднял голову и, догадавшись по облачению Наполеоне Орсини, что перед ним знатный офицер, произнес на превосходном тосканском наречии:
— Синьор, не будет ли вам угодно приказать, чтобы ваши солдаты отворили мне ворота?
Наполеоне Орсини не без любопытства осмотрел лицо и одежду того, кто к нему обратился, и лишь после этого спросил:
— У тебя ко мне поручение? Ты желаешь поговорить со мной наедине?
— Мне ничего не поручено, и я не столь тщеславен, чтобы счесть себя достойным беседы с таким благородным синьором, как вы, — отвечал тот.
— Тогда чего же ты хочешь?
— Я прошу разрешения пройти через ваши владения, куска хлеба и кружки воды.
— Отворите этому человеку! — повелел Наполеоне Орсини одному из своих оруженосцев, — и, каким бы нищим он ни казался, отведите его в залу для почетных гостей.
Затем, перегнувшись через парапет и проводив глазами неизвестного, пока тот не скрылся под аркой башни, офицер направился для встречи с ним в свои парадные покои.
Тем временем странника уже ввели в крепость.
При взгляде сверху она, вместе с необходимыми пристройками, выглядела укреплением неправильной формы, состоящим из трех основных частей: Фискальной башни, сооруженной не позднее одиннадцатого века, огромной круглой гробницы, нижний ярус которой был возведен, по-видимому, в конце республиканской эпохи, и остатков богатой виллы, что, как утверждали (хотя в описываемую эпоху археологические изыскания были не столь глубоки, как в наши дни), некогда принадлежала какому-то императору.
Но кто из семидесяти двух римских императоров, тридцати известных и дюжины малоизвестных тиранов владел этой виллой? Бог знает. Толковали лишь (ибо подобные слухи всегда витают над имперскими руинами), что коронованный владелец спрятал в этом поместье несметные сокровища.
От круглой гробницы крепость и получила свое название: Касале-Ротондо, а все сооружения в ее пределах, древние и новейшие, занимали двадцать арпанов земли.
Во всем остальном, хотя монсиньор Наполеоне Орсини, гонфалоньер святой Церкви, был несколько образованнее, нежели большинство его славных предков и знаменитых современников (после него сохранились послания, не только подписанные, но и начертанные собственноручно, что свидетельствует о просвещенности, редкой среди тогдашних благородных кондотьеров), следы варварства, с какими наш странник столкнулся на кратком пути от ворот до парадной залы, были весьма часты. Судите сами: тройную линию крепостных стен, которую ему надо было пересечь, возвели из обломков императорской виллы и плит Аппиевой дороги. То тут, то там в стенах, выложенных из серого камня, взятого с ближайшей каменоломни, блестели роскошные мраморные плиты, украшенные надписями, но подчас вмурованные низом вверх. На парапетах виднелись античные маски, погребальные венки, обломки разбитых урн и осколки барельефов. Наконец, вкопанные по пояс статуи служили коновязями, причем нередко для большего удобства им отбивали обе ноги и зарывали в землю вниз головой.
Кроме того, местами встречались глубокие ямы, напоминающие следы археологических раскопок, и иной поверхностный наблюдатель мог бы заключить, что монсиньор Наполеоне Орсини занимается поисками некоего шедевра этрусских, греческих или римских мастеров. Однако, коль скоро извлеченные на поверхность обломки валялись тут же, полузасыпанные вывороченной землей, и среди них попадались части статуй, барельефов или капителей, обладать которыми в наши дни счел бы за счастье какой-нибудь Висконти или Канина, нетрудно было догадаться, что здесь копают с иной, менее возвышенной целью и более корыстной надеждой.
Тем не менее, незнакомец не очень-то смотрел по сторонам. Он, безусловно, заметил и раскопки, и произведенные ими опустошения — иначе быть не могло, — однако сколь-нибудь заметного впечатления они на него не произвели. Казалось, этот угрюмый и бесстрастный человек провел всю жизнь среди хаоса разрушения, в пламени пожарищ и под сенью руин.
КАСАЛЕ-РОТОНДО
Двустворчатая дверь парадной залы широко распахнулась перед путником, и он увидел, что вместо ожидаемой скудной трапезы гостеприимный хозяин замка велел подать роскошный обед. Несмотря на святость дня и предписанный в этот день строжайший пост, стол ломился от жареной и копченой дичи и лучшей рыбы, какую только вылавливают у берегов Остии.
Самые изысканные вина Италии, налитые из оправленных в серебро и золото чаш и кувшинов, поблескивали сквозь венецианский хрусталь как жидкие рубины или расплавленные топазы.
Чужестранец остановился у порога, улыбнулся и покачал головой.
Наполеоне Орсини ждал его, стоя около стола.
— Входите, входите, вы мой гость, — произнес молодой офицер, — и примите знаки солдатского гостеприимства, каким бы оно ни было. Ах, если, подобно моему прославленному врагу Просперо Колонна, я был бы союзником и другом короля Людовика Одиннадцатого, то вместо густых и тягучих итальянских вин я угостил бы вас превосходнейшими винами из Франции; но я истинный итальянец, чистокровный гвельф. Скудость этой трапезы отнесите на счет постных дней и воздержания, предписанного Страстной неделей. Итак, примите извинения и присаживайтесь, любезный гость. Ешьте и пейте.
Путник не тронулся с места.
— Вижу, — сказал он, — истинно все то, что мне говорили о роскошном гостеприимстве благородного гонфалоньера святой Церкви, который принимает нищего скитальца как ровню себе. Но я знаю, что несчастному паломнику, принесшему обет не есть и не пить ничего, кроме хлеба и воды, подобает принимать пищу стоя — до тех пор пока он не получит у святейшего папы отпущения своих грехов.
— Что ж! Значит, недаром случай привел вас сюда, уважаемый, — откликнулся капитан. — Я и в этом могу быть вам полезен. Я пользуюсь некоторым доверием у Павла Второго и с большой радостью окажу вам протекцию.
— Благодарю, монсиньор, — с поклоном ответствовал незнакомец, — но боюсь, что, к несчастью, мое дело решается не на земле.
— Что вы имеете в виду? — удивился Орсини.
— Нет достаточно могущественной протекции в этом мире, чтобы получить у верховного понтифика такое отпущение, какое мне надобно. Вот почему я во всем полагаюсь на милосердие Господне. Ведь оно безгранично, как, по крайней мере, утверждают.
При последних словах на губах путника появилось подобие улыбки, в которой угадывалась смесь иронии и пренебрежения.
— Поступайте как вам будет угодно, почтенный гость, — произнес Орсини, — вы вправе воспользоваться моим поручительством или пренебречь им, отведать от всех кушаний, что на столе, или ограничиться стаканом воды и куском хлеба, а также вольны совершать вашу обильную или скудную трапезу сидя либо стоя. Сейчас это ваш дом, а я лишь первый из ваших служителей, но прошу, переступите порог: пока вы стоите там за дверью, мне кажется, что вы еще не под моей крышей.
Путник поклонился и медленно, торжественно приблизился к столу.
— Приятно видеть, монсиньор, — произнес он, преломляя хлеб и наполняя бокал водой, — сколь ревностно вы исполняете обет вашего предка Наполеоне Орсини. Я же считал, что во все время священного праздника он довольствовался запретом убивать ближнего и не простирал свою добродетель так далеко, чтобы завещать вам столь противоположные и столь редко совмещаемые качества, как смирение и хлебосольство.
— Признаюсь, — отвечал Орсини, со все возрастающим любопытством разглядывая гостя, — что, проявляя их сейчас, я поступаю по собственному наитию, а не только по обету предка. Но мне сдается — притом, извольте заметить, я не стремлюсь выпытать ваши тайны, — что эти лохмотья скрывают неизвестного мне принца, впавшего в немилость, либо лишенного трона монарха, либо императора, совершающего паломничество подобно Фридриху Третьему Швабскому или Генриху Четвертому Германскому.
Незнакомец меланхолически покачал головой.
— Я не принц, не король и не император. Я всего лишь бедный скиталец; единственное мое преимущество перед прочими в том, что я много видел… Дозволено ли мне будет отплатить вам за великодушное гостеприимство, коль скоро мой скромный опыт дает мне возможность это сделать?
Орсини пристально посмотрел на незнакомца, делающего это предложение, и, похоже, готов был им воспользоваться.
— Ну что ж, — сказал он. — Я отказываюсь от своей первой мысли о том, что некогда вашу голову венчала корона. Приглядевшись внимательней, я готов признать в вас какого-нибудь восточного мага, владеющего всеми языками, сведущего во всех науках — исторических и естественных. Пожалуй, я не ошибусь, если предположу, что вы читаете в сердцах с такою же легкостью, как и в книгах, и, будь у меня какое-нибудь затаенное желание, разгадаете его раньше, чем я открою рот.
И действительно, глядевшие на гостя глаза разгорелись, показывая, что сердцем молодого капитана владеет потаенная страсть.
— Да, да, — промолвил путник, как бы говоря с самим собой. — Вы молоды и честолюбивы… Вас зовут Орсини, и ваша гордость страдает от того, что рядом с вами, вокруг вас, одновременно с вами блистают имена Савелли, Гаэтани, Колонна, Франджипани… Вам хотелось бы затмить всех соперников роскошью, великолепием, богатством настолько же, насколько вы, по своему убеждению, превосходите их отвагой. И на жалованье у вас — не просто стража, а настоящая армия. Кроме кондотьеров-иноземцев — англичан, французов, немцев — под вашим началом целый отряд вассалов из Браччано, Черветери, Ауриоло, Читта-Релло, Виковаро, Роккаджовине, Сантоджемини, Тривеллиано и прочих неизвестных мне ваших владений. Все они жгут, разоряют и топчут имения ваших противников, но в то же время истощают и ваше достояние. А отсюда понятно, что в конце каждого года, если не месяца, вы обнаруживаете, что те четыре или пять тысяч человек, кого вы кормите, одеваете и держите на жалованье, стоят вам больше, нежели приносят дохода. Не так ли, монсиньор? Надобны богатства царя Соломона или сокровища султана Гарун аль-Рашида, чтоб выдерживать подобные траты!
— Я же говорил, что ты маг! — воскликнул Орсини со смехом, за которым пряталась надежда. — Разве я не утверждал, что ты постиг все науки, подобно знаменитому Никола Фламелю, о ком было столько разговоров в начале нашего века? Я же говорил, что если бы ты захотел…
И он осекся, не решаясь закончить.
— И что же? — спросил путник.
— Если бы ты только пожелал… как и он… ты бы мог делать… — снова не договорил капитан.
— Что, собственно, делать?
Орсини приблизился к паломнику и, положив руку ему на плечо, шепнул:
— Золото!
Незнакомец усмехнулся. Вопрос не удивил его: на протяжении всего пятнадцатого и в начале шестнадцатого столетия основной заботой алхимии, этой незрячей матери химии, было найти способ получить золото.
— Нет, — отвечал он, — я не смог бы делать золото.
— Но почему же? — простодушно воскликнул Орсини. — Ведь ты столько знаешь!
— Потому, что человек не может и никогда не сможет получать ничего, кроме сложных и производных веществ, а золото — материя простая и исходная. Произвести ее могут лишь Бог, земля и солнце!
— Ты недобрый вестник, — разочарованно проговорил Наполеони Орсини. — Так, по-твоему, делать золото нельзя?
— Нельзя, — отвечал его собеседник.
— Ты заблуждаешься! — вскричал Орсини, не желая расставаться с давно лелеемой надеждой.
— Нет, не заблуждаюсь, — холодно сказал странник.
— Итак, ты утверждаешь, что делать золото нельзя?
— Нельзя — повторил незнакомец. — Но возможно нечто подобное этому: можно отыскать давно спрятанные сокровища.
Молодой капитан вздрогнул.
— Что? Ты в это веришь? — крикнул он, впившись пальцами в плечо незнакомца. — А ты знаешь, о чем гласит молва?
Путешественник взглянул в глаза Орсини, но не произнес ни слова.
— Утверждают, что в этой крепости зарыт клад, — закончил молодой капитан.
Гость задумчиво молчал. Потом он заговорил как бы с самим собой, что делал и ранее, видимо, по давней привычке:
— Странное дело! — начал он. — Геродот повествует, что от древних эфиопов осталось множество кладов, охраняемых грифонами. Он также указывает, соком какого растения надобно протереть глаза, чтобы эти грифоны стали видимы, а следовательно, и открылись места, где таятся сокровища…
— Ах! — выдохнул Орсини, дрожа от нетерпения. — И этот сок при тебе?
— При мне?
— Разве ты не сказал, что много странствовал?
— Я много странствовал, это правда. И может быть, в своих скитаниях не раз попирал ногой ту травку, не помышляя протереть глаза соком, брызгавшим из-под сандалий.
— О! — прошептал Орсини, метнув шлем на стол и вцепившись обеими руками себе в шевелюру.
— Однако, — продолжал странник, — я обязан хоть чем-то отплатить вам за гостеприимство. И, если вам угодно меня выслушать, я поведаю об истории гробницы, перестроенной вами в крепость, и императорской виллы, превращенной вами в гвельфский замок.
Орсини ответствовал лишь пренебрежительным кивком.
— Все же послушайте, — продолжал странный собеседник. — Кто знает, может статься, вы найдете в этой истории оборванный конец одной из ниточек, указывающей путь в раскопках, которые вы проводите, укрывшись здесь под тем предлогом, что следует наблюдать за вашим противником Просперо Колонна?
— О, тогда говори, говори! — почти закричал Орсини.
— Следуйте за мной, — промолвил незнакомец. — Нужно, чтобы во время моего рассказа вы смогли обозревать места, о которых пойдет речь.
И он направился первым, словно не нуждался в проводниках и знал внутреннее устройство крепости не хуже ее владельца. Выйдя во двор, он открыл потайную дверь и подошел к груде мрамора, громоздившейся в центре новых строений, очерчивая правильный круг; ее форма и дала название всему Касале-Ротондо.
Эта гробница была недавно, и уже не впервые, разграблена. Разбитые урны валялись рядом с некогда хранившимся в них пеплом — всем, что осталось от какого-то великого философа, военачальника или императора.
Общий беспорядок свидетельствовал о раздражении тех, кто вел святотатственные раскопки и, ожидая найти золотые россыпи, обретал лишь горстку праха.
Путник проследовал мимо разбросанных остатков разбитых урн и развороченных склепов, уделив этим недавним раскопкам и новым осколкам столь же мало внимания, сколь и тому, что он увидел при входе в крепость. Вступив на лестницу, опоясывающую по спирали гигантскую гробницу, он в одно мгновение взбежал на ее вершину.
Наполеоне Орсини следовал за своим гостем в молчании, полный удивления и любопытства, граничивших с подлинным почтением.
Вершину старинного сооружения венчал зубчатый парапет новой постройки в три ступни высотой с прорезанными крестообразными бойницами в гвельфском духе, а под его защитой была терраса с роскошными оливковыми деревьями; подобно царице Семирамиде, Орсини устроил у себя висячий сад. С высоты гробницы, похожей на высокую мраморную гору, можно было обозревать окрестности. Отсюда были видны не только все пристройки к этому своеобразному замку смерти, великой повелительницы рода человеческого, но и — если обернуться в сторону Рима — церковь Санта-Мария-Нова с красной колокольней и укрепленными кирпичными стенами; чуть подалее — гробница Цецилии Метеллы, чье имя значилось в надгробной плите, намертво вмурованной жадными руками Красса и не поддавшейся даже стальным когтям неумолимого времени, а за ней — крепость Франджипани, властительного рода, получившего это имя в память о бесчисленных хлебах, преломленных для раздачи милостыни прихлебателям. Это семейство захватило триумфальные арки не только Друза, но и Константина и Тита, на которых взгромоздились бастионы, подобные индийским башенкам на спинах дворцовых слонов. И наконец, совсем вдали виднелись укрепленные Велизарием Аппиевы ворота в Аврелиановой стене.
Между этими величественными ориентирами белели развалины малых гробниц, где кишел целый муравейник бродяг, попрошаек, цыган, канатоходцев, солдатских девок; их вытеснили из городских стен, как выплескивают пену из лохани, и они копошились в лихорадочной горячке нищеты, заимствуя у мертвых кров и приют, в которых им отказали живые.
Все это представляло собой весьма любопытное зрелище, но тот, кому суждено стать главным действующим лицом нашего повествования, не удостоил его сколько-нибудь внимательного взгляда. Его равнодушный взор едва скользнул вокруг.
— Монсиньор, — произнес он, — так вам угодно выслушать историю этой гробницы, виллы и близлежащих развалин?
— Ну, конечно, мой любезный гость, — откликнулся Орсини, — тем более что вы, как мне кажется, обещали…
— Да, да… Может случиться, что в этой истории таится сокровище. Что ж, слушайте.
Юный капитан, заботясь об удобстве рассказчика и опасаясь, как бы тот чего-нибудь не упустил, любезно указал ему на торс античной статуи, гигантский мраморный обрубок, служивший солдатам скамьей, когда на закате видавшие виды старые воины рассказывали новичкам о былых походах Флорентийской республики и Неаполитанского королевства.
Но незнакомец удовольствовался тем, что прислонился плечом к парапету, чуть расставив ноги, скрестив ладони на посохе и оперев на них свою красиво вылепленную голову мечтателя. Он начал повествование с присущим ему красноречием, но не без столь же неистребимой в его натуре насмешливости.
— Вы, без сомнения, слышали, монсиньор, — обратился он к горевшему нетерпением собеседнику, — что, как говорят, здесь веков этак шестнадцать назад прославились два… скажем, человека. Одного, выходца из безвестной крестьянской семьи, проживавшей около Арпина, звали Гаем Марием; другой — отпрыск одного из древнейших патрицианских родов — носил имя Корнелия Суллы.
Наполеоне кивнул, давая понять, что эти имена ему не вовсе неизвестны.
— Как Марий, — продолжал незнакомец, — действовал в интересах партии плебеев, так и Сулла — в интересах аристократов. То была эпоха великой борьбы: тогда не сражались, как теперь, один на один, звено против звена, рота против роты. Нет, один мир восставал против другого, целые народы шли друг на друга. И вот в ту пору два народа, кимвры и тевтоны, общей численностью около миллиона человек, ополчились на римлян. Никто не знал, откуда они — может, с тех берегов, в которые бились валы еще безыменных морей; эти племена служили лишь авангардом варварских полчищ, их передовыми дозорами, за ними последуют Аттила, Аларих и Гейзерих. Марий пошел на них походом и рассеял, убив всех: мужчин, женщин, стариков и детей. Он истребил даже собак, защищавших мертвые тела своих хозяев, лошадей, не подпускавших к себе новых всадников, быков, не желавших тянуть колесницы победителей. После такой бойни римский сенат постановил, поскольку Марий славно послужил своей родине, наградить его титулом третьего основателя Рима. Столь несоразмерные почести пробудили зависть Суллы: он решил повергнуть Мария в прах. Борьба между соперниками длилась десяток лет. Дважды Сулла брал приступом Рим, и столько же — Марий. Всякий раз, возвращаясь победителем в Вечный город, Марий вырезал сторонников Суллы; последний, вступая в столицу, повелевал задушить всех приверженцев Мария. Потом подсчитали, что крови, пролитой ими за десятилетие, хватило бы, чтобы заполнить навмахию, некогда вырытую при Августе, — в длину две тысячи ступней, в ширину тысячу двести и в глубину сорок! — запустить в нее тридцать боевых кораблей с тридцатью тысячами воинов, не считая гребцов, и представить Саламинское сражение. Наконец, первым сдал Марий — впрочем, он был старше соперника, имел вздутые вены на ногах и слишком короткую шею: он задохнулся от избытка собственной крови, и поделом ему! Тогда Сулла в третий раз взял приступом Рим, чтобы, уже не опасаясь противников, изгонять и казнить в свое удовольствие, не торопясь и с разбором. К тому же сам способ умерщвления недругов, излюбленный Марием, наскучил: тот удавливал их в тюрьмах, а Мамертинские подземелья заглушали крики пытаемых! Стало быть, публика была лишена развлечений. Сулла сделал лучше: он повелел рубить головы публично, сбрасывать осужденных с крыш их домов и закалывать спасавшихся бегством прямо на людных улицах. Плебеи не отдавали себе отчета, что так расправляются именно с их сторонниками, и вопили «Виват, Сулла!». В проскрипционные списки попал и некий молодой человек, племянник Мария. Но в немилость он попал отнюдь не за свое родство, а за то, что женился в семнадцать лет и отказался расторгнуть брак, несмотря на приказ диктатора. Строптивец был богат, красив и, что немаловажно, гораздо благороднее Суллы, ибо по отцу слыл одним из потомков Венеры, а по матери происходил от Анка Марция, то есть вел родословную от греческих богов и римских царей! И звали его Юлий Цезарь. Понятно, что Сулла горел желанием сжить его со света; юношу искали повсюду, его голову оценили в десять миллионов сестерциев. Узнав о том, Цезарь почел за благо укрыться не у одного из богатых друзей, а у бедного крестьянина, которому некогда даровал хижину и маленький сад; тот, храня благодарность, не пожелал ценой предательства поменять их на большой сад и роскошные хоромы. А тем временем все пытались замолвить словечко за опального: народ и знать, всадники и сенаторы, не составляли исключения даже весталки. Все так любили этого очаровательного юнца, который в свои двадцать лет набрал уже тридцать миллионов сестерциев долгу и кому Красе… — Взгляните туда, монсиньор: тот самый, что воздвиг эту прекрасную гробницу в память о своей супруге…
Путник указал посохом в сторону склепа Цецилии Метеллы и продолжил:
— … и кому Красе, скупейший из богачей, одолжил пятнадцать миллионов, чтобы расплатиться с кредиторами. Те не давали ему проходу и мешали уехать пропретором в Испанию, откуда Цезарь возвратился, погасив все долги и имея на руках еще сорок миллионов… Но Сулла не отступал: ему не терпелось уморить молодого человека. Как — его мало волновало, главное — заполучить его голову, ни больше ни меньше. Но тут появился один из давних друзей диктатора, тоже некогда внесенный в проскрипции вместе с самим Суллой. Последний был ему очень обязан, может быть, даже жизнью, и давно обещал исполнить первое его желание, лишь только ему удастся добиться власти. И вот теперь этот друг попросил в награду жизнь Цезаря. «Она твоя, поскольку ты так этого добиваешься, — пожав плечами отвечал Сулла. — Однако либо я ничего не понимаю в земных делах, либо в этом женоподобном хлыще с его надушенными волосами и свободно ниспадающей туникой вы обретете много Мариев. Посмотри, как он почесывается кончиком ногтя!» Умерший от проказы Сулла не был способен понять, как можно не расчесываться всей пятерней на глазах у присутствующих. Так вот, того, кто спас жизнь будущему победителю Верцингеторикса, Фарнака, Юбы, Катона Утического, звали Аврелий Котта, и мы стоим на его гробнице.
— Как! — вскричал Наполеоне Орсини. — Эта гробница возведена в честь простого гражданина?
— Не совсем так, и вы сейчас убедитесь в этом… Вы обратили внимание, монсиньор, на имя Аврелий? Оно указует на потомка великого семейства Аврелиев — Марка, которого усыновит и возведет на трон император Антонин. Аврелий Котта выстроил гробницу из камня; Марк Аврелий приказал облечь ее в мрамор, перенес в нее останки предков и повелел, чтобы его собственный прах и прах его потомков был погребен здесь же. А отсюда следует, монсиньор, что раскрытая вами гробница, разбитые урны и пепел, при каждом порыве ветра развеваемый по земле древнего Лация, принадлежат сенатору Аврелию Котте, благородному Аннию Веру, божественному Марку Аврелию и отвратительному Коммоду!
Молодой капитан провел рукой по вспотевшему лбу. Испытал ли он угрызения совести за святотатство? Или же нетерпение от того, что рассказчик медлил на пути к цели?
Если у путника могли возникнуть сомнения на этот счет, то они немедленно рассеялись бы от нетерпеливой реплики Наполеоне Орсини:
— Однако, любезный гость, не вижу, каким образом сюда может быть замешано сокровище.
— Подождите же, монсиньор, — отвечал незнакомец. — При достойных повелителях деньги не прячут, но настает черед Коммода… Этот внук Траяна и сын Марка Аврелия начинал хорошо: в двенадцать лет, найдя, что ванна слишком горяча, он приказал, чтобы отправили в печь раба, который ее грел. И хотя нетрудно было б охладить воду, он не пожелал искупаться, прежде чем раб был изжарен! Взбалмошная натура будущего императора мужала только в том, что касалось жестокости, а посему его неоднократно пытались убить. Среди других злоумышлений против него нас интересует заговор двух братьев Квинтилианов. Обратите внимание, монсиньор: именно им принадлежала вилла, перестроенная вами под парадные апартаменты.
И незнакомец указал посохом на прекрасно сохранившиеся — если не полностью, то в отдельных фрагментах — остатки того, что некогда было имением обоих братьев.
Наполеоне Орсини одновременно кивнул и сделал досадливый жест рукой. Первое означало: «Я вас понял», второе — «Да продолжайте же!»
И путник продолжил:
— Нужно было просто-напросто убить Коммода. Однако половину своей жизни император проводил в цирке. Он был очень ловок: у одного парфянина он научился владеть луком, у некоего мавра — метать дротик. Однажды в цирке, в противоположном от императора конце арены, пантера вцепилась в человека и стала его терзать. Коммод схватил лук и так метко пустил стрелу, что убил пантеру, не затронув ее жертву. В другой раз, почувствовав, что любовь плебса к нему охладевает, он велел объявить в Риме, что убьет сто львов сотней дротиков. Как вы можете догадаться, цирк ломился от зрителей. В императорскую ложу принесли сотню дротиков, на арену выпустили сто львов. Коммод метнул сотню дротиков и убил всех львов! Геродиан повествует об этом событии как современник и очевидец. Кроме того, Коммод был ростом в шесть с половиной ступней и очень силен: ударом палки он перебивал ногу лошади, ударом кулака сбивал с ног быка. Завидев однажды мужчину необычайной силы и дородства, он подозвал его и, выхватив меч, с одного взмаха рассек надвое! Вот почему он повелел изображать себя с палицей в руках и вместо «Коммод, сын Марка Аврелия» называл себя «Геркулес, сын Юпитера». Отнюдь не легко и не безопасно выступать против такого человека, но братья Квинтилианы, ободренные Луциллой, свояченицей императора, решились на это, хотя и прибегли к некоторым предосторожностям, зарыв все, что они имели в звонкой монете и драгоценностях… Терпение, монсиньор, мы уже близко от цели! Затем они подготовили лошадей для побега, в случае если предприятие не удастся, и стали поджидать императора под темной и узкой аркой на пути из его дворца к амфитеатру. Сначала казалось, что фортуна улыбается заговорщикам: Коммод появился перед ними почти без охраны. Они окружили его, один из братьев бросился вперед с кинжалом, прокричав: «Вот, Цезарь, это тебе от имени сената!» И разгорелась жестокая схватка. Коммод был лишь слегка задет. Удары почти не причиняли ему вреда, зато его собственный кулак каждый раз, опускаясь, убивал кого-нибудь из нападавших. Наконец ему удалось схватить старшего из Квинтилианов, того, который его ударил кинжалом. Император обхватил его шею железными пальцами и сдавил. Умирая, тот крикнул младшему брату: «Спасайся, Квадрат, все погибло!» Младший вскочил на коня и умчался во весь опор. Вслед ему отрядили погоню. Это была бешеная скачка: дело шло о жизни одного и об огромной награде для других. Исход ее был предрешен, но, к счастью, Квинтилиан предвидел это и прибег к уловке, весьма странной, но вполне правдоподобной, поскольку Дион Кассий повествует об этом так: «В маленьком кувшине беглец захватил с собой немного заячьей крови, ибо заяц — единственное животное, чья кровь долго сохраняется свежей, не свертываясь и не меняя цвета. Он набрал полон рот крови и как бы случайно упал с лошади. Когда воины подскакали, они увидели его корчившимся в пыли; его рот извергал кровь». Решив, что он умирает и уже не очнется, они раздели его догола и оставили прямо на дороге. Коммоду же доложили, что враг его мертв, и описали, какова была его смерть. Тем временем, как вы, монсиньор, можете догадаться, Квинтилиан спасся бегством…
— Так и не вернувшись за сокровищем? — прервал его Наполеоне Орсини.
— Так и не вернувшись за сокровищем, — подтвердил рассказчик.
— Так значит, — и глаза капитана заблестели, — все осталось здесь?
— Это еще предстоит узнать, — произнес странник. — Пока же нам известно, что Квинтилиан исчез.
Наполеоне Орсини перевел дух, и на его губах затеплилась улыбка.
— Через десять лет, — продолжал меж тем незнакомец, — все смогли вздохнуть спокойно под властью Септимия Севера. Коммод был уже мертв: императора отравила его любимая наложница Марция и задушил приближенный к нему атлет Нарцисс. Империей завладел Пертинакс, но он позволил, чтобы через полгода у него отняли ее вместе с жизнью. Потом Дидий Юлиан попытался купить Рим и весь мир в придачу, но Вечный город еще не привык выставлять себя на продажу: он с этим освоится позже!.. А в тот раз он восстал; впрочем, еще потому, что покупатель забыл оплатить свое приобретение. Септимий Север воспользовался бунтом, сделал все, чтобы убить Дидия Юлиана, и взошел на престол.
Наконец-то, как я уже говорил, между Коммодом и Каракаллой мир смог перевести дух. И вот тогда в Риме разнесся слух о возвращении Квинтилиана…
— О! — выдохнул, мрачно нахмурившись, Наполеоне Орсини.
— Имейте терпение, монсиньор. История любопытна и достойна того, чтобы выслушать все до конца… Действительно, некий человек, приблизительно того же возраста, что и Квинтилиан, и всеми по обличию за такого признанный, вернулся в Рим, подробно и тщательно описав, как он бежал, как жил в изгнании и как возвратился. Чуть позже, когда уже ни у кого не возникало сомнений в подлинности его происхождения, он потребовал у Септимия Севера возвращения имений, конфискованных у братьев императором Коммодом. Новому властителю просьба показалась вполне правомерной, но он, однако, пожелал побеседовать с Квинтилианом — Септимий некогда знавал его — и вполне убедиться, что воскресший из мертвых действительно имеет права на наследство. Когда тот явился к императору, он выглядел вполне тем, за кого себя выдавал. «Здравствуй, Квинтилиан!» — произнес по-гречески Септимий Север. Пришедший покраснел, что-то забормотал, попытался ответить, но лишь выдавил из себя ничего не значащие слова, не принадлежащие ни одному языку. Квинтилиан не знал греческого? Велико было удивление императора: когда-то — и он прекрасно помнил это — они беседовали с Квинтилианом по-гречески. «Государь, прости меня, — взмолился изгнанник, — но, скитаясь, я так долго жил среди варварских племен, что позабыл язык Гомера и Демосфена». — «Пустяки, — ответил император. —
Это не помешает мне пожать твою руку, руку старого друга». И властительная длань протянулась к изгнаннику. Тот не осмелился отказать императору в рукопожатии, но, едва он коснулся ладонью руки Септимия Севера, тот воскликнул: «О-о! Что это? Похоже на мозоли простолюдинов, у которых Сципион Назика спрашивал: „Скажи, друг мой, разве ты ходишь на руках?“» Затем, уже серьезным тоном, он произнес: «Это ладонь раба, а не патриция. Ты вовсе не Квинтилиан!.. Но признайся, расскажи по совести, кто ты, и тебе ничего не будет». Бедняк тотчас пал в ноги императору и во всем признался: действительно, он не был благородных кровей, не был патрицием. Мало того, что он не был Квинтилианом, не знал его и никогда не видел; самозванец не подозревал даже о существовании человека с таким именем. Но однажды в одном из городов Этрурии, куда он пришел, чтобы обосноваться, некий сенатор остановил его, назвал Квинтилианом и своим другом. Через день-два другой сенатор поступил так же, а вскоре и третий. Этим троим он сказал правду, но, поскольку они настаивали и к тому же, не желая верить его словам, убеждали, что теперь ему нечего опасаться за свою жизнь и при новом императоре он может вернуться в Рим и потребовать назад отнятое добро, — их доводы подтолкнули его к обману. Он сказал, что действительно зовется Квинтилианом, сочинил правдоподобную историю, объясняющую бегство и долгое отсутствие, и отправился в Рим. Здесь его тоже все приняли за подлинного Квинтилиана, даже император, и он чуть было не получил огромное состояние, если бы незнание греческого не разоблачило его. Искренность признания растрогала Септимия Севера. Он, как и обещал, простил лже-Квинтилиану его прегрешение и даже назначил небольшую пожизненную пенсию в десять-двенадцать тысяч сестерциев, но виллу несчастных заговорщиков оставил себе…
— Вот, монсиньор, — закончил с поклоном незнакомец, — и вся история.
— Однако, — заторопил его Наполеоне Орсини, которого ничто не могло отвлечь от главного. — Что с сокровищем? Где оно?
— Квинтилиан захоронил его под последней ступенькой лестницы в конце одного из переходов, и написал на камне над кладом по-гречески: «Evoa кшш г| \|П)%г| тон кострой» («Здесь заключена душа мира»). То была предосторожность на случай, если он сам не сможет вернуться за сокровищем и будет вынужден послать за ним кого-нибудь из друзей.
— И сокровище все еще там, куда его спрятали?
— Весьма возможно.
— И тебе известно, где?
Незнакомец возвел глаза к солнцу.
— Монсиньор, — сказал он, — сейчас одиннадцать часов утра. Мне предстоит пройти еще шесть миль, меня, без всякого сомнения, не раз задержат в дороге, но, тем не менее, я должен быть в три часа пополудни на площади Святого Петра, чтобы получить свою долю всесвятейшего благословения.
— Но если ты мне укажешь, где клад, это тебя не слишком задержит.
— Окажите мне честь сопроводить меня до границ ваших владений, монсиньор, и, может быть, на избранном нами пути мы найдем то, чего вы так желаете.
— Укажи мне дорогу, — сказал Орсини. — Я провожу тебя.
И поскольку путник направился тем же путем, что пришел, капитан поспешил за ним, с трудом поспевая за стремительной походкой странного незнакомца.
Проходя мимо обломков, вывороченных из гробницы Аврелиев, паломник указал Наполеоне Орсини на погашенный факел, некогда послуживший для обследования внутреннего устройства колумбария. Движимый алчностью, капитан мгновенно истолковал жест паломника и схватил факел.
Среди каменных осколков и кусков мрамора лежал толстый железный лом; путник прихватил его и продолжил путь.
Орсини меж тем зажег факел у печи, где выпекали солдатский хлеб.
Его гость шел с решительностью человека, прекрасно знакомого с внутренним устройством виллы, и вышел к мраморной лестнице, ведшей к купальне наподобие тех, что мы еще сегодня можем увидеть в Помпеях.
Она представляла собой длинную прямоугольную подземную залу, освещавшуюся лишь через две отдушины, теперь заросшие травой и колючками. Зала была перегорожена мраморными плитами в шесть ступней высоты и три — ширины. Их украшала резьба, а посреди каждой была выточена голова нимфы, напоминавшей барельеф в Сиракузах.
Впрочем, купальня уже давно не служила по назначению. Канальцы, по которым текла вода, были разбиты во время раскопок и при закладке фундамента крепостных стен, а краны растащили солдаты, сочтя, что, будь то медь или бронза, эти куски металла чего-то да стоят.
Что до самой купальни, то ее использовали как дополнительный погреб, где хранились — вернее, были свалены как попало — пустые бочки.
Путник на мгновение задержался на нижней ступеньке лестницы, окинул взглядом внутренность залы и направился к плите, расположенной справа от двери. Подойдя к ней, он уперся концом своего лома в глаз нимфы, находившейся в центре резного узора. Понадобилось легкое усилие (пружина заржавела от времени), чтобы перегородка дрогнула и, повернувшись на шарнирах, приоткрыла темный вход в подземелье.
Орсини, чье сердце готово было выскочить из груди от переполнявших его надежд, следил за каждым движением незнакомца и устремился было к лестнице, верхние ступеньки которой можно было различить, но тут спутник удержал его.
— Подождите, — произнес он. — Эту дверь не открывали добрых двенадцать столетий. Надо дать время улетучиться спертому воздуху. Иначе пламя вашего факела погаснет, а вы сами не сможете дышать.
Оба застыли на пороге, но молодого человека обуяло столь сильное нетерпение, что он настоял на немедленном спуске, а там — будь что будет.
Тогда путник передал ему лом, взял факел, чтобы осветить дорогу, которую собирался показывать, и спустился на десять ступеней по лестнице, ведущей в подземелье. Однако Орсини уже на четвертой был вынужден задержаться: могильный воздух был смертоносен для всего живого.
Паломник увидел, что капитан пошатнулся.
— Подождите здесь, монсиньор, — сказал он. — Я сейчас сделаю так, что вам можно будет спуститься.
Наполеоне Орсини хотел подтвердить, что согласен, но голос изменил ему. То был некогда описанный Данте воздух ада, столь тяжелый, что заглушал даже жалобы грешников и умерщвлял нечистых гадов.
Молодой человек поднялся на две ступеньки, чтобы глотнуть свежего воздуха, и, все более и более удивляясь, стал следить глазами за спутником: того не смущали ни смрадный дух, ни зловещая тьма, словно он из иной плоти, не подвержен обычным слабостям других людей и не испытывает тех же потребностей, что и остальные.
Примерно через сотню шагов факел стал хуже виден, он уже не отбрасывал отсветов на стены, не освещал ни свода, нависшего над головой неизвестного, ни плит, по которым он шел.
Затем капитану показалось, что еле заметный свет смещается кверху. Это, видимо, свидетельствовало о том, что странный человек, достигнув дна подземелья, стал подниматься по другой лестнице.
Вдруг темную глубину затопил поток света с противоположной стороны, а в мрачное сырое пространство ворвалось дыхание жизни, гоня, если можно так выразиться, смерть перед собой.
Наполеоне Орсини показалось, будто эта черная богиня пролетела рядом и, убегая, коснулась его крылом.
Тут он сообразил, что уже может спуститься к своему спутнику.
Едва уняв дрожь, он сошел вниз по липким ступеням. Незнакомец ожидал его в другом конце подземелья, поставив ноги на первую и третью ступени.
Наклонив к земле факел, он разглядывал камень, на котором ясно прочитывались греческие слова «Ev0a Keixai r\ \|П)ХП tod коароо» — знак, указывающий на клад.
Свет, струившийся по ступенькам, исходил из отверстия, которое путник проделал, приподняв мощными плечами одну из плит дорожки, опоясывающей виллу.
— А теперь, монсиньор, — произнес он, — вот камень, вот лом и факел… Благодарю вас за гостеприимство. Прощайте!
— Как! — с нескрываемым удивлением вскричал Наполеоне Орсини. — Ты даже не дождешься, пока я извлеку клад?
— А зачем?
— Чтобы взять причитающуюся тебе долю.
Губы незнакомца скривились в усмешке.
— Я тороплюсь, монсиньор, — сказал он. — В три часа пополудни я уже должен стоять на площади Святого Петра, чтобы получить там свою часть иного сокровища, гораздо более ценного, чем то, что оставляю вам.
— Позволь мне, по крайней мере, дать тебе эскорт до города.
— Монсиньор, — отвечал незнакомец, — вместе с принятым на себя обетом есть стоя и питаться водой и хлебом я поклялся путешествовать не иначе как в одиночестве. Прощайте, монсиньор. Если вы считаете себя моим должником, помолитесь за самого большого грешника, какой когда-либо нуждался в Божьем милосердии!
И, вручив факел гостеприимному хозяину, таинственный незнакомец поднялся по ступенькам наружу и удалился, проходя меж развалин привычным быстрым шагом. Обогнув внутреннюю стену виллы Квинтилианов, он вышел через ворота, противоположные тем, в которые вошел, и вновь оказался на древней дороге.
ГАЭТАНИ
Очутившись на виа Аппиа и вступив за черту необычного предместья, что продолжает Вечный город вдоль дороги к Неаполю подобно заостренному рогу, удлиняющему тело меч-рыбы, путник погрузился в колоритный человеческий муравейник, о котором мы уже упоминали. Теперь же некоторые подробности, ускользнувшие от его внимания при беглом взгляде с вершины гробницы Аврелия Котты в сторону Рима, не только сделались явственными, но, так сказать, обрушились на него со всех сторон.
И действительно, в то время как властительные разбойники — Орсини, Гаэтани, Савелли, Франджипани — присвоили себе большие гробницы и расположили в них гарнизоны, цыгане, бродяги, нищие и просто мелкие воришки захватили маленькие склепы и обосновались в них.
Часть этих могил была обращена, как говорится, в общественное достояние. Конечно, сначала их выпотрошили для удовлетворения алчности одиночек, но затем стали использовать для общего блага. Дело в том, что некоторые колумбарии явили изумленному взгляду кладбищенских воров прочно обложенные кирпичом полукруглые ниши; по недолгом размышлении их превратили в печи. И вот каждый, кому выпала нужда, приходил туда печь хлеб или жарить мясо, словно в каком-нибудь нормандском селении. А поблизости от этих печей расположились мелкие лавочники, торгующие копченостями, птицей, сушеной рыбой и лепешками. Их клиентами стали разноплеменные солдаты: они спешили сюда, получив жалованье, в обществе жалких проституток, живших от щедрот этого нищего мира. По окончании трапезы, совершаемой внутри или под дверью этих импровизированных харчевен, парочки отправлялись коротать остаток дня, если это было днем, или ночи, если дело происходило в поздний час, в погребальных лупанарах, все внутреннее убранство которых ограничивалось тюфяком, наброшенным на саркофаг. Мрачные обиталища разврата вполне соответствовали и облику здешнего населения, и внешнему виду строений, среди которых они возникли.
Кроме того, поскольку церковь сделалась насущно необходимой в повседневной жизни пятнадцатого века — притом не столько как место молений, сколько как приют и защита, — то повсюду среди осколков канувших цивилизаций высились грубо сделанные храмы, в прошлом, судя по основаниям, языческие, теперь — с перестроенным в христианском стиле верхом, украшенные зубчатыми колокольнями, с укрепленными стенами монастырей, способными выдержать осаду, и гарнизоном монахов. Последний содержался аббатом или приором в том же образцовом порядке и с тем же чванливым тщанием, что и солдатские гарнизоны офицерами и комендантами крепостей.
Уже не раз мы слышали о прощении, какое путник жаждал исхлопотать себе в Риме. Не раз он высказывал сомнение в том, приложимо ли к нему Божье милосердие, хотя оно, как всем известно, бесконечно. И вот сейчас он вполне мог воспользоваться случаем испытать это милосердие и вымолить прощение, какое, с соизволения Господа, могут даровать служители его Церкви. Ведь монахи, призванные нести слово Господне в этом мире отверженных, привыкли к самым мрачным признаниям! И если бы не намеки странника, что отпущение может снизойти на него лишь с самой вершины церковной иерархии, то, повторим, случай представлялся весьма благоприятный; ему стоило бы поискать пристанища в одном из храмов и исповедаться какому-нибудь монаху, ни по одеянию, ни по речи, ни порой даже по ухваткам не отличимому от неприкаянных всех родов и племен, среди которых он обитал.
И все же незнакомец, не останавливаясь, прошел мимо церкви Санта-Мария-Нова и последовал далее. Но, пройдя около мили, он уперся в полукруглую сводчатую арку, примыкавшую с одной стороны к церкви святого Валентина, а с другой — к сторожевому замку, над укреплениями которого возвышалась гробница Цецилии Метеллы.
Арку перегораживали запертые ворота. Шагах в пятнадцати от дороги, справа, виднелись другие ворота, ведущие во двор крепости, принадлежавшей семейству Гаэтани. Племянники папы Бонифация VIII, Гаэтани пытались разбоем возвратить себе ту необъятную власть и силу, какой добились в первые годы понтификата Бенедетто Гаэтано, когда короли Венгрии и Сицилии препровождали последнего в церковь святого Иоанна Латеранского, спешившись и держа поводья его коня. Власть эту они постепенно утратили после пощечины, которую папа и папство в лице их предка получили от руки Колонны.
Гробница Цецилии Метеллы служила семейству Гаэтани основанием для главных крепостных укреплений, точно так же как Орсини использовали усыпальницу Аврелия Котты.
Вероятно, из всех погребений на Аппиевой дороге памятник жене Красса, дочери Метелла Критского, был, да и поныне остается сохранившимся лучше прочих. Только коническая вершина погребального сооружения исчезла, уступив место обнесенной зубчатой оградой площадке, и мост, перекинутый на античную постройку с недавно возведенных укреплений, соединял их с этим гигантским бастионом.
Лишь через три четверти века после описываемых событий усыпальница этой благородной матроны, утонченной, артистичной, наделенной поэтическим даром женщины, принимавшей у себя Каталину, Цезаря, Помпея, Цицерона, Лукулла, Теренция Варрона — всех, кого в Риме считали средоточием благородства, изящества и богатства, — была вскрыта по приказу папы Павла III, и урна с ее прахом перенесена во дворец Фарнезе, где ее можно видеть и поныне.
Несомненно, эта женщина вызывала к себе небывалое почтение, если после ее кончины Красе возвел подобную гробницу. Эта могила и пятнадцать миллионов, одолженных Цезарю, — вот два несмываемых пятна в жизни образцового скупца!
И точно так же как крепость Орсини выросла на развалинах виллы Квинтилианов, сторожевые укрепления Гаэтани разместились там, где некогда стояла обширная вилла Юлия Аттика.
История Юлия не столь трагична, хотя и не менее интересна, нежели судьба несчастных братьев. Посланный императором Нервой префектом в Азию, Юлий, разрушив афинскую цитадель, обнаружил огромные сокровища. Устрашенный видом стольких богатств, он написал о счастливой находке наследнику Домициана и предшественнику Траяна, однако император, не усматривая за собой никакого права на сокровище, удовольствовался ответом: «Тем лучше для тебя!»
Краткость императорской реплики, хотя и увенчанной восклицательным знаком, не вполне удовлетворила Юлия Аттика. Он подумал, что Нерва не оценил находки, сочтя ее обычным не стоящим внимания кладом в два-три миллиона сестерциев. По этому поводу он вновь взялся за перо и уточнил: «Ноу Цезарь, сокровища, которые я нашел, весьма значительны!»
На что император не соблаговолил ответить не чем иным, как той же репликой, но уже с двумя восклицательными знаками: «Тем лучше для тебя!!»
И все же на душе счастливчика было неспокойно. Он опасался, что в двух предыдущих письмах не дал полного представления о размере богатства, которое не осмеливался присвоить, и отправил третье послание: «Но, Цезарь, дело в том, что найденное мною сокровище очень велико!»
«Тем лучше для тебя!!!» — отвечал император, прибавив третий восклицательный знак к двум первым.
Это тройное восклицание успокоило Юлия Аттика. Он уже без колебаний оставил себе находку, настолько невероятную, что, после того как он подарил своему сыну шесть миллионов триста тысяч франков на постройку бань, возвел дворец в Афинах, дворец в Риме, дворец в Неаполе и виллы во всех частях империи, привез с собой из Аттики пятнадцать или двадцать философов, столько же поэтов, десяток или дюжину музыкантов, шесть или восемь живописцев, о чьих потребностях позаботился настолько щедро, что каждый из них вел образ жизни, достойный сенатора; после всего этого он подарил тридцать миллионов императору, еще шестьдесят — своему сыну, и у него осталось достаточно, чтобы завещать каждому афинянину пожизненную ренту, равную девяноста франкам.
Увы! Подобно Карлу Великому, при виде норманнов оплакивавшему упадок Империи, Юлий Аттик был вынужден при всем богатстве лить слезы из-за угасания своего рода. Поэт, оратор, художник, отец ритора, он впал в уныние от убожества внука, лишенного наследственной просвещенности и едва осилившего азбуку: его отец Герод Аттик был вынужден приставить к нему двадцать четыре раба, по числу букв алфавита, причем на груди и спине каждого жирной краской была выведена одна буква.
Так вот, все земли, на которых стояли гробница Цецилии Метеллы, вилла Юлия и Герода Аттиков, цирк Максенция, отстоящий от нее на какую-нибудь сотню шагов, — все это принадлежало Энрико Гаэтано и находилось под командой Гаэтано д’Ананьи, незаконнорожденного родственника последнего.
Предки Гаэтано происходили из городка Ананьи, где во времена своих раздоров с французским королем укрывался папа Бонифаций VIII, увеличивший число жителей множеством бастардов.
В тот час, о котором мы сейчас повествуем, то есть около полудня, Гаэтано Бастард — таково было его прозвище, — развлекался муштрой своего гарнизона в цирке Максенция.
Гарнизон этот состоял из англичан, немцев и разноплеменных горцев: басков, пьемонтцев и тирольцев, шотландцев, швейцарцев и крестьян с Абруццких гор.
Живя бок о бок и притираясь друг к другу, имея одинаковые нужды, в равной мере подвергаясь риску, эти люди создали особый язык, похожий на тот говор, что можно услышать на побережье Средиземного моря; пользуясь им, путешественник может обойти вокруг этого гигантского озера, которое древние называли Внутренним морем. Этот язык был достаточно богат, чтобы наемники понимали мысли и желания друг друга.
На нем же отдавал приказания их предводитель.
В дни сражений всех этих людей объединяло особое родство: они казались соотечественниками, друзьями, почти братьями. Но вне битвы национальные различия брали верх: англичанин жался к англичанину, немец — к немцу, горец — к горцу.
Поэтому на постое они делились на кучки, каждая из которых представляла особый народец. Дни и ночи на чужой земле сближали меж собой соплеменников, соединяли незримой связью. Переходя на свой язык, вспоминая родные игры и забавы, англичане ощущали на губах привкус британских туманов, немцы слышали журчание германских рек, горцы видели снега альпийских вершин. Эти грезы утешали очерствелые души, ласкали огрубевшее воображение запахами родного дома.
Одни соревновались в стрельбе из лука — то были английские лучники, остатки полчищ, так много попортивших крови нам, французам, в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре. Эти современные парфяне владели искусством посылать стрелу в цель; в их колчане обычно было двенадцать стрел, и лучники дерзко заявляли, что носят на боку смерть двенадцати человек.
Другие соревновались в борьбе — то были германцы. Эти белокурые потомки Арминия не забыли гимнастических ухищрений своих предков, а потому никто не отваживался поспорить с ними в этих опасных состязаниях. Они напоминали древних германцев-гладиаторов, сражающихся в римских амфитеатрах с медведями и львами, а место, где они боролись, цирк Максенция, усиливал это сходство.
Горцы же совершенствовали искусство палочного боя. Нередко в гуще побоища мощный удар меча отсекал наконечник копья, и тогда у всадника или пехотинца не оставалось в руках ничего, кроме древка. Его-то и надобно было превратить в оружие. В таких упражнениях уроженцы гор достигали такого совершенства, что лучше было иметь с ними дело, пока копья целы, чем тогда, когда в их руках мелькало легкое древко.
Гаэтано Бастард переходил от одной кучки к другой, подбадривал победителей, высмеивал побежденных, брал лук у англичанина, палку у горца, боролся с немцами.
Принимая участие в боевых играх, он объединял людей в мирные дни, поддерживал воинственный дух и ловкость, что помогало сплотить их вокруг себя в настоящем бою.
При всем при том часовые бдительно несли охрану на стенах и башнях, как если бы враг таился не далее чем на расстоянии полета стрелы. Спрашивали с них сурово, промахов не спускали, и они были надежны.
Около полудня Гаэтано Бастард сидел на постаменте давно исчезнувшей статуи и думал… О чем? О том, о чем грезят все кондотьеры: о красивых женщинах, деньгах и войне.
За спиной он расслышал мерный шаг нескольких пар ног и обернулся.
Три стражника вели к нему незнакомца.
Один приблизился и полушепотом произнес несколько слов, в то время как двое других застыли в десяти шагах по обе стороны человека, которого они привели не как гостя, а, похоже, как пленника.
Гаэтани не предавались в Страстной четверг гостеприимному хлебосольству, поскольку, в отличие от Орсини, никто из их предков не сподобился воскреснуть ни в один из святых дней, ни в иное время.
Кондотьер чуть склонился, выслушивая отчет наемника, после чего выпрямился и произнес:
— Ну-ну! Хорошо, подведите его.
Доложивший сделал знак двум другим, и они подтолкнули незнакомца к Гаэтано.
Тот смотрел на подходившего, не вставая; левая рука Бастарда играла кинжалом с золоченой рукоятью, правая подкручивала черный ус.
— Как это ты вздумал пересечь наши владения, не оплатив право прохода? — хмуро спросил он, когда задержанный приблизился.
— Монсиньор Гаэтано, — с поклоном отвечал незнакомец, — я бы не отказался платить, будь у меня та сумма, какую запросили ваши люди. Но я явился с другого конца света, чтобы получить благословение святейшего отца. Я беден, как всякий паломник, что рассчитывает на добрые сердца и набожные души тех, кто встречается ему на пути.
— И сколько с тебя запросили?
— Римское экю.
— Вот как! И что, это такая значительная сумма? — смеясь, осведомился Бастард.
— Все относительно, монсиньор, — смиренно отвечал странник. — Римское экю для того, кто, как я, его не имеет, — более значительная сумма, нежели миллион для того, кто возвел вот это, И концом посоха он указал на гробницу Цецилии Метеллы.
— А у тебя нет даже римского экю?
— Ваши солдаты, монсиньор, обыскали меня и обнаружили лишь несколько медяков.
Гаэтано вопросительно взглянул на них.
— Истинно, — подтвердили те, — вот все, что у него было.
И они показали горстку монет, составлявших в сумме примерно половину паоло.
— Ну ладно, — сказал Гаэтано. — Твои байокко тебе возвратят. Но так просто ты не отделаешься: здесь принято тем или иным образом платить. Молодые и красивые девицы расплачиваются, как святая Мария Египетская, — телом, богачи — кошельком, купцы — товаром, менестрели — песней, импровизаторы — стишком, фигляры — танцем, цыгане — гаданием. У каждого на этом свете есть своя монета, и он нам платит ею. Ну-ка, чем можешь расплатиться ты?
Пилигрим огляделся и заметил шагах в ста один из больших, похожих на воздушный змей английских щитов, острым концом воткнутый в землю и утыканный стрелами.
— Что ж, если вам угодно, монсиньор, — смиренно промолвил он, — я могу поучить этих славных малых стрелять из лука.
Гаэтано Бастард разразился хохотом и, поскольку англичане не понимали итальянского, перевел им слова путника:
— Вы знаете, чем этот человек собирается оплатить пошлину? — произнес он на том варварском наречии, на каком, как мы говорили, изъясняются все кондотьеры. — Он желает поучить вас искусству обращения с луком!
Лучники захохотали.
— Что мне ему ответить? — спросил Гаэтано.
— О, соглашайтесь, капитан, — попросили англичане, — и мы, право, повеселимся.
— Ну хорошо, пусть будет так, — обернувшись к страннику, промолвил офицер. — Сначала все англичане выстрелят в щит, который виден вон там. А затем трое самых метких вступят в состязание с тобой. И если ты одолеешь их, то, клянусь, не только получишь право свободного прохода, но вдобавок пять экю из моего кармана, чтобы заплатить у остальных застав.
— Согласен, — сказал незнакомец. — Но поторопитесь: мне надобно к трем часам быть на площади Святого Петра.
— Хорошо, хорошо! — сказал капитан. — У нас еще много времени: сейчас нет и двенадцати.
— Половина первого, — заметил путник, поглядев на солнце.
— Будьте повнимательней, мои храбрецы! — крикнул лучникам Гаэтано. — Похоже, вы сразитесь с человеком, у которого глаз наметан.
— Ну! — с сомнением произнес стрелок по имени Герберт, самый меткий из англичан. — Сдается мне, что узнать время по солнцу куда проще, чем с полсотни шагов пробить стрелой монетку в полпаоло.
— Ошибаетесь, друг мой, — на превосходном английском произнес путник. — Одно ничуть не труднее другого.
— О! — воскликнул Герберт. — Если вы, как можно судить по вашей речи, родились по ту сторону пролива, не удивлюсь, что вы метко стреляете.
— Нет, я не родился по ту сторону пролива, — отозвался странник. — Я только путешествовал по Англии. Но хорошо бы поспешить. Я уже говорил вашему начальнику, что тороплюсь и нам надо бы начинать немедля.
— Живее, Эдвард, Джордж! — закричал Герберт. — Поставьте новый щит, нарисуйте круг в шесть дюймов величиной, а в середине круга приклейте муху.
Двое англичан поспешили выполнить приказ. Они принесли совершенно нетронутый щит, в то время как прочие вытаскивали из старого торчащие стрелы.
Затем, чтобы внушить незнакомцу большее почтение к их ловкости и усложнить его задачу, они воткнули мишень не в полусотне, а в сотне шагов от него.
И вот, когда старый щит унесли, а новый укрепили там, где ему определили быть, лучники, как пчелиный рой вокруг матки, столпились около Герберта, которого негласно признавали первым по ловкости и зоркости глаза.
И тут можно было увидеть, что делается с людьми, когда на них нисходит подлинное воодушевление: каждый в свою очередь пустил стрелу, и, несмотря на увеличенное вдвое расстояние, пятьдесят стрел — столько же, сколько и лучников, — попало в щит. Из них одиннадцать угодило внутрь круга, но, как можно было предвидеть, три ближайшие к мухе — принадлежали Джорджу, Эдварду и Герберту.
— Хорошо стреляете, ребята! — вскричал, захлопав в ладоши, Гаэтано. — Сегодня лучшие вина из нашего погреба выставят во здравие тех, кто выпустил эти пятьдесят стрел… Теперь же черед трех победителей и нашего паломника! Вы готовы, уважаемый?
Незнакомец утвердительно кивнул.
— Ладно, — произнес Бастард. — Вам известно, что пять римских экю ожидают того, кто положит стрелу ближе всего к мухе… А теперь — к щиту!
Один из лучников выдернул из земли весь истыканный стрелами щит и заменил его новым.
— Место, расчистите место! — закричали со всех сторон.
Теперь здесь толпились не только англичане: боевой задор вновь спаял всех разноплеменных наемников в одно целое, в особую нацию, о чем мы уже ранее упоминали. Германцы перестали бороться, горцы бросили свои палки. Сбежались все, образовав широкий круг около Гаэтано Бастарда, паломника и трех лучников, призванных поддержать перед иностранцем честь старой Англии.
— Надо поторопиться, время не ждет, — вновь взглянув на солнце, произнес путник. — Уже без четверти час.
— Мы готовы, — ответил Герберт. — Стрелять будем по старшинству. Первым — Эдвард, вторым — ты, Джордж, третьим — я, а последним — пилигрим. По заслугам и честь!
Действительно, при стрельбе из лука почетно быть последним.
— Берегись, — делая шаг вперед, прокричал Эдвард.
Он заранее выбрал лучшую из своих стрел и наложил ее на тетиву. Дойдя до черты, откуда надо было стрелять, он дважды натягивал тетиву, а потом возвращал назад. Наконец, прицелился в третий раз, стрела просвистела и вонзилась в начертанный на щите круг в каких-нибудь двух дюймах над мухой.
— Какая досада! — буркнул он. — Будь щит хоть шагов на десять ближе, я угодил бы прямо в точку! Но ведь и так неплохо. Удачный выстрел.
Одобрительный гул голосов показал, что товарищи его были того же мнения.
— Теперь твой черед, Джордж, — произнес Гаэтано Бастард. — И целься точнее.
— Все будет сделано на совесть, монсиньор, — бодро ответил тот.
И чтобы доказать, сколь тщательно он относится к делу, лучник вынул из колчана три стрелы, осмотрел их, отбросил две, найдя в них какие-то изъяны, и остановил свой выбор на третьей.
Эту третью он наложил на тетиву, поднял лук медленным, но уверенным движением, отвел назад руку и пустил стрелу.
Та ударила в щит, и, хотя он стоял далеко, можно было заметить, что ее острие вонзилось на несколько линий ближе к мухе, чем у Эдварда.
— Клянусь честью, вот все, на что я способен. Пусть кто-нибудь сделает лучше!
— Браво, браво, Джордж! — зашумели зрители.
Настал черед Герберта, — того, на кого рассчитывали больше, чем на остальных.
Он подошел к черте торжественным, неторопливым шагом, как человек, сознающий, какая ответственность легла ему на плечи. И в выборе стрелы он явил еще больше тщания, нежели Джордж. Высыпав весь колчан на землю, он стал на одно колено и долго, заботливо выбирал стрелу, уравновешенность которой была бы безукоризненной. Затем поднялся, резко натянул тетиву — так, что рука ушла за голову, — несколько мгновений сохранял полную неподвижность, будто античный охотник, которого мстительная Диана обратила в мраморное изваяние…
Стрела полетела до того стремительно, что сделалась невидимой, и вошла в щит так близко от мухи, что задела ее крылышко.
Все наемники, особенно лучники, застыли, устремив взгляды в щит и шумно дыша. Когда же они увидели, что произошло, раздался единый крик, в котором потонули отдельные восклицания на нескольких языках: общая гордость заставляла их желать, чтобы один из них — кем был он ни был по военной профессии и по национальности — одержал верх над чужаком. Затем все, не сговариваясь, бросились в едином порыве к щиту, желая своими глазами убедиться, как метко выстрелил Герберт.
Его стрела, как уже было сказано, задела муху.
И тут лучники, все как один, издали свой обычный клич:
— Ура старой Англии!
Крики звучали все громче; все теснились у щита, показывая Гаэтано стрелу, которая — в этом никто не сомневался — должна была обеспечить их победу.
В это время странник, не давая себе труда даже скинуть стеснявший движения плащ, удовольствовался тем, что положил свой посох на землю, подобрал один из брошенных луков и, не выбирая, ближайшую из стрел, оставленных Гербертом, а затем, наложив ее на тетиву, неожиданно зычно крикнул:
— Берегись!
Обступившие щит наемники обернулись и, увидев в сотне шагов от них путника, поднимающего лук, отпрянули, очистив место. Лишь только между их спинами образовался просвет, тут же просвистела стрела.
От крика незнакомца до попадания стрелы прошло так мало времени, что всем показалось, будто он спустил тетиву вовсе не целясь. Меж тем, она, еще дрожа, торчала прямо из того места, где была муха. Путник же спокойно стоял, опершись на лук.
Когда все снова приблизились к щиту, представлявшему собой ивовую плетенку, обтянутую тремя бычьими шкурами, которые были переложены тремя железными пластинами, — они увидели, что щит пробит насквозь и острие на шесть пядей высунулось с другой стороны!
Лучники изумленно переглянулись; ни крика, ни вздоха, ни даже дыхания не вырвалось из их груди.
— Ну как? — после некоторого молчания спросил Гаэтано. — Что скажешь об этом, Герберт?
— Скажу, что это волшебство либо обман. И что надобно повторить попытку.
— Слышишь, пилигрим? — обратился к незнакомцу Гаэтано. — Ведь ты не можешь отказать доблестному лучнику, желающему отыграться. А то он принял тебя не за простого смертного, как и он, а за самого бога Аполлона, переодетого пастухом и сторожащего стада царя Адмета.
— Пусть будет так, — ответил тот. — Но когда я дам ему возможность отыграться, мне позволено будет уйти?
— Да, да! — в один голос закричали все наемники.
— Слово рыцаря, — заверил Гаэтано.
— Пусть будет так, — промолвил путник, не двигаясь с места, в то время как искатели приключений продолжали тесниться вокруг щита, разглядывая его с изумлением и восторгом. — Однако расстояние, с которого мы стреляли в первый раз, достойно, как мне сдается, лишь ребячьих забав. Пусть отодвинут щит еще на две сотни шагов, и тогда я буду счастлив помериться с Гербертом и обоими его сотоварищами.
— Еще на двести шагов дальше? Стрелять с трехсот шагов? Но вы сошли с ума, уважаемый! — выкрикнул Герберт.
— Пусть поставят щит на двести шагов дальше, — повторил незнакомец. — Я принят ваши условия беспрекословно, теперь ваш черед принять мои не обсуждая.
— Сделайте так, как он просит, — властно приказал Гаэтано. — Теперь его воля поступать как он сочтет нужным.
Два человека выдернули щит, отсчитали двести шагов и воткнули его у противоположного края арены.
Все прочие кондотьеры во главе с Гаэтано молча подошли к тому месту, где их ожидал пилигрим.
Герберт поглядел на щит и, обескураженно уставясь на свой лук и стрелы, произнес:
— Это невозможно. Стрела не долетит.
— Да, — подтвердил пилигрим. — С такими детскими игрушками это трудно, согласен. Но сейчас я покажу вам оружие, которое оправдает мой вызов.
И он пальцем показал кондотьерам нечто похожее на кусок скалы длиной в десять ступней и шириной в пять; камень выступал из бугристой, поросшей мхом земли, словно гигантская крышка гроба.
— Отвалите этот камень, — приказал он.
Наемники переглянулись, не понимая, чего добивается от них странный человек, более похожий на сверхъестественное существо, и не решаясь выполнить его приказ.
— Вы что, не слышали? — спросил Гаэтано.
— Слышали, — проворчал Герберт. — Но разве дозволено ему здесь приказывать?
— Да, если я так хочу, — отрезал Гаэтано. — Поднимите этот камень!
Восемь или десять человек принялись за дело, но, хотя они и действовали вместе, глыба не поддавалась.
Они выпрямились и, поглядывая на Гаэтано, начали роптать:
— Это сумасшедший! Он бы еще потребовал, чтобы мы выворотили из земли Колизей!
— Ах да! — прошептал, обращаясь к себе самому, паломник. — Я и позабыл, что гробница заперта изнутри.
И приблизившись к гранитной глыбе, сказал:
— Отойдите, сейчас я попробую.
После этого, сбросив с плеч свой плащ, он припал к одному из углов саркофага, впился жилистыми руками в неровности камня, а затем, слившись с глыбой, словно высеченный на ней барельеф, он трижды рванул камень.
Теперь он походил на какого-нибудь Аякса или Диомеда, вырывающего из троянской земли один из гигантских межевых столбов, каким можно сокрушить половину вражеского войска.
При первом толчке по камню пошли трещины, при втором — лопнули железные скрепы, при третьем — гранитная крышка открылась и стала видна могила, хранившая в себе скелет гиганта.
Не хватало только головы мертвеца.
Искатели приключений издали крик удивления, смешанного с ужасом, и в панике отшатнулись. Гаэтано провел рукой по взмокшему лбу.
Перед ними был один из тех невероятных костяков, что описал Вергилий; не раз, потревоженные в своем могильном сне и вывороченные на свет плугом пахаря, наводили они леденящий ужас на далеких потомков.
Рядом со скелетом лежал лук в девять ступней длиной и шесть стрел по три локтя в каждой.
— Ну что, Герберт, — спросил незнакомец, — вы ведь не сомневаетесь, что стрела, пущенная из такого лука, полетит на триста шагов?
Герберт ничего не ответил. Его и товарищей сковал суеверный страх.
Первым обрел дар речи Гаэтано.
— Что это за кости? — спросил он голосом, которому тщетно старался придать уверенность. — И почему у скелета нет головы?
— Эти останки, — отвечал незнакомец с исполненной великой грусти улыбкой, нередкой на лицах стариков, рассказывающих о том, чему они оказались свидетелями в дни своей юности, — принадлежат человеку восьми ступней роста — это когда он стоял распрямившись. Значит, даже без головы он был бы выше любого из ныне живущих. Родился он во Фракии, его отец происходил из племени готов, а мать была из аланов. Сначала он пас стада, потом служил воином у Септимия Севера, был центурионом при Каракалле, трибуном при Элагабале и, наконец, императором после Александра. Вместо перстней он носил на большом пальце руки браслеты своей жены, мог одной рукой протащить груженую фуру, хватал первый попавшийся камень и крошил его руками в пыль, не переводя дыхания клал наземь три десятка борцов, бегал так же быстро, как пущенный галопом скакун, и за четверть часа трижды обегал Большой цирк, после каждого круга наполняя своим потом чашу; наконец, он съедал в день сорок фунтов мяса и единым духом выпивал амфору вина. Звали его Максимин; он был убит под Аквилеей своими собственными воинами, а его голову отправили в сенат, пожелавший всенародно сжечь ее на Марсовом поле. Через шестьдесят лет другой император, заявлявший, что он ведет свой род от Максимина, послал за его телом в Аквилею. И поскольку он тогда строил этот цирк, то приказал похоронить его там, положив рядом с ним его любимые стрелы из тростника, срезанного на берегах Евфрата, лук из германского ясеня и асбестовую тетиву, не подвластную ни огню, ни воде, ни ходу времени. А из этой императорской гробницы он сделал центральную тумбу арены, вокруг которой кружились его лошади и колесницы. Того второго императора звали Максенций… Ну же, Эдвард! Ну же, Джордж! Ну же, Герберт! Я спешу… Берите ваши луки и стрелы, а мои — вот здесь.
Достав из гробницы лук и стрелы, он поднялся на пьедестал, на котором, придя, застал сидящим Гаэтано, и, подобно Улиссу, без усилий натягивающему свой лук, легко согнул лук Максимина и наложил тетиву.
— Будь что будет! — воскликнул Герберт. — Никто не скажет, что английские лучники отказались сделать то, за что взялся другой. За дело, Эдвард, и ты, Джордж! Вы уж постарайтесь! А я все силы приложу, лишь бы совершить то, чего никогда не совершал.
Оба лучника приготовились, но при этом обескураженно качали головами, словно люди, берущиеся за дело, которое заранее считают невозможным.
Первым попытал счастья Эдвард. Согнув лук, он пустил стрелу — описав дугу, она упала, на двадцать шагов не долетев до щита.
— Я же говорил! — вздохнул он.
Следующим был Джордж; однако, несмотря на все его старания, стрела легла лишь на несколько шагов ближе к цели, чем у собрата по ремеслу.
— Нечего искушать Господа, — пробормотал он, уступая место Герберту, — и требовать от человека того, что выше его сил!
Герберт заново перетянул свой лук, выбрал лучшую стрелу и тихо сотворил молитву святому Георгию. Его стрела на излете достигла щита, но не смогла пробить даже верхний слой кожи и упала рядом.
— Тем хуже, клянусь честью, — сказал он. — Вот все, на что я способен даже для вящей славы старой Англии.
— Ну что ж, — заметил тогда пилигрим. — Посмотрим, что я смогу сделать для вящей славы Божьей.
И, не покидая пьедестала, подобный античной статуе, возвышаясь на полтора локтя над зрителями, он одну за другой пустил шесть стрел, образовавших на щите крест: первые четыре изображали древо, а две последние — перекладину.
Раздались возгласы восхищения, особенно когда последние стрелы, прояснив значение религиозного символа, сделали понятным намерение таинственного стрелка. Многие, увидев в этом чудо, осенили лбы крестным знамением, как бы следуя его примеру.
— Нет, это не простой смертный, — сказал Герберт. — Это кто-то вроде Тевтата или Тора, сына Одина. Наверное, он решил обратиться в христианскую веру и пришел просить у папы отпущения былых грехов.
Расслышав эти слова, незнакомец вздрогнул.
— Друг, — тихо сказал он, — ты не так далек от истины, как может показаться… Помолись же за меня, но не как за бога, примкнувшего к вашей вере, а как за человека кающегося.
Затем, обернувшись к Гаэтано Бастарду, попросил:
— Монсиньор, обещанные мне пять экю отдайте Эдварду, Герберту и Джорджу, у кого, равно как и у вас, я прошу прощения за обуявшую меня гордыню. Увы! Только что я признался негромко, а теперь объявляю во весь голос, что на мне большой грех!
И, смиренно поклонившись, он спросил:
— Позволите ли вы мне покинуть вас, или, может быть, вам угодно потребовать от меня еще чего-нибудь?
— Что касается меня, — сказал Гаэтано, — не вижу никаких препятствий, тем более что я дал тебе слово. Но, может, моим борцам и мастерам палочного боя следовало бы попросить об уроке вроде того, что ты дал лучникам?
Однако германцы и горцы движением головы показали, что вполне удовлетворены увиденным.
Тогда, обратившись к первым на чистейшем немецком и повторив для вторых то же на шотландском, баскском и пьемонтском наречиях, путник сказал:
— Благодарю братьев моих германцев и братьев горцев, что они не противятся тому, чтобы я продолжил свой путь, и умоляю вас присоединиться, если не словом, то помыслом, к молитвам Джорджа, Эдварда и Герберта о спасении моей души.
И, вручив гигантский лук предводителю кондотьеров, он вновь набросил на плечи плащ, поднял посох, почтительно поклонился во все стороны, через брешь в стене цирка Максенция вышел на Аппиеву дорогу и с привычной быстротой зашагал далее.
Часть искателей удачи, преисполненных восторга, удивления, но больше всего сомнений, последовала за ним до римской дороги, другие же вскарабкались на развалины, чтобы подольше не упускать его из виду.
Тогда-то и те и другие стали свидетелями необычайного зрелища, поселившего в их душах еще большее недоумение, нежели все прежде виденное.
Третья башня, властвовавшая над виа Аппиа и преграждавшая путь к Аврелиановой стене, которая служила границей Рима, принадлежала Франджипани, семейству не менее знатному и властительному, нежели роды Орсини и Гаэтани (его последний представитель почил уже в наше время в стенах монастыря Монте Кассино).
Мы упоминали, что имя их, происходившее от слов frangere panes[5], свидетельствовало о множестве хлебов, которое они каждое утро делили между неимущими.
Как их собратья, с кем мы только что успели познакомиться, Франджипани жили вымогательством, насилием и грабежом. Их замок служил как бы последней заставой перед городскими воротами.
Однако путешественник, видимо, очень торопился прибыть на место вовремя, поскольку на этот раз, вместо того чтобы, как в Касале-Ротондо и замке Гаэтани, попробовать пересечь владение хозяев дороги, он обогнул крепостные стены, не отвечая на оклики часовых с башни.
Те подозвали подкрепление.
Два десятка прибежавших на их зов увидели путника: он шел, не отвечая на приказ остановиться. Тогда лучники и арбалетчики осыпали его градом стрел.
Но под смертоносным дождем, затмевавшим Божий свет, он продолжал идти, не ускоряя и не замедляя шага, словно то был обычный град. Оказавшись вне досягаемости, он удовольствовался тем, что отряхнул плащ и тунику, чтобы попадали вонзившиеся в них стрелы, и, освобожденный от лишнего груза, исчез под аркой Траяна в проходе, что ныне называют воротами святого Себастьяна.
URBI ЕТ ORBI[6]
Итак, кондотьеры, стерегущие древнюю дорогу от Касале-Ротондо до башни Франджипани, терзались страхом и любопытством, гадая, что это за путник, говорящий на любом языке так свободно, словно слышал его с пеленок; знающий дела стародавних лет так, словно жил во все времена; открывающий клады с уверенностью человека, словно сам их запрятал, и сбрасывающий крышку императорского гроба, который окован железом и спаян крепким римским цементом, словно вскрывает простой сундук. Как ему удается стрелять в цель из гигантского лука, за триста шагов изображая на щите фигуру креста? Почему, наконец, луки и арбалеты целого гарнизона оказались бессильны против него, а ему, выйдя из-под обстрела, достаточно было отряхнуть свою одежду? Пока они ломали над этим голову, таинственный путник шел по улицам Рима, прокладывая дорогу так, будто все эти улицы были давным-давно ему знакомы.
Пройдя через ворота святого Себастьяна, он вышел на улицу, перегороженную цепями. Цепи были закреплены у основания арки Друза, построенной — редчайший случай! — после смерти героя, кого она обязана была прославить. На вершине арки, воздвигнутой в честь побед отца Германика и Клавдия над германцами, Франджипани возвели башню и взимали поборы с путешественников, деля выручку с монахами монастыря святого Григория, что на Скавре. Однако в силу особой торжественности этого дня и после слов пилигрима о том, что он уже прошел по виа Аппиа, миновав Орсини, Гаэтани и Франджипани, здесь, на заставе Франджипани у арки Друза, его пропустили беспрепятственно.
Чуть позже он увидел по правую руку маленькую часовню, построенную на том самом месте, где свершилось чудо воскрешения Наполеоне Орсини, затем миновал термы Каракаллы, оставив их слева, и вступил на ведущую к Большому цирку улицу, окаймленную с двух сторон грандиозными развалинами и затененную еще в то время Триумфальной аркадой.
Именно в этом цирке Цезарь и Помпей устраивали знаменитые охоты на животных и несравненные сражения гладиаторов — кровавые торжества, на которых убивали сразу по три сотни гривастых львов, смертоубийственные празднества, на которых бились насмерть по полутысяче гладиаторов!
Но наш путник равнодушно прошествовал мимо.
Выйдя из цирка, он оставил справа гигантские развалины императорского дворца, слева, чуть дальше, — храм Весты. Затем его плащ скользнул по только что украшенной резьбой стене дома Колаццо да Риенци, дома, который в те времена должен был казаться хрупким изделием из слоновой кости, вышедшим из-под терпеливого резца какого-нибудь китайского ремесленника. Не останавливаясь, он поравнялся с театром Марцелла, оставив его справа, прошел мимо одного из укрепленных замков семейства Савелли и свернул на улицу, проходящую вдоль театра Помпея, одного из разбойничьих гнезд, свитых Орсини в самом центре Рима, и, пройдя по улице Валличелла, очутился прямо перед базиликой Константина.
Чем ближе он подходил к старинному и священному строению, воздвигнутому на двенадцать веков ранее современного храма, тем гуще улицы были заполнены толпами ревнителей веры, притекших сюда не только из Рима, его окрестностей, из большинства итальянских городов, но и со всех концов света. Однако же там, где всякий иной путешественник был бы вынужден остановиться перед тесной толпой желающих получить папское благословение, наш незнакомец сумел проложить себе путь.
Двигаясь так, он пересек площадь Святого Петра, проник во внутренний двор базилики с бившим посреди фонтаном — своего рода античный атрий, называемый в Италии «парадизом». Лишь пробившись в первый ряд толпы, заполнившей двор, путник остановился. Как раз там был некогда цирк Нерона, роковое место, где погибло столько христиан, где сонмы мучеников вознеслись на небеса!
Теперь, наконец, пилигрим созерцал базилику и все пять ее врат.
Первые именовались вратами Судного дня: через них проносили покойников.
Вторые назывались Равеннскими, по имени города, выходцы из которого подарили их храму. Колония равеннцев обосновалась на склоне холма Яникула; их здесь прозвали «речниками», поскольку именно они возили все грузы и людей по реке.
Третьи, Срединные врата, некогда были отлиты из серебра на деньги Гонория I и Льва IV. Но сарацины, разграбившие город, увезли их, а новые были изготовлены из бронзы уже при Евгении IV.
На фронтоне четвертых, Римских, были прибиты дары, принесенные прихожанами ex voto[7]: портовые цепи, узорные запоры от крепостных ворот и даже военные доспехи.
И наконец, пятые назывались Святыми, или Юбилейными: открывали их лишь раз в полвека. Сейчас они, как и первые, оставались закрытыми, а остальные, распахнутые, позволяли разглядеть внутреннее устройство базилики: пять рядов колонн с капеллами по обе стороны и клирос в глубине апсиды с воздвигнутой посреди него копией Гроба Господня, освещенного пятьюстами шестьюдесятью семью ярко горящими светильниками.
В глубине базилики попарно шествовали кардиналы. Каждый держал в руках свечу и митру с упрятанной в ней красной кардинальской шапочкой, снятой из почтения перед святым причастием, которое нес сам папа. Он шел с непокрытой головой под балдахином, который держали над ним восемь епископов.
Проходя перед алтарем, папа оставил там святое причастие и направился к лестнице, ведущей в Лоджию Благословения, полностью обитую узорчатой дамасской тканью.
Лоджия Благословения была пока что пуста.
Папский кортеж исчез из виду и стал подниматься в лоджию под звуки хора, продолжавшего петь «Pangue lingua»[8], восхитительный гимн, сложенный в 838 году епископом Орлеанским Феодосием.
В это мгновение не только во дворе базилики и на площади Святого Петра, но и на всех улицах, примыкавших к площади словно лучи звезды, человеческий поток пошел крупной зыбью и водоворотами, схваченный неукротимым притяжением к святому месту, будто приливом, который даже длань Господня не была бы в силах остановить.
Двери в Лоджию Благословения распахнулись.
Человеческий океан замер, окаменел; над волнами голов и рук воцарилось глубокое молчание. И тут же триста тысяч христиан опустились на колени.
За пять минут до того никто бы не услышал и грома небесного, а теперь можно было различить шелест крыльев голубки, перелетевшей площадь и севшей на заостренный купол базилики.
В лоджию внесли сидящего в кресле верховного понтифика Павла И. Он был в митре и под балдахином, поддерживаемым все теми же восемью епископами.
Один из кардиналов преклонил перед ним колена и поднес книгу.
Другой встал слева, держа горящую свечу.
Папа принялся читать по книге, и, хотя он не повышал голоса, были ясно различимы слова, казалось нисходящие с небес:
«Святые апостолы Петр и Павел, воле и власти коих препоручаем мы себя, да вступятся за нас пред престолом Всевышнего.
Аминь!
Да снизойдет всемогущий Господь к молитвам достойнейшей всеблагой Девы Марии, всеблаженного архангела Михаила, всеблаженного Иоанна Крестителя, святых апостолов Петра и Павла, а также всех святых, да смилуется над вами, а после отпущения грехов ваших да даст вам Иисус Христос сподобиться жизни вечной.
Аминь!
Да будет даровано вам Господом всемилосердным и всеблагим отпущение, разрешение от грехов и милость Божия, время полного покаяния и скорби о прегрешениях ваших, да будут всегда открыты сердца ваши раскаянию, да окрепнут души ваши в добрых делах.
Аминь!
И да снизойдет на вас благословение Отца всемогущего, и Сына, и Святого Духа и пребудет с вами во веки веков.
Аминь!»
Произнося последние слова, папа встал и, упоминая о каждой из ипостасей Святой Троицы, осенял собравшихся внизу крестным знамением. При словах «и пребудет с вами во веки веков» он воздел руки к небу, затем, прижал их к груди и снова сел.
Тотчас кардинал-диакон прочитал полное отпущение грехов всем присутствующим и бросил индульгенцию на площадь.
Заполучить ее было жгучим желанием трехсот тысяч христиан, столпившихся перед базиликой Святого Петра. Почти каждый пожертвовал бы десятью годами жизни ради того, чтобы случай, а вернее, сам Господь сделал его обладателем всеблагого послания, скрепленного подписью святого отца.
Несколько мгновений листок, повинуясь легкому ветерку, порхал в воздухе над лесом протянутых к нему рук, а затем упал на колени нашего пилигрима.
Тому было достаточно одного движения, чтобы овладеть им, но, видимо, он не осмелился сделать это.
Кто-то рядом с ним подобрал листок, а он и не воспротивился; было похоже, что это благословение, это отпущение грехов, эта всеобщая индульгенция не распространяется лишь на него одного.
В тот миг, когда бумага выпорхнула из кардинальской руки, выстрелили все пушки в замке святого Ангела, все колокола базилики и еще трех сотен римских храмов наполнили звоном воздух. Мало того — грянули пятьсот музыкальных инструментов и крики радости, благодарности и святого восторга всего христианского мира: казалось, каждый католический город в знак вечной покорности выслал в святой город депутацию своих данников.
Но среди всех славивших Господа лишь один — наш путник — остался нем. Он поднялся, вошел под церковные своды, прошел мимо чаши со святой водой, не омочив в ней руки, перед алтарем, не осенив себя крестным знамением, мимо верховного исповедника, не преклонив колена и не попросив отпущения грехов, и вошел в капеллу пилигримов.
По обычаю, в Страстной четверг по выходе из Лоджии Благословения папа омывал ноги тринадцати паломникам. Эти тринадцать в оставшиеся дни Святой недели становились гостями папы и кормились за его счет.
Сейчас в капелле ожидали святого отца двенадцать пилигримов.
Тринадцатое сиденье оставалось незанятым.
Наш путник подошел к нему и сел.
Не успел он это сделать, как появился папа, вернее, его внесли.
И лишь здесь его святейшество сошел с носилок и направился в так называемую залу церковных облачений. Там, взамен белой мантии, паллия и митры из золотого газа, кардинал-диакон облачил его в епитрахиль фиолетового цвета, плащ красного атласа, паллий и митру из серебряного газа.
Когда эта церемония завершилась, папа возвратился в капеллу, сел в принесенное для него парадное кресло, уже без балдахина, с табуретами для двух кардиналов и двумя зажженными светильниками по бокам.
По его повелению кардинал-пресвитер наполнил кадильницу ладаном, затем папа дал благословение кардиналу-диакону, который должен был читать нараспев евангельские тексты, предписанные для этой церемонии.
Кардинал-диакон прочитал положенное, после чего субдиакон подал священную книгу папе, который поцеловал ее, тогда как кардинал-диакон трижды воскурил ладаном, а певчие грянули стих «Mandatum novum do vobis»[9].
Во время пения папа поднялся и, после того как кардинал-диакон помог ему снять мантию, приблизился к первому паломнику (то есть сидевшему в противоположном от нашего героя конце). За святым отцом следовали два камерария с подносами: в одном лежало тринадцать полотенец, в другом — столько же букетов цветов.
Позади всех шел казначей в мантии и стихаре с расшитым золотом кошельком из пунцового бархата, где лежало тринадцать медалей из золота и тринадцать из серебра.
Наш путник наблюдал за всеми этими приготовлениями с явной тревогой, и нетрудно было понять, что он близок к какому-то ужасному припадку.
Тем временем папа приступил к церемонии, в чем-то напоминающей деяние Иисуса, омывшего ноги апостолам. Он продвигался от одного паломника к другому и, естественно, приближался к таинственному незнакомцу. Тот все сильнее бледнел, и тревога, от которой содрогалось все его тело, становилась все сильнее. Наконец святой отец дошел до него; субдиакон уже склонился, чтобы распустить завязки его сандалий, но тут пилигрим отдернул ногу и припал к коленам Божьего наместника, воскликнув:
— О святой и трижды святой отец, я недостоин вашего прикосновения!
Павел II не был готов к подобному взрыву чувств и почти в ужасе отступил.
— Но чего же вы желаете от меня, сын мой? — проговорил он.
— Я желаю, о пресвятой отец, — отвечал путник, коснувшись лбом каменных плит пола, — я всепокорнейше прошу, чтобы вы приняли исповедь несчастного грешника… величайшего и недостойнейшего из всех, о ком вы когда-либо слышали! И когда-либо услышите!
Папа на мгновение застыл в нерешительности, разглядывая распростертого перед ним человека; но, так как рыдания, рвущиеся из груди его, и полные отчаяния жесты свидетельствовали об искреннем и глубоком горе, он произнес:
— Хорошо, сын мой. Поскольку вы один из тринадцати паломников, то вы мой гость. Отправляйтесь же в мой Венецианский дворец… Лишь только кончится служба, я встречусь там с вами, выслушаю вашу исповедь; если возможно вернуть покой вашему сердцу, прошу, питайте надежду обрести этот покой.
Незнакомец протянул обе руки к церковному облачению святого отца, смиренно и горячо поцеловал его край, затем поднялся с колен, взял прислоненный в углу посох и вышел, сопровождаемый удивленными взглядами папы и кардиналов, прелатов и двенадцати паломников, спрашивавших себя, что за человек сидел среди них и какие несмываемые грехи заставили его броситься к стопам самого наместника Бога на земле.
ПРОКЛЯТЫЙ
Венецианский дворец, куда направлялся неизвестный странник, строился по планам Джулиано Майано из разобранных руин Колизея на месте старинной Юлиевой ограды и, был закончен всего два года назад. К тому времени дворцов Баччоли, Памфили, Альтиери и Буонапарте еще не было, и он высился на обширной площади, где в день восшествия на святой престол Павел II в подражание Цезарю устроил богатую трапезу для всех жителей Рима. Торжество длилось пять дней, и ежедневно по двадцати тысяч блюд пять раз сменяли друг друга. По подсчетам, не менее полумиллиона сотрапезников побывало на этом пиру.
И право, Павел II, которому в то время должно было исполниться пятьдесят два или пятьдесят три года, слывший некогда одним из самых красивых мужчин в Италии (став папой, он хотел было принять имя Формоз, но отказался, опасаясь обвинений в тщеславии), — так вот, Павел II остался одним из самых богатых, купавшихся в роскоши властителей мира. Он обожал драгоценности, собирал бриллианты, изумруды, сапфиры и постоянно забавлялся, пересыпая пригоршнями бесценные камни из ладони в ладонь.
В этом-то великолепном дворце, где ныне расположилось австрийское посольство, путнику была назначена аудиенция. Его ввели в кабинет, и он, волнуясь, готовился к встрече.
Ожидание было недолгим: Павлу и самому не терпелось побыстрее повидать этого пилигрима. Странный вид, старинная одежда, необычайно выразительное лицо и почти неистовая страстность, с какой несчастный предавался раскаянию, пробудили любопытство его святейшества.
Когда путник объявился во дворце, сказав, что его прислал папа, служители Павла II узнали в нем одного из тех тринадцати, кому предстояло быть гостями верховного понтифика на время Страстной недели. Согласно заранее полученным указаниям, они пожелали угостить его обедом, состоявшим из рыбы, постной дичи и сушеных фруктов. Однако, как и в Касале-Ротондо, путешественник согласился принять лишь кусок хлеба и стакан воды. И то и другое он съел и выпил стоя.
Как раз за этим занятием застал его вернувшийся во дворец папа.
Но почему же наш герой, которого мы до сих пор видели в силе и мощи, вполне владеющим собой, теперь вздрагивал от одного лишь звука шагов за дверью папского кабинета? Когда же дверь отворилась и верховный понтифик приблизился к гостю, того стала бить такая дрожь, что он был вынужден вцепиться в ручку стоящего рядом кресла, чтобы не упасть.
Павел II устремил на него взгляд своих больших черных глаз и в неверном свете двух свечей — других в его кабинете не зажгли — заметил почти мертвенную бледность пришельца.
Действительно, стоя в полутьме, облаченный в серую тунику и синий плащ, растворившиеся в сумраке, путник был почти невидим; выделялось только лицо, обрамленное смоляными волосами и черной бородой, еще более оттенявшими его бледность.
Всякий на месте Павла II, верно, не без колебаний решился бы остаться один на один с подобным посетителем, но жадный до новизны ум и бесстрашное сердце Пьетро Барбо подсказали ему, что перед ним душа, объятая ни с чем не сравнимым страданием, если не раскаянием… Этот грешник явился неведомо откуда, чтобы сознаться в преступлении, простить которое не властен никто, кроме папы. Видно, это один из величайших возмутителей земного и небесного порядка, какие существовали встарь, и его имени следовало бы стоять рядом с теми, кто, подобно Прометею, Эдипу или Оресту, удостоился сокрушительного гнева богов.
Не поддавшись обычному человеческому страху, папа шагнул навстречу незнакомцу и произнес голосом, полным безмятежной мягкости:
— Сын мой, я обещал вам помочь, вступиться за вас перед Господом и готов сдержать слово.
В ответ пилигрим лишь издал стон.
— Каково бы ни было совершенное вами преступление, сколь бы велика ни была лежащая на вас вина, милосердие Господне все превозможет… Поведайте об этом преступлении, признайтесь в этой вине, и Бог простит вас.
— Отец мой, — глухо откликнулся неизвестный, — разве простил Господь Сатану?
— Сатана восстал против Господа, сделался врагом рода человеческого, воплощением земного зла… К тому же он не раскаялся, а вы готовы на это.
— Да, — прошептал незнакомец. — Мое желание искренно, смиренно и глубоко.
— Если сердце ваше вторит устам, вы уже на пол пути к небесному милосердию. Так продолжайте же. Кто вы, откуда и чего вы хотите?
Неизвестный снова застонал и прикрыл обеими руками лицо, заслонив его от взгляда земного судии. Его пальцы конвульсивно сцепились, и лишь сквозь их перекрестье виднелись лоб и глаза.
— Сказать, чего я хочу? — с мукой проговорил он. — О, я чувствую, что желаю невозможного: прощения!.. Откуда я? Как могу я назвать это место после стольких скитаний? Я пришел с севера и юга, я бреду из земель, где восходит солнце, и из стран, где оно заходит, — отовсюду! Кто я?..
Он мгновение помедлил, словно не совладав с ужасной внутренней борьбой. Но затем прошептал:
— Смотрите.
В голосе и жестах его сквозило отчаяние; обеими руками откинув длинные черные волосы, он обнажил лоб, на котором сиял, ослепляя взор верховного понтифика, пламенеющий знак, каким ангел небесного гнева отмечает чело проклятого.
Затем он шагнул вперед, вновь выступив из тьмы в круг света:
— Теперь вы меня узнаете? — спросил он.
— О! — вскричал Павел II и безотчетно протянул палец к роковому знаку. — Так ты Каин?
— Если бы Богу было угодно, чтобы я был Каином! Тот не обладал бессмертием. Каина умертвил племянник его Ламех. Благословенны те, что могут умереть!
— Так ты не можешь умереть? — невольно отступая, спросил папа.
— Нет, к несчастью; нет, к моему отчаянию; нет, и в этом мое проклятие! Казнь моя в том, что я не способен погибнуть… О, сам Господь преследует меня, он тот, кто приговорил меня, тот, чье мщение на мне… И лишь одному ему известно, что я сделал достаточно, чтобы заслужить все это!
Здесь уже папа в свою очередь закрыл лицо руками и вскричал:
— Несчастный! Неужто ты забыл, что самоубийство — единственный грех, не заслуживающий прощения? Ведь совершив его, виновный не имеет времени на покаяние!
— Ах, — разочарованно вздохнул незнакомец, — вот и вы судите меня по мерке прочих смертных. Но ведь я не человек, ибо не подвластен одному из законов человеческих: неминуемой смерти! Нет, подобно Энкеладу, титану, не до конца поверженному, при каждом движении, каждом вздохе я погружаюсь в пучину страданий! У меня были отец, мать, жена и дети, я стал свидетелем их смерти и угасания детей, моих детей — и не смог умереть!… Рим, неколебимый, рассыпался в прах, я бросился под камни поверженного великана, но лишь пыль его на мне: я остался целым и невредимым среди обвалов и пожарищ. С высоты горных вершин, опоясанных тучами, там, где рычит Харибда и воет Сцилла, я бросался в морскую бездну. Я опустился до головокружительных морских глубин, но и среди акул с медными плавниками и кайманов со стальной чешуей остался цел: море исторгло меня и выбросило на берег, словно обломок разбитого суденышка! Мне сказали, что Везувий — это уста ада; я бросился в кипящую лаву, когда вулкан извергал к небесам свои огненные внутренности. Но кратер оказался для меня песчаной постелью, ложем из мха: тотчас он изрыгнул меня вместе с пеплом и камнями, я покатился вниз среди потоков лавы и очнулся среди цветущих лугов, под благоуханным пологом апельсиновых рощ Сорренто! Как-то загорелся лес в Индии — из тех баобабовых лесов, где одно дерево как целая роща. Я решил пересечь его, надеясь не выйти оттуда никогда. Каждое дерево полыхало словно огненный столп, а кроны его — как снопы огня… Три дня и три ночи я блуждал по горящему лесу и вышел невредим: ни один волосок не опалило! Я узнал, что на острове Ява есть дерево, сок и даже сень которого смертельны для всего живого: всадник, в бешеном галопе проскакивающий под тенью его, падает замертво. Я улегся у дерева меж двух мертвецов, заснул, наутро проснулся и продолжал путь! В озерах тогда еще неизвестной Старому Свету Океании в часы, когда полуденное солнце пронзает лучами теплую воду и блеск его отражается от листьев гигантских кувшинок, клубятся несметные множества сплетенных змей, так что и дна не видно сквозь двойные, тройные узлы золотых, стальных, изумрудных тел. Мириады светящихся глаз и разверстых пастей следят за вами, раздвоенные языки шевелятся, шелест волны заглушается шорохом трущейся липкой чешуи, свистом отравленного дыхания гадов… Туда я погружался с плесканием и шумом, пригоршнями хватая эти волосы Медузы, хлеща себя черной змеей с мыса Доброй Надежды, нильским аспидом и цейлонской гадюкой — и что же? Ни цейлонская гадюка, ни нильский аспид, ни черная змея с мыса Доброй Надежды ничего не смогли мне сделать! Однажды я шел через пустыню и увидел, что ко мне с быстротой урагана, ясно различимое в прозрачном сумраке тропической ночи, приближается нечто похожее на песчаный смерч; оно издавало звуки, которые нельзя ни с чем сопоставить. А было так: какая-то жирафа в поисках прохлады отправилась в тенистую лагуну, где дремали львы; один из них пробудился и прыгнул из тростников на жирафу, вонзив стальные когти в ее шею. Эта гигантская лошадь, обезумев от боли, бросилась бежать, унося на себе длинногривого наездника, живьем поедавшего свою жертву. Везде, где они проносились, навстречу добыче поднимались тигры, пантеры, леопарды, гиены, шакалы, рыси — ночные охотники, ищущие поживы. Они бросались по кровавому следу, вытянувшись цепочкой — кто быстрее, кто медленнее, в меру крепости ног и храбрости, — рыча, воя и лая; впереди неслись тигры, за ними пантеры, потом гиены, шакалы, рыси, — все мчались, не поднимая голов от земли, чтобы не сбиться с кровавой дорожки. В десяти шагах от меня этот вихрь остановился: жирафа, не в силах дальше нести смертельный груз, рухнула, вытянула шею в мою сторону и со слабым хрипом издохла… Что ж! Я решил оспорить добычу у льва. Я бросился в гущу тигров, пантер, леопардов, гиен, шакалов и рысей, рыча, воя и лая громче, чем они! Наступил день — я остался лежать на трупе несчастной жирафы, тяжело дыша, но без единой царапины… Все эти чудища с легкостью разорвали бы в клочки Геркулеса, Антея, Гериона. Но передо мной они отступили, разбежавшись по тростникам, вернувшись в свои джунгли, леса и пещеры. Когти и зубы тупились и крошились о меня! О Господи, если не прощения, то смерти, смерти — вот все, чего я прошу!..
Павел II, до того не прерывая внимавший этому протяжному крику отчаяния — крику, страшнее и горше которого ему выслушивать не доводилось, наконец подал голос:
— Но тогда, если ты не Каин… то кто же?… — и умолк, словно устрашившись того, что успел вымолвить.
— Я тот, — мрачно произнес незнакомец, — кто не выказал сострадания к великой боли… тот, кто отказал Богочеловеку, изнемогавшему под тяжестью креста, в минутном отдыхе у моего порога… Это я оттолкнул мученика, бредущего к Голгофе. Я отмечен карой за преступление не против божественности, а против человечности… Это я сказал: «Ступай!» — и, во искупление этого, сам теперь должен идти и идти… Я — проклятый Богом Вечный жид!
Тут папа невольно отступил на шаг, но исповедовавшийся остановил его, удержав за край длинного белоснежного одеяния:
— Умоляю, дослушайте меня, святой отец! Когда вы узнаете, сколько я претерпел за пятнадцать веков, быть может, вы сжалитесь надо мной и согласитесь стать посредником меж преступником и судией, между грехом и прощением!
Столь искренней просьбе папа не смог воспротивиться. Он сел, поставил локоть на стол, уронил голову на руку и приготовился слушать.
Грешник на коленях подполз к нему и начал…
* * *
* * *
* * *
А теперь да позволит читатель нам самим занять место повествующего и да проявит он терпеливое внимание к обширнейшему повествованию длиной в полтора десятка веков, которое развернется перед его глазами.
Ибо на этот раз мы рассказываем не об истории одного человека, а об истории человечества.
Вступление
Иерусалим
1
Существуют имена людей и городов, которые, на каком бы языке их ни произносили, будят столь высокие мысли и благочестивые воспоминания, что услышавший их чувствует непроизвольное и непреодолимое желание преклонить колена.
Иерусалим — одно из подобных имен, священных на всех языках человеческих. Его лепечут уста младенца, шепчут губы старика, выводит перо историка и воспевает лира поэта. Перед ним преклоняются все.
В представлении былых веков Иерусалим был центром земли, в верованиях современных он остался средоточием мирового родства народов.
Иерушаль-Айм (в нашем произношении ставший Иерусалимом) значит «образ мира» — град, избранный Господом, покрытый славой и покоящийся на священных холмах.
Сказания повествуют, что именно на этих холмах умер Адам. Пророки предвещали, что именно на этой земле родится Спаситель.
Моисей мечтал основать здесь столицу своего кочевого народа. Зачем из кочующих пастушеских племен он пытался тяжким сорокалетним трудом сотворить единую семью, народ, нацию? Для чего во времена плена он сулил им цветущую страну Ханаанскую? Зачем вел их по пустыне к Земле обетованной? Что заставило его просить законы для них у самого Иеговы, представшего в молниях и громе небесном, и на века заворожить благодатной торжественностью свидания с Господом горы Синайские? Все это совершалось затем, чтобы город Иисуса назывался Иерусалимом, предшествовал Риму времен Ромула и пережил Рим святого Петра; затем, чтобы паломники всех столетий стремились туда, порой идя на приступ одетые в железо, сжимая древки копий, но чаще — смиренно вступая босой ногой, ощупывая его камни посохом, прославляя его святость.
А посмотрите на пророков его, сколь ревновали они к его будущности! Когда город падает под ноги победителю Навуходоносору, они клеймят его прозвищем блудницы вавилонской. Стоит ему подняться с колен благодаря мечу Маккавеев, они величают его девственницей сионской! Победа смывает пятно позора, независимость возвращает славу непорочности.
Те же самые пророки возвестили о нем:
«И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям; и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима. И будет Он судить народы и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».
Вот так Яхве, Господь единый, сильный и ревнивый, могущественный и мстительный, — вот так он охраняет Иерусалим, образ мира. Моисей, толкователь воли Господней, простирает над ним руки; Давид, помазанник Божий, отстраивает его стены; Соломон, любимый Господом, возводит храм. Моисей это Закон, Давид — Сила, Соломон — Мудрость.
Бросим взгляд на этот город, посмотрим, как он родился, вырос и пал, но пал провиденциально — в объятия римской державы, охватившие весь мир. Рим собрал из тысячи народов — отдельных колосьев — единый сноп, созревший под светом новой цивилизации, обращенной помыслами ко всеобщему братству. Солнце христианства одинаково светит богатому и бедняку, сильному и слабому, угнетателю и рабу. Это светило королей и путеводная звезда пастырей!
Когда Иисус Навин в трехдневной битве при Гаваоне разбил пять царей и солнце замедлило свой бег, дабы позволить ему довершить победу, один из поверженных монархов отступил на вершину горы и укрепился там. Звали его Адонисек, а гору — Сион. Племя, подвластное ему, называлось иевусеями, потомками Иевусея, третьего сына Ханаанова.
Избранный господом народ, вынужденный бороться со всеми соседями, воевать с ними до полного уничтожения, нуждался в месте для города, укрепленном самой природой — со рвами, насыпями и неприступными стенами. Образ мира мог открыться лишь на возвышенном месте. Послушайте Тацита — он в полном согласии с Моисеем оправдывает Давида:
«Иерусалим был расположен в труднодоступном месте и укреплен насыпями и крепостными сооружениями, достаточными, чтобы защитить его, даже если бы он находился среди ровного поля.
Основатели Иерусалима, когда еще только закладывали его, понимали, что различия между иудеями и окружающими народами не раз будут приводить к войнам, и потому приняли все меры, дабы город мог выдержать любую самую долгую осаду».
Давид вполне оценил преимущества расположения вражеского лагеря, а Адонисек был уверен в своей безопасности.
— Идите, идите сюда! — кричал он с высоты укреплений, обращаясь к Давиду и его войску. — Мы пошлем против вас только слепых и хромых: этого будет достаточно, чтобы вас победить!
Что же ответил Давид? Он указал на крепость рукой и объявил:
— Кто прежде всех взберется на эту стену, тот будет моим военачальником, первым после меня!
На этот призыв откликнулись тридцать сильных мужей Израилевых и бросились на приступ; войско Давидово последовало за ними. Иоав, племянник царя, первым приставил лестницу, взобрался под градом стрел, бревен и камней, вскочил на стену и продержался на ней до тех пор, пока сотоварищи не пришли ему на помощь.
Крепость была взята, и правой рукой Давида стал Иоав, жестокий воин, который в лице Иевосфея изведет род Саула, умертвит Авенира и пронзит тремя стрелами сердце Авессалома, сына своего повелителя.
Что касается защитников Сиона, то всем известно, как цари Израилевы поступали со своими врагами (особенно после того как Саул был наказан за то, что помиловал амалекитян и их вождя). Мечи победителей не пощадили никого.
Победная песнь, сложенная Давидом, дает представление о том, сколь важна была эта победа:
«Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его.
Они говорят: „Расторгнем узы израильтян и сотрем имя Израилево с земной тверди!“ Но Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь… Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои… Я рассеиваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их… Иноплеменники ласкательствуют предо мною. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих».
Так Давид овладел великолепным укрепленным местом, охраняемым тремя горами: Сионом, Акрой и Мориа, отроги которых служат естественными стенами. Здесь есть три огромных рва, вырытых рукой, сотрясающей миры: на востоке — глубокая долина Иосафата, по которой течет Кедрон; на юге — крутой склон Хинном, на западе — Долина мертвых. Лишь с севера новый город был открыт для нападения, и именно с севера, несмотря на тройной ряд стен, его брали приступом Навуходоносор, Александр Великий, Помпей, Тит и Готфрид Бульонский.
Посмотрим же, что творилось на свете в эпоху, когда Давид, едва успев вложить окровавленный меч в ножны, берет арфу, чтобы, возблагодарить Господа, давшего ему силу и военную удачу и его руками уготовившего Израилю великое будущее.
В Европе общество еще не сложилось; оно существовало только в патриархальных, теократических и жреческих цивилизациях Востока.
Индия уже впала в дряхлость, ее династии угасли, названия городов забыты, а их развалины затеряны; тысячи лет прошли с тех пор, как ее цивилизация возникла за Гималаями; первые властители, о которых она помнит, — Бардты, чей расцвет относится к первому столетию после потопа, Чандры, правившие за три тысячи лет до Рождества Христова, и Джадустеры, пришедшие через тысячу лет после них. С индийцами продолжали торговать, покупали их шелка и хлопчатые ткани, шерстяной пух и поделки из сандалового дерева, их камедь, лак, масло и слоновую кость, жемчуг, изумруды и алмазы, но их самих мир не знал.
Египет, дитя Эфиопии, унаследовавший ее славу подобно тому, как Греция затем овладевает египетским наследством; Египет, возникший из тины Нила, по берегам которого двадцать четыре династии и пять сотен властителей возвели Фивы, Элефантину, Мемфис, Гераклею, Диосполис; Египет, создавший Анубиса, Тифона и Осириса, богов с головами собаки, кошки и ястреба; Египет, родина огромных таинственных памятников, с его аллеями пилонов, лесами обелисков, полями пирамид и стадами сфинксов; Египет, из плена которого совсем недавно чудом вырвались евреи, а фараона которого Аменофиса с его мощным войском, посмевшего преследовать избранный Богом народ, поглотило Чермное море; Египет с его беспощадно лазурным небом, на котором кроваво-красное солнце полыхает словно зев печи; Египет, где — страшно подумать! — мертвецы сохраняются нетленно с тех пор, как там есть мертвецы, где магические снадобья оспаривают у небытия его добычу; где каждое поколение, пройдя земной путь, укладывается высохшим призраком на двадцать поколений предшествующих ему мумий, — короче, Египет превратился в огромный подземный могильник, где зримо поселилась вечность и ничто, даже могильный червь, не тревожит смертного покоя.
На смену ему пришла и расцвела во всей мощи Ассирия. На севере Ассур, сын Сима, основал Ниневию; на юге Нимрод, внук Хама, выстроил Вавилон. И вот Ниневия, которую, дав ей свое имя, расширил и укрепил сын Бела, вытянулась на целое льё по левому берегу Тигра; Вавилон глядит в мир сотней бронзовых ворот, обременяя дворцами, укреплениями и висячими садами берега Евфрата. Оба города источают любовную негу под гигантскими пальмами, дающими тень благодатной стране, колыбели человечества. Они хранят ключи от азиатской торговли, стянув к себе все богатства мира. Товары из Индии и Египта стекаются к ним по великим рекам и верблюжьим тропам.
А Финикии от роду лишь несколько столетий. Ее неисчислимые обитатели хлопочут на узких отмелях, на берегах, поросших ливанским кедром, и на горе Арад, где возводят дома до семи этажей. Финикияне — нечистая раса, изгнанная из Индии при Таракийе и из Египта при Сезострисе. Господь, поразивший Содом и Гоморру, забыл о Сидоне и Тире. А ведь там кишат поколения племен смешанной крови; не ведающие семьи, не знающие ни своего отца, ни своего сына, они размножаются как попало, словно жуки и гады после грозовых дождей. Прижатые к Средиземному морю, они подчинили и поработили все его побережье: Сидон — став кузницей всех чудес и драгоценных безделок Азии, а Тир — распахав море тысячами судов.
Карфаген, их дитя, только-только основан; он выдвинулся на запад как передовой дозорный цивилизаций Востока. Но пока что город лишь торговый склад Сидона, меняльная лавка Тира; только через полтора века Дидона, спасаясь здесь от своего брата Пигмалиона, расширит городские владения и превратит Карфаген в будущего соперника Рима.
Афины, в прошлом маленькая египетская колония, только что покончили со своими царями — их чреду открыл Кекроп, а завершил Кодр, — и монархический период сменился аристократическим. Здесь уже сто лет городом управляют пожизненные архонты, возвысившие Афины до роли владычицы Греции. Но кому известна Греция? Ведь Гомер еще не родился!
Меж тем растет Альба: латинские цари день ото дня раздвигают ее границы. Но ей предстоит укрепляться еще три века, прежде чем она сможет основать первую колонию. Пока же ее стада мирно пасутся на семи холмах, где позже раскинется Рим.
Что же касается Испании, Франции, Германии либо России, то кроме непаханных равнин, пустынных скал и густых лесов, ничего примечательного не найдется в этих почти безлюдных местах, где раздолье только волкам, медведям и вепрям.
Европа к тому времени известна всего лишь как третья часть света.
Однако обратимся снова к священному городу.
После Давида, царя войны, приходит Соломон, царь мира. Его родитель все приготовил для долгого и спокойного правления: Давид смирил злобу враждебных народов и мятежных соплеменников. Он же построил Иерусалим, водрузив его как бы на треножник, одно из оснований которого — западное — упиралось в побережье Внутреннего моря, южное погружалось в Аравийский залив Индийского океана, тогда как северное, перешагивая через Евфрат и Тигр, тянулось к Каспию.
Чтобы овладеть Внутренним морем, Давиду пришлось разгромить филистимлян; дабы повелевать Аравийским заливом, он покорил племена идумеян и, наконец, пробивая себе путь по Евфрату и Тигру, победил царей Сирии и Дамаска.
Соломону же оставалось лишь выстроить храм и основать Пальмиру.
Молодой царь получил власть в 2970 году от сотворения мира.
Первая его забота — отправиться на высоты Гаваона и закласть во славу Господа тысячу быков. Жертву он принес на медном алтаре, что Моисей построил еще в пустыне. Она была приятна Отцу Небесному, и тот явился царю на следующую ночь, а в награду за благочестие пообещал исполнить любую просьбу.
Соломон попросил мудрости.
На что Господь ему отвечал:
— Ты просишь мудрости, чтобы судить, что добро и что зло. Я даю тебе по слову твоему. И то, что ты не просил, я даю тебе, и красоту, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои, и не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе.
«И дал Бог Соломону, — гласит третья Книга Царств, — мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря».
И вот, по милости Божьей, Соломон, затмив славу четырех сыновей Махола, первых поэтов того времени, сложил три тысячи притч, пять тысяч песней, написал огромную книгу о сотворении всего живого, включая растения от кедра, высящегося на ливанских вершинах, до иссопа, прорастающего в трещинах стен, а также тварей морских, лесных и воздушных, от рыб, бороздящих воды океанов, до орла, плывущего в небесной лазури и тонущего в ослепительном сиянии солнца.
Многое из этих книг, многое из этих песней, многое из этих притч нам неизвестно, затерялось по дороге длиною в три тысячи лет. Но все читали «Песнь песней» — сладостное видение Иудеи в самые благостные ее дни, напоенное поэтической свежестью и ароматом лилий с горы Гелвуй и роз Саронских, гимн любви, сложенный в честь женитьбы царя на дочери фараона Осошора, принесшей в приданое союз с Египтом и город Газу на Средиземном море.
Тогда-то, сделавшись мощным владыкой, замыслил Соломон главное дело своего царствования. Именно его избрал Господь для строительства храма, и надобно было, чтобы храм стал достоин Господа.
Все есть у него: золото, серебро и медь, драгоценные каменья и жемчуг, пурпур и экарлат, но у него мало кедрового, можжевелового и соснового дерева. А главное, нет у него архитектора, скульптора, художника, кто бы лил украшения из меди, золота и серебра, оправлял драгоценные камни, кроил пурпурные и пунцовые ткани. Хирам, владыка Тира и Сидона, старый союзник Давида, послал ему все это. Только дровосекам, рубившим кедры в Ливане, Соломон заплатил двадцать тысяч мер пшеницы, столько же ячменя и по двадцать тысяч сосудов вина и бочонков масла.
Хирам послал к молодому монарху искусного строителя, и в горах Ливана закипела работа. По десяти тысяч человек, сменяемых каждый месяц, трудились там.
А мастер, посланный Соломону, оказался и в самом деле столь искусным, что двести тысяч рабочих под его началом отправляли уже отесанный лес и вполне обработанные плиты мрамора, прекрасно отлитые колонны — и все так строго по мерке, с таким точным расчетом, что храм поднимался над землей, на горе Мориа, так ни разу и не огласив окрестности ни звуком пилы, ни ударом молотка!
Соломон начал возводить святилище на четвертый год своего царствования, на второй месяц года, называемый у македонян артемизий, а у евреев — зиф. Это случилось в две тысячи девятьсот семьдесят первом году от сотворения мира, тысяча триста сороковом — после потопа, тысяча двадцать втором — с того дня, когда Авраам выступил из Месопотамии и направился в землю Ханаанскую, на пятьсот сорок восьмом году после исхода из египетского плена и тысяча тринадцатом — до Рождества Христова.
И через семь лет храм был выстроен!
Ионийцам потребуется двести двадцать лет, чтобы возвести в Эфесе храм Дианы.
Вот так Господь, как и обещал, наделил Соломона богатством, мудростью и красотой, а также ниспослал ему славу и позволил в столь малое время построить столь блистательный храм.
Каким вместилищем мудрости стал сын Давидов, известно всем и подтверждено тысячеустой молвой. Поэтому, прежде чем с сожалением оставить эту великую и поэтичную фигуру во тьме давно минувшего, вот уже три тысячелетия озаряемой памятью о нем, поговорим немного о его красоте и богатстве.
Последнее было баснословным, если принять во внимание размеры его царства, и особенно — во что превратились эти земли после наложенного на них восемнадцати векового проклятия. Итак, прежде всего, у Соломона были огромные сокровища, добытые отцом и приумноженные его собственными ежегодными доходами, каковые достигали шестисот шестидесяти шести золотых талантов, не считая подати на все товары, а также дани, которую платили повелители и цари Аравии. Все это равнялось более чем ста миллионам теперешних франков. Кроме того, его великолепный флот отправлялся из Ецион-Гавера, что на Чермном море, и дважды в год ходил в страну Офир, или Золотую землю; это приносило царю, кроме восьмидесяти талантов золота в слитках (за два путешествия — тридцать миллионов франков), еще и столь ценимый в те времена жемчуг, не говоря уже об арфах и лирах из Индии, форму которых заимствовали греческие музыканты, и о таком количестве слоновой кости, что ее хватило на украшение всего царского дворца. Кроме того, оттуда привозили обезьян в его зверинцы и павлинов для дворцовых садов; нигде, кроме как у него, не было таких диковинок. И наконец, у него были добровольные дары, приносимые подданными его царства, особенно жителями города. Дары эти были столь значительны, что одного из них хватило, чтобы отлить золотую колесницу и выложить на ней бриллиантами слова: «Люблю тебя, драгоценный Иерусалим!»
Когда повелитель отправлялся на этой колеснице к своему дворцу в Хиттуме, в ста двенадцати стадиях от столицы, огненные буквы возвещали о взаимной любви царя и покорного ему народа. Он проезжал мимо жителей, весь в белом, преисполненный спокойного величия, как посланец Господень, а рядом с ним гарцевали самые красивые и благородные юноши-идумеяне. Облаченные в пурпурные одежды из Тира, вооруженные колчанами и луками, с развевающимися длинными волосами, усыпанными золотыми блестками, оттенявшими сияющие, словно у ангелов, лица, они вызывали восторг толпы. Но и среди них Соломон выглядел ослепительно прекрасным, что и обещал ему, вместе с богатством и мудростью, Всевышний.
Слава о нем разошлась так далеко, что царица Савская, правившая в глубине Счастливой Аравии и дотоле считавшая себя самой богатой и могущественной властительницей в мире, пожелала увидеть его собственными глазами. И здесь свойственная арабам тяга к чудесному, как восточный сапфир, оправленный искусным финикийцем, взрывается потоками света среди однотонного течения истории.
Кому принадлежит этот сапфир? Магомету, создавшему Коран через шестнадцать веков после того, как Соломон написал Книгу Екклесиаста.
Прочитайте суру о муравье.
Прилетевший из Сабы удод возвестил Соломону, что владычица полуденного мира покинула свои земли и направляется к нему. Тогда Соломон, повелевавший джиннами с помощью волшебного перстня, приказал одному из них отправиться в Сабу и перенести оттуда трон царицы, дабы доказать ей, что ничто не укрыто от того, кого Господь наделил даром мудрости. А когда прекрасная Николис сошла со своего слона и ее ввели в дворцовые покои, она приняла плиты из полированного стекла, устилавшие пол, за воду и обнажила ножку, приподняв край одеяния из боязни его замочить.
За слоном царицы прибыли многочисленные служители с бактрианами из земли Мадиамской и дромадерами из Эфы, нагруженными дарами государю от посетившей его венценосной сестры: ароматами и благовониями, драгоценными каменьями и ста двадцатью золотыми талантами (семью миллионами сегодняшних франков).
Царица желала ослепить — и была ослеплена. Когда она вместе с Соломоном взошла по шести ступеням, окаймленным двенадцатью золотыми львятами, и приблизилась к трону, с которого он вершил суд, властительница Сабы пала ниц с возгласом:
— Счастливы те, кем ты правишь! Счастливы те, что служат тебе! Счастливы те, что облагодетельствованы близостью к тебе! Счастливы те, на кого изливается твоя мудрость!
Она была права: ни один государь еще не стяжал такой славы, никто так не ценил величия человеческого достоинства.
Царица отбыла в обратный путь, отягощенная дарами того, кого захотела обогатить. Во всем его царстве она видела лишь благополучие и процветание. Она изумилась столь прочному миру и великому богатству народа, поскольку, как гласит третья Книга Царств, «жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии, во все дни Соломона».
Ныне ничего не осталось от храма, возведенного во славу Господню Соломоном, ни от трех построенных им дворцов: для себя, для царицы и для гостей. Не сохранилась и гробница, где, как благоговейный сын, он уложил отца своего, Давида, на отлитое из золота ложе. Но если вы попадете в безлюдные места, простирающиеся от Сирии до Евфрата, то в одном из оазисов, под величественными деревьями, из-за которых римляне окрестили этот островок в пустыне Пальмирой, вы наткнетесь на развалины древнего Тадмора; пустыня под покровом песка хранит их с религиозным трепетом, на какой не способны святотатственные длани цивилизации.
Процарствовав сорок лет, Соломон умер, но слава его опередила, почив в семейном склепе рядом с телом его родителя. Иноплеменные обольстительницы, дочери Финикии, жрицы любви из Сидона и Тира, вторгшись в его царство и сердце, навязали ему собственных богов: Астарту, эту индийскую Венеру, что спустилась по Нилу с четырьмя сотнями волхвов (позже она преобразится в греческую Афродиту, карфагенскую Юнону и сделается Доброй богиней Рима); Молоха, этого пламенного Сатурна, под звуки барабанов и кимвалов пожиравшего свои жертвы, которых бросали в его раскаленное чрево. Астарта и Молох сделались божествами иерусалимского монарха.
Тем не менее, прегрешения на склоне такой прекрасной жизни, ослепительная мудрость, вознесшаяся к высотам небесного эфира в зените царствия и низринувшаяся в грозовые тучи на закате, отуманенный заблуждениями прощальный взгляд на пророка Ахию Силомлеянина, разорвавшего одеяния свои на двенадцать кусков, чтобы показать, что грехи государя размечут и разорвут его страну на столько же лоскутов, — все это неспособно пригасить величие имени Соломонова, его блеск и уважение к нему потомков. Навсегда Соломон пребудет воплощением славы, справедливости и мудрости. Это — солнце Иудеи, царь, одолевший Сезострида, строитель, соревнующийся с Хеопсом, поэт, состязающийся с Орфеем… Наконец, в арабском мире он снискал еще большее уважение; там его представляют чародеем, господином полчищ людей, драконов и птиц, понимающим языки всего, чему Бог дал жизнь: крики животных, шелест деревьев, аромат цветов… В глазах арабов это повелитель ветров, дующих с востока на запад, с юга на север и, словно быстрые вестники, разносящих его слова во все стороны света. Эти люди верили, что он отдавал приказания джиннам и те с рабской покорностью отправлялись добывать для него жемчуг из глуби морской и алмазы из недр Голконды. Джинны, сочтя его лишь задремавшим, продолжали служить ему и после его кончины. Они догадались, что он мертв, лишь после того как черви источили посох, на который опирался царственный труп, захороненный стоящим.
2
Со смертью Соломона пришла к концу эра радости и процветания Иерусалима. На смену поэтам, воспевавшим величие города, явились пророки, предрекавшие ему погибель. Через один-два века Израиль с содроганием услышит их мощные возгласы; предвестники и спутники бедствий, они, подобно грому небесному, отдавались эхом в сумерках истории, среди развалин былого великолепия.
И явился Навуходоносор, библейский Аттила, посланец Господнего мщения, молот Иеговы, поражавший тех, кто покинул алтари истинного Бога.
А ведь пророки предвещали его приход. Послушайте Исайю:
«Вот, придут дни, и все, что есть в доме твоем и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон; ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, — и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского».
А вот Аввакум вещает от имени Господа:
«Я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он; от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков; скачет в разные стороны конница его; издалека приходят всадники его, прилетают как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа; устремив лице свое вперед, он забирает пленников, как песок».
Наконец, во исполнение пророчеств, Навуходоносор, царь Вавилона, отправился с войском на завоевание города:
«И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, — и взял его царь Вавилонский.
И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома; и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем.
И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско — десять тысяч было переселенных, — и всех плотников и кузнецов; никого не осталось, кроме бедного народа земли.
И переселил он Иехонию в Вавилон; и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон.
И все войско, и художников, и строителей, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон!..»
Этот плен был предсказан еще царем Давидом в восхитительном псалме, воплотившем страдания изгнанников всех времен:
«При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда упоминали о Сионе.
На вербах, посреди его, повесили мы наши арфы.
Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселья: „Пропойте нам из песней сионских ".
Как нам петь песнь Господню на земле чужой?
Если я забуду тебя, Иерусалим, — забудь меня десница моя.
Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.
Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: "Разрушайте, разрушайте до основания его ".
Дочь Вавилона, опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!
Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!"
Среди высланных был Даниил.
Иудей по рождению, мальчиком увезенный из того Иерусалима, в котором уже нет ни жителей, ни храма, он смог истолковать сны Навуходоносора и значение роковой надписи: "Мене, мене, текел, упарсин", испугавшей Валтасара; дважды его бросали в львиный ров, сначала на одну ночь, потом — на шесть дней. Наконец он смог получить у Кира эдикт, разрешавший евреям вернуться на родину и восстановить храм. Святилище должно было иметь шестьдесят локтей в высоту, столько же в ширину, три ряда из полированных камней и один — из дерева, "выросшего в Сирии".
И вот после семидесяти лет изгнания сорок две тысячи триста шестьдесят иудеев вернулись в родные места. Так много пленников оказалось потому, что за семь десятилетий Иерусалим дважды подвергался разграблению и каждый раз платил победителю дань людьми.
Кир не только разрешил вновь отстроить храм, он сделал больше: дал деньги на его возведение и вернул городу пять тысяч четыреста золотых и серебряных чаш, захваченных в Иерусалиме Навуходоносором.
Увы! Новый храм был бледным слепком прежнего. Но это был храм. И пока старики плакали, молодые испускали радостные крики: ведь они не видели первого! Храмовое здание освятили в 513 году до Рождества Христова, на празднество съехалось множество евреев со всей Палестины, в честь него заклали сто жертвенных быков и двести баранов, четыреста агнцев и двенадцать козлов — во отпущение грехов двенадцати колен Израилевых.
Восстановив и освятив храм, евреи вновь осознали себя единым народом.
Возведя храм, стали думать и о восстановлении крепостных стен, но на это должно было получить дозволение Артаксеркса. Никто не осмеливался добиваться этого.
Но служил у персидского царя пленник, еврей по имени Неемия, сын Ахалиин; он так полюбился Артаксерксу, что тот сделал его своим виночерпием.
И вот однажды пришел повидаться с Неемией один из братьев его, Ханани, и слуга царя спросил его о том, о чем прежде всего желает узнать всякий еврей, увидевшийся с соплеменником вдали от родного крова: о том, что делается в граде на горе Сион.
Ханани лишь покачал головой и сказал:
— Храм возведен вновь, но стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем.
И вот, несколько дней спустя — а было это на двадцатом году царствования Артаксеркса, в месяце нисане, — когда к трапезе царя принесли вино, Неемия взял его и подал царю, но тот, как гласит Писание, спросил:
— Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет; а верно, печаль у тебя на сердце?
Неемия сильно испугался, но, призвав всю свою храбрость и сочтя время удобным, отвечал:
— Да живет царь вовеки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустении, стены его разрушены и ворота его сожжены огнем?..
— Чего же ты желаешь? — допытывался Артаксеркс.
Неемия про себя воззвал к Богу Небесному, а вслух продолжал смелее:
— Если царю благоугодно и если в благоволении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его.
Царь и царица переглянулись и, видимо, пришли к согласию, после чего властитель продолжал выспрашивать:
— Сколько времени продлится путь твой и когда возвратишься?
Неемия назначил время.
— Пусть будет так, — сказал царь. — Ступай.
— О повелитель, — взмолился Неемия, — то, что ты делаешь, велико, но еще недостаточно. Умоляю, царь мой, дай мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при доме Божием, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить.
Царь даровал Неемии просимое, и тот направился в Иудею.
Быть может, в пути он повстречался с Фемистоклом, изгнанным из Афин и явившимся просить приюта у Артаксеркса. Греки уже вошли в круг цивилизованных народов, ибо они доросли до неблагодарности.
Двенадцать лет с богоугодным рвением исполнял свое дело Неемия и на исходе двенадцатого года, как было обещано, завершил его и возвратился к Артаксерксу. Тот, видя его верность и истовость в исполнении своего слова, вновь отправил бывшего виночерпия в Иерусалим, назначив его правителем города.
После восстановления стен протекло чуть более сотни лет, как вдруг разнеслась весть, что идет новый завоеватель: двигаясь с севера, он уже взял Дамаск, Сидон и осадил Тир.
Через неделю прибыл и гонец с письмом от победоносного вождя к первосвященнику Адде.
В послании к нему было три требования: помощи, свободной торговли с наступавшей армией и перехода из стана персидского царя в союзники. Адде давалось понять, что ему не придется раскаиваться, если он предпочтет дружбу с ним, а не с Дарием.
Свиток был подписан именем, незнакомым иудеям: его прислал Александр, сын Филиппа.
Его посулам Адда не придал особой цены. Он отвечал, что с Дарием евреев связывает клятва никогда не обнажать против него меча и, пока персидский царь жив, они ему не изменят.
Письмо, на которое духовный владыка столь неосторожно ответил, предвещало нашествие европейцев, уже вторично стучавшихся у ворот Азии.
При всем том со времен падения Трои о Европе ничего не было слышно.
Вот почему иерусалимский первосвященник не желал знать никого, кроме Дария III, двенадцатого персидского царя.
Империя последнего была весьма обширна. Она простиралась от Инда до Понта Эвксинского и от Яксарта до Эфиопии. Ведя войны, начатые Дарием I и Ксерксом, персидский царь мечтал о третьем вторжении в Грецию, которое бы смыло позор Марафона и Саламина. Но вдруг в одной из областей той самой Греции, между горой Афон на востоке, Иллирией на западе, Гемом на севере и Олимпом на юге, на клочке земли раз в двадцать меньшем, нежели персидские владения, появился юный повелитель, вознамерившийся опрокинуть и повергнуть во прах царство Дария III.
То был Александр, сын Филиппа.
Он родился в Пелле шестого числа месяца гекатомбе-о н а в первый год 106-й олимпиады, в ту самую ночь, когда запылал храм Дианы Эфесской.
Однажды отец в припадке ярости чуть не убил его, и это могло бы изменить облик всего восточного мира. Александр отплатил родителю тем, что спас ему жизнь, прикрыв собственным щитом в битве с трибаллами.
В двадцать лет он победил медаров, изгнав их из города, который переименовал в Александрополь и населил новыми обитателями. Чуть позже он подчинил также трибаллов, от которых некогда спас отца, и разорил страну гетов. Затем он обратил оружие против фиванцев и афинян, когда те взбунтовались, вняв призывам Демосфена и поверив слуху о смерти Александра; он вторгся в Беотию, разрушил Фивы, оставив в целости лишь дом Пиндара. Наконец он созвал в Эгах большой военный совет, на котором было предрешено завоевание Азии.
С этой целью правитель Македонии собрал тридцать тысяч пеших воинов и четыре тысячи пятьсот всадников, снарядил флот в сто шестьдесят галер, взял с собой семьдесят талантов золотом, провизии на сорок дней и со всем этим вышел из Пеллы; обогнув Амфиполь, он переправился через Стримон, потом через Гебр, за двадцать дней дошел до Сеста; после высадился, не встретив сопротивления, на побережье Малой Азии, посетил царство Приама, или, вернее, то, что от него осталось, украсил цветами могилу Ахилла, своего предка по материнской линии, затем перешел Граник, одолел сатрапов, убил Митридата и подчинил себе Мизию и Лидию, взял Сарды, Милет, Галикарнас, покорил Галатию, пересек Каппадокию и, истекая потом, разгоряченный, бросился в Кидн, отчего простудился и чуть не умер. Однако стараниями своего лекаря Филиппа он справился с лихорадкой и поднялся с ложа болезни еще более, чем всегда, разгоряченный жаждой схватки. И вновь пустился он по пути побед: овладел Киликией, сошелся в долине близ Исса с персами и погнал их перед собой, как ветер — летучий прах. Дарий в страхе бежал, оставив сокровища, мать, жену и детей. Тогда, увидев, что путь по Евфрату открыт, Александр послал часть войска в Дамаск, чтобы захватить персидскую казну, а сам пустился на завоевание средиземноморского побережья. Затем перед ним, почти не сопротивляясь, пал Сидон, и войско остановилось, осадив Тир.
И вот от стен Тира этот завоеватель, никому еще не известный и почитаемый безрассудным искателем поживы, написал первосвященнику Адде. Все там же (а осада длилась целых семь месяцев) застал его и ответ.
— Прекрасно, — сказал он, обернувшись к Пармениону. — Вот еще город, который мы разрушим, если останется время!
Парменион занес на таблички рядом с названиями укрепленных мест, что еще предстояло разрушить: "Иерусалим".
Но пока что, как и предвидел Александр, времени не было. Прежде чем броситься навстречу неизвестности — в невероятный поход на Индию, — требовалось умалить силу прибрежных поселений, да и Газа все еще держалась.
Он пошел к Газе, после кровавой осады взял ее и предал огню и мечу. Раздраженный полученной там опасной раной, он велел продернуть колесничный ремень сквозь пятки персидского военачальника Бетиса и, как некогда Ахилл Гектора, трижды протащил его вокруг рушащихся стен полыхавшего города. Расправу с Иерусалимом он несколько отсрочил и двинулся в Египет, где его встретили как избавителя от персидского ига. Поднявшись по Нилу до Мемфиса, Александр полюбовался на пирамиды, затем спустился к Канопу, обошел вокруг озера Мареотис и у его северной оконечности на пологом побережье между озером и морем, в красивейшем месте, которое вдобавок было удобно защищать, решил основать город, соперник Карфагену, поскольку тот невозможно было разрушить, в отличие от Сидона и Тира. Царь повелел градостроителю Дейнократу возвести город, который будет называться Александрия.
Тот повиновался. Он прочертил внешнюю стену в пятнадцать тысяч шагов, придав ей форму огромного македонского плаща, прорезал будущий город двумя главными улицами, чтобы его продували и освежали этезии — северо-западные средиземноморские ветры. Одна улица протянулась от моря до озера Мареотис на десять стадиев, или тысячу сто шагов; другая пронизала город в длину на сорок стадиев, или пять тысяч шагов, причем обе имели по сто шагов в ширину.
Пока закладывали город, история которого осветит ночь грядущего, еще более темную, нежели потемки прошлого, сам полководец направился к оазису Аммона, пересек пустыню с севера на юг, оставляя по правую руку гробницу Осириса, по левую — озеро Натрон и Поток-без-воды, за неделю дошел до храма Юпитера и заставил жрецов признать себя сыном этого божества; затем он возвратился к Александрии (которую затем посетит лишь однажды — уже на похоронной колеснице) и оттуда вновь устремился по прерванному пути к Индии… А поскольку Иерусалим оказывался прямо на дороге к Арбелам, где его уже ждал Дарий с войском, он пошел горами мимо Аскалона к Иерусалиму. И тут Парменион напомнил ему, что настало время преподать невежам урок.
А что Иерусалим? Сначала, проследив, как завоеватель и его армия смерчем прошлись по побережью, услышав вопли Тира, увидев пожар Газы и глядя вослед победителю, проследовавшему своим путем и исчезнувшему за Гелиополем, горожане решили, что, подобно солнцу, он угаснет где-то на западе.
Но вот он появился с запада и идет на восток.
О том, чтобы обычными человеческими средствами сопротивляться тому, кто взял Тир и стер с лица земли Газу, нечего было и думать. Один Бог каким-то чудом, подобным каменному дождю либо застывшему на три дня на небосклоне солнцу, мог бы предотвратить гибель Иерусалима.
А посему первосвященник приказал совершить всенародные моления и принес жертвы Богу.
И на следующую ночь Господь явился ему:
— Рассыпь цветы по улицам, открой все ворота города; в белых одеждах со всеми священниками и левитами ступай навстречу Александру. Не опасайся ничего: не уничтожит он Иерусалим, а охранит!
Адца поведал народу о видении, чтобы, вместо рыданий, в радости ожидал он конца дня. Когда же послышалась победная поступь воинов, иерусалимский посредник меж землей и небом в сопровождении священников в парадных облачениях, левитов в белом и всего народа, также нарядившегося в праздничные одежды, отправился им навстречу.
Армия разрушителя городов и жители, молившие о мире, встретились на дороге в Самарию и Галилею, в селении Сафед, отстоящем от Иерусалима лишь на семь стадиев и лежащем на горе, откуда были видны и город и храм.
При виде такого множества мужчин и женщин, поющих радостные гимны как во дни великих праздников иудейских, с цветами и пальмовыми ветвями в руках, окинув глазами процессию священников и левитов в льняных одеждах, их главу в ефоде лазурного цвета, усеянном алмазами, в тиаре с золотой полосой и блистающим на ней именем Иеговы, — узрев все это, Александр к вящему удивлению своих военачальников и всего войска, уже смотревших на город и храм как на добычу, простер руку, остановив пеших и конных, соскочил с лошади, один, без свиты, приблизился к первосвященнику, приветствовал его и, преклонив колена, восславил имя Божье.
Евреи окружили победоносного вождя: малые дети тянулись к нему, женщины бросали цветы, мужчины громко желали ему всяческих благ.
А македонский лев, сделавшись смиренным и тишайшим, словно агнец, припавший губами к лозе из Ен-Гадди, гладил младенцев, улыбался женщинам и благодарил мужей за их добрые пожелания и молитвы.
Воины решили, что он помешался, и цари сирийские, следовавшие в его свите, сочли его безумцем, и тот самый Парменион, кому он некогда приказал: "Напомни мне, что надо будет разрушить Иерусалим" — подумал о том же…
Приблизившись к полководцу, Парменион спросил:
— Повелитель, отчего ты, снискавший поклонение целого света, склоняешься перед иудейским первосвященником?
— Не перед ним я преклонил колена, — отвечал Александр, — а перед Богом, коего он посредник.
— Разве бог этот — Юпитер, чьим сыном ты велел себя объявить у жертвенника Аммона?
Александр покачал головой.
— Слушай же, — ответил он Пармениону и, возвысив голос, обратился к остальным:
— И вы все слушайте! Когда я был еще в Македонии и помышлял о средствах завоевать Азию, меня посетило видение некоего божества. На нем были те же одежды, что на этом жреце, но по свету, осиявшему его чело, я распознал в нем существо неземное. И был мне голос: "Не страшись ничего, Александр, сын Филиппа, смелее переходи Геллеспонт. Я двинусь впереди войска твоего и покорю тебе Персидское царство". Доверившись ему, я двинул войско и одержал победу. Не удивляйся, о Парменион, и вы, слушающие меня, не изумляйтесь, что, встретив здесь верховного жреца, облаченного в одежды того Бога, что явился мне, я склонился перед ним. В его лице я возношу хвалы тому неведомому Богу, милостью которого, как сейчас открылось мне, а не милостью всех наших богов, я победил Дария и еще раз повергну в прах его войско и все Персидское царство!
Объяснив свой поступок Пармениону и сирийским царям, Александр обнял первосвященника, пешком вошел в город, поднялся в храм и принес жертвы Иегове, следуя указаниям Адцы, чтобы наилучшим образом совершить угодное Господу.
Затем, после жертвы всесожжения, посредник между землей и небом раскрыл Писание на восьмой главе книги Даниила и дал македонскому царю столь ясные предсказания, что никто не мог усомниться в них:
"И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, — как бы я был у реки Улая.
Поднял я глаза мои и увидел: вот, один овен стоит у реки; у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после.
Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него; он делал, что хотел, и величался.
Я внимательно смотрел на это, и вот, с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли; у этого козла был видный рог между его глазами.
Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей.
И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога; и не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто бы мог спасти овна от него.
Тогда козел чрезвычайно возвеличился; но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных.
И было: когда я, Даниил, увидел это видение и искал значения его, вот, стал предо мной как облик мужа, и ангел сошел с небес.
И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле; но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое, и сказал: "Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Мидийский и Персидский. А козел косматый, единорог — царь Греции. Его большой рог сломился, и вместо него вышли другие четыре: это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою!""
Александр прочитал это в Святой книге, восхитился избранным Богом народом, который вместо оракулов, толкующих прошлое либо настоящее, имеет пророков — предсказателей будущего, и спросил у первосвященника, какую милость тот ожидает от него. На что Адца отвечал:
— Умоляю, о царь, позволить нам жить по закону отцов наших, разрешить евреям в Вавилоне и Мидии жить по их закону и всем нам каждый седьмой год не платить дани, полагающейся в остальные шесть лет.
Александр милостиво согласился со всем, что просил Адда, и добавил:
— Если кто-либо из молодых воинов ваших пожелает пойти со мной, им позволено будет жить по религии их и по обычаям их.
И многие присоединились к македонскому войску.
А три дня спустя Александр покинул Иерусалим среди хора благодарственных молений посредника между землей и небом, священников, левитов и всего народа, проводившего войско с признательностью и восхищением. Какое-то время евреи еще слышали топот ног воинства, направившегося к Евфрату и Тигру; потом однажды порыв северо-восточного ветра донес отзвуки битвы у Арбел, и было это отзвуком падения Вавилона и Суз; затем вдали вспыхнуло зарево Персеполя, и, наконец, даже дальнее эхо этих слухов угасло за Экбатанами, в пустынях Мидии, на другом берегу реки арьев.
А теперь угодно ли вам узнать, как в немногих словах описал историю Александра автор поэмы о Маккавеях? Послушайте и судите сами, делают ли двадцать четыре песни "Илиады" более величественным Ахилла, сына Фетиды и Пелея, нежели эти несколько слов — сына Филиппа и Олимпии.
"После того как Александр, сын Филиппа, македонянин, который вышел из земли Киттим, поразил Дария, царя Персидского и Мидийского, — он произвел много войн и овладел многими укрепленными местами, и убивал царей земли. И прошел до пределов земли и взял добычу от множества народов, и умолкла земля перед ним, и он возвысился и вознеслось сердце его!"
Одним из царей, которые, по пророчеству Даниила, выкроили себе владения из империи Александра, был Селевк Никатор, или Селевк Победитель.
Именно под его власть подпала Сирия.
В течение ста двадцати пяти лет его наследники, правившие в Антиохии, взимали дань с Иерусалима, а в обмен на это мирились с законами, нравами и верованиями иудеев.
Звали этих наследников: Антиох Спаситель, Антиох Феос, Селевк II, Селевк III, а после них царили Антиох Великий, Селевк Филопатор и, наконец, Антиох IV.
Как известно, у каждого из этих государей было прозвание, более или менее заслуженное: Антиох IV принял имя Феос Эпифан ("Бог Блистательный"), которое потомки переиначили в Эпиман, что значит "неразумный".
Он выдал свою сестру замуж за Птолемея Филометора, отделив ей как свадебный дар Келесирию и Финикию.
Когда же сестра умерла, он потребовал вернуть приданое. Птолемей не желал его возвращать. Антиох собрал большое войско со слонами и колесницами, двадцатью тысячами конных, ста тысячами пеших ратников и отправился на битву с египтянами.
Птолемей, разбитый в первых схватках, призвал на помощь римлян. Антиох не решился помериться силой с потомками волчицы. Он приказал отступать и, чтобы вылазка не казалась вовсе напрасной, обрушился на несчастный Иерусалим, которому век с четвертью если не преуспеяния, то мирной жизни вернули слабые следы былого великолепия.
Как гласит Писание, он "вошел во святилище с надменностью и взял золотой жертвенник, светильник и все сосуды его, и трапезу предложения, и возлияльники, и чаши, и кадильницы золотые, и завесу, и венцы, и золотое украшение, бывшее снаружи храма, и все обобрал". В самом городе он тоже награбил немало серебра, золота, драгоценных сосудов и "взял скрытые сокровища, какие отыскал". А прежде чем возвратиться в свои земли, устроил великую резню и захватил множество пленников.
И был великий плач в Израиле, как во времена первого египетского плена:
"Стенали начальники и старейшины, изнемогали девы и юноши, и изменилась красота женская. Всякий жених предавался плачу, и сидящая в брачном чертоге была в скорби".
На этом беды не кончились: через два года — новое нашествие царских воинов. Они овладели крепостью, поставили в ней греческий гарнизон "и сделались большой сетью, — как повествует Первая книга Маккавейская. — И было это постоянною засадою для святилища и злым диаволом для Израиля. Они проливали невинную кровь вокруг святилища и оскверняли святилище". Жители Иерусалима в страхе разбежались, и город стал "жилищем чужих".
Но и этого было мало: Антиох издал повеление, чтобы все в его царстве стали одним народом и каждый оставил бы свой закон.
Он запретил всесожжения и жертвоприношения, возлияния в святилище, не дозволял блюсти субботу и святые празднества. Он приказал строить "жертвенники, храмы и капища идольские" на месте, где стоял храм истинного Бога.
А тех, кто смел ослушаться приказа царя Антиоха, обрекали на смерть. Везде поставили надзирателей, чтобы следить за жителями и наказывать их.
А жил в это время в Иерусалиме святой человек по имени Маттафия, сын Иоанна, ста сорока лет от роду. И он ушел из Иерусалима со своими пятью сыновьями и увел их на гору Модин, что в трех часах пути к западу от святого града. Пятерых его сыновей звали:
Иоанн, прозванный Гаддис;
Симон, прозванный Фасси;
Иуда, прозванный Маккавей;
Елеазар, прозванный Аваран;
Ионафан, прозванный Апфус.
И там, на горе, среди беглецов, с растрепавшимися от ветра волосами и бородой, Маттафия вскричал, как святые пророки, некогда оплакивавшие Иерусалим:
— Горе мне! Для чего родился я видеть разорение народа моего и разорение святого города и оставаться здесь, когда он предан в руки врагов и святилище — в руки чужих? Храм его сделался как муж бесславный, драгоценные сосуды его унесены в плен, младенцы его избиты на улицах, юноши его пали от меча врага. Какой народ не занимал царства его и не овладевал добычами его? Все украшение его отнято; из свободного он сделался рабом. И вот святыни наши, и благолепие наше, и слава наша опустели, и язычники осквернили их. Для чего нам еще жить?
А в это самое время пришли посланные от царя Антиоха и склоняли людей, укрывшихся в поселении на горе, к отступничеству, к тому, чтобы приносить жертвы языческим божествам. Увидев же почтенного старца, окруженного сыновьями и вещающего народу, они сочли его самым уважаемым из всех.
Их предводитель приблизился к Маттафии и сказал:
— Приступи первый и исполни повеление царя, как сделали это все народы и мужи иудейские и оставшиеся в Иерусалиме. И будешь ты и дом твой в числе друзей царских, и ты и сыновья твои будете почтены и серебром, и золотом, и многими дарами.
Но, возвысив голос, дабы все его слышали, Маттафия отвечал:
— Если и все народы в области царства царя послушают его, и отступят каждый от богослужения отцов своих, и согласятся на повеления его, то я, и сыновья мои, и братья мои будем поступать по завету отцов наших.
Но тут один из иудеев, видимо убоявшись вовсе разгневать греческих наемников, рассвирепевших от этих слов, приблизился к жертвеннику ложных богов, чтобы совершить положенные церемонии. Тогда Маттафия, выхватив у одного из воинов меч, сразил отступника, а вслед за ним и предводителя греков, пытавшегося остановить старца.
Растерявшиеся стражники отступили.
Он же, опрокинув жертвенник ногою и воздев над головами окровавленный клинок, возгласил:
— Всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет вслед за мною!
И пустился он в бегство вместе с пятью своими сыновьями, укрывшись высоко в горах и оставив на произвол судьбы и дом свой, и все имущество свое.
За ним последовали многие; "преданные правде и закону", они укрылись в пустыне, в потаенных местах.
Вот так началась славная эпопея, герои которой, пятеро братьев, носили провиденциальное имя Маккавеев, что значит по-еврейски "наносящий удар", а на греческом — "сражающийся".
Отряд воинов Антиоха преследовал бегущих и настиг большое число мужчин, женщин и детей. Хотя беглецы были вооружены, но настала суббота, и они, не пожелав ни бежать дальше, ни защищаться, уговорились друг с другом: "Умрем в невинности нашей" — а нападавших встретили словами: "Небо и земля свидетели за нас, что вы несправедливо губите нас".
И, словно жертвенные агнцы, они подставляли горло мечу. Нападавшие не пощадили ни женщин, ни детей, ни даже скота и вырезали в тот день тысячу человек.
Но пролитая кровь вопияла о мщении, и весь Израиль услышал этот призыв.
Первыми откликнулись асидеи, самые храбрые из евреев; они взялись за оружие и явились к Маттафии.
А вслед за ними к нему стеклись все беглецы и преследуемые, умножая число воинов.
Когда стало их достаточно для обороны н нападения, они обрушились на отступников "и поражали в гневе своем нечестивых и в ярости своей мужей беззаконных", убив многих, а остальных вынудив спасаться под защитой язычников и раствориться среди них.
Отвоевав Иерусалим и весь Израиль, Маттафия и пятеро его сыновей двинулись на восток и на запад, к северу и к югу, разрушая святилища, воздвигнутые чужеземным богам.
Но однажды почтенный старец прервал поход, чувствуя приближение смерти, и призвал сыновей к своему ложу.
— Дети мои, — обратился он к ним, — возревнуйте о законе и отдайте жизнь вашу за завет отцов наших. Ныне усилились гордость и испытание, ныне время переворота и гнев ярости. Вспомните же о делах отцов наших, которые они совершили во времена свои, и вы приобретете великую славу и вечное имя. Вот Симон, брат ваш: знаю, что он муж совета, слушайте его во все дни; он будет вам вместо отца. А Иуда Маккавей, крепкий силою от юности своей, да будет у вас начальником войска.
Напутствовав своих чад, он благословил их и, испустив дух на сто сорок шестом году праведной жизни, как сказано, "приложился к отцам своим". Его похоронили в Модине в семейной усыпальнице, и весь Израиль, оплакивая его, погрузился в траур.
С этого времени, как повелел старец, Симон стал головой, а Иуда — десницей; началась долгая, яростная, смертельная борьба.
Аполлоний, наместник Антиоха в Иудее, собрал воедино все свои отряды и двинулся из Самарии во главе большого войска.
Иуда выступил против него, разбил и уничтожил его воинство и его самого, забрал меч убитого и до смерти не держал в руках иного оружия.
Тогда Сирон, другой военачальник Антиоха, правивший в Нижней Сирии, собрал значительное войско и пошел к Вефорону. В своей свите он вез работорговцев, которые должны были за проданных им иудеев заплатить Риму дань от царя Антиоха.
Иуда не позволил врагу продвинуться в глубь страны.
Но когда он оказался лицом к лицу с Сироном, его соратники стали убеждать его, что противник в двадцать раз более многочислен, чем его отряд. На это он отвечал:
— У Бога небесного нет различия, многими ли спасти или немногими.
И он обрушился на сирийцев. Те бежали, а сам Сирон едва смог достичь побережья и вернуться на барке в Антиохию.
То же случилось с тремя другими армиями, посланными Антиохом против Иуды, который перебил три тысячи человек у Горгия, пять тысяч — у Лисия и восемь — у Тимофея.
Антиох Эпифан умер от ярости, и наследовал ему его сын Антиох Эвпатор.
Новый монарх решил одним ударом покончить с сопротивлением преданных вере, которых он называл горсткой разбойников.
Он снарядил армию в сто тысяч пеших, двадцать тысяч конных воинов и тридцать два слона.
А каждый слон, ведомый погонщиком-индийцем, нес на спине деревянную башню с тридцатью двумя стрелками.
Во главе этой ста тридцати одной тысячи человек царь двинулся на Иерусалим.
Исполинское воинство наводило страх звуками боевых рожков, трубным ревом слонов и ржанием лошадей.
Кавалерия двигалась справа и слева, поддерживая боевой дух пеших ратников звуками труб. Одним боком войско прижималось к горам, другим — выплеснулось на равнину, а когда солнце било в золотые и бронзовые щиты, они отбрасывали на окрестные холмы такой свет, что те, казалось, вспыхивали.
Все бежало перед этой людской лавой; сыновья несли на себе стариков, женщины волокли детей, да и зрелые мужи первыми пускались в бегство — так ужасен был грохот шагов, топот лошадей, такой страх наводили яростно трубившие слоны!
Но Иуда Маккавей вышел наперерез врагу.
Бой был ужасен. В первой же стычке полегло шесть сотен воинов Эвпатора.
А один из юношей-иудеев, по имени Елеазар, заметив самого крупного и по-царски разукрашенного слона, подумал, что тот несет на себе самого Антиоха Эвпатора. Он решил обезглавить вражеское войско и приобрести себе вечное имя, а потому, поражая противников направо и налево, мечом проложил себе дорогу к четвероногому чудовищу, нырнул ему под брюхо и снизу вонзил меч в его внутренности. Слон рухнул, и вместе с ним — башня с тридцатью двумя воинами. Но, падая, он раздавил смельчака!
Однако, несмотря на подобные чудеса храбрости, иудеям пришлось отступить; впервые они покидали поле боя не с победой.
Антиох Эвпатор продолжал продвигаться к Иерусалиму, а Иуда и его соратники укрепились в сионской крепости.
Там и осадил их царь.
Осада была долгой. Антиох поставил против стен множество стрелометательных орудий и машин, мечущих копья, камни и огонь.
Иудеи выставили свои устройства для метания.
Война обещала затянуться, как некогда в Трое; Антиох был готов девять лет стоять под стенами святого града, однако два обстоятельства заставили его снять осаду.
Дело происходило в седьмой год, год субботы (иудеи воздерживались от работ не только каждый седьмой день недели, но и раз в семь лет они не пахали и не сеяли, питаясь лишь теми плодами земли, которые родятся сами). Поэтому в войске Антиоха начался голод.
Кроме того, в самой Антиохии вспыхнул бунт.
Поэтому царь наспех заключил мир с Иудой, поспешил в свое царство и, возвратившись в столицу, был вместе с Лисием убит Деметрием, сыном Селевка, силой отлученным от трона и силой же вернувшим его себе.
Деметрий решил действовать с евреями иначе: вместо того чтобы навязывать им греческих, финикийских и египетских богов, он позволил им молиться кому хотят, но возжелал поставить во главе их первосвященника по собственному выбору.
Первосвященник обменял Бога и народ свой на дружбу с Деметрием; нечестивца звали Алким.
Но Иуда Маккавей был начеку. Он бросил клич: "Ко мне, Израиль!" — и его воины, разошедшиеся на время мира по домам, собрались по первому же знаку.
Тогда Деметрий призвал к себе Никанора, одного из первых вождей своих, и повелел истребить этот народ.
Верный привычке побеждать, Иуда не стал ждать Никанора. Он вышел ему навстречу и, ударив на него близ Хафарсаламы, разбил и уничтожил пять тысяч его войска.
После поражения Никанор собрал воедино оставшихся в живых, все еще в три раза более многочисленных, чем победившие его, и, ожидая подкрепления из Сирии, встал лагерем под тем самым Вефороном, где потерпел поражение Лисий.
Тогда Иуда пошел на Вефорон.
В тринадцатый день месяца а дар а противники сошлись; воины Никанора были отброшены, а сам военачальник убит.
Люди Деметрия, увидев, что их предводитель погиб, бросили оружие и обратились в бегство.
Но воины Иуды погнали их от Адаса до Газиры и трубили вослед им в вестовые трубы, возвещая городам и селениям Израиля о поражении врага. При этих звуках все, кто был способен носить оружие — от малых детей до стариков, — выходили из домов с именем Господа на устах и помогали громить некогда великолепное войско.
Все солдаты Деметрия полегли в землю Израиля. Никто не остался в живых.
Иудеи отрубили голову Никанора и правую руку его, что он простирал надменно, и прибили к столбу у ворот иерусалимских. А тринадцатое число месяца адара постановили ежегодно праздновать как день великой победы.
Однако храбрые защитники политической и религиозной свободы от победы к победе истощали свои силы и число. Каждое новое сражение стоило им чистейшей крови из жил, каждая победа сокращала число бьющихся сердец.
И тут Иуда прослышал о храбром народе, возросшем и возмужавшем в боях. Это племя, говорили ему, на востоке покорило галатов и сделало их своими данниками, на западе захватило страну Испанскую, овладев ее серебряными, золотыми и свинцовыми рудниками. Они подчинили себе отдаленных властителей, отразили все нашествия ипоплеменников со всех сторон света, победили Филиппа и Персея, царя Киттимского, в прах разгромили Антиоха Великого, повелителя Азии, вышедшего против них на войну со ста двадцатью слонами, с конницей и колесницами. Его самого они взяли живым и отпустили лишь в обмен на многих заложников и большую дань — от него и потомков его. Они захватили земли персов, мидян и лидийцев и подарили эти владения одному из своих союзников — царю Эвмену. А еще Иуде сказали, что греки, единоплеменники великого Александра, полтора века назад прошедшего мимо Иерусалима в силе и славе побед, — греки вознамерились было покорить этот народ, но одного военачальника и единственной из многих армий оказалось достаточно, чтобы рассеять их, сжечь города и сровнять с землей крепости, а женщин и детей увести в рабство. И еще уверяли его, что народ этот рассеял, покорил или привлек к себе все царства и города, противившиеся ему.
При всем том, как заверили Иуду, правители этого народа свято блюли слово, оставались верными клятвенным союзам, и сильная рука их так же неколебимо поддерживала друзей, как повергала в прах врагов.
Звали этих людей римлянами.
Услышав о них столько хорошего, Иуда Маккавей отрядил двух своих племянников, Евполема, сына Иоаннова, и Иасона, сына Елеазарова, и послал их заключить с римлянами союз.
Что же в действительности представлял собою народ, которому суждено стать поддержкой, союзником, а потом и властителем Иудеи?
О нем придется сказать несколько слов, поскольку во времена Давида с ним еще никто не считался.
Спустя четыреста тридцать два года после падения Трои, двести пятьдесят лет после смерти Соломона, ко времени рождения пророка Исайи, в седьмую олимпиаду, в первый год десятилетнего правления архонта афинского Харопса, альбанский царь Нумитор выделил землю во владение двум внукам, незаконнорожденным сыновьям своей дочери Реи Сильвии… Младенцами этих близнецов оставили на берегу реки, и их выкормила волчица. Позже в безлюдном лесу их нашел пастух, отправившийся туда на поиски зарезанной волчицей овцы. Вот эти-то земли, повторяем, и даровал царь двум своим внукам, отослав их из Альба Лонги вместе с подчинявшейся их воле кучкой разбойников…
Братья спустились с Альбанских гор и добрались до самого высокого холма из семи, стоявших рядом: именно здесь их некогда выкормила волчица, обитательница рощи на склоне холма.
У его подножия, по опушке рощи, протекал ручеек, называемый источником Ютурны, а еще ниже меж двух безымянных холмов виднелась река Тибр.
Поднявшись на вершину этого холма, возвышавшегося над другими, близнецы заспорили о расположении будущего города. Не обращая внимания на замечания брата, Ромул начертил на земле контуры будущих укреплений.
— Прекрасная крепость, и вполне неприступная! — засмеялся Рем, перепрыгнув через черту, изображавшую стену, и был убит братом. (Довольно дорогая плата за шутку!)
Несколько сторонников Рема вернулись в Альба Лонгу, чтобы сообщить Нумитору о случившемся, остальные — а их набралось около трех тысяч — остались с Ромулом, ничуть не беспокоясь о том, что делят свою судьбу с братоубийцей.
Впрочем, боги также не обеспокоились этим, поскольку все предзнаменования были благоприятны.
Ромул запряг в плуг быка и корову, провел борозду вокруг холма. По пути железный лемех выворотил из земли человеческую голову.
— Да будет так, — объявил он. — Крепость я назову Капитолием, а город — Римом.
Капитолий происходит от caput, что значит "голова", а Рим — от гита: "сосец".
Оба названия, как видим, символичны: город станет главой всего мира и сосцом, из которого все народы напитаются млеком веры.
Поскольку ничто уже не противилось его замыслу, Ромул назначил день жертвоприношения, дабы умилостивить богов. Когда подошел срок, он принес жертвы и всем своим приспешникам велел сделать то же — по возможностям каждого, а затем, разведя большой костер, он первым прыгнул через пламя, чтобы очиститься, и остальные последовали его примеру.
В эту минуту двенадцать ястребов пролетело над головой Ромула с востока на запад.
— Обещаю городу моему двенадцать веков царствования! — воскликнул Ромул.
Так и произошло: от Ромула до Ромула Августула протекло двенадцать столетий.
А в эпоху, когда Иуда Маккавей посылал к нему гонцов, Рим уже прошел половину предначертанного пути.
Пока же продолжим рассказ о том, как шло завоевание мира и обретение власти над вселенной.
Ромул произвел смотр своим людям, насчитав три тысячи пеших и три сотни конных воинов.
Они-то и стали ядром римского народа.
Он поделил людей на три общины, названные трибами и возглавлявшиеся трибунами. Эти общины он поделил еще на тридцать, названных куриями, с к у р и о — нами во главе, а каждую курию разбил еще на десять декурий, поставив над каждой декуриона.
Таким образом, Римом управляли три трибуна, тридцать курионов и триста декурионов.
Поделив людей, принялись за землю, отведя прежде всего наделы для нужд богослужения и общественных надобностей, а остальные в равных долях раздали по тридцати куриям.
Распределив людей и землю, Ромул занялся распределением обязанностей и почестей.
Наиболее храбрые и сведущие подданные были названы патрициями, остальные — плебеями.
А сам Ромул стал их царем.
Патрициям вменялось заботиться о жертвах богам, вершить суд и помогать царю управлять государством.
Плебеям позволялось заниматься более скромными делами: возделывать землю, пасти стада и преуспевать в ремеслах.
Патрициев созывали на сход вестники, плебеев собирал на площади звук трубы.
Сам царь становился верховным исполнителем жертвоприношений, следил за соблюдением закона и обычаев в стране, строгим следованием естественному и гражданскому праву, заключал соглашения, договоры, судил за самые опасные преступления, имел право созывать народ и сенат, первым высказывать свое мнение при обсуждении общественных дел, исполнять принятые решения и, наконец, командовать войсками, объявлять войну и заключать мир. Он объединял таким образом в своих руках власть религиозную и военную, законодательную и исполнительную.
Как видим, выкормыш волчицы выкроил себе долю льва.
Такова была основа управления Римом.
Когда полномочия и функции были распределены, когда каждый знал свои права и обязанности, Ромул занялся расширением границ царства и умножении числа подданных.
Для этого он издал три закона.
Первый запрещал родителям убивать своих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Исключение делалось лишь для калек и уродов с рождения; в этом случае младенца показывали пяти соседям и, сообразно их решению, умерщвляли или оставляли жить.
Второй закон давал право пристанища иным племенам и людям, недовольным своими правителями. Рощу у подножия Капитолия, где некогда волчица выкормила близнецов, Ромул объявил священной и построил в ней храм, служивший убежищем для всякого свободнорожденного.
Третий же закон запрещал истреблять молодых жителей завоеванных городов, а также продавать их в рабство, равно как оставлять пустующими ранее возделывавшиеся земли. Более того, вновь приобретенные области объявлялись римскими колониями. Как таковые они наделялись некоторыми правами, а их обитатели — преимуществами римских граждан.
Подобный образ правления оставался неизменным до того дня, как Брут изгнал царей, то есть до 243 года от основания Рима.
Брут был современником пророка Иезекииля.
Новый порядок назвали республикой, но, кроме маловажных изменений в формах власти, ее основание не было поколеблено. Теперь вместо одного пожизненного царя Римом правили два ежегодно избираемых магистрата, называемых консулами, что значит "советниками"; само это слово, введенное в политический язык Рима, предупреждало, что вожди ничего не предпримут без совета с гражданами.
Если не считать этой обязанности (которую они без труда научились обходить), консулы унаследовали не только царскую власть, но и все привилегии единоначального правления, даже цепочку из двенадцати ликторов, всюду выступавших впереди них с пучком голых березовых прутьев в руках (а когда магистрат выезжал из города, в середину связки вкладывали топор).
Первыми консулами стали Брут и Коллатин.
Сначала они принялись искоренять влияние этрусков, обосновавшихся в Риме с приходом Тарквиниев. Затем пришло время сварам между патрициями и плебеями, чем воспользовались эквы и вольски и повели с Римом борьбу не на жизнь, а на смерть. И наконец, несмотря на старания трибунов захватить всю власть, на преступления децемвиров, на появление военных трибунов, завоевание мира началось, хотя и с остановками, топтанием на месте и временными отступлениями. Подобно ребенку, мучительно пережившему болезни младенческого возраста и затем, как бы в отместку, быстро идущему в рост, превращаясь в крепкого здорового юношу, — Рим, одолев внутреннюю смуту, начинает, как мы говорили, свои завоевания.
За короткий срок римляне, объединившись с латинами и герниками, подчинили себе вольсков, захватили Вейи, руками Манлия повергли галлов к подножию Капитолия, а потом мечом Камилла изгнали их из Рима и тем же мечом, завещанным Папирию Курсору, начали войну с самнитами, охватившую пожаром всю Италию от мыса Регия до Этрурии. Наконец пал Тарент, вопреки Пирру и его эпирцам; пала и Этрурия, вопреки Овию Пакцию и его самнитам, Бренну и его галлам. Ко времени, когда в Вавилоне скончался Александр Великий, Рим был — или вскоре должен был стать — владыкой во всей Италии.
После этого начинаются войны и победы за пределами полуострова, с таким трудом объединенного под римскими орлами. Дуилий присоединяет Сардинию, Корсику и Сицилию; Сципион — Испанию, Эмилий Павел — Македонию, Секстий — Трансальпийскую Галлию… Здесь римлянам пришлось остановиться, поскольку из-за Альп появился враг, имя которого узнали, получив от него три почти смертельные раны. Звали его Ганнибал, а изранил он тело Рима в трех местах: у Требии, Тразименского озера и Канн. Но судьба Рима была в крепкой руке Провидения. Карфагенский герой терпит поражение не на поле боя, а у себя на родине, где властители от него отвернулись. Однако это не мешает ему еще десять лет сражаться с римским войском и римским народом; он покинет Италию только тогда, когда Сципион ударит по Карфагену и война перекинется за море. Здесь Ганнибал даст сражение у Замы и проиграет его, укроется у Прусия и примет яд, чтобы не попасть живым в руки римлян — и все это в то самое время, когда Маттафия, отец Маккавеев, опрокинет жертвенники неверных и подвигнет иудеев к освобождению.
А Рим, избавившись от опасного недруга, продолжит завоевания, хотя и помедлив в нерешительности: двинуться ли ему на запад, пока еще нищий, воинственный, варварский, но обращенный в будущее, преисполненный молодых соков, или на восток, блистающий искусством и ученостью, но ослабленный, испорченный и разлагающийся на глазах. А потому на пробу посылаются две армии с консулами во главе каждой; они идут против неизвестных, непонятных и почти что неуловимых племен: бойев и инсубров. Упершись спиной в Апеннины, Рим напрягает руки, чтобы оттеснить галлов на несколько льё. Меж тем двух легионов и одного военачальника оказывается достаточно, чтобы разбить Антиоха: Рим лишь тронул пальцем глиняного колосса, и тот обрушился.
Восточный мир, или, если угодно, владения Александра, и в самом деле заслужили свою погибель: клятвопреступление и разбой — вот те боги, которым там молились. В Наксосе существовали даже алтари Безбожию и Неправедности. Кровосмешение вошло в повседневный обиход: египетские повелители, как Осирис, женились на собственных сестрах и, подобно Осирису же, в таких брачных союзах теряли остатки мужественности. Тридцать три тысячи городов колонизованного греками Египта в действительности были иссохшим телом, члены которого — захудалые поселения — тянулись вдоль порогов и плотин к огромной чудовищной голове: Александрии. Империя Селевкидов, перенаселенная царями, именовавшими себя Великими, Блистающими, Победителями героев, собственными руками раздирала себя на части. Антиохия и Селевкия, две сестры-гречанки, сражались между собой столь же ожесточенно, как и те греческие братья, что звались Этеоклом и Полиником. Все эти жалкие царьки, потомки Лага и Селевка, поддерживали свое владычество лишь с помощью северян, выписываемых из Греции, но тех доводили до изнеможения азиатское солнце и зной Сирии и Египта. Однажды Рим запретил ввозить туда это живое, мускулистое мясо войны, и без притока молодой воинственной крови в жилах сирийской и ассирийской монархий перестала теплиться жизнь.
Филипп V Македонский держался дольше; он укрылся за неприступными горами, в его передовых дозорах служили те, кого тогда считали лучшими воинами в мире: пешие ратники из Эпира и всадники из Фессалии. Он вдобавок обладал тем, что Антипатр называл "ловчими сетями Греции" — укреплениями Элатеи, Халкиды, Коринфа и Орхомена. Вся Эллада служила ему складом оружия, припасов и сокровищ… Но горе ему! Он оказался союзником Ганнибала, а потому врагом — и был обречен.
Рим послал против него Фламинина. Этот лис в львиной шкуре явился в Грецию, пожимая руки пришедшим на встречу с ним и лобызая отправленных к нему послов; он так расточал ласки и посулы, что заполучил проводников, указавших ему путь через ущелье Антигона, служившее воротами в Македонию. Когда же он оказался за горной стеной, то обнажил меч и разбил Филиппа в беспощадном сражении при Киноскефалах.
Филипп V подписал мирный договор, не оставлявший ему надежд править всей Грецией.
Именно об этих фантастических победах прослышал Иуда Маккавей, когда решился отправить к римскому народу Евполема и Иасона, наделив их званием и полномочиями послов.
Добравшись до Рима и представ перед сенатом, они с поклоном приветствовали собрание и обратились к нему с такими словами:
— Иуда Маккавей, братья его и весь народ иудейский послали нас к вам, чтобы заключить с вами союз и чтобы вы вписали нас в число ваших друзей.
Речь была короткой, что в Риме очень ценилось. Предложение приняли, и сенат издал эдикт; его текст, выгравированный на медных досках, посланники привезли назад в Иерусалим, чтобы повесить его в напоминание о мире и союзе Рима и Иудеи.
"Благо да будет римлянам и народу иудейскому на море и на суше навеки, и меч и враг да будут далеко от них! Если же настанет война прежде у римлян или у всех союзников их во всем владении их, то народ иудейский должен оказать им всем сердцем помощь в войне, как потребует того время. Точно так же римляне от души будут помогать им в войне".
На таких условиях заключили римляне союз с народом иудейским. А о том зле, какое приносит иудеям царь Деметрий, они написали ему так:
"Для чего ты наложил тяжкое твое иго на друзей наших и союзников — иудеев? Если они еще обратятся к вам с жалобой на тебя, то мы окажем им справедливость и будем воевать против тебя на море и на суше".
Однако, когда Евполем с товарищем вернулись домой, они узнали, что Иуда убит, а Иерусалим захвачен!
Деметрий послал второе войско, состоящее из двадцати тысяч пеших и двух тысяч конных ратников, и те остановились в Верее.
Иуда с тремя тысячами сподвижников двинулся на них и остановился при Елеасе.
Но на следующее утро, когда оба войска выступили друг против друга, большинство людей Маккавея обуял великий страх, и они покинули своего вождя.
Осталось у него лишь восемь сотен воинов, но зато самых сильных и храбрых.
Они-то первыми и бросились на врага.
Они ударили по правому крылу македонского легиона и смяли его. Остаток греческого войска пришел в смятение; сначала никто не решился помочь терпящим беду: все приняли нападавших за передовой отряд и опасались прихода остальных.
Но затем, обнаружив, что никто более не явится на битву, греки сомкнулись вокруг Иуды и восьми сотен его храбрецов.
Все они погибли.
Отзвук падения нового союзника долетел и до Рима, но там и не заподозрили, что смерть нашла второго Ахилла, что погиб новый Леонид, — Рим продолжал двигаться своей дорогой.
Сципион Эмилиан как раз завоевал для него все побережье Африки, Помпей — Сирию и Понт, Марий — Нумидию, Юлий Цезарь — Галлию и Британию. Наконец, Рим получил в наследство от Никомеда Вифинию, от Аттала — Пергам и от Аппиона — Ливию. Тогда-то он стал полным, безраздельным повелителем того большого озера, что зовется Средиземным морем — чудесного, единственного провиденциального водного зеркала, созданного природой для блага цивилизаций всех эпох и всех стран. В его глади отражались попеременно Каноп, Тир, Сидон, Карфаген, Александрия, Афины, Тарент, Сибарис, Регий, Сиракузы, Селинунт, Массилия, а в них в свою очередь отразилось оно, могучее, великолепное и непобедимое. Вокруг этого озера в нескольких днях пути друг от друга лежат буквально под рукой все три тогда известные части света: Европа, Африка и Азия. Благодаря ему все пути открыты Риму: по Роне — в сердце Галлии, по Эридану — в глубь Италии, по Тахо — далеко в Испанию, по Кадисскому проливу — к Большому морю и Касситеридам, наконец, через пролив у Сеста — в Понт Эвксинский и дальше — в Татарию, по Красному морю — в Индию, Тибет и к Тихому океану, то есть — в безбрежность, по Нилу — к Мемфису, Элефантине, Эфиопии, к пустыням — иначе, в неизведанное. и здесь Империя замедлила шаг, ужаснувшись самое себя, и застыла в ожидании.
Чего она ждет?
Рождения освободителя, приход которого предчувствуют народы; ведь земля, наша общая матерь, уже содрогается во чреве своем, ее горизонт светлеет и золотится, как на восходе солнца, а люди ищут взглядом то место, где чудотворец явится всем.
Рим, как и остальное человечество, ожидал Спасителя, предсказанного Даниилом и возвещенного Вергилием, — того божества, кому заранее воздвигались лари под именем Неведомого бога — Deo ignoto.
Но каков он явится? От кого родится?
Старинные предания гласят, что род человеческий, впав в ничтожество по вине женщины, обретет искупителя, рожденного непорочной девой.
В Тибете, Японии бог Фо, пекущийся о процветании народов, изберет для появления на свет лоно белокожей девственницы.
В Китае дева, понеся от цветка, родит сына, который станет царем вселенной.
В лесных чащах Германии и Британии, там, где укрылись вымирающие племена, их друиды ожидают избавителя, рожденного от девственницы.
И наконец, Писание возвешает о приходе Мессии, зачатом в лоне девы, чистой, как утренняя роса.
Ведь все эти народы считали, что надобно девственное лоно, чтобы дать грядущему богу обиталище, достойное его.
Но где родится этот бог?
Народы, обернитесь в сторону Иерусалима!
Часть первая
I ЧЕЛОВЕК С КУВШИНОМ ВОДЫ
Для того чтобы читатель восемнадцать столетий спустя смог мысленно отправиться по закоулкам незнакомого города, следя за повестью о великих событиях, которые мы смиренно собираемся изложить, да позволит он нам кратко поведать, каким был Иерусалим (о превратностях судьбы которого мы только что вели речь) на восемнадцатом году правления Тиберия, под властью Понтия Пилата, шестого прокуратора Иудеи, навязанного евреям римским владычеством, а также Ирода Антипы, тетрарха Галилеи, и Каиафы, поставленного на тот год первосвященником.
Стена, некогда возведенная Неемией, все еще опоясывала город, имея в окружности тридцать три стадии, что соответствует одному льё по современным меркам. Над ней возвышалось тринадцать башен, и ее прорезывали двенадцать ворот, смотрящих на все стороны света.
Четверо из них выходили на восток, где стена шла вдоль долины Иосафата и Масличной горы, от которой ее отделяло течение Кедрона.
Они назывались Навозными воротами, воротами Долины, Золотыми воротами и воротами Источника.
Первые выходили на Драконов ключ, названный так в честь бронзового дракона, из пасти которого вырывалась струя воды.
Вторые высились напротив селения Гефсимании, где было много масличных давилен, давших ему имя.
Третьи и четвертые вели к мосту через Кедрон, за которым дорога раздваивалась. Свернув направо, можно было добраться до Мертвого моря и Ен-Гадди, налево — к Иордану и Иерихону.
Двое ворот выходили на южную сторону, над источником Гион: ворота Царских садов, служившие выходом из крепости, и ворота Первосвященника, служившие выходом из дворца Каифы. Первые вели к верхней купальне и горе Ен-Рогел; через вторые можно было попасть на дорогу к Вифлеему и Хеврону.
В западной стене, возвышавшейся над Долиной мертвых, находились Рыбные, Древние и Генафские ворота.
В полусотне шагов от Рыбных ворот начинались четыре дороги. Левая, огибающая стену, была той самой дорогой к Вифлеему и Хеврону, на которую, как мы уже упоминали, можно было попасть через ворота Первосвященника. Вторая, тоже отклонявшаяся влево, вела в Газу и к Египту. Третья — к Эммаусу — шла прямо, и, наконец, по правой можно было прибыть в Иоппию и к Средиземному морю.
От Древних ворот пролегал путь в Силоам и Гаваон: сначала он шел на северо-запад, оставляя справа могилу первосвященника Анании, а слева — холм Голгофу.
Генафские ворота вели из дворца Ирода и отворялись только для владельцев и служителей самого дворца, но, поскольку их прикрывала лишь решетка, снаружи можно было полюбоваться великолепными садами тетрарха, аллеями фруктовых деревьев, куртинами редких растений и благоуханных цветов, тенистыми купами сосен, пальм и сикомор, водой, струящейся или бьющей из многих фонтанов, лебедями на глади водоемов и стайками газелей, резвящихся среди деревьев и цветов.
И наконец, еще трое ворот выходили на север: ворота Женских башен, Эфраимовы и Угловые, или Вениаминовы ворота.
Первые вели к садам, огородам и рощам фруктовых деревьев, вторые — на дорогу к Самарии и Галилее и последние — на дорогу по мосту через Кедрон, уходящую на северо-восток к Анафофу и Вефилю мимо Змеиного пруда слева и горы Соблазна — справа.
Тринадцать башен иерусалимских назывались: Печная, Угловая, Хананаэл, Высокая, Меа, Большая, Силоамская, Давидова, Псефина и четыре Женские — по углам ворот, получивших от них свое название.
Эти стены с двенадцатью воротами и тринадцатью башнями заключали в своих пределах четыре разных города, отделенных друг от друга стенами, вытянувшимися с востока на запад и поделившими весь Иерусалим; в них тоже были свои ворота для прохода из одной части в другую. Мы опишем их в хронологическом порядке, начиная с той, что была выстроена первой.
Верхний город, или град Давидов, заключал в себе дома Анана и его зятя Каиафы, дворец царей Иудейских, представлявший собой цитадель на вершине горы Сион, и гробницу Давида.
Нижний город, или град Сиона, почти на четверть был занят храмом, а помимо него здесь стоял дворец Пилата, примыкавший к башне Антония, с которой был соединен своего рода мостом, называемым Ксистом: с него римские управители обращались к народу. Недалеко отсюда располагался театр, выстроенный Иродом Великим; его стены почти сплошь покрывали изречения, восхвалявшие Августа, а на шпиле блестел золоченый орел. Кроме того, там находились дворец Маккавеев, ипподром, амфитеатр и, наконец, гора Акра с построенной на ней цитаделью Антиоха.
В Предместье находился дворец Ирода с великолепными садами, о которых уже шла речь; здесь располагались также дома многих знатных горожан.
Наконец, Везефу, или Новый город, не являвший собой ничего примечательного, населяли медники, торговцы шерстью, старым платьем и скобяным товаром.
Таков был Иерусалим к началу нашего повествования, то есть к 13 дню месяца нисана, соответствующему теперешнему 29 марта.
Было восемь часов вечера[10].
По случаю Пасхи город выглядел необычно. Сюда собрались иудеи со всех концов Палестины, чтобы отпраздновать торжество заклания агнца. С ними притекли бродячие торговцы, что всюду следуют за толпой, скоморохи, живущие от излишков больших скоплений народа, цыгане, подбирающие крохи на путях караванов и паломников. А потому население увеличивалось на добрую сотню тысяч человек. Пришельцы размещались у знакомых, раз в год уделявших им место у очага и за столом, или же в харчевнях и караван-сараях, куда они являлись с прислугой, мулами и верблюдами. Ате, у кого не было ни радушных знакомых, ни денег на постой, разбивали палатки, обычно на Дровяном рынке в Предместье либо на Большой площади и на площади перед Древней купальней в Нижнем городе. Наконец, те, кто не смог обеспечить себя никакой крышей над головой, обосновывались на ипподроме, под перистилем театра или же на склонах горы Акра, а то еще в величественной кипарисовой роще, раскинувшейся от царских давилен до башни Силоамской, часть которой за два года до того обрушилась, убив насмерть восемнадцать человек и более или менее сильно поранив большое число бедняков из предместья Офел.
Трудно даже вообразить, каким движением, шумом и людским гомоном наполнен город три пасхальных дня. В продолжение их не выполнялись обычные распоряжения городской стражи: по вечерам улицы не перегораживали цепями, на ночь не замыкали внутригородских и внешних ворот, дабы люди свободно ходили из одной части города в другую. Теперь можно было войти в Иерусалим или выйти из него без окрика часовых, которые, кстати, не слишком заботились о своих обязанностях, ибо ослабление бдительности становилось одним из необходимых условий главного празднества, годовщины вызволения народа иудейского из египетского плена и обретения свободы.
А потому нет ничего удивительного в том, что часовой у ворот Источника не обратил никакого внимания на двух человек в широких бурых плащах. Одному из них было лет тридцать — тридцать пять, другому — пятьдесят пять — шестьдесят. У молодого были прекрасные голубые глаза, светлые волосы и едва наметившаяся бородка на тонком лице; у пожилого — седеющая курчавая шевелюра, клочковатая борода, нос крючком и горящий, почти угрюмый взгляд. Двое прошли в ворота, тотчас свернули направо и через другие, внутренние ворота вошли в град Давидов. Там они, внимательно оглядывая всех встречных, прошли вдоль кипарисовой рощи, о которой мы уже упоминали, оставили по левую руку дворец Анана, тестя Каиафы (каждый год один из этих двоих попеременно заступал на место первосвященника). Затем спутники отклонились вправо, все так же вглядываясь в прохожих, прошли между углом крепости и зданием, называвшимся Домом храбрых, где некогда жили телохранители Давида, и, наконец, видимо, нашли того, кого искали. То был человек, только что зачерпнувший воду из Сионской купальни и собиравшийся уйти с кувшином на плече.
Человек этот, по виду слуга, заметив, что они направились прямо к нему, остановился.
— Не обращай внимания на нас, друг мой, — произнес тот, что помоложе, — и иди, куда шел, а мы последуем за тобой.
— Но, чтобы следовать за мной, — удивился служитель, — надо ведь знать, куда я иду!
— Мы знаем: ты идешь к своему хозяину, а у нас к нему поручение от нашего.
В голосе говорившего было столько мягкой решительности, что человек с кувшином, более не противясь, поступил так, как ему советовали.
Шагов через сто они подошли к весьма красивому дому, расположенному между дворцом первосвященника Каиафы и местом, где под четырехугольным шатром после возвращения из пустыни хранился ковчег Завета.
Слуга открыл дверь дома и отступил, пропуская незнакомцев.
Они остановились в передней, ожидая, пока об их приходе предупредят хозяина. Минут через пять тот появился перед ними. После того как они приветствовали друг друга по еврейскому обычаю, более молодой из пришедших, которому его молчаливый спутник, видимо, доверил вести переговоры, произнес:
— Брат, меня зовут Иоанн, сын Зеведеев, а тот, кого ты видишь рядом со мной — Петр, сын Ионин. Мы ученики Иисуса Назареянина; около полудня учитель расстался с нами в Вифании, сказав: "Войдите вечером в Иерусалим через ворота Источника, поднимитесь к Сиону, идите прямо, не сворачивая, пока не встретите человека с кувшином на плече; следуйте за ним и войдите в тот дом, куда он придет, а хозяину дома скажите: "Иисус из Назарета обращает к тебе вопрос: "Мое время близко; где комната, в которой бы мне есть пасху с учениками моими?" И он покажет вам горницу большую, устланную; там приготовьте"". В должный час мы вышли из селения, вошли в Иерусалим через указанные нам ворота, стали подниматься к Сиону, встретили твоего служителя, который как раз зачерпнул воду кувшином и поставил его на плечо; мы последовали за ним к тебе и спрашиваем от имени пославшего нас: "Где Иисус из Назарета будет справлять Пасху в этом году?"
Тот, к кому молодой человек обратился с речью, почтительно поклонился и ответил:
— Вам незачем говорить, кто вы, ибо я вас знаю: именно в моем доме в Вифании Иисус из Назарета справлял предыдущую Пасху и объявил о гибели Иоанна Крестителя. Меня зовут Илий, я двоюродный брат Захарии из Хеврона. Предугадав желание Иисуса из Назарета, я снял для него дом у фарисея Никодима и у Иосифа Аримафейского. Пойдемте, я вам его покажу, и вы сами выберете подходящее место для празднества.
И, взяв факел, освещавший прихожую, он вышел с ними во двор. В его дальнем конце возвышалось здание, нижние камни которого выдавали древность постройки, восходящей ко временам Вавилона и Ниневии.
Действительно, некогда этот дом был своего рода цирком, где в мирное время упражнялись во владении копьем и мечом военачальники Давида, которых называли тогда сильными мужами Израилевыми. Стены цирка видывали этих людей, принадлежавших к уже исчезнувшей породе гигантов, казалось рожденных от любовных утех ангелов с земными девами. И было их всегда тридцать, какой бы урон ни несли они от вражеских мечей. К этим циклопическим камням, исторгнутым из земного лона, прислонялись перевести дух после мужественных игрищ неутомимые воители:
Иесваал, Елеазар, Шамма, Иесваал, сын Ахамани, в одном бою поразивший восемьсот филистимлян и ранивший триста; Елеазар, сын Додо, покинутый всеми при Фасдамиме, бившийся, не отступая ни шагу, так долго, что десница его устала нести гибель врагам, засохшая кровь намертво приклеила к руке меч, а иудеи, отбежавшие в ужасе на целое льё, успели устыдиться, вернуться на поле боя и в который раз принести победу Израилю; Шамма, сын Are, что по пути из одного города в другой попал в засаду и, убив четыре сотни воинов, окруживших его, спокойно продолжил путь! Именно там боролись атлеты, в чьих объятиях находили смерть великаны, подобные Голиафу и Сафу: Ванея, сын Иодая, который, умирая от жажды в пустыне Моав, спустился в ров с водой, где пили лев и львица, и, не имея терпения подождать, пока они уйдут, убил их и вдоволь напился, припав к источнику меж двух мертвых зверей; Авесса, сын Саруин, вышедший с палкой против египтянина в пять локтей ростом и вооруженного копьем, один железный наконечник которого весил тридцать фунтов; он отнял копье, чтобы им же пригвоздить врага к пальме, пробив ее насквозь; наконец, Ионафан, сын Сафая, в сражении у Гефа убивший воина из потомков рефаимов, шести локтей росту, о шести пальцах на руках и ногах, соглашавшегося помериться силой не менее чем с десятью противниками сразу! Трое этих храбрых, однажды услышав, как Давид, утомленный жарким боем, вскричал: "Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?" — устремились сквозь стан филистимлян к источнику, наполнили чаши и, держа их в левой руке, а в правой — меч, вернулись, сражаясь, покрытые ранами, но не пролив ни капли, — столь велика была их ловкость, крепость членов и твердость духа. Давид, удивленный и растроганный их доблестью и преданностью, воскликнул: "Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои! Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду!" — и свершил возлияние во славу Господа.
Увы! Сильные мужи Израилевы лежали в могилах. Время — могучий воитель, заставляющий преклонить колена самых несгибаемых, — повергнув их, не пощадило и стен. Вот уже два или три столетия новые поколения проходили мимо этих камней, напоминающих руины второго Вавилона. Наконец однажды Никодим и Иосиф Аримафейский приобрели землю и развалины. Из обломков они на старом фундаменте выстроили новый дом и сдавали его чужестранцам, устроив там большую залу для трапезы. Камней им хватило еще на три дома, а из больших глыб, непригодных для новых построек, кажущихся (в сравнении с прошлыми) обиталищами пигмеев, они высекали надгробия, колонны и резные каменные украшения для стен, продавая их затем с большой выгодой.
Именно Никодиму, который, отдыхая от обязанностей мужа совета, развлекался резьбой по камню, и пришла в голову мысль о подобном предприятии; оно оказалось успешным и обогатило сотоварищей.
С того дня как Илия, снимавшего этот дом у Никодима, предупредили, что Иисус Назареянин желает справлять у него Пасху, он приказал всем слугам чистить двор. С помощью каменотесов Никодима и Иосифа Аримафейского они руками и рычагами выворотили из земли и откатили к стенам большие глыбы, прежде загромождавшие двор, и теперь стало легко добираться до прихожей.
Сейчас Илий прежде всего провел Петра и Иоанна в эту прихожую, а затем поднялся с ними на второй этаж, чтобы показать место, приготовленное для вечери.
Широкие полотнища поделили залу на три части, озаряемые светильниками, что свешивались с потолка; это придавало ей сходство с храмом, где, пройдя притвор, попадаешь в святилище, за которым угадывается Святая Святых.
Выкрашенные белой краской или побеленные известью стены были на треть высоты обиты циновками, какие еще сегодня можно встретить в большинстве арабских домов, если их хозяева достаточно состоятельны, чтобы позволить себе подобный расход. Вдоль циновок на медных вешалках висели необходимые для празднества одежды.
В срединной части залы выделялся белоснежной скатертью стол с тринадцатью приборами.
В двух других выгороженных комнатах у стен лежали свернутые вместе тюфяки и покрывала, припасенные на случай если сотрапезники пожелали бы провести в доме остаток ночи после вкушения пасхального агнца.
Еще два стола были приготовлены на первом и третьем этажах, в залах, устроенных наподобие этой, но Илий привел посланцев Иисуса прямо к тому, что предназначался для назареянина и его двенадцати учеников.
Петр и Иоанн тотчас согласились с его выбором, тем более что место весьма походило на то, что описывал им их учитель. Они велели Илию завершить приготовления к Пасхе, а сами отправились: Иоанн — за чашей, которую Иисус велел ему взять в доме у Древних ворот, а Петр — на Бычачий рынок за пасхальным агнцем.
Илию же поручили подняться с факелом на террасу, да-. бы дать знать, что в доме ожидают Иисуса и его спутников.
Об этом сигнале заранее условились с учителем, который по дороге из Вифании должен был подняться на Масличную гору, откуда весь Иерусалим виден как на ладони.
Петр и Иоанн по лестнице в четырнадцать ступеней, называемой Ступенями Сиона, спустились в Нижний город и еще не дошли до театра, как, оглянувшись, заметили на выступе террасы пламя факела, поднимавшееся к небесам.
Стояща тихая, ясная погода. В легком восточном ветерке, освежавшем воздух, уже чувствовалась мягкость сирийской весны. Легкая облачная дымка на голубом небе умеряла и утренние лучи солнца и вечернее сияние лунного света. На лозах холмов Ен-Гадди и смоковницах Силоамской долины появилась свежая зелень; кроны олив в Гефсимании стали ярче, а мирт, теребинт и рожковое дерево покрылись молодыми сочными побегами. Цветущий миндаль усыпал склоны горы Сион хлопьями розового снега, сквозь который проглядывали крупные непахучие фиалки, подобные тем, что растут на Родосе и по берегам Эврота. И не соловьи и малиновки, а горлицы, единственные птицы Священного города, уже принялись нежно ворковать среди кипарисовых рощ Сиона, в кронах сикомор, пальм и сосен сада Ирода.
А значит, ничто не помешает Иисусу разглядеть на доме трапезы горящий факел, пламя которого чуть отклоняется под восточным ветром, как бы указывая людям, что и свет благодати прольется с востока на запад.
При виде этого пламени путник, сидевший под купой пальм в четверти льё от Иерусалима, между Виффагией и Голубиным камнем, внезапно умолк, а затем обратился к кучке мужчин и женщин, внимавших ему, со словами:
— Час настал… Идемте!
II ЕВАНГЕЛИЕ ДЕТСТВА
То был молодой галилеянин, учитель Иисус из Назарета.
В нынешнее маловерное время да будет нам позволено рассказать о Христе так, как если бы никто до нас о нем не говорил, обратиться к Священной истории, словно ее еще никто не написал. Увы! Как мало глаз скользило по ее письменам и в памяти скольких она уже изгладилась!
Для тех, кто не подозревал о божественном происхождении Иисуса из Назарета, он представал человеком тридцати-тридцати трех лет, чуть выше среднего роста и очень худым, как большинство тех, кто посвящал себя роду человеческому, раздумывал о нем и страдал ради него.
У него было удлиненное бледное лицо, голубые глаза, прямой нос, прекрасно очерченные губы, тронутые мягкой, немного печальной улыбкой; белокурые волосы, по обычаю галилеян разделенные надвое пробором, мягкими волнами ниспадали на плечи; наконец — отливающая легкой рыжиной, будто хранящая золотистый отсвет восточного солнца бородка еще более удлиняла лицо, черты которого одухотворенно светились, выдавая склонность назареянина к созерцательности.
Одет он был — и никто его не видел в ином облачении — в красный, не шитый, а сплошь тканный сверху донизу хитон, живописными складками ниспадавший вдоль тела. Длинные широкие рукава оставляли видимыми лишь кисти рук необычайной тонкости и белизны. Поверх хитона был наброшен лазурно-голубого цвета плащ, в который он кутался с бесподобной простотой и грацией. На ногах он носил сандалии с завязками над щиколоткой, а постоянно вскинутую голову держал непокрытой, лишь в самые жаркие часы дня накидывая на нее свой голубой плащ.
От всей его фигуры веяло чем-то неуловимым, сливающим в себе благоухание и свет. Словно таинственная печать отмечала в нем сверхъестественное существо, на миг появившееся среди людей и в человеческом облике.
Его божественную природу, скрытую в земной оболочке, лучше всех угадывали дети и женщины, благодаря более нежному и тонкому устройству чувств легче поддающиеся магнетическому влиянию натур, одаренных свыше. И действительно, стоило Иисусу появиться, как все дети, вплоть до самых несмышленых малышей, тотчас сбегались, простирая к нему руки. Когда он шел по улицам Иерусалима, Капернаума или Самарии, даже если держался обочины, почти все встречные женщины, не ведая почему, склонялись при виде его: какая-то тайная сила заставляла их преклонить колена.
Конечно, о молодом учителе из Галилеи — как обычно называли Христа — слагалось множество легенд и волшебных историй, повестей о чудесах. Куда бы он ни направлял свои стопы, молва опережала его, сопутствовала и тянулась ему вослед подобно легиону ангелов, разбрасывающих цветы на его пути и усыпающих розами следы его ног, во мнении толпы наделяя его почти божественной властью.
Говорили, что его всеблаженная родительница — а уже тогда мать Иисуса почитали всеблаженной, — так вот, поговаривали, что родительница его происходит из царского рода Давида, сына Иессея.
Говорили, что Иоаким и Анна, ее отец и мать, прожив в Назарете двадцать лет бездетно, дали обет: если родится у них желанный плод супружества, посвятить его служению Господу. И родилась у них дочь, получившая сладчайшее имя Мариам, что значит "морская звезда".
Это имя и носила та, кого мы привыкли называть Марией.
И вот во исполнение обета юная Мария, которой суждено было нести в себе будущее мира, была отдана родителями в храм и воспитывалась среди своих сверстниц, читала священные книги, пряла лен, ткала облачения для левитов — все это вплоть до достижения четырнадцатилетнего возраста, когда храмовых воспитанниц возвращают их родителям. Однако, когда ей исполнилось четырнадцать, Мария отказалась покидать святое место, говоря, что, давая обет, родители посвятили Господу и душу, и тело ее. Первосвященник, затруднявшийся оставить ее, вопреки обычаю, при храме, воззвал к Всевышнему, и на него снизошло откровение: девушка должна была получить супруга из рук первосвященника, дабы сбылось предсказание Исайи: "Се, дева во чреве приимет и родит сына, и произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень".
Избранником оказался Иосиф, старец из дома Давидова. Его имя и имя Марии были выгравированы на брачных скрижалях в торжественном собрании, а затем супруги, так и не разделив брачного ложа, расстались: он отправился в Вифлеем, она — в Назарет.
При этом, едва молодая девственница вернулась в отчий дом, с ней, по рассказам, приключилось вот что.
Однажды, когда она преклонила колена и оставалась в молениях с вечера до поздней ночи, ее веки смежились, голова опустилась на соединенные в молитве руки, и вокруг нее, почудилось ей, разлилось как бы благоухание, а комнату наполнил столь сильный свет, что она различила его, не открывая глаз.
Подняв голову, она огляделась и увидела ангела Господня. С огненным ореолом вокруг чела и лилией в руке он слетел на облаке, еще хранящем золотистый отблеск заката.
Этот божественный вестник осветил и наполнил ароматами комнату Девы.
Любой иной на месте Марии испугался бы. Но она уже не единожды видела ангелов в сновидениях и потому, вместо того чтобы ужаснуться, улыбнулась и — если не губами, то в мыслях — вопросила:
— Прекрасный ангел Господень, что привело тебя ко мне?
И он, улыбнувшись ей в ответ и прочтя ее мысли, отвечал:
— Радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами.
Она хотела ответить, но смутилась, и слова не пришли ей на язык. То, что в слабости своей она стала прикосновенна ангельской силе, растревожило и даже едва не устрашило ее. Но, вновь угадав ее мысли, он продолжал:
— Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, избрав его единственным своим супругом. Ничто не оскорбит твоей непорочности, но ты зачнешь во чреве и родишь сына. Он будет велик, о благословенная, и наречется сыном Всевышнего, и будет царствовать от моря до моря, от впадения рек до неведомых земель. Рожденному на земле, ему уготован престол небесный, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. И останется царем над царями, господином над повелителями во веки веков!
Ничего не ответив, девушка покраснела, поскольку о том, что пришло ей на ум, она не осмелилась сказать ангелу; а думала она вот о чем: "Как же, оставаясь в девичестве, я смогу стать матерью?"
Но ангел снова улыбнулся, продолжая читать в ее мыслях:
— Не надо полагать, о всеблаженная Мария, что ты зачнешь путем человеческим. Нет, ты понесешь и вскормишь дитя, оставшись девственницей, ибо Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя. Вот почему твой ребенок станет святым: ведь только он будет зачат и рожден без греха, и это позволит назвать его сыном Божьим.
Тогда только юная Мария, возведя очи горе и воздев руки к небесам, произнесла те единственные слова, в которых отдала всю себя святому таинству:
— Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему.
Ангел отошел от нее, свет погас, а сама она впала словно в полудрему, в некое блаженное воодушевление. И очнулась матерью.
В то же время ангел явился и Иосифу в Вифлееме, предупредив: хотя его жена и понесла сына Божьего во чреве, но осталась чистой и незапятнанной.
А вот что еще рассказывали.
В 369 году эры Александра вышел эдикт императора Цезаря Августа, приказывающий сделать перепись всем жителям империи и предписывающий всякому мужу отправиться с женой и детьми в место, где он родился, и там объявиться переписчикам.
Поэтому Иосиф, после явления ангела переселившийся к жене в Назарет, вынужден был отправиться вместе с ней в Вифлеем. Но по дороге у Марии начались схватки, она вошла в пещеру, служившую яслями для скота, а Иосиф поспешил за помощью в Иерусалим.
Очутившись в пещере, Непорочная Дева поискала, на что облокотиться. Она увидела старую засохшую пальму, ствол которой пробил свод, а корни прочно ушли в землю, и села, прислонившись к ней спиною.
А Иосиф тем временем шел в Иерусалим за повитухой, но вдруг ноги его словно бы приросли к земле: что-то необычайное творилось в природе.
Прежде всего он глянул вверх. Небо потемнело, и птицы застыли в воздухе.
Он опустил глаза и огляделся окрест.
Справа от него сидели землекопы и ели; но странное дело: тот, кто тянулся к блюду, замер с протянутой рукой, жевавший остался с приоткрытым ртом, подносивший пищу к губам продолжал держать кусок у лица — и все они уставились в небо.
Слева паслось стадо овец, но и они перестали жевать, а пастырь, поднявший посох, чтобы ударами вывести их из оцепенения, так и стоял, оцепенев сам, с поднятой палкой.
Прямо перед ним тек ручей, куда пришли пить козы с козлом, но вода не текла, а пригнувшиеся к ней животные не пили.
И луна остановила свой бег, и земля уже не вращалась.
Ведь в этот миг Мария произвела на свет Спасителя, и все сущее замерло в нетерпеливом ожидании этого чуда!
Потом во всей природе разнесся какой-то вздох облегчения и жизнь пошла своим чередом.
Спаситель родился!
В эту же минуту некая женщина спустилась с горы и направилась прямо к Иосифу.
— Ты не меня ищешь? — спросила она.
— Я разыскиваю кого-нибудь, кто бы помог моей жене Марии разродиться.
— Тогда, — произнесла незнакомка, — веди меня. Зовут меня Гелома, я повитуха.
И они направили свои шаги к пещере.
Там было благоуханно и светло без каких-либо следов огня или светильника. Они увидели Марию с младенцем, сосавшим ее грудь.
А засохшая пальма оделась зеленью; молодые побеги выросли из ствола, и гигантские листья давали желанную тень.
Иосиф и повитуха, изумленные, остановились у входа в пещеру. И старуха спросила у Марии:
— Женщина, это ты мать ребенка?
— Да, — ответила Мария.
— Ну, тогда ты не походишь на остальных дочерей Евы.
— А сын мой, — произнесла Мария, — не похож ни на одного из младенцев, как и его мать — на всех прочих женщин.
— Когда же ожила старая пальма? — недоумевала повитуха.
— В минуту разрешения от бремени, — ответила Мария, — я обхватила ствол руками, и это произошло.
Тут настал черед заговорить Иосифу. Старец провозгласил:
— Твое дитя, Мария, это действительно Мессия, обещанный нам Писанием. И зваться он будет Иисусом, что значит "Спаситель".
Если бы Иосиф еще в чем-то сомневался, то через полчаса и тень сомнения исчезла бы: у входа в пещеру остановились три пастуха, и на вопрос, что за причина привела их, один из троих возвестил:
— Зовут нас Мисраил, Стефаний и Кириак, мы пасли в горах овец, но вдруг со звезды спустился ангел небесный и повелел: "Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Идите и поклонитесь ему". — "А в какую сторону нам идти?" — спросили мы, убоявшись страхом великим. — "Следуйте за этой звездой, — ответил он. — Она приведет вас". И звезда двинулась сюда, а мы пошли за ней, собирая цветы по дороге… Вот мы и пришли. Где же Спаситель? Мы хотим поклониться ему.
И Богородица показала им младенца, лежащего в яслях; они рассыпали вокруг него цветы и воздали ему хвалу.
Час спустя у входа в пещеру появились трое знатных волхвов с целой свитой служителей, принесших дары, с мулами и верблюдами, нагруженными драгоценными тканями, благовониями и курениями.
Иосиф спросил, что им угодно от него, а они отвечали:
— Мы трое волхвов с Востока, зовут нас Гаспар, Мельхиор и Валтасар. С месяц назад нам явилась звезда и некий голос возвестил нам: "Следуйте за этой звездой, она приведет вас к колыбели Спасителя, обещанного миру Зороастром". И мы пустились в путь, а проходя через Иерусалим, посетили царя Ирода Великого и сказали ему: "Мы пришли с Востока поклониться царю иудеев, который только что родился. Где же он?" — "Я ничего не ведаю, — отвечал Ирод. — А разве у вас нет проводника?" — "Есть!" — сказали мы и указали на звезду. "Так идите за ней! — приказал царь, — и не забудьте на обратном пути сообщить мне, где этот царь Иудейский, чтобы я тоже мог ему поклониться". Вот мы и здесь. Где же Спаситель, которому мы должны воздать почести?
Тогда Непорочная Дева взяла на руки младенца и вынесла к ним. Волхвы пали на колени и целовали его руки и ноги и поклонялись ему, как до них пастухи, а затем, подобно пастырям стад, осыпавшим его полевыми цветами, они уставили все место вокруг него серебряными и золотыми кубками, кадильницами, треножниками и чашами.
А пастухи с грустью глядели на эту роскошь и говорили между собой:
— Ну вот, эти волхвы с их богатыми дарами затмят наши скромные приношения.
Но в тот же миг, словно бы угадав их мысли, младенец Иисус опрокинул ножкой великолепный сосуд и, подобрав скромную полевую маргаритку, поднес ее к губам и поцеловал.
С этих самых пор у полевых маргариток, до того вовсе белых, появились розовая каемка на лепестках и золотистые тычинки.
Пастухи, счастливые тем, что младенец Иисус предпочел их полевые цветы золотым и серебряным сосудам, кубкам, треножникам и кадильницам, вернулись в свои горы, распевая хвалы Господу.
Волхвы, также исполненные радости, потому что им удалось облобызать руки и ноги Спасителя всего сущего, отправились к себе, но не через Иерусалим, как требовал Ирод; звезда повела их другим путем.
Увидев все это, старуха воскликнула:
— Благодарю тебя, Господи, Бог Израиля! Ибо моим глазам дано узреть рождение Спасителя мира!
И еще рассказывали, что, не дождавшись волхвов, Ирод Великий встревожился, собрал всех первосвященников и книжников. Он спрашивал у них:
— Ваши писания предсказывают появление Спасителя, где же должно ему родиться?
Первосвященники и книжники отвечали:
— В Вифлееме иудейском; ведь недаром Авраам назвал город Вифлеемом, что значит: дом хлеба, а по имени жены Халева его нарекли Еврафа, то есть Плодоносный, а кроме того, это место еще зовется град Давидов.
Меж тем Ирод узнал, что, когда младенца Иисуса принесли в храм, первосвященник Симеон, почти столетний старец, лишь только увидел его в сиянии, окруженного сонмом ангелов, признал в нем посланца Господня, возблагодарил Бога и сказал:
— О Господи, ныне отпускаешь раба твоего, Владыко, ибо исполнены слова псалмопевца: "Долготою дней насыщу его и явлю ему Господа, посланного мною, и, узрев его, он умрет, славя его".
И проговорив это, Симеон упал навзничь и умер.
Тут уже Ирод более не сомневался, что этот младенец — истинный Мессия. Но, будучи верным прислужником римлян и опасаясь, как бы из новорожденного не получилось второго Иуды Маккавея, готового развязать войну ради освобождения Израиля, он замыслил истребить всех невинных младенцев.
Провидя это, Господь послал ангела к Иосифу, и тот во сне явился блаженному супругу Марии и произнес:
— Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет.
Тот поступил по слову ангельскому и наутро, с первыми петухами разбудив Марию, отправился в путь с ней и младенцем Иисусом.
На следующий после его отъезда день Ирод повелел умертвить всех мальчиков младше двух лет.
И случилось по предсказанию Иеремии: "Голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание: Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет".
А поскольку убийцы сновали всюду с мечами в руках и охотились за малыми детьми, рассказывают, что два наемника приблизились к Богородице и Иосифу, угрожая их ребенку. Те, дрожа, уже приготовились к худшему, но огромная сикомора, к которой они прислонились, растворила свой ствол и укрыла святое семейство от глаз преследователей.
Напрасно воины, бывшие уже в полусотне шагов от них, рыскали вокруг. Никого не найдя, они удалились. Тогда сикомора выпустила беглецов, и они вновь отправились в путь.
Но с тех пор дерево так и осталось разверстым.
Святое семейство прибыло в большой город и остановилось на постоялом дворе, расположенном около храма с каким-то идолом. Но едва они разместились в маленькой комнатке, как услышали сильный шум: по улицам, воздевая руки, бежали горожане, слышались крики ужаса и отчаяния.
Ибо в тот самый миг, когда Иисус вошел в городские ворота, идол упал со своего основания и разбился на тысячу кусков. То же случилось и с другими идолами в этом городе.
Так оправдывались слова Исайи: "Господь грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы".
Однако, заслышав эти крики, Иосиф устрашился за судьбу Марии и младенца Иисуса. Он сошел с ними вниз, оседлал осла и выехал через задние ворота, даже не захватив еды на остаток дня.
Когда же настал полдень, Богоматерь, испытывая сильный голод и жажду, вынуждена была сойти с осла и сесть под сикомору. Напротив нее стояло финиковое дерево, усыпанное плодами, и Мария сказала:
— Ох, как бы мне хотелось поесть этих фиников. Неужто нельзя их собрать?
Иосиф лишь грустно показал головой:
— Разве ты не видишь, что я не только не могу до них дотянуться, но и палки не доброшу?
И тут младенец Иисус попросил:
— Пальма, наклонись и дай плодов моей милой матушке.
Пальма склонилась, и Пречистая Дева смогла сорвать столько плодов, сколько хотела, после чего дерево распрямилось, и на нем оказалось больше фиников, чем до этого.
Пока Богоматерь собирала плоды, Иисус, которого положили на землю, проделал пальцем дырочку в песке меж корнями сикоморы. Когда Мария утолила голод и сказала: "Я хочу пить" — ей оставалось только нагнуться, так как из ямки, проделанной пальцем маленького Иисуса, забил родник чистой воды.
Когда же семейство снова тронулось в дорогу, Иисус обернулся к финиковому дереву и молвил:
— Благодарю тебя, пальма; в знак уважения одну из твоих ветвей ангелы посадят в раю моего отца. Да сбудется, чтобы о каждом одержавшем победу за веру, сказали: "Он стяжал пальму победителя!"
В то же мгновение появился ангел и унес одну из ветвей пальмы на небеса.
Однажды вечером Иосиф, Мария и маленький Иисус оказались в тех местах пустыни, где развелись разбойники. Неожиданно они заметили двух разбойников, стоявших на часах недалеко от своих спящих товарищей. Звали их Димас и Гестас.
Гестас уже собирался схватить беглецов, но другой разбойник обратился к нему со словами:
— Оставь в покое этих путников, не говори с ними и не обижай их. А я отдам тебе сорок драхм — все, что у меня есть. И еще я дам тебе перевязь в залог того, что заплачу столько же после первого удачного дела.
И, упрашивая не будить остальных, Димас всыпал ему в руку сорок драхм.
Мария же, увидев, что разбойник готов оказать им услугу, произнесла:
— Да поддержит тебя десница Господня и дарует тебе отпущение грехов твоих!
А малыш сказал ей:
— Матушка, запомни, что я тебе сейчас скажу. Через тридцать лет иудеи распнут меня, а эти двое будут висеть на крестах у меня по бокам: Димас справа от меня, а Гестас — слева. И в этот день Димас, добрый разбойник, опередит меня на пути в рай!
— Что ты, милое дитя! — воскликнула Богоматерь. — Да отведет от тебя Господь подобную напасть!
Хотя она хорошенько не поняла, что сын имел в виду, материнское сердце наполнилось ужасом от этого предсказания.
Злой разбойник взял деньги и перевязь у своего сердобольного товарища и пропустил беглецов, не причинив им вреда.
На следующий день на перекрестке дорог они столкнулись с громадным львом. Иосиф с Марией устрашились его, а осел отказался двигаться дальше.
Тогда Иисус обратился к дикому зверю:
— Великий лев, я знаю, зачем ты здесь стоишь: ты хотел бы задрать быка. Но тот принадлежит бедному человеку, это его единственное добро. Иди-ка лучше вон туда: там лежит верблюд и издыхает.
Лев послушался, отправился, куда ему было указано, нашел павшего верблюда и пожрал его.
Меж тем семейство провело в пустыне уже много дней, и Иосиф, шедший пешком, страдал от жары. Наконец он взмолился:
— Господин мой Иисус, не позволишь ли нам свернуть к морю, чтобы отдохнуть в одном из городов на побережье?
Иисус ответил:
— Не беспокойся, Иосиф, я сокращу дорогу: за несколько часов мы пройдем столько же, сколько иные — за месяц!
И дитя еще не кончило говорить, как стали видны горы и селения Египта.
Много чего рассказывали и о трех годах жизни Иисуса в Мемфисе… Например, что Мария мыла своего сына в одном и том же источнике, и в дальнейшем его вода обрела свойство излечивать прокаженных, после того как они туда окунались.
К этому источнику стали относиться с особым почтением. Так, однажды некий житель Мемфиса, имевший рощу деревьев, дававших благовонную смолу, после того как несколько лет этот сад оставался бесплодным, в отчаянии решился:
— Что, если напитать мои растения водой, в которой купали Иссу ибн Мариам?
Он оросил сад этой водой, и в тот же год деревья принесли втрое больше благовоний, нежели у других владельцев.
На исходе третьего года жизни в Мемфисе Иосифу вновь явился ангел и возвестил:
— Теперь можешь вернуться в Иудею: Ирод мертв, и пророчество Исайи о том, что сын Божий придет из Египта, должно исполниться.
Тогда Иосиф покинул Мемфис, пришел в Иудею и обосновался в Назарете, чтобы сбылось и другое пророчество Исайи, предсказавшего, что нового пророка будут называть Назореем.
Рассказывали, что, оказавшись в Назарете, божественное дитя совершило немало чудес.
Так, говорили, что однажды в день субботы Иисус играл вместе с другими детьми на берегу ручья. Они копали маленькие каналы и отводили воду в крошечные озерца. На берегу своего прудика Иисус поставил дюжину птиц, вылепленных из глины. Птицы как бы пили, склонившись над водой. Некий иудей, проходя мимо, набросился на него:
— Как ты смеешь осквернять день субботний работой пальцев твоих?
На что маленький Иисус отвечал:
— Я не работаю, а творю!
И простер руку со словами:
— Птицы, летите и пойте!
И тотчас птицы, щебеча, взлетели на деревья, а те, кто разумеет птичий язык, уверяли, что их песнь не что иное, как хвала Господу.
В другой день Иисус и несколько детей играли на плоской крыше дома и, забавляясь, толкали друг друга. Случилось так, что один из них упал и убился насмерть. Все дети разбежались, кроме Иисуса, оставшегося подле умершего.
Тут прибежали родители несчастного. Схватив Иисуса, они закричали:
— Это ты столкнул ребенка с крыши!
Иисус хотел разубедить их, но они лишь еще громче взывали о мщении:
— Наш ребенок убит, и вот убийца!
Тогда Иисус сказал:
— Я разделяю ваше горе, но да не ослепит вас скорбь: ведь вы обвиняете меня в преступлении, которого я не совершал, и не Можете доказать обратное. Спросим лучше у этого мальчика, пусть его устами возглаголет истина.
— Но ведь он мертв! — в отчаянии повторяли родители.
— Он мертв для вас, это так, — продолжал Иисус. — Но не для меня и не для моего Отца Небесного.
А после, нагнувшись к голове умершего, спросил:
— Зенин, Зенин, кто столкнул тебя с крыши?
Мертвец, приподнявшись на локте, отвечал:
— Господин, не ты причина моей гибели. Другой из тех, кто играл здесь, столкнул меня.
Произнеся эти слова, ребенок вновь упал замертво.
Все, кто был при этом, изумились и проводили Иисуса к дому Иосифа, хваля и прославляя божественное дитя.
А однажды случилось, что Иисус играл и бегал с другими детьми около лавки красильщика по имени Салим. У того лежало много тканей, принадлежавших некоторым горожанам; Салим приготовился выкрасить их в разные цвета. Иисус вошел в лавочку, схватил все куски материи и бросил их в один красильный чан. Вошедший за ним Салим счел, что ткани испорчены, и начал укорять Иисуса:
— Что ты наделал, сын Марии? — вскричал он. — Ты навредил мне и моим заказчикам. Каждому нужен был свой особый цвет, а теперь все куски будут одинаковые!
Но Иисус отвечал:
— Помолись, чтобы каждая материя сделалась того цвета, какой тебе нужен.
Он принялся вынимать ткани из чана, и каждая оказалась того цвета, которого желал Салим.
В другой раз царь Ирод Антипа призвал Иосифа и заказал ему деревянный остов для трона; он предназначался для своего рода ниши и должен был заполнить ее целиком без зазоров. Иосиф снял мерку и вернулся к себе выполнять работу.
Но, вероятно, он ошибся в расчетах, так как через два года, когда вещь была закончена, оказалось, что основание на пол-локтя короче, чем нужно. Царь рассвирепел и пригрозил Иосифу. Бедняга, совершенно убитый, возвратился домой, не стал есть и собирался уже лечь спать голодным, но Иисус, заметив, как он опечален, спросил его:
— Что с тобой, отец?
— А то, — отвечал Иосиф, — что я плохо снял мерки и работа, на которую я потратил два года, испорчена. Но и это не самое страшное. Гораздо хуже то, что царь Ирод очень сердит на меня!
На это Иисус с улыбкой сказал:
— Оставь свой страх и не теряй бодрости. Возьмись за один конец трона, а я — за другой, и давай растянем его до нужного размера.
И они сделали это.
А после Иисус велел отцу ьозвратиться с работой во дворец.
Тот повиновался.
И — о радость! — все оказалось впору, без зазоров.
Тут Ирод спросил Иосифа, как случилось такое чудо.
— Не знаю, — отвечал плотник. — Но в доме у меня есть сын, и от него исходит благословение на меня и весь свет!
А в один из дней адара, последнего, двенадцатого месяца в еврейском календаре, что соответствует второй половине февраля и началу марта, Иисус собрал вокруг себя детей, которые, как уже сделалось у них обычаем, провозгласили его царем над ними, сложили из своих одежд подобие тронного ложа, куда он сел и, в подражание Соломону, стал творить суд. Когда же кто-нибудь проходил мимо, дети силой останавливали его и кричали:
— Воздай хвалу Иисусу из Назарета, царю Иудейскому!
А тут как раз шли мимо люди с носилками. На них лежал без сознания молодой человек лет двадцати трех — двадцати четырех. Этот юноша с товарищами ходил в горы за хворостом. Он нашел там гнездо куропатки, сунул руку, желая вытащить яйца, но притаившаяся в гнезде гадюка ужалила его. Он позвал друзей на помощь, однако, пока те прибежали, юноша уже не подавал признаков жизни. И вот его несли в город, надеясь найти там помощь. Когда они с носилками проходили мимо Иисуса, дети преградили им дорогу, как прочим прохожим, крича:
— Придите и воздайте хвалу Иисусу из Назарета, царю Иудейскому!
Люди с носилками не были в настроении играть с озорниками, но те силой повернули их к месту, где сидел Иисус. Он спросил, что приключилось со злополучным юношей, а они ему ответили:
— Сын Марии, его укусила змея.
— Пойдемте все вместе, — обратился Иисус к спутникам юноши, — найдем и убьем змею!
Те, кто нес носилки, стали отказываться, опасаясь потерять драгоценное время, но дети сказали:
— Разве вы не слышите приказа владыки Иисуса?.. Пойдем и убьем змею!
И, несмотря на сопротивление несших носилки, дети заставили их вернуться к гнезду. Там Иисус спросил у друзей страдальца:
— Здесь спряталась гадюка?
Те закивали, и тут Иисус позвал змею, которая, к великому изумлению стоявших вокруг, приползла на зов. Но им предстояло удивиться еще больше, поскольку Иисус обратился к ней с такими словами:
— Змея, приди и высоси яд, что ты пустила в жилы этого юноши!
Гадюка тотчас подползла к умирающему и, припав пастью к ране, всосала в себя весь яд, после чего проклятие Господне возымело над ней силу, и она в корчах издохла. Иисус же тронул юношу рукой, и тот выздоровел.
Маленький целитель обратился к нему:
— Ты сын Ионин, по имени Симон; потом ты будешь зваться Петром, станешь моим учеником и отречешься от меня.
И наконец, случилось так, что в один из дней, когда Иисус играл с другими детьми, среди них оказался мальчик, одержимый бесом. Он сел на правую руку от Иисуса, и тут бес, как обычно, стал мутить его. Мальчик попытался укусить Иисуса, но не смог, и тогда он так сильно ударил его в правый бок, что Иисус заплакал и сквозь слезы приказал:
— Бес, обуявший дитя, приказываю тебе выйти из него и вернуться в ад!
В тот же миг дети увидели большую черную собаку: извергая из пасти дым, она бросилась от них и пропала, провалившись сквозь землю. А исцеленный ребенок возблагодарил Иисуса, который в ответ сказал ему:
— Ты станешь моим учеником и предашь меня. В то место, куда угодил твой кулак, иудеи поразят меня копьем, и из раны выйдет последняя кровь и остаток жизни.
И все эти чудеса, как говорили, длились до тех пор, пока Иисус не достиг двенадцати лет. Тут его ни с чем не сравнимая мудрость сделалась явною всем. Иосиф и Мария в тот год посетили Иерусалим, и вдруг Иисус пропал. Родители искали его три дня и наконец нашли в храме. Там он удивлял священников и книжников, толкуя им темные места в священных книгах. Наиболее сведущие не могли прояснить их, а Иисус понимал все, поскольку сам был живым вместилищем священного Слова.
Увидев Марию, священники и книжники спросили:
— Так этот ребенок — твой?
И когда Мария ответила утвердительно, вскричали:
— Счастлива мать, произведшая на свет такое дитя!
Однако Иосиф и Мария, объятые почти что ужасом от тех чудес, что всякий день являл их сын, увезли его назад в Назарет. Там он, во всем им повинуясь, продолжал жить, "преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков".
Таковы некоторые из легенд о детстве Иисуса из Назарета, снискавших ему, как мы уже говорили, почти мистическое поклонение толпы.
III ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ
Прошло восемнадцать лет с тех пор, и никто более не слышал разговоров о божественном ребенке, которому людское воображение приписывало чудеса, о каких мы уже упоминали, и множество других невероятных деяний, которые мы не станем тревожить, оставив их покоиться в евангелии детства, как в колыбели, напоенной свежими ароматами народной поэзии.
В это время умер Цезарь Август, который дал передышку всему миру, уставшему от побед, завоеваний, переворотов и всякого рода потрясений и нуждавшемуся в кратком отдыхе, чтобы приготовиться к новым поворотам судеб.
На римский трон взошел Тиберий. Он явился в Вечный город с Родоса, подобно Августу, пришедшему из Аполлонии. Но на двенадцатом году царствования его устрашило мрачное предзнаменование: любимую змею, с которой он никогда не расставался, нося на шее как ожерелье или в подвернутой поле тоги, — его любимую змею пожрали муравьи. Приближенный к нему астролог Трасилл истолковал это в том смысле, что и самого императора может растерзать толпа. Тиберий удалился на свой остров Капрею и более не показывался в Риме.
А тем временем исполнилось тридцать лет некоему человеку по имени Иоанн, что значит "Благодать Божья", сыну Захарии и Елисаветы, родственницы Девы Марии. Юность свою он провел на берегах Иордана, у кромки пустыни, а само его рождение тоже было чудом: его мать, к огорчению своему, до пожилых лет была бесплодна, а такой изъян навлекает на еврейскую женщину всеобщее осуждение. Но к ней, как и к Марии, явился ангел и возвестил, что она стала матерью, что сына ее будут звать Иоанн и сделается он предтечею Мессии, о чем она узнает, когда в присутствии Божьего посланца дитя впервые зашевелится в ее лоне.
И вот на четвертом месяце беременности Елисаветы Дева Мария, тоже зачавшая дитя, пришла навестить свою родственницу. Она постучалась в дверь Елисаветы, кроме которой в доме никого не было. Та открыла ей и, увидев ее, радостно воскликнула:
— Благословенна ты между женами! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
Мария попросила объяснить, что случилось, и та поведала:
— Когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем и благословил тебя!
И она рассказала о благой вести, принесенной ей ангелом.
Когда Ирод повелел умертвить младенцев Иудеи, Елисавета, как и прочие матери, бежала с ребенком на руках, но, в отличие от других, ее не ждала столь же скорбная участь. Преследуемая стражниками, она оказалась у подножия неприступного утеса. Тогда она пала на колени и, подняв свое чадо к небесам, взмолилась:
— Господи, разве не правда, что я выносила во чреве предтечу Мессии?
И скала растворилась, Елисавета вошла под каменный свод, и за ее спиной проход замкнулся, не оставив снаружи и следа на камне. Стражники решили, что беглянка только привиделась им.
Вот этот человек, проповедовавший и крестивший на берегу Иордана, проведший молодость в пустыне, питаясь акридами и диким медом, не имея на плечах иной одежды, кроме балахона из верблюжьего волоса, перетянутого кожаным поясом, — он-то и был Предтечей.
Его прозвали Иоанном Крестителем из-за обряда крещения, которому он подвергал всех пришедших к нему и просивших разрешить их от грехов прошлой жизни, а также наставить на путь в жизни будущей.
А путь этот, по словам Иоанна Крестителя, был стезей милосердия и благочестивого рвения.
Он говорил слушавшим его:
— У кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же.
А воинов он увещевал:
— Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованьем.
Мытарям же, сбирающим подати, советовал:
— Ничего не требуйте более определенного вам.
А вот для фарисеев и саддукеев у него не находилось ничего, кроме слов порицания.
— Порождения ехиднины, — клеймил он их. — Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: "Отец у нас Авраам"; ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
И были его слова таковы, что многие из слушавших принимали его за того, чьим предтечей он явился, и спрашивали:
— А ты не Мессия?
— Нет, — отвечал он смиренно. — Я крещу вас водой, чтобы вы покаялись, но за мною идет Сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви… Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
Однажды среди толпы пришедших к нему Иоанн увидел незнакомца с волосами, разделенными пробором посредине, что в обычае галилеян. Пока приближался этот человек, чье лицо излучало царственную кротость и бесконечную мягкость, Иоанн, который некогда, еще во чреве своей матери, встрепенулся ему навстречу, как бы для того, чтобы предшествовать Спасителю на его пути, теперь ощутил, как все тело его и душу затопляет никогда неиспытанная радость. Когда же неизвестный оказался рядом с Крестителем, тот склонил перед ним голову и, охваченный небывалым внутренним жаром, вскричал:
— О Господин, ты пришел получить от меня крещение, но на самом деле это я должен креститься из твоих рук!
На что Христос с улыбкой отвечал:
— Иоанн, позволь мне поступать по воле моей, ибо каждому из нас нужно выполнить то, что ему поручено…
После этого Иоанн более не противился желанию того, кого всегда считал своим повелителем и наставником. И ранее, не зная, где его отыскать, он был уверен, что настанет день, когда тот найдет его или призовет к себе.
Сейчас он смиренно попросил:
— Учитель, располагайте слугой вашим.
Иисус вошел в реку, а Иоанн Креститель нашел на берегу раковину, зачерпнул воды в Иордане и вылил на голову Спасителя.
В тот же миг божественная музыка полилась с небес, блеснул ослепительный луч света и под шелест невидимых крыл раздались слова:
— Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение.
И пока последние отзвуки божественного гласа еще дрожали в воздухе, похожие на замирающий аккорд небесной арфы, вдруг над головой Иисуса затрепетали крылья голубя — единственного видимого знака присутствия Духа Божьего. Затем птица вознеслась вверх и исчезла в огненном облаке, откуда ранее появилась.
С той поры Иисус понял, что путь его освящен свыше, и принял имя "Христос", что значит "помазанник", "помазанный", "умащенный" для битвы.
Да, для битвы! И она началась. Первый борец во имя человечности сошел на арену для великого поединка.
Это стало его духовным посвящением. Подобно тому как некогда Самуил помазал Давида на царство земное, Иоанн свершил обряд помазания на царство небесное.
Теперь Иисус чувствовал себя в силах противостоять судьбе. Быть может, желая получить от Господа подтверждение своего неземного происхождения, он отправился в пустыню, где провел сорок дней и ночей без еды и питья.
Там, пав ниц на землю, он возблагодарил Господа за то, что тот дал ему силы превозмочь земные нужды, голод и жажду, попрать все телесное. И на исходе сороковой ночи пред его очами, словно выйдя из-под земли или упав с небес, предстал некто, по своим очертаниям похожий на человеческое существо, но на пол-локтя выше обычных людей.
Это странное создание, столь неожиданно возникшее там, было исполнено скорбной, горделивой и мрачной красоты, что гораздо позже откроется Данте и Мильтону. Глаза, казалось, метали искры; ветер пустыни, развевавший длинные черные волосы, открывал лоб, рассеченный глубоким шрамом. Надменно сжатые губы пытались улыбнуться, но в улыбке сквозила затаенная тоска. Голову осенял голубоватый ореол из языков бледного пламени, подобного тому, что видишь над бездной, а когда его нога касалась земли, такое же пламя, похожее на подземную молнию, выбивалось из каменной тверди.
Это был тот, кого в священных текстах зовут, без сомнения не решаясь назвать подлинным именем, — крадущимся аки тать в нощи.
Он встал перед распростертым на земле Христом и, скрестив на широкой груди бронзовые руки, стал ждать, пока сын Марии закончит молитву и поднимет чело.
Через краткое время Иисус привстал на колено и без всякого удивления взглянул на страшного незнакомца, словно давно ждал его прихода.
— Сын человеческий, — глухо и мрачно проговорил возникший из тьмы, — ты знаешь меня?
— Да, — отвечал Иисус со столь спокойной меланхоличностью, что сам звук его речи, как бы оспаривал страстность нежданного собеседника. — Да, я знаю, кто ты… Некогда ты был возлюбленным чадом Отца нашего, самым прекрасным из архангелов, сотворенных им. Ты нес свет перед его лицом, когда он обращался по утрам навстречу восходу, и походил на огненный василек, взращенный на лугах эмпиреев среди других небесных цветов. Гордыня погубила тебя: ты счел себя равным Господу, восстал против Небесного Отца, и по его повелению огненный смерч низринул тебя с райских высот в пропасти земные.
— И здесь я царь! — сказал архангел, вскинув голову и тряхнув пламенеющими волосами.
— Да, знаю, — подтвердил Иисус. — Царь мира и отец нечестивых!
— Да, отец нечестивых! — высокомерно подхватил архангел. — По праву это мой самый достойный титул! Все в природе смиренно признавало власть Иеговы. Звезды молчаливо повиновались его предначертаниям. Даже море усмиряло свое бунтарство, не выходя из указанных им границ. Высочайшие горы трепетали, когда он, меча громы и молнии, проносился над ними* Укрощенные стихии рабски следовали его воле. Все живое — от клеща до Левиафана, все невидимые силы ангельские — от престолов до властей — склонялись перед его ликом. Все уничижалось, никло, умолкало перед ним… Лишь я среди всеобщего унижения и полного безмолвия восстал с колен и сказал голосом, вознёсшимся к вершинам прошлых веков и спустившимся до бездн веков грядущих: "Я не буду служить!" — "Ego dixi: "Non serviam!""
— Да, — с грустью заметил Христос, — ты сказал именно так, потому-то Отец мой и послал меня против тебя.
— Измерил ли ты мое могущество, — продолжал архангел, — прежде чем согласиться на противоборство? Известно ли тебе, что говорят обо мне поклоняющиеся имени моему? Они говорят: "Ничто не устоит при виде его, и все, что есть под небом, принадлежит ему! Его не смутит сила слов, не поколеблют трогающие душу моления. Тело его похоже на литые из меди щиты и покрыто так плотно прилегающей чешуей, что ни одно дуновение не просочится сквозь нее. Выя его сильна, глад и мор предшествуют ему. А молнии бьют в его тело, не вызывая даже дрожи в членах. Когда он поднимается к горным высям, ангелы испытывают ужас и потом очищаются от скверны… Солнечные лучи ложатся к его ногам, и он ступает по золоту как по грязи. Он может вскипятить океан, как воду в котле, и вызывать волны, словно пену в кипящем чане. Свет брызжет от следов его, и бездна за его спиной дымится и пенится. Нет силы, сравнимой с его мощью, поскольку он создан не ведающим страха и стал царем всех детей гордыни!"
— А знаешь ли ты, — очень просто спросил Иисус, — о чем молят моего Отца те, кто боится тебя? — "Господи, избави нас от лукавого!" И голос одного только человека, взывающего о милости Всевышнего, разносится дальше и, что важнее, возносится выше, чем хор святотатцев, преисполняющий тебя тщеславием.
— Если Господь, о котором ты толкуешь, столь могуществен, — отвечал архангел, — почему же он удовлетворился небесами и позволил мне царить на земле?
— Потому что дух зла проник в рай вместе со змием, а Ева рукоположила его на царство.
— Как же дозволил он змию пробраться в рай? Как не воспретил Еве согрешить?
— Это случилось потому, что, выпустив мир из творящих рук, верховный строитель, всемогущий ваятель попустил оставить змия-искусителя на земле, чтобы тот стал оселком для испытания рода человеческого. Но Отец мой решил, что зло уже довольно властвовало на земле из-за прегрешения Евы и злодейств змия. Я призван искупить ее провинность, а ты — тот гад, кого я должен поразить и чью голову раздавить.
— Так значит, — произнес архангел, — ты пришел во всеоружии гнева и ненависти?.. Тем лучше, мы сразимся одним оружием!
— Я пришел сюда вооруженный лишь жалостью и любовью, — тихо сказал Иисус. — Я ни к чему и ни к кому не питаю ненависти… даже к тебе.
— У тебя нет ненависти ко мне? — воскликнул изумленный Сатана.
— Отнюдь. Мне тебя жаль!
— Почему же ты меня жалеешь?
С невыразимой нежностью и грустью поглядел Христос на мрачного властителя тьмы.
— Потому что ты не способен любить!
При этих словах литое бронзовое тело содрогнулось, словно мимоза, задетая младенческой рукой.
— Что ж, пусть будет так! Знай, сын человеческий или Божий, я принимаю бой. А ведь ты более других наслышан о том, какая мне дана власть!
— Да, власть искусителя людей… Но опыт должен подсказать тебе, что против праведного ты бессилен.
— Вспомни об Адаме!
— Вспомни об Иове!
Воздух со свистом вырывался из уст Сатаны.
— И почему же я не одолел Иова? — с издевкой вопросил он.
— Потому, что Дух Божий был с ним.
— Значит, и с тобой тоже?
— Дух Божий со мною. Я — сын Господень!
— Если ты сын Господа, почему же ты подвержен человеческим нуждам? Почему ты постишься сорок дней и ночей, иссушаешь себя голодом и жаждой?
— Я страдал от голода и жажды, но я сам хотел этого. Ведь я знаю, сколько страданий мне придется претерпеть, прежде чем окончится моя земная стезя, и я захотел здесь, в пустыне, вдали от людей узнать меру моей решимости.
— И теперь знаешь?
— Да, ведь я мог бы сказать этим камням: "Станьте хлебом!", а песку: "Стань водой!" — и не сделал этого.
— Неужели камни и песок послушны твоему слову?
— Вне всякого сомнения.
— Так прикажи им! Ведь сорокадневный пост пришел к концу. Утоли же голод и жажду!
Иисус лишь улыбнулся.
— В Священной книге, — отвечал он, — написано: "Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих".
Архангел стиснул руки на груди.
— Что ж, — промолвил он. — Если ты прибегаешь к священным текстам, то и я не премину ими воспользоваться. Но, как ты сказал, твоя власть сильнее моей. Будешь ли ты противиться, если я сначала перенесу тебя туда, куда мне угодно?
— Я пойду туда, куда ты пожелаешь, — ответил Иисус. — Хочу, чтобы сила Господня во всей безоружности своей посрамила твою слабость во всеоружии ее.
Несколько мгновений архангел вглядывался в Иисуса с выражением несказанной ненависти, затем, возвратившись к первоначальному замыслу, бросил свой плащ на землю, и, встав обеими ногами на один его конец, приказал:
— Поступай как я!
— Да будет так! — произнес Иисус и ступил на другой край плаща.
В то же мгновение их подхватил вихрь, и оба, рассекая пространство, с быстротой молнии, разрывающей небо, перенеслись в Иерусалим и оказались на фронтоне храма.
Тогда с вечной усмешкой, желающей выказать презрение, но выдававшей лишь обреченность, Сатана возгласил:
— Если ты действительно сын Божий, бросься вниз! Ибо написано в Псалме девяностом: "Ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею".
— Все так, — отвечал Иисус, но написано также в шестой главе Второзакония: "Не искушай Господа Бога твоего".
— Хорошо же… Попробуем другое, — содрогаясь от ярости, процедил архангел. — Ты еще не раздумал сопутствовать мне?
— Я принадлежу тебе на эту ночь, — ответил Иисус. — Делай со мной что тебе угодно.
И оба они вновь устремились, рассекая пространство с быстротой, против которой полет орла — самой стремительной из птиц — показался бы неподвижностью сокола, застывшего над своей добычей. Под ними проносились города, пустыни, реки, океаны… Через несколько мгновений они очутились в сердце Тибета, на вершине Джавахира.
— Известно ли тебе, где мы сейчас? — спросил архангел.
— На самой высокой из земных гор, — ответил Иисус.
— Это так. Сейчас я покажу тебе все царства мира.
И с этого мига стало видимым вращение Земли, поскольку оба, стоя на адском плаще, застыли в полной недвижности, в то время как планета и увлекаемая ею атмосфера продолжали вращаться.
— Посмотри! — воскликнул Сатана.
Иисус знаком дал понять, что смотрит.
— Сначала брось взгляд на Индию, — приказал архангел. — Приглядись к этой колыбели рас и племен, месту, откуда отправлялись в мир все религии. Посмотри на ее роскошную природу, делающую человека слабой и зависимой частью творения, несчастным младенцем, затерявшимся на бескрайнем лоне своей матери, малым атомом, растворившимся в огромном мире. Индия с пренебрежением позволила человеку распространяться и плодиться вне всяких пределов, а он не стал ни сильнее, ни многочисленнее, чем где-либо в иных местах: могущество смерти осталось равным жизненным силам. Здесь все природные стихии настолько чудовищны и так придавили человека, что он даже и не пытается сопротивляться. Он отдается на их волю, признавая, что вокруг него все, кроме него самого, — это Бог, а он сам лишь случайный плод, безвестная частица единой, всеобщей и неуничтожимой субстанции! Эта земля дает три урожая в год, в грозу дождь превращает равнину в море, а пустыню в цветущий луг. Тут тростник — дерево в сто ступней вышиной, шелковица — гигант, из каждого пня которого вырастает лес ветвей, покрывающих влажной тенью ползучих гадин в двадцать локтей длиной; здесь множество тигров и львов, а воды рек утоляют жажду самых чудовищных созданий природы: кайманов, гиппопотамов, слонов. Наконец, именно в Индии чума уносит миллионы смертных — столько же, сколько создает их здесь природа. А значит, стоит холере или тифу два года подряд не косить людей — человеческий водопад обрушится на Европу и затопит ее целиком!
Пока архангел говорил, под ними проплывала страна с пронзающими небеса Гималаями, бесконечными мрачными лесами, Камбоджей, Гангом, Индом и ста пятьюдесятью миллионами человек, рассеянных от Китайского моря до Персидского залива.
— Смотри же! — сказал Сатана.
Иисус кивнул и обратил взгляд вниз.
— А вот Персия, — продолжал архангел. — Великая солнечная дорога рода человеческого. Слева от нее — скифы, справа — арабы. Это караван-сарай всего света: тут в свой черед перебывали все народы. Некогда, еще до того как она осознала, что сделалась всего лишь постоялым двором, в ней, не без моего внушения, выстроили ту самую Вавилонскую башню, руины которой еще сегодня выше любой из пирамид. Но теперь, после того как на ее глазах пали храмы и династии, здесь строят только временные жилища на одно-два поколения: палатки, но только из кирпичей. Пятьдесят миллионов человек, поклонявшихся свету и огню, живя среди не отличимых друг от друга лета и зимы, ищут лишь забвения прошлого в своего рода душевном пьянстве, медленно, но непреложно ведущем к смерти.
Под указующим ногтем архангела из-под их ног уходила Персия — от истоков Окса до Красного моря, медленно плыли озеро Дурра, Арал и Каспий, как три зеркала разной величины, Евфрат и Тигр, похожие на гигантских змей, скорчившихся под палящим солнцем, Персеполь, Вавилон и Пальмиру, ныне — лишь руины, а тогда города-цари в пурпурных мантиях и золотых коронах!
— Смотри же! — мрачно сказал Сатана.
Иисус кивнул.
— Вот Египет — это дар, врученный мне Нилом. Если однажды мне взбредет в голову позабавиться или тридцать тысяч его городов и шестьдесят миллионов здешних обитателей — все эти греки, египтяне, абиссинцы, эфиопы — откажутся поклоняться мне, я отверну реку в Красное море и Египет задохнется, затопленный песком вместо воды. Пока же посмотри туда: от Элефантины до Александрии раскинулась равнина изумрудов, это фруктовая кладовая, сад, полный цветов. Здесь кормятся Рим, Греция, Италия. Правда, сам здешний народ вымирает с голоду, напрасно ожидая, что рука, накормившая евреев в пустыне, просыплет и на них манну небесную!
И Египет уходил вдаль, окаймленный пустынями, со своими обрушенными городами, пенными нильскими перекатами, высокими пирамидами, сфинксами, которые, полузарывшись в песок, вперяют неподвижный взгляд в белеющие вот уже пять сотен лет скелеты воинов Камбиза.
— Смотри же! — упорствовал падший ангел.
Иисус кивнул.
— А вот Европа, — продолжал Сатана. — Сравни-ка ее с нашей неповоротливой Азией и увидишь, насколько она лучше выкроена, насколько она удобнее для продвижения племен. Она построена по более искусному плану и гораздо удачнее, нежели прочие места. Погляди, как она, богатая памятниками и бедная людьми, раскинула руки для плодоносных объятий навстречу Африке, кишащей людьми и почти не имеющей никаких построек. Вот Сардиния приближается к раскаленному побережью, вытянув к нему скалу Плумбарий; рядом с ней Сицилия с Лилибеем, Италия выставила мыс Регий, Греция — целый трезубец мысов: Акритас, Тенарон и Малею… Погляди, как острова, рассыпанные по Эгейскому морю, похожи на гигантский флот, под прикрытием обширной гавани готовящийся поставить паруса и пуститься в торговое плавание по всему свету. А на севере Европа облокотилась плечом Скандинавии на полярные ледники. О, как она крепка! Лежит, упершись ногами в плодородную Азию и омочив голову в водах неизведанных морей. Имена ее городов ласкают слух: Афины, Коринф, Родос, Сибарис, Сиракузы, Кадис, Массилия, Рим! Посмотри, как она притягивает к единому центру у несокрушимой скалы Капитолия и западное варварство, то есть Испанию, Британию, Галлию, и цивилизации востока: Грецию, Египет, Сирию. Присмотрись к Европе! Ведь это жемчужина наций, бриллиант, который засияет в будущем…
И пока Сатана говорил, Европа в свою очередь уплывала от них. Сначала — Греция, потом — Италия с Сицилией справа, Германией и Скандинавией слева, а за ними — Англия, страны галлов, Испания…
Затем некоторое время не видно было ничего, кроме воды, — от Северного полюса до Южного, от Арктики до Антарктики.
— Смотри же! — повторил Сатана.
Иисус сделал знак, что смотрит.
— После дряхлеющего мира — мир постаревший. После цивилизации — варварство, а за варварским миром — неизведанные земли! Гляди! Вот целый материк, о котором еще никто не знает. Конечно, он протянулся в длину лишь на три тысячи льё, да на полторы — в ширину. Конечно, он последним всплыл из морской глуби и его большие, как Средиземное море, озера еще не просохли, а реки в полторы тысячи льё длиной не обмелели. Горы здесь поднимаются на восемнадцать тысяч ступней в высоту, пустыни не имеют границ и леса бесконечны. Никто еще не знает, что золота и серебра здесь таится столько же, сколько меди и свинца в остальном мире. Он тянется с севера на юг, прикованный к полюсам, будто железо к магниту, и рассекает мир пополам, оставив лишь узкий пролив, достаточный для прохода корабля. Гляди же: это земля, предвосхищенная одним греческим мудрецом или сумасшедшим, смотря как пожелаешь. Звали его Платон, а материк он нарек Атлантидой.
И Америка ускользнула от них со своими девственными лесами, Ниагарским водопадом, шум которого слышен за десять льё, гигантскими реками Амазонкой и Миссисипи, с Кордильерами и Андами, с вулканом Чимборасо и пиком Мисти…
И снова внизу простирался океан.
— Смотри же! — твердил Сатана.
Иисус кивнул.
— Видишь это необъятное пространство, похожее на зеркало из полированной закаленной стали с разбросанными повсюду темными оспинками?.. Это Тихий океан и его острова. Чем дальше, тем чаще мелькают темные пятна: мы приближаемся к Океании, где острова пасутся на поверхности моря, как стадо гигантских баранов! А вот теперь, гляди, они так сгрудились, что между ними едва различаешь море, как шевелящуюся сеть. Еще ничто здесь не имеет имени, но разве это так важно? Тут живут люди, снует живность, мерцают озера, шумят леса. Перед тобой пятая часть света, вторая Атлантида, раскрошенная в океане. По этим островам можно добраться от Кордильер до Голубой реки — ее устье в полутора тысячах льё от нас, а исток здесь, под нами.
Великий океан мерцал внизу: с большими и малыми кучками островов, с Новой Гвинеей, Новой Голландией, Борнео, Суматрой, Филиппинами и Формозой…
А издалека уже приближалась снежная вершина Джавахира: Земля обернулась вокруг своей оси; весь мир со всеми царствами его был воочию явлен Иисусу.
Сатана же ему сказал:
— Дарую тебе всю эту мощь и славу, все эти скопища людей и богатств, если ты поклонишься мне. Они были отданы мне во власть, и я волен распоряжаться ими по своему соизволению.
Но Иисус отвечал:
— Сказано: "Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи".
Тут страшный крик потряс пространство; в нем звучали проклятие, ненависть, отчаяние. Так Сатана прощался с Иисусом, ибо был вынужден признать в нем сына Божьего.
Когда же громоподобный рык замолк, послышался мягкий грустный шепот:
— О, прекрасный архангел, блистающая утренняя звезда!.. Зачем она пала с небес, ведь она была так великолепна на утреннем небе!..
Это Иисус оплакивал падение Сатаны.
IV БЛУДНИЦА
Несколькими днями спустя в городке Капернаум, что значит "Селение утешения", на северной оконечности Генисаретского озера, объявился Иисус в сопровождении своих первых четырех учеников. То были Андрей, Петр, Филипп и Нафанаил.
До того Андрей был учеником Иоанна Предтечи. Однажды Креститель сказал ему, указав на Христа, возвращавшегося из пустыни после сорока дней искушения:
— Посмотри на того, кто идет мимо нас: это агнец Божий, который берет на себя грех мира!
— А как ты узнал об этом? — спросил Андрей.
— Пославший меня крестить в воде сказал мне: "На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым". Я же видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем.
И Андрей последовал за Иисусом. По дороге он встретил своего брата Симона и сказал ему:
— Иди со мной, брат, мы нашли Мессию.
И привел его к Иисусу.
Поскольку же Симон разглядывал его с немалым удивлением и был охвачен сомнением, Иисус спросил:
— Ты меня не узнаешь?
— Нет, учитель, — ответил Симон.
— Это я ребенком спас тебе жизнь, когда тебя укусила гадюка. Я еще тебе сказал: "Ты сын Ионин, по имени Симон; потом ты будешь зваться Петром, станешь моим учеником и отречешься от меня".
При этих словах Симон бросился к ногам Христа и поцеловал край его платья.
— Учитель, я обязан тебе жизнью, и теперь она принадлежит тебе. Меня более не зовут Симоном, с этого дня я Петр и твой верный ученик. Но все же надеюсь, что в Господней воле позволить мне никогда от тебя не отрекаться.
Иисус улыбнулся и промолвил:
— Идем!
И Петр последовал за ним.
На следующий день Иисус встретил на дороге Филиппа, который, как Андрей и Петр, был из Вифсаиды, и позвал его:
— Следуй за мной, Филипп.
Филипп пошел за ним, а потом, услышав рассказ Петра и Андрея, он, в свою очередь встретив Нафанаила, сказал ему:
— Иди с нами, ибо мы нашли того, о ком говорят Моисей и пророки.
Удивленный, Нафанаил спросил, кто же этот человек, на что Филипп отвечал:
— Это Иисус из Назарета.
На что Нафанаил лишь пожал плечами.
— Из Назарета! — повторил он. — Из Назарета может ли быть что доброе?..
Но тут вступился Иисус:
— Вот истинный израильтянин, — сказал он. — В нем нет никакого лукавства.
— Откуда же ты меня знаешь? — растерянно вопросил Нафанаил.
— Прежде чем Филипп призвал тебя, — пояснил Иисус, улыбнувшись, — я уже видел тебя под фиговым деревом.
И Нафанаил, действительно до того обедавший под фиговым деревом, с поклоном проговорил:
— Учитель, истинно ты царь Израиля!
— Ты поверил, потому что я тебя видел под деревом, — вновь обратился к нему Иисус, — но ты получишь и другое подтверждение: увидишь, как над головой у меня раскроются небеса и ангелы будут спускаться и подниматься!
Затем в сопровождении четырех учеников он пришел в Кану, где была Богоматерь. Именно там, будучи приглашен на свадьбу, он по просьбе Марии, к великому изумлению сотрапезников, совершил чудо претворения воды в вино, а затем отправился в Капернаум.
В первый раз молодой учитель оказался в этом городе, однако его приход произвел там большое впечатление. Его лицо поражало еще не изгладившейся красотой ребенка и серьезностью зрелого мужа, а поединок в пустыне с врагом рода человеческого придал ему выражение печальной искушенности.
Как никакое другое место, Капернаум подходил для того, чтобы Христос явил здесь знаки своей божественной природы. Город далеко отстоял от Иудеи и, мало того, был отделен от нее Самарией. Его принято было считать гнездилищем тьмы и непросвещения, а потому божественный свет, излитый в столь сумрачном месте, являл бы собой особенно поучительное зрелище.
К тому же жизнь Иисуса предначертана видениями пророков, а у Исайи сказано: "Земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет".
Вот почему Капернаум с его окрестностями был избран Иисусом для первых предсказаний и чудес. Именно там он произнес: "Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие".
От Капернаума недалеко до Генисаретского озера; ученики Христа, бывшие рыбаками, часто отправлялись к озеру закидывать сети. Иногда он шел с ними; именно там он им сказал: "Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков!"
А увидев чуть подалее Иакова, Зеведеева сына, и его брата Иоанна, что сидели в лодке и чинили сети, учитель позвал их за собой. Рыбари бросили лодку и сети, покинули своего отца, старого Зеведея, и пошли за Христом: так трудно было воспротивиться его мягкому завораживающему голосу, превращавшему приказ в молитву, когда он говорил: "Идите за мною!"
Уже в то время Христом овладел великий замысел: справить Пасху в Иерусалиме и там испытать свои силы. Они пробудились в нем недавно, но это не умаляло их власти над людьми и вещами, хотя пока что его уверенность в себе питали лишь слова самоотречения, повторяемые Иоанном Крестителем, который вещал всем пожелавшим слушать его: "Я лишь Предтеча, Мессия же — Иисус".
И вот в сопровождении шести первых учеников Иисус отправился в Иерусалим.
Мы уже рассказывали, что представлял собой Иерусалим в дни религиозных торжеств, упоминали о переполненных постоялых дворах, палатках на больших площадях, о паломниках, заполнивших театральные перистили и даже портики храма.
В храмовом притворе, да и в самом храме возникала своего рода ярмарка. Продавцы с громкими криками переманивали покупателей, чуть не силой вырывали их друг у друга, предлагая голубей, барашков и даже жертвенных быков. Священники терпели торговцев, ибо имели прибыль. И поскольку оживленный торг шел круглый год, а перед праздниками народу еще прибавлялось, то это место облюбовали также меновщики со столиками, на которых громоздились мешочки с серебром и кучки золота.
Среди гомона торгующих и покупающих, зазываний меновщиков, перезвона золотых и серебряных монет, блеянья и мычания по ступеням поднялся человек с бичом. Он вступил в притвор, огляделся и воскликнул:
— Возьмите это отсюда, и дома Отца моего не делайте домом торговли!
Поскольку те, к кому он обращался, не спешили повиноваться, он поднял бич, и хотя тот был сплетен из тонких веревок, на челе назвавшего храм Господень домом своего Отца запечатлелось такое величие и столько властности зазвенело в его голосе, что меновщики, продавцы, покупатели и перекупщики, толкая друг друга и опрокидывая столы и лавки, в беспорядке ринулись вон и, воздевая руки, скатились вниз по ступеням. Таким грозным показался им Христос, похожий на одного из ангелов, что хлыстами изгнали Гелиодора. Ибо перед ними стоял не кто иной, как Иисус, чей голос обретал необычайную силу, когда ему было угодно переходить от мягкости к повелению:
— Написано: "Дом мой домом молитвы наречется для всех народов", а вы сделали его вертепом разбойников!
Появление Мессии навело на всех такой страх, что, хотя учитель и нарушил законы, прибегнув к насилию в храме, никто не осмелился спросить с него за это. Сам же Иисус, узнав, что незадолго до того Ирод Антипа повелел схватить Иоанна Крестителя, поставившего в вину тетрарху Галилеи женитьбу на племяннице, отправился назад в Капернаум.
Ему предстояло пересечь Самарию. Некогда завоеванная Салманасаром, переместившим ее обитателей за Евфрат, затем вновь заселенная Ассархаддоном, снова разоренная Антиохом Великим, а вслед за ним — Иоанном Гирканом, Самария после ассирийского нашествия сделалась местом, где обитали пришлые люди и идолопоклонники, вечно воевавшие с Иудеей. Оба царства питали друг к другу враждебность и презрение. А потому, чтобы не приходить в Иерусалим, самаряне построили свое особое святилище на горе Гаризим.
Иисус шел по этим землям, но к полудню, утомившись и пройденной дорогой, и жарой, сел под сикоморой у колодезя Иакова. Ученики же отправились в город за провизией. Едва он успел перевести дух, как увидел женщину, пришедшую к источнику за водой, и попросил у нее напиться.
Самарянка с удивлением посмотрела на него.
— Что же это? — спросила она. — Ты иудей и у меня, у самарянки, просишь пить?
— Если бы ты знала того, кто говорит тебе: "Дай мне пить", то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую, — произнес Иисус.
Самарянка, ранее не рассмотревшая его хорошенько, теперь вгляделась в отмеченные мягким благородством черты его лица и воскликнула:
— Господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок: откуда же у тебя вода живая?.. Неужто ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?
— Всякий, пьющий воду сию, — отвечал ей Иисус, — возжаждет опять; а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.
Удивление самарянки все возрастало.
— Господин! — взмолилась она. — Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать.
Иисус кивнул и предложил:
— Пойди, позови мужа твоего и приди сюда.
Но она лишь покачала головой:
— У меня нет мужа.
Божий избранник улыбнулся и промолвил:
— Правду ты сказала, что у тебя нет мужа; ибо у тебя было пять мужей и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе.
Пристыженная, но и полная почтения, женщина попросила:
— Господи, Господи! Вижу, что ты пророк. Но просвети меня: отцы наши поклонялись на этой горе, что зовется Гаризим, а ваши пророки говорят, что есть только одно место, где должно поклоняться, и находится оно в Иерусалиме.
— Поверь, женщина, — чуть возвысил голос Иисус, — поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, ибо Бог есть дух и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине.
— Да, — сказала самарянка. — Знаю, что придет Мессия. Когда он придет, то возвестит нам все.
Несказанная улыбка осветила лицо Спасителя.
— Это я, который говорит с тобою.
Пораженная его ответом, самарянка не могла понять, смеется он над ней или говорит серьезно, но тут подоспели ученики и заговорили, обращаясь к нему со всем почтением, как слуги с повелителем, и рассеяли ее сомнения. Оставив на земле кувшин, она бросилась в город с криком:
— Идите все! Идите! Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала: не он ли Мессия?
На клич этой женщины высыпали люди. Они вышли из города и приблизились к Иисусу.
Но ученики, заботившиеся о том, чтобы он насытился, невзирая на великое стечение народа, стали упрашивать его:
— Учитель, ешь.
Он покачал головой и молвил:
— У меня есть пища, которой вы не знаете.
Ученики стали переглядываться, тихо спрашивая друг друга:
— Разве кто принес ему еду?
— Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его.
И пояснил, как всегда прибегнув к иносказанию:
— Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.
Тут мысль Иисуса сделалась понятной даже самарянам. Он продолжал, и они поняли, что он — сеятель, а они — жатва. Тогда они привели его в свой город, называемый Сихем. Христос оставался там два дня, а когда ушел, большинство жителей уже успело уверовать в него.
После этого Иисус отправился в свою верную Галилею, где осталась память о его жизни в Капернауме и гремела молва о нем. И вот в Кане встретился Христу некий царедворец, спешивший ему навстречу.
— О Господи! — закричал он, едва завидев Иисуса. — Умоляю, поторопись: сын мой при смерти, и лишь ты сможешь его излечить!
Но Иисус ограничился тем, что простер руку в сторону Капернаума и с тем выражением, которое не терпит каких-либо сомнений, проговорил:
— Ступай, сын твой здоров!
Проситель же столь уверовал, что в сердце его не осталось и тени страха. Поблагодарив целителя, он отправился домой и еще в дороге повстречал слуг, прокричавших ему:
— О господин! Возрадуйтесь: сын ваш не только вне опасности, но, напротив, совершенно выздоровел.
— А с какого времени? — вне себя от радости, спросил бедный отец.
— Со вчерашнего дня!
— Со вчерашнего дня! А в котором часу лихорадка отпустила его?
— В час после полудня.
Именно тогда Иисус произнес: "Ступай, сын твой здоров!"
Итак, возвращению Мессии в Капернаум предшествовала весть о совершенном им чуде, и потому его появлению там все несказанно обрадовались. В этом городе он решил обосноваться. В предместьях Капернаума он проповедовал слово Господне, а берега Генисаретского озера стали местом, где его божественная сущность явилась во всем блеске и величии. Именно по поверхности этого озера он шел, не касаясь воды ступнями, на его берегах он несколькими хлебами и рыбами накормил тысячи человек, а среди зловещей бури, что вздымала валы воды, угрожавшие потопить лодку, в которой он заснул, и кричавших от ужаса учеников, учитель, проснувшись, приказал взбесившемуся ветру: "Утихни!", а бушующему морю: "Успокойся!" — и воцарились покой и безветрие.
И позже каждое следующее возвращение в Капернаум становилось новым поводом для чудес: изгнания нечистой силы из бесноватого, исцеления тещи Петра, воскрешения дочери Иаира… Великая страница его божественной жизни разворачивается перед нашими глазами, и каждая ее строка отмечена благодеянием роду человеческому.
"И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии; и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана".
Не мудрено, что, когда Иоанн Предтеча, томясь в узилище, но беспокоясь не о своей участи, а о святом подвижничестве Спасителя, просил от него вестей, Иисус отвечал его посланцам:
— Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют.
Приближалась новая Пасха. Иисус опять отправился в Иерусалим, и везде по пути его добрые дела вызывали всеобщую благодарность; однако, обретая славу, он множил и число своих врагов. Он не первый объявлял себя Мессией. Но предшественниками его были мессии политические, новые Иуды Маккавеи, пытавшиеся поднять против римлян еврейский народ, а жители Иудеи, устав от чужеземного ига, провоевав с ними два века, всегда были готовы к новому восстанию. И вот, как только распространился слух о Христе, толпы вооруженных людей пытались похитить его и объявить царем. Но сам Иисус изгонял этих людей, говоря о них: "Все, сколько их ни проходило предо мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их".
Когда он уже приближался к Иерусалиму, до него дошла весть о казни Иоанна Крестителя. Это был знак новой, грозной опасности, поджидавшей и его.
Как известно, Предтечу бросили в узилище прежде всего за его предсказания: он предрекал приход нового владыки мира. Однако мир принадлежал мнительному Тиберию, в то время укрывшемуся на скалах Капреи, а его осведомители не умели или не желали отличать царство духа, к обретению которого стремился Иисус, от царства земного, по закону принадлежащего их повелителю. Кроме того, Иоанн Креститель не убоялся порицать тетрарха Галилеи за его брак с племянницей Иродиадой, и Ирод, прикрывая заботами о благе отечества собственную мстительность, повелел схватить и заточить нарушителя спокойствия.
Возможно, Ирод этим и ограничился бы, но Иродиада сочла, что наказание слишком мало.
Ее дочь, юная, прекрасная, обожаемая ни в чем ей не перечившим отчимом, разумеется, встала на сторону матери. Однажды на пиру Ирод попросил ее сплясать для него, но она согласилась лишь при условии, что тетрарх исполнит первое же ее желание. Ирод поклялся исполнить при условии, что требуемое было бы в его власти. Дочь Иродиады исполнила танец, а после попросила голову Иоанна Крестителя.
Ирод оказался заложником данного слова: голову Предтечи принесли на золотом блюде, и, как послушная дочь, прекрасная преступница положила ее к ногам своей матери.
Та же участь грозила и Христу.
Поэтому он решил остановиться в некотором удалении от столицы. Вифания, находившаяся всего в пятнадцати стадиях от Иерусалима, была укрыта от него восточным склоном Масличной горы. Это отвечало намерениям Иисуса, и он остановился там.
Едва слух о его прибытии распространился, как некий фарисей, прозванный Симоном Прокаженным, пригласил Иисуса к себе на трапезу.
Иисус согласился: он желал доказать, что его ненависть вызывала сама секта фарисеев, известная своим высокомерием и непреклонностью, а не люди, оказавшиеся в ней.
Обед был роскошен. Все, что он имел, Симон употребил в дело, чтобы достойно приветить того, кого называли сыном Божьим; но одно обстоятельство, на которое и сам хозяин дома не рассчитывал, придало этому обеду особое величие.
Когда подали сладкое, вошла молодая девушка из Вифании, чьи брат и сестра по имени Лазарь и Марфа жили по соседству в том же селении. Она была в дорогих одеждах и вступила в трапезную с алебастровым сосудом, наполненным благовониями.
Все узнали девушку и удивились ее приходу. Это была самая известная и дорогостоящая из иерусалимских блудниц (а город славился своими жрицами любви). Прекрасную грешницу звали Марией Магдалиной.
И вот, не обращая внимания на удивление сотрапезников, она смиренно и с опущенными долу глазами подошла к Иисусу, и, хотя ни разу до того не видела, сразу узнала его, без сомнения, по улыбке.
Все принимавшие участие в трапезе возлежали на ложах;
поскольку Иисус расположился головой к столу и ногами к двери, Магдалина, войдя, сразу опустилась на колени и принялась так обильно лить слезы, что омыла ими ноги учителя и, натерев их драгоценным миром из сосуда, вытерла своими волосами.
Христос позволил ей проделать все это, гладя с невыразимым состраданием на бедную девушку, так уничижавшую себя у его ног. До сих пор все прибегали к его помощи для исцеления своих телесных недугов, никто — ни мужчина, ни женщина — не искал у него избавления от пороков души.
Сотрапезники с удивлением воззрились на прекрасное создание в парчовых одеждах с блестевшими на шее золотыми цепочками, с драгоценными браслетами и кольцами на руках, вытирающее роскошными белокурыми волосами ноги Иисуса.
Хозяин же дома, богатый прокаженный, сказал себе: "Я напрасно пригласил к себе этого человека, ибо он не пророк. Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница".
Но Христос, читавший в сердце фарисея, вдруг с мягкой улыбкой тихо произнес:
— Симон, я имею нечто сказать тебе.
— Скажи, я слушаю, — откликнулся фарисей.
— У одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят; но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, кто из них более возлюбит его?
— Учитель, — отвечал Симон, — нечего и рассуждать: конечно, тот, которому простили больший долг.
— Правильно ты рассудил, — заметил Иисус.
А затем обернулся к Магдалине.
— Видишь ли эту женщину? — спросил он прокаженного. — Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал; а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал; а она, с тех пор как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне стопы. А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много; а кому мало прощается, тот мало любит.
А потом, возложив руку на голову грешницы, произнес:
— Прощаются тебе грехи. Вера твоя спасла тебя. Иди, бедная дочь Евы, с миром, ты теперь чиста перед Господом, как в день, когда ты появилась на свет!
И Магдалина поднялась счастливой и утешенной и с тех пор отдала Иисусу всю любовь своего сердца и души.
V ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
На этот раз Иисус справлял Пасху не в Иерусалиме, а в Вифании. Как он и сказал Петру и Иоанну, подготовил празднество Илий, родственник Захарии из Хеврона. После Пасхи Мессия вновь направился в Галилею, провожаемый благословениями народа, а особо — молитвами Магдалины и Марфы с Лазарем, ее брата и сестры.
Там Иисус продолжает великое дело исцеления.
Он без отдыха лечит всех, кого к нему приводят, не справляясь, из какой они секты, и не заботясь о том, какой день на дворе, даже в субботу не прекращая богоугодного дела, думая лишь о страданиях несчастных и мучениях их родственников.
И каждый говорит себе:
— Посмотрите на этого человека! Законники, книжники и лекари берут с нас много, но не лечат, и мы умираем, а он исцеляет без денег и, кроме лечения, увещевает, и дает наставления, которые открывают дорогу в Царствие Божие!
За этот последний год он исцелил прокаженного слугу, сотника, глухого и слепого бесноватого, дочь хананеянки, слепца из Вифсаиды. В тот же год из его уст слышат прекраснейшие притчи о добром семени и о плевелах, о добром пастыре и наемнике, о благодетельном самарянине, о двух домоправителях — усердном и нерадивом, о званных на большой ужин, о заблудшей овце, о блудном сыне — притчи, запечатлевшиеся не только в нашей памяти, но и в наших сердцах. В тот же год, наконец, к нему присоединяются Фома, Матфей-мытарь, Иаков, сын Алфеев, Фаддей, Симон-хананеянин и Иуда. Таким образом, вместе с Петром, Андреем, Иаковом-старшим, Иоанном, Филиппом и Варфоломеем число его апостолов дошло до двенадцати, не считая семидесяти учеников, посланных им проповедовать и учить, подобно семидесяти старцам, вершившим суд в Израиле.
И вот, имея позади чреду прославивших его чудес, вокруг — стечение обожающего его народа, Иисус приходит к мысли, что пора воплотить свое учение целиком в одном обращении, или, как мы скажем сегодня, в одном исповедании веры.
— Взойдем на гору, — промолвил он. — Идите все, так как я хочу говорить со всеми!
И более десяти тысяч пошли за ним.
Поднявшись на вершину горы, он окинул взором собравшихся и увидел, что большинство их — обездоленные мира сего, бедные, угнетенные, страждущие. Их ум был неразвит, а сердце обливалось слезами. Жены их походили на встреченную им некогда самарянку, дочери — на сестру Марфы и Лазаря. Как и в других больших городах, у этих обиженных судьбой вся надежда была на какой-нибудь случай, способный изменить их удел, с каждым восходом солнца они уповали, что вопль их нищеты долетит до ушей Господних. Иисус проникся большой жалостью к этим несчастным, сел среди них в окружении своих учеников и начал голосом, исполненным милосердного смирения:
— Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное! Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю! Блаженны плачущие, ибо они утешатся! Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся! Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут! Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят! Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими! Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное!
Затем он обратился к ученикам и апостолам, но возвысил голос для того, чтобы и прочие могли его слышать:
— А вам говорю вот что: день, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить, и понесут имя ваше как бесчестное, из-за меня — этот день станет днем вашего блаженства! Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так же поступали с пророками отцы их. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям!
Вы — свет мира, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного!
Но говорю вам: если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.
Вы слушали, что сказано древним: "Не убивай; кто же убьет, подлежит суду". А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону, а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. И он станет дважды угоден Господу!
Вы слышали, что сказано древним: "Не прелюбодействуй!" А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.
Еще слышали вы, что сказано древним: "Не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои". А я говорю вам: не клянись вовсе. Ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: "да, да", "нет, нет", а что сверх этого, то от лукавого.
Вы слушали, что сказано: "Око за око, и зуб за зуб". А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
Вы слышали, что сказано: "Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего". А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных; ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?
Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.
Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
Молитесь же так:
"Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя твое; да придет Царствие твое; да будет воля твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого; ибо твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь".
И много еще говорил Иисус, и сказанное им глубоко западало в память слушавших его. А потому, когда он кончил, все продолжали внимать ему и ни один не поднялся.
Поднялся он сам, и только тогда все множество людей догадалось, что поучение закончено, и все как один сказали:
— Благодарим, учитель! Мы сегодня услышали из твоих уст то, что никто раньше не слышал и не говорил. Ибо ты поучал нас сегодня, как один лишь Господь может учить, а не как книжники и фарисеи.
И никто из множества внимавших Христу не догадывался, что, проповедуя любовь и истовость в вере, он сам выносил себе приговор.
Но он знал это, он знал, что день его близок, и потому спустя лишь месяц после изложения основ своего учения решился рассеять все сомнения учеников в его божественной природе.
Взяв самых любимых своих апостолов Петра, Иакова и Иоанна, он поднялся с ними на ту же самую гору, откуда на горожан просыпалась манна его увещеваний. Полагают, что то была гора Фавор.
Там Иисус стал возносить молитвы Всевышнему, и, пока молился, от лица его стали исходить лучи света, и оно уподобилось солнцу; его красный хитон и голубой плащ превратились в белоснежные блистающие одеяния, ноги оторвались от земли, и он воспарил над ней.
Трое учеников в молчании, с молитвенно сложенными руками смотрели на него, и ужас закрадывался в их сердца, когда они поняли, что Христос уже был не один: по бокам его они распознали Моисея и Илию.
Оба они, как сказано, "явившись во славе, говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме".
Но вдруг над их головами возникло облако, и ужас апостолов стал непереносимым, когда святые мужи вошли в это облако и оно просияло, "и был из облака глас, глаголющий: сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте".
Когда голос умолк, облако исчезло и Иисус остался наедине с тремя апостолами.
Тогда те спросили его, что имели в виду Моисей и Илия, когда говорили о его исходе из мира сего в Иерусалиме.
И тут Иисус поведал им о том, о чем ранее не упоминал: что ему надлежит отправиться в Иерусалим, что он много претерпит от старейшин, первосвященников и книжников, и, наконец, что его там предадут смерти.
Апостолы побледнели от отчаяния при таких речах, но Иисус продолжил:
— Мне предначертано победить смерть и воскреснуть: так пусть вас не печалит эта смерть, потому что я на третий день воскресну!
Может, накануне они и стали бы сомневаться, но теперь вера проникла до глубины их сердец.
В Иерусалим Христос отправился тайно: решившись умереть, он желал, по меньшей мере, сам избрать день своей гибели, и прибыл в священный город к празднику поставления кущей.
Но везде, где пролегал его путь, словно бы светлый луч рассекал сумрачное небо. Так, когда он проходил мимо одного из селений Галилеи, десять прокаженных, изгнанных из города, лишенных всякого общения, боявшихся даже смотреть друг на друга из-за своих уродств, отверженных даже своими товарищами, узнав о его приходе, на коленях поползли ему навстречу, издалека умоляя вылечить их, преисполненные веры во всемогущество его:
— Иисус, наш повелитель, Иисус, учитель наш, надежда наша! Смилуйся над нами!
Сын Божий услышал их крики и, еще не дойдя до них, возгласил:
— Идите и покажитесь священникам!
Когда же они предстали перед священниками, пользовавшими их и заклинавшими против этой болезни, оказалось, что они совсем здоровы.
Прибыв в Иерусалим, Иисус сразу пошел проповедовать в храме и там, стоя в притворе, откуда некогда изгнал торгующих, провозглашал:
— Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой!
А тут случилось, что книжники и фарисеи застали несчастную женщину во время прелюбодеяния и, прежде чем по закону Моисея побить ее камнями, привели к Иисусу, стоявшему в храме во Дворе Народа. Они хотели заманить его в ловушку: если он осудит несчастную, его можно будет обвинить в жестокости, а если оправдает — в святотатстве.
— Учитель, — говорили они, — эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями; ты что скажешь?
Женщина была молода и красива; в ожидании мучительной смерти она плакала.
Увидев ее слезы, Христос ответил:
— Кто из вас без греха, первым брось в нее камень!
Книжники и фарисеи вопросили свою совесть, и она обличила их. Они уразумели, что отвечающий глубоко заглянул в их души, и стали расходиться, начиная от старших до последних, и остались один Иисус и женщина.
Оглядевшись, сын Божий увидел, что она оправдана лишь силой его слов.
— Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя, — сказал он.
— Никто, Господи! — отвечала она.
Иисус сказал ей:
— И я не осуждаю тебя, несчастная!.. Отец мой Небесный привел меня сюда для искупления, а не суда. Иди и впредь не греши!
После таких поступков и слов Христу уже было невозможно оставаться в Иерусалиме неузнанным. Злобные вопли врагов и особенно восхищенный гул толпы сопутствовали ему всюду. Говорили:
— Этот человек, конечно, пророк!
Другие возражали:
— Это больше чем пророк, он — Мессия. Вспомните слова Иоанна Крестителя о том, что он, Иоанн, только апостол, а Иисус — сын Божий.
Справедливо будет сказать, что некоторые сомневались, говоря:
— Разве из Галилеи придет Мессия? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из тех же мест, откуда был Давид?
Однако это не мешало и тем, и другим, и третьим с жадностью слушать его речи, ибо его слова проливались бальзамом на души, измученные неволей, и тела, истомленные нищетой.
А потому, хотя стража, имевшая приказ схватить Иисуса, и отыскала его посреди поклонявшихся ему, однако стражники то ли сами подпали под обаяние его речей, то ли побоялись народного возмущения: его никто не тронул.
А вернувшись к священникам и фарисеям, спросившим: "Почему вы не привели его?" — служители лишь качали. головами и оправдывались:
— Никогда никто не говорил так, как этот человек.
В ответ на это фарисеи с возмущением вопрошали:
— Неужели и вы прельстились? Разве уверовал в него кто из начальников или из фарисеев?
— Нет, — объясняли служители. — Но мы увидели множество простого народу, толпу людей из Нового города и предместий.
— Но этот народ невежда в законе, проклят он, — объявили фарисеи, — это бродяги, смутьяны… Вернитесь и схватите этого человека.
Но один из старейшин поднялся и напомнил:
— Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?
— Может, и ты галилеянин, Никодим? — раздалось несколько голосов. — Прочти священные тексты и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.
Никодим ничего не ответил, и все же, поскольку он был человеком почтенным и справедливым, его голос возымел действие: все разошлись по домам, так и не решив, что делать с Иисусом.
При всем том Христос заметил стражников. Заранее избрав временем своей гибели предстоящую Пасху, он пока что предпочел покинуть город и вышел из него по той дороге, на которой случайно оказался.
Однако толпы народа следовали за ним повсюду, а он продолжал исполнять святое дело: исцелил слепорожденного, поведал своим верным притчу о добром пастыре, предрек, что фарисеи так и умрут во грехе…
Когда он так бродил по дорогам, исцеляя и возвещая о грядущем, его нашел посланец, покрытый дорожной пылью.
— Я из Вифании; меня прислали Магдалина и сестра ее Марфа, — сказал он. — Они велели передать, что брат их Лазарь очень болен.
— Я понял тебя, — отвечал Иисус. — Но нечего торопиться: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее сын Божий.
И посланный возвратился домой.
Христос же провел еще несколько дней в том месте, где и был, и лишь после этого обратился к ученикам:
— А теперь пойдем повидать Лазаря!
Это никого не удивило: все знали, что он питал к этому семейству особую любовь.
Он же добавил:
— Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его.
Ученики последовали за ним, не уразумев, о чем он говорил; вообще все они, кроме Петра, редко выспрашивали его о смысле сказанного им, зная по опыту, что темные места его речей обычно проясняются сами собой.
И потому они воскликнули, сочтя, что учитель упомянул об обычном сне:
— Господи, если он уснул, то выздоровеет.
Но Иисус сказал:
— Лазарь умер!
Ученики удивились, что он позволил умереть человеку, которого называл своим другом.
— Идемте, идемте, — позвал их Христос. — Все свершилось по воле Божией, чтобы те, кто еще сомневается, отринули все сомнения.
И все же некоторые из них не решались, говоря:
— Учитель! Давно ли иудеи искали побить тебя камнями, а ты опять идешь в Иерусалим!
Но тут Фома обратился к остальным:
— Отправимся с учителем, чтобы разделить судьбу его, и если он умрет, умрем с ним!
Иисус с нежностью взглянул на него и промолвил:
— После сих слов, Фома, ты прощен заранее, даже если когда-нибудь усомнишься.
И все отправились в Вифанию.
По дороге Иисус встретил Марфу. Вне себя от горя, она шла навстречу великому утешителю.
— О! — ломая руки, зарыдала она, едва завидев Христа. — Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой! Почему же тебя не было здесь, почему не пришел ты, когда я просила?
Иисус отвечал:
— Не плачь, Марфа, твой брат воскреснет!
— Да, — не переставала причитать Марфа, — я знаю: это будет в день воскресения всех мертвых.
Но Иисус движением руки прервал ее и провозгласил:
— Я есмь воскресение и жизнь; верующий в меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?
— Господи! — вскричала несчастная. — Я верю, что ты Христос, сын Божий, грядущий в мир ради искупления нашего!
После этого она побежала в дом, отозвала плачущую Магдалину, сидевшую в кругу множества друзей, пришедших из Иерусалима, чтобы утешить сестер, и тихо прошептала:
— Учитель здесь и зовет тебя.
Тотчас лицо Магдалины осветилось радостью, слезы иссякли; она встала, не говоря ни слова, бросилась к двери и выбежала навстречу Иисусу.
Ведь если даже Марфа уповала на всесилие Спасителя, то вера бедной грешницы была еще глубже и сильней!
Ибо на смену земным утехам пришла единственная любовь — любовь небесная.
Вот почему она бросилась навстречу сыну Божьему, и ее очистившееся сердце обгоняло ее на белоснежных крыльях голубки.
А иудеи, которые были с Магдалиной в доме и утешали ее, видя, что она поспешно встала и вышла, пошли за ней, говоря друг другу:
— Бедняжка, она пошла на гроб Лазаря — плакать там.
Но Магдалина не остановилась перед гробницей. Она прошла мимо, лишь склонившись на миг там, где лежал возлюбленный брат, и в этом жесте горю сопутствовала надежда.
Иудеи же продолжали следовать за ней.
Вскоре они увидели на дороге довольно большое скопление людей, впереди которых шел некто со спокойным лицом и твердой поступью.
Признав в нем Христа, Магдалина остановилась и, в смирении своем не решаясь подойти ближе, пала на колени, простерла к нему руки, и выкрикнула со всей страстностью, на какую было способно ее сердце, столь часто сгоравшее в огне земных желаний:
— Господи, Господи! Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!
И как гласит Евангелие, "Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам восскорбел духом и возмутился".
— Где вы положили возлюбленного брата вашего? — спросил он дрогнувшим голосом.
— Пойдем, Господи! — вскричала Магдалина. — Я покажу тебе его гробницу.
Иисус последовал за ней. На глазах у него выступили слезы.
А иудеи, указывая на него, говорили между собой:
— Смотри, как он любил его! Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?
А другие отвечали:
— Почему же не пришел он, когда его просили? Исцеляющий слепых и параличных, он несомненно и этого исцелил бы.
Так, скорбя, они дошли до пещеры, заваленной камнем. Марфа на коленях ожидала их.
И Иисус спросил:
— Здесь ли похоронен мой друг Лазарь?
— Здесь, под этим камнем, — ответила Марфа.
У Магдалины же от горя и трепетной надежды так сжалось сердце, что она едва могла говорить: из уст ее вырывались обрывки фраз, из груди — хрипы вместо вздохов.
С необычайной нежностью Иисус оглядел обеих женщин и приказал присутствующим:
— Отнимите камень!
— Но, Господи, уже смердит, — жалобно проговорила Марфа. — Ибо четыре дня, как он во гробе!
И тут, подняв руку, Христос воззвал:
— Камень могильный, отворись сам!.. Лазарь, иди вон!
И камень поднялся, словно бы отброшенная рукой покойника, и стал виден Лазарь в саване, обвитый поверх его погребальными пеленами, закрывавшими все тело и часть лица.
Покойный встал, и ужас всех, кто это видел, еще не успел смениться радостью, когда Иисус повелел:
— Развяжите его, пусть идет.
Марфа и Магдалина бросились срывать с Лазаря саван и пелены, восклицая:
— Слава Всевышнему!.. Слава Господу Иисусу!.. Чудо!
И Лазарь еще глуховатым, едва оттаявшим от могильного холода голосом, вторил им:
— Слава Всевышнему!.. Слава Господу Иисусу!.. Чудо!
Как и обещал Иисус, мертвый воскрес.
Никогда ранее Христос не совершал более явного, невероятного чуда при столь большом стечении народа.
Понятно, что видевшие все это, не владея собой, пустились бегом в Иерусалим, рассказывая о том, что им открылось, и крича:
— Слава Создателю! На этот раз Мессия явился нам!
Сам же Иисус удалился к границе пустыни в город Ефраим, а Магдалине, Марфе и особенно вновь обретшему жизнь брату их, пытавшимся удержать его в Вифании, отвечал:
— Мой час еще не настал: я еще вернусь разделить с вами прощальную трапезу, это случится на будущую Пасху.
И он быстро пошел в сторону пустыни и вскоре исчез из глаз.
VI ГОРЕ ТЕБЕ, ИЕРУСАЛИМ!
Слух о чуде разнесся не только по Иерусалиму, но и за его пределами. Чтобы увидеть Лазаря, притронуться к нему, люди приходили из Гефсимании, Анафофа, Вефиля, Силоама, Гаваона, Эммауса, Вифлеема, Хеврона и даже Самарии. Многие очевидцы переставали верить глазам и рукам своим — особенно те, кто отдал ему последний скорбный долг. Они не уставали повторять:
— Мы же видели, как он умер! На наших глазах его облачали в саван и пелены! При нас его хоронили!
Но сколь велика была радость простого народа, столь же невероятной стала растерянность фарисеев, против которых в проповедях Христа звучало больше всего обвинений. Смущены и подавлены были также иродиане, обязанные всем тетрарху Ироду. Ирод же, во всем зависимый от римлян, больше всего боялся, как бы новый Иуда Маккавей не освободил единоплеменников от ига чужаков.
Ведь путы, хотя и позорные, были позлащены!
Фарисеи говорили:
— Что нам делать? Этот человек много чудес творит, а мы такого не можем!
Иродиане вторили им:
— Если оставим его так, то все уверуют в него и снова взбунтуются, а тогда придут римляне и овладеют местом нашим и народом!
Но боялись его только богатые. О них сын Божий говорил, что не они добром, а добро ими владеет.
С этого времени фарисеи и иродиане помышляли лишь об одном: предать смерти того, кого фарисеи называли богохульником, а иродиане — бунтовщиком.
На их стороне был первосвященник Каиафа, обещавший казнить преступника.
Но напрасно они искали Иисуса в городе и его округе. Как мы только что говорили, Христос был уже в Ефраиме, на краю пустыни и ждал там, пока подойдет его смертный час.
Время это приближалось, дело шло к Пасхе, и Иисус сказал:
— Идем в Иерусалим.
Им предстояло вновь пройти через Самарию.
А отправиться в Иерусалим, чтобы справить там Пасху, — значило без обиняков объявить себя иудеем и противником самарян. Вот почему первый же город, где объявились Иисус и апостолы, отказал им в гостеприимстве.
Видя это и не желая терпеть оскорбления, наносимые их наставнику, двое из учеников обратились к нему:
— Господи! Хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?
Иисус лишь улыбнулся. Он увидел, что апостолы начали постигать его власть и сознавать свою силу. Однако он упрекнул их, ибо они поддались порыву ярости. Он сказал:
— Не знаете, какого вы духа; ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать.
И они пошли дальше по дороге к Иерусалиму.
За час пути до города Иисус остановился.
— На этот раз, — сказал он, — случится то, что предсказано пророками. Слушайте, и пусть каждый узнает, что ему предстоит. Сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками. Его обрекут на смерть и предадут язычникам. Ему будут плевать в лицо и осыпать побоями. Но на третий день он воскреснет.
Кое-кто из апостолов так беззаветно уверовал в будущее воскресение, что двое из них приблизились к Иисусу и сказали:
— Учитель, нам бы хотелось, чтобы вы позволили нам то, о чем попросим.
То были Иаков и Иоанн.
— Что должен вам дозволить тот, кто осужден умереть? — спросил Иисус.
— Позволь, — ответили они, — чтобы мы сподобились славы и в царствии твоем сидели бы от тебя по правую и левую руку.
— Ваша просьба исполнится, — заверил их Иисус, — потому что веруете в меня.
В пятницу, за неделю до того дня, который из-за смерти Спасителя назовут Страстной пятницей, он добрался до Вифании.
Ученики опередили его и предупредили Симона, у которого Христос уже останавливался.
Все тотчас приготовились к трапезе. Мужчины заняли место у стола, женщинам же не полагалось в этот день есть вместе с ними. Посему Марфа принялась помогать по хозяйству и заботиться об угощении, а Магдалина села прямо на пол у ног Иисуса, жадно ловя каждое его слово.
Не вытерпев, Марфа спросила ее:
— Что ты теряешь здесь время, вместо того чтобы помогать мне?
— Я слушаю, — сказала Мария.
И тотчас же вопросительно посмотрела на Иисуса, чтобы понять, должна ли она подняться и пойти помогать своей сестре или же не двигаться с места и внимать ему.
— Останься, дитя мое, — сказал Иисус. — Ты избрала благую часть.
И Магдалина сидела и слушала.
Когда все кончили есть, она ненадолго вышла и вернулась, неся алебастровый сосуд, полный драгоценного миро, возлила Иисусу на ноги, а затем, как и в первый раз, отерла ему ступни своими волосами.
После же она разбила сосуд, стоивший в два раза больше, чем миро, которое в нем было, а остатком благовоний окропила главу Христа.
Тут один из апостолов, Иуда, не в силах скрыть внезапно охватившей его зависти, вскричал:
— Грешно тратить драгоценное миро и разбивать такой сосуд! Лучше бы продать это миро за триста динариев и раздать их нищим!
Грустно посмотрел на него Иисус: он прочел в сердце Иуды, что отнюдь не о нищих пекся тот, а мучился тщеславием.
И тогда голосом, в котором звучала такая печаль, что у многих навернулись на глаза слезы, Иисус произнес:
— Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня — не всегда. Возливши сие миро на тело мое, она приготовила меня к погребению. Спасибо, женщина.
Только те, кому он предсказал свою грядущую смерть, поняли его, Магдалина же посмотрела на него с испугом:
— О чем говоришь, Господи? — спросила она.
— Подожди и увидишь сама, — грустно ответил Иисус. — Обещаю, несчастная грешница, первой тебе объявлюсь в награду за страдания, кои ради меня претерпишь.
— Я не поняла твоих слов, — прошептала Магдалина, — но мне нет нужды в этом, потому что верую в тебя, Господи.
Субботний день Иисус провел с Марфой, Магдалиной и Лазарем, а утром в воскресенье пустился в путь. Множество паломников, прошедших в Иерусалим через Вифанию, разнесли слух о его появлении, и это вытолкнуло на улицы весь бедный люд.
Лазарь предложил Иисусу лошадь, но тот ответил:
— Лошадь — животное, уместное для войны. Я же несу не войну, но мир; кроме того, в Виффагии меня уже поджидает тот, на ком поеду.
С тем и отправился.
Когда же оказался он в виду Виффагии, то подозвал двух учеников и сказал им:
— Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязавши, приведите ко мне.
— А если хозяин воспретит нам взять их? — спросил один из посылаемых.
— Отвечайте, что они надобны Господу, и он тотчас пошлет их.
Двое учеников пошли вперед и почти тотчас вернулись с ослицей и осленком.
Апостолы покрыли осленка своими одеждами, и Христос сел на него, а высыпавший на дорогу народ славил Мессию: одни постилали свои одежды перед ним, другие посыпали его путь цветами. И все восклицали: "Осанна!"
Добравшись до скалы, возвышавшейся над городом, Христос остановился и бросил взгляд на стены иерусалимские.
— О Иерусалим! — со слезами в голосе произнес сын Божий. — Если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Ибо я несу тебе благословение! Но это сокрыто от глаз твоих! Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени, когда Искупитель тебя посетил!
С тех пор эту скалу назвали горой Предсказания.
Иисус меж тем отправился далее, перешел через Кедрон по мосту, но тут к нему подошли те, кто его ждал, и спросили:
— Как ты войдешь, Господи? Вот уже и ворота за нами замкнули.
Иисус же ответил:
— Пойдем вперед. Люди могут не узнать меня, но дерево и огонь знают меня. Ворота, пред которыми я встану, отворятся передо мной.
И он приблизился к Золотым воротам, окруженный десятитысячной толпой.
И едва он оказался в двух десятках шагов от них, распахнулись все четыре створки, ибо ворота были двойными, и здесь в город проходили через двойную арку с опорным столбом посредине.
Когда народ увидел, что ворота открылись сами собой, раздались радостные, победные крики. В этом деянии все провидели знак грядущего торжества простого люда, ибо победитель воплощал самим своим видом и даже выбором животного, на котором въезжал в город, воздержание и трудолюбивое терпение малых сих.
А потому еще больше одежд и цветов оказалось на дороге, громче кричали люди, размахивая пальмовыми ветвями:
— Слава Всевышнему! Благословен пришедший восславить имя Господне!
Пройдя сквозь двойные ворота, толпа с Христом во главе хлынула в город. Иисус обогнул храм, выехал через западные ворота, проследовал между театром и дворцом Маккавеев, мимо горы Акры, отвернул от града Сиона, где стояли дворцы Анана и Каиафы и где его появление могло вызвать стычку со стражей, и через Нижний город, Предместье и Везефу вернулся к храму со стороны дворца Пилата и Овечьей купальни.
Не ведавшие, кто таков Иисус (в большинстве своем люди пришлые), с удивлением спрашивали:
— Что это за человек, за которым идет и кого прославляет весь народ?
А сопутствующие Спасителю отвечали им:
— Это Иисус, галилеянин, пророк из Назарета.
И тогда возгласы восхищения становились громче, юноши со всех ног устремлялись ему навстречу, старики, кряхтя, убыстряли шаг и даже дети — те, кого Христос всегда допускал до себя, — даже дети вместе с мужчинами, женщинами и стариками кричали:
— Слава сыну Давидову! Благословен пришедший во имя Господне! Славься, царь Израилев!
И если в толпе, стекавшейся к Иисусу, оказывался слепец, он обретал зрение; хромец, едва волочивший ноги, исцелялся от телесного изъяна; параличный, принесенный сюда на носилках вставал и шел; у немых прорезывалась связная речь, они сливали свои голоса с хором славословий и, к удивлению знавших их, кричали громче других:
— Осанна! Благословен идущий во имя Господне, царь Израилев!
На глазах горожан подхваченные толпой старейшины, священники и книжники, с трудом выбираясь из людской сутолоки, удалялись пораженные, прикрывая лица плащами и говоря друг другу:
— Мы ничему не успеем помешать: весь мир идет за ним.
Но некоторые набрались храбрости и подошли к Иисусу со словами:
— Заставь умолкнуть хотя бы детей малых, которые славят тебя, яко Господа!
Христос же отвечал им:
— Разве вы никогда не читали у царя-пророка: "Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?" Но если они умолкнут, то камни из стен возопиют вместо них!
Пока что толпа ввела Христа во храм; когда он остановился в притворе, все обступили его, умоляя:
— Говори, говори, учитель! Просвети нас, скажи, что следует думать о книжниках и фарисеях.
И Иисус, до того медливший нападать на своих врагов и даже защищаться от их наскоков, теперь ответил:
— Да, пробил час; кто имеет уши слышать, да слышит, кто имеет глаза видеть, да видит!
После чего, придав своему голосу особую мощь, что он так хорошо умел делать, переходя от ласки к угрозе или от угрозы к проклятию, Христос продолжил:
— Вы желаете знать, что думаю я о книжниках и фарисеях? Сейчас я скажу.
Простолюдины смолкли, и воцарилась тишина. Еще бы: пошла речь об их врагах.
— На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте; ибо они говорят и не делают, или же делают обратное тому, что говорят… Они связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Так же любят они предвозлежания на пиршествах, и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: "Учитель! Учитель!"
— Братья мои, — тут Иисус обернулся к апостолам. — Не следуйте такому примеру. Не называйтесь учителями, ибо все вы братья, и учитель у вас один. И отцом своим не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. А больший из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится!
Затем Христос обратился мыслью к тем, о ком он начал говорить:
— Но горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.
Горе вам, вожди слепые, которые говорите: "Если кто поклянется храмом, то ничего; а если кто поклянется золотом храма, то повинен". Безумные и слепые! Что больше: золото или храм, освящающий золото? Также: "Если кто поклянется жертвенником, то ничего; если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые! Что больше: дар или жертвенник, освящающий дар?
Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем; и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем; и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
Иисус остановился перевести дух, но множество голосов закричало:
— Продолжай, учитель, продолжай!
И он заговорил вновь:
— Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите: "Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков"; таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождения ехиднины! И вот я говорю вам: я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город… Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, которого вы убили между храмом и жертвенником!
А затем, подойдя к западным дверям храма и простирая руки к городу, произнес с невыразимой грустью:
— Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья. И ты, Иерусалим, не захотел этого! А посему чада твои будут рассеяны по лику земли, а великолепные здания твои, дома и дворцы, что я вижу внизу и обнимаю взглядом, — говорю тебе, о Иерусалим, все будет разрушено, и не останется камня на камне!..
Тут, как если бы столько проклятий причинили ему ни с чем не сравнимую усталость, Иисус смолк и рухнул на скамью.
Место, где он сел, находилось напротив храмовой сокровищницы, куда прихожане клали деньги. Среди богачей, величественным жестом ссыпавших золотые и серебряные монеты, робко проскользнула бедно одетая женщина и опустила два медяка.
Иисус, извлекавший из всего пищу для поучения, обратился к ученикам и сказал:
— Подойдите сюда и посмотрите на эту бедную вдовицу. Истинно говорю, что она положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое.
После этого некий человек подошел к нему и спросил:
— Учитель! Мы знаем, что ты справедлив. Ответь: давать ли нам подать кесарю или нет?
Иисус тотчас понял, что спрашивавший не от себя говорит, но послан врагами и преследователями.
Действительно, если он скажет: "Платите подать" — он вызовет к себе вражду бедных горожан, которых эта подать разоряла. Если же, напротив, посоветует не платить, то выкажет себя врагом кесаря, взбунтовавшимся против его власти.
Поэтому Иисус отвечал:
— Друг мой, покажи мне какую-нибудь монету.
Тот человек вынул из мешочка динарий и показал Иисусу.
Тогда Христос спросил:
— Чье это изображение и надпись?
— Кесаревы.
— Ну что ж! Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
И, встав со скамьи, отправился в Вифанию.
Так он спускался каждое утро, проводя ночь на Масличной горе, среди могил иерусалимских жителей, где, как говорили, ангелы Господни передавали ему повеления Отца Небесного.
И каждое утро все, кто был в городе из простого народа, а также люди из округи и приехавшие на праздник из иных мест приходили повидать его.
И поступал он так в понедельник, вторник и среду.
В этот последний день стечение людей было таким большим, а крики: "Славься, Иисус, царь Иудейский!" — такими громкими, что напуганные фарисеи поспешили к Каиафе, и тот собрал у себя судей, священников и старейшин, чтобы держать совет.
Разошлись они только к одиннадцати часам вечера.
На следующий день, в четверг, Иисус не стал спускаться в Иерусалим, а ограничился тем, что попросил Петра и Иоанна:
— Войдите вечером в город через ворота Источника, поднимайтесь к Сиону, идите прямо, не сворачивая, пока не встретите человека с кувшином на плече; последуйте за ним и войдите в тот дом, куда он придет, а хозяину дома скажите, что Иисус из Назарета обращает к нему вопрос: "Мое время близко; где комната, в которой бы мне есть пасху с учениками моими?"
Как мы уже знаем, поручение Иисуса было со всем тщанием выполнено. Петр и Иоанн вошли в Иерусалим, заметили около Сионской купальни человека с кувшином воды и последовали за ним до дома его хозяина, мастера Илия. Тот показал им комнату, убранную для вечери и, чтобы предупредить Иисуса, что все сделано по слову его, Илий поднялся на крышу своего дома и стал размахивать факелом, а Иисус, сидевший под виффагийскими пальмами, увидев этот знак, произнес: "Час настал… Идемте!" Сказав так, он поднялся с земли и, окруженный учениками, направился к городу.
VII MATER AMARITUDINIS PLENA[11]
Иисус появлялся везде во главе своеобразного кортежа, состоявшего из учеников, о которых мы уже говорили, и женщин, которых Писание называет благочестивыми женами. Скажем несколько слов и о них.
Прежде всего благочестивой женой была Дева Мария. После свадьбы в Кане она не покидала сына, постоянно держалась возле него. Должно быть, Иисус, зная, сколь мало времени осталось ему провести в дольнем мире, не желал и частицу его отнять у материнской и сыновней любви. Раскаявшуюся грешницу Марию Магдалину Христос в нежном милосердии своем приблизил к матери, чтобы мятущаяся душа очистилась под влиянием той, что никогда не поддавалась искушению. В кружок благочестивых жен входили Иоанна, жена Хуза, домоправителя Ирода; родственница Богоматери Мария Клеопова; Марфа, сестра Магдалины и Лазаря; Мария, мать Марка, и еще несколько женщин, чьи имена до нас не дошли.
Вероятно, эти женщины в свите Христа выглядели несколько странно. Но следует принять во внимание, что в обычае иудейских женщин, особенно вдов, было следовать за своим проповедником. К тому же, речи Спасителя звучали так мягко, проникновенно и нежно, его мораль, исполненная благочестия, любви и милосердия, так трогала женские сердца, что нет ничего удивительного, если эти женщины последовали за тем, кто воскресил дочь Иаира, простил Магдалину и спас жизнь осужденной за прелюбодеяние. С другой стороны, в самой внешности Христа было нечто печальное, сладостное, почти женственное, это придавало ему и его речам неотразимое обаяние, воздействовавшее, как мы уже говорили, особенно сильно на женщин, хотя общение с ним пробуждало в них целомудрие, божественное по сути.
Лишь обожание Магдалины сохранило легчайший привкус земной любви. Да, она любила небесного посланца, искупающего земные грехи, со всем жаром своей природы. Все любовные помыслы, бурно терзавшие ее, сосредоточились на одном существе, и чувство это было огромным, неизмеримым и бесконечным.
Часто Христос слегка бранил ее за то словом, улыбкой или взглядом, и тогда бедная грешница бросалась к его ногам, опускала лоб в придорожную пыль и проливала, как ей казалось, слезы раскаяния, на самом же деле — слезы любви.
После матери с наибольшей теплотой Иисус относился к Магдалине, тогда как среди учеников его любимейшим был Иоанн.
Вот в таком окружении он вернулся в Иерусалим, и за сутолокой и гомоном празднества никто не обратил внимания на него, как ранее — на Иоанна и Петра.
Дойдя до западного угла крепости, кортеж разделился: благочестивые жены, ведомые Богоматерью, вошли в домик, затененный Сионским холмом и своим садом упиравшийся прямо в крепостную стену, а Иисус с учениками прошли к дому Илия, где все было готово для вечери.
В прихожей их ожидали Петр и Иоанн.
Вместе с ними там собрались те, кто готовился справлять Пасху в других комнатах на первом и третьем этажах. Все они были учениками Иисуса. Одни собирались преломить хлеб с сыном первосвященника Симеона, другие — с Елиакимом, сыном Клеоповым. В ожидании они пели сто восемнадцатый псалом Давида: "Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровения его, всем сердцем ищущие его!.."
Когда кончили псалом, Петр принес Христу пасхального агнца, привязанного к доске поперек туловища. Это был маленький белый ягненок без единого пятнышка, не более месяца от роду, с золотым венчиком на голове.
Иисус должен был закласть агнца.
Ему дали в руку жертвенный нож. Иоанн запрокинул голову животного, чтобы открыть жилы на шее.
— Вот так же, — произнес Христос, глядя на агнца, — так же и меня привяжут к столбу. Ведь я, как говорил еще Иоанн Креститель, истинный агнец Божий!
Ягненок откликнулся жалобным блеяньем.
Иисус вздохнул. По всей видимости, ему глубоко претило то, что придется зарезать бедное животное. Но, хотя и с сожалением, он совершил это так быстро, как только смог, и тотчас отвел глаза.
Кровь собрали на серебряное блюдо. Иисусу дали веточку иссопа, которую он обмакнул в кровь, а затем, подойдя к дверям комнаты, помазал кровью оба дверных столба и замок, веточку же укрепил над дверью со словами:
— Истинно говорю вам, братья, пророчество Моисея и речение о пасхальном агнце воплотятся. Не только дети Израиля, но всех племен на этот раз навсегда выйдут из дома рабства.
Затем, обернувшись и вглядываясь в глубь комнаты, он спросил:
— Вы все собрались?
— Да, все, — отвечал Петр.
— Нет только Иуды, — заметил Иоанн.
— Знает ли кто, где он? — спросил Иисус.
Ученики и апостолы переглянулись, взглядами вопрошая друг друга.
— Никто не знает, — сказал Иоанн. — Он покинул нас чуть ранее, нежели Петр и я пошли в Иерусалим. Не видя его, мы подумали, что ты что-то поручил ему.
— Нет, — с грустью ответил Иисус. — В этот час он служит не мне, а другому… Но я благодарен ему, что он оставил мне малую толику времени, чтобы попрощаться с матушкой. Приготовьтесь же к вечере. Как только Иуда вернется, я приду за ним следом.
Иисус вышел и в одиночестве направился к маленькому домику, о котором уже шла речь. Там ужинали благочестивые жены.
В прихожей Иисус встретил Магдалину.
— Что ты здесь делаешь, дитя мое? — спросил он.
— Я почувствовала, что ты сейчас придешь, Господи, и пошла тебе навстречу.
Иисус протянул ей руку для поцелуя.
Она сжала божественную ладонь и страстно прижалась к ней губами.
— Магдалина, — прошептал он.
— Что, Господи? — покраснев, откликнулась грешница.
— Где моя матушка?
— Она ненадолго вышла. Сейчас она в саду.
— Это хорошо, — вздохнул Иисус. — Иду туда.
— Позволь мне показать тебе дорогу, учитель! — бросилась к дверям Магдалина.
— Мне ведомы все пути, — ответил Иисус.
Она замерла в печальном смирении. Иисус поглядел на нее с глубоким состраданием, затем тихим, как вздох цветка, голосом проговорил:
— Укажи мне дорогу.
Не сдержав радостного вскрика, она пошла впереди него.
Иисус пересек комнату, где уже стараниями Марфы был накрыт стол. Благочестивые жены сидели, тихо переговариваясь.
Увидев Иисуса, они встали.
Как и говорила Магдалина, Богоматери среди них не было.
Иисус прошел мимо них и, следуя за Магдалиной, вошел в сад.
Растения в сумерках выгибались, напоминая птиц, перед сном прячущих голову под крыло. Но сейчас они как бы выпрямились, словно уже всходило солнце. А цветы, закрывающиеся на ночь, подобно глазам спящих, открылись и стали изливать ароматы, обычно запрятанные в их чашечках до рождения дня.
Иисус увидел Богоматерь, молящуюся на коленах под теребинтом.
Он жестом остановил Магдалину и подошел к Марии такими легкими шагами, что она не услышала его приближения.
Какое-то мгновение Иисус с глубокой грустью глядел на нее, затем мягко произнес:
— Матушка!
Дрожь пронзила все существо Марии, как в день, когда она услышала голос ангела.
— Сын мой! — вскричала она, протягивая руки навстречу Иисусу.
Тот поднял ее с колен и подвел к скамье, на которую Богородица села или, вернее сказать, рухнула, не отрывая глаз от осененного благодатью сына.
И в этот миг ее лицо, тронутое неясной тенью страха и озаренное материнской любовью, казалось, хранило на себе отсвет поистине небесного огня.
Впрочем, Господь попустил, чтобы в знак нетленной чистоты она оставалась молодой и прекрасной. И лет ей можно было дать едва ли более, чем ее сыну. Никакая женщина в Иерусалиме, в Иудее, да и во всем свете не смогла бы сравниться с нею красотой.
— О сын мой, ты вспомнил обо мне!
— Я увидел, что творится в твоем сердце, матушка. И вот я здесь.
— Если ты читал в моем сердце, ты видел и то, что меня страшит?
— Да, матушка.
— Ты знаешь, о чем я просила Господа?
— Чтобы он внушил мне мысль покинуть Иерусалим.
— О да, возлюбленный сын. Уйди из Иерусалима!.. Вернемся в Назарет! Бежим в Египет, если понадобится!
— Матушка, — произнес Иисус, мягко беря ее за руку. — Подошли сроки, и не время сейчас бежать опасности, а надобно противостоять ей.
Богородица содрогнулась всем телом.
— Послушай, — сказала она. — Ты часто мне говорил о дне погибели, хотя и неясными словами: ребенком — в Египте, подростком — в Иерусалиме, зрелым мужем — на берегу Генисаретского озера… Нередко в беседах с учениками ты повторял слова о жертве, о заклании, о пытке. Каждый раз, когда подобные речи слышались из твоих уст, меня охватывала дрожь и ужас проникал в душу. И все же, когда ты просил: "Идем со мною, матушка!" — это успокаивало меня. Я думала: если мое возлюбленное дитя подвергалось бы смертельной опасности, я бы не слышала от него слов "Иди со мной!"
— А если, напротив, я тебе говорил "Иди за мной!", потому что, предвидя скорое расставание, не хотел потерять ни одного мгновения из тех, что мне осталось пробыть подле тебя?
Лицо Богоматери побелело, как накидка на ее голове.
— Сын мой! — взмолилась она, — во имя слез благодати, пролитых мною тогда, когда ангелы возвестили твое зачатие; во имя небесного блаженства, затопившего все мое существо, когда я увидела твою первую улыбку в Вифлеемской пещере, где ты явился на свет; во имя гордости, что я испытала, когда пастухи и волхвы явились поклониться тебе; во имя несказанного счастья, что было мне даровано, когда, проискав три долгих дня, я нашла тебя в храме окруженным старейшинами, чья земная наука впала в ничтожество пред лицом богоданной премудрости моего ребенка; во имя Духа Святого, обитающего в тебе и делающего тебя благодетелем человечества, — обещай матери твоей, что она прежде тебя сойдет в могилу!
— Матушка, еще земля была гола и бесформенна, еще мрак окутывал пропасти земные и небесные, и ни мужчина, ни женщина не существовали нигде, кроме как в замысле Создателя, — уже тогда Отец мой, в согласии со мною и Духом Святым, размышляя в вечном безмолвии, порешил вторично воплотить облик божества в личине падшего человека. Более четырех тысяч лет прошло с тех пор. Ведомо и Отцу моему, и небесам, звездам и солнцам, свидетелям Творения, сколь тяжко я страдал о грядущем моем унижении, которое призвано спасти человечество… Но вот долгожданный день земного воплощения настал: уже тридцать три года я славлю Господа. И вот прошлой ночью на Масличной горе, где я молился с мыслью о той боли, какую причинит тебе моя гибель, я сказал Господу: "Отец мой! Неужто для свершения вечного и святого завета нет иного пути, кроме как смерть сына твоего?" И явился мне ангел с небес и передал слова Всевышнего, что длань его распростерта над всей землей и грехи мира сего искупятся моей смертью.
У Богоматери вырвался стон, исполненный такой муки, что, казалось, растения, цветы и сам воздух застонали вместе с ней.
— Матушка, — продолжал Иисус, — подумай же о беспримерной славе, уготованной сыну твоему: до сих пор смертный жертвовал собой ради человека, племени или народа. Сын твой отдает себя за весь род человеческий!
— Я думаю о том, что мой сын должен умереть, — с душераздирающей болью и рыданиями в голосе ответила Богоматерь, — и мне невозможно думать об ином!..
— Матушка, — тихо сказал Иисус, — истинно, я умру. Но умру как избранник Божий, чтобы через три дня воскреснуть для жизни вечной.
Мария покачала головой.
— О, когда ангел возвестил мне, что я избрана и отмечена среди других женщин и стану матерью Бога, я возблагодарила Всевышнего и подумала… Я подумала, что ты родишься в обличье не смертного, но божества, что, выйдя из моего лона, ты будешь расти быстрее мысли человеческой, станешь таким же большим, как земной мир, который должен будет принадлежать тебе, и одной ногой попрешь Океан, а другой — сушу, что в правой руке ты будешь держать солнце, а левой поддерживать небесный свод. Тогда бы я признала тебя Богом и обожала как божество. Но все вышло не так. Ты явился в мир подобно другим детям, ты начал с того, что улыбнулся матери своей, ты припал к ее груди, возрос у нее на коленях. А затем медленно, как все, ты прошел отрочество и возмужал. И вот, вместо того чтобы поклоняться тебе, как слабое создание земли поклоняется божеству, я полюбила тебя так, как нежная мать любит свое дитя.
— О, это так, матушка, — отвечал Иисус, — и да будет благословенна твоя любовь; благодаря ей я вот уже тридцать третий год живу, не возжелав возвращения на небеса… Да простится мне, возлюбленная родительница моя, что я не раз ставил мой долг искупителя за все грехи человеческие выше долга семейного. Я должен был подать пример тем, кому говорил: "И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную". Увы, матушка! Когда я удалялся от тебя и сурово отвечал тебе, боль, какую я испытывал, превышала твои страдания!
— Иисус, Иисус, дитя мое! — вскричала Пречистая Дева, пав на колени и сжав богоизбранного сына в объятиях.
— Да, я знаю, — с глубокой грустью сказал Иисус. — И назовут тебя Матерь, исполненная горечи.
— Но уверен ли ты, возлюбленный сын мой, что час расставания близок?
— Вчера на совете у Каиафы решили схватить меня.
— И никто среди всех этих священников, старейшин, наконец, просто людей не встал на твою защиту? Или не знают они, что у тебя есть мать, или сами детей не имеют?
— Напротив, матушка, двое праведных вступились за меня: Никодим и Иосиф Аримафейский.
— Да пребудет с ними Господь в час их кончины!
— Пребудет, матушка.
— Но ведь стражникам неизвестно, где ты. Они не найдут тебя.
— Один человек взялся привести их туда, где я буду, и предать меня в их руки.
— Один человек?.. Какое же зло ты ему причинил?
— Матушка, я не делал для него ничего, кроме добра.
— Это какой-нибудь идолопоклонник-самарянин? Язычник из Тира?
— Это один из моих учеников.
Богоматерь вскрикнула.
— Безумец! Неблагодарный! Исчадие рода людского!
— Скажи лучше: несчастный, матушка.
— Что же толкнуло его на предательство?
— Зависть и гордыня. Он завидует Иоанну и Петру, думает, что их я люблю больше, чем его. Но разве тот, кто решился умереть ради людей, не любит их всех одинаково? Он также мнит, будто я мечтаю о царстве земном, и убоялся, что в этом царствии я уделю ему лишь малую часть от желаемого им.
— Когда же на ум ему пришла эта роковая мысль предать тебя?
— В тот вечер в Вифании, когда Магдалина омыла благовониями мои ноги и разбила сосуд, чтобы отереть с него последние капли и умастить мои волосы.
— Ах! Так это Иуда! — вскричала Мария.
Иисус промолчал.
— О! — продолжала Богоматерь. — Пусть Господь…
Но Иисус прикрыл ей рот рукой, не допустив, чтобы прозвучало проклятие.
— Не проклинай, матушка, — попросил он. — Из ваших уст проклятие убийственно! Однажды, позабыв, что я сын Божий, я проклял фиговое дерево, на котором не нашел ни одного плода. И бедное растение высохло до корней. Матушка, не проклинай Иуды!
Он отнял руку от ее уст.
— Да простит ему Господь, — прошептала Пречистая Дева, но столь слабым голосом, что один Всевышний услышал его.
Иисус сделал движение, чтобы удалиться к ученикам.
— Нет, еще не теперь! Не покидай меня сейчас! — вскрикнула Мария.
— Матушка, я никогда тебя не покину. Я устрою так, что никакие стены не помешают тебе видеть меня, и, как бы далеко я ни был, ты услышишь меня.
И тотчас, чтобы Богоматерь не сомневалась в его обещании, он сделал стены прозрачными, а далекое — близким, так что Мария смогла видеть, как апостолы приготовляются к вечере, и слышать их речи.
Но Пречистая перевела взгляд на него и прошептала:
— Еще миг, возлюбленный сын мой. Это матерь твоя просит тебя.
Иисус поднял ее с колен и обеими руками прижал ее голову к своей груди.
В это время сверху полилась небесная музыка, над головой Марии словно бы растворились небеса, и хор ангельских голосов пропел:
"Дева, безупречная в вере, молись за нас! Звезда утренняя, молись за нас! Богом избранный сосуд, молись за нас! Зерцало правосудия, молись за нас! Царица серафимская, молись за нас!
Дева Пречистая, непорочная матерь Спасителя нашего, молись за нас!
Молись за нас, роза таинства, чертог драгоценный из слоновой кости, алтарь добродетели, ковчег Завета, врата небесные, молись за нас! Молись за нас!"
При звуках божественной музыки и ангельского хора Мария медленно подняла голову, устремила взгляд в глубь небесную и на миг замерла, освещенная лучами вечной славы, представшими ее очам.
А потом с глубоким вздохом она произнесла:
— Прекрасно небо и ангелы его, но во сто крат прекраснее земля с чадом моим.
— Матушка, — взволнованно проговорил Иисус, — не только на земле тебе дано провести краткий срок с сыном твоим. Тебе дарована на небесах жизнь вечная, в которой ты не расстанешься с ним. Искупая грехи людские, я убиваю смерть. Но чтобы победить смерть, одолеть ее и убить, надобно спуститься в царство ее. В темноте склепа я сражусь с властителем ужасов земных, из бездны победоносно воспарю к небесам. И тогда, матушка, смерть пребудет, но небытие уничтожится. И никто не сочтет душ, искупленных мною, никто не исчислит поколений, которые однажды, по призыву моему, выйдут из праха могильного в жизнь вечную.
— Да будет так! — вздохнув, прошептала Пречистая Дева.
И чтобы как можно дольше не расставаться с сыном, она пошла вместе с ним, все еще прижимаясь головой к его груди.
Но пройдя несколько шагов, они остановились: поперек дороги лежало бесчувственное тело.
Это была Магдалина. Она оставалась там, где велел ей Иисус. Но оттуда она расслышала, что Христу суждено умереть, и потеряла сознание.
— Матушка, — сказал Иисус, — я оставляю тебя не столь несчастной, ибо теперь у тебя есть нуждающаяся в утешении.
VIII СИЕ ЕСТЬ ТЕЛО МОЕ, СИЕ ЕСТЬ КРОВЬ МОЯ
Иисус возвратился в трапезную почти сразу после прихода Иуды.
На мгновение его взор скрестился с сумрачным взглядом предателя. Затем он обратился к апостолам:
— Пасхальный агнец готов. Мы можем приступить.
Он сел в центре. Столы были поставлены в виде буквы "П". Апостолы расположились с их наружной стороны, а кушанья приносили и уносили с открытого конца.
По правую руку от Христа поместился Иоанн, его любимейший ученик, человек, одаренный чистым сердцем, сладостной улыбкой и огненным красноречием, Иоанн, которого, заодно с братом его Иаковом, Мессия назвал Воанергес — "чадами грома".
Еще правее был Иаков-старший, подобно Иоанну, сын Заведеев. Он шел по стопам Мессии и уже нес на себе печать грядущего мученичества. Действительно, он первый из двенадцати апостолов должен был скрепить веру и завет своей пролитой кровью.
За ним — Иаков-младший, Алфеев сын, первый двоюродный брат Христа по матери; младшим его прозвали, чтобы отличать от другого Иакова, превосходившего его и возрастом и ростом.
За ним — Варфоломей, в прошлом Нафанаил: тот, кто вначале не поверил Христу и кому предстоит еще с именем Спасителя на устах улыбаться своим убийцам.
За ним — но уже у другого, пододвинутого под прямым углом стола, — Фома, который, чтобы удостовериться, что Христос воскрес, вложит пальцы в рану его и тем снищет особую известность у потомков; Фома, которого иудеи называли То’ам, а греки — Дидим, что на обоих языках значит "близнец".
И последний с этой стороны — Иуда, предатель, из колена Иссахарова, по прозванию Иуда Искариот, поскольку родился в селении Кариот.
Слева от Иисуса расположился Петр, кому Христос обещал вручить ключи от небесных врат; мы представили его нашим читателям одним из первых, точно так же как в сердце учителя ему было отведено одно из первых мест.
По левую руку от Петра возлежал Андрей, в прошлом ученик Иоанна Предтечи, по знаку которого последовал за Иисусом, чтобы никогда более его не покидать.
За ним — второй Иуда, названный Фаддеем или Леввеем — то ли от слова "тад", означающего грудь, то ли "лев" — сердце. У Христа не было более верного апостола и преданного ученика, чем он.
За ним — Симон, брат Иакова, прозванный Зилотом — "Ревнителем", — ибо своим пламенным рвением напоминал сторонников секты зилотов, готовых не пренебречь ничем для освобождения Иудеи от римского владычества.
Напротив Фомы и Иуды Искариота поместился Матфей-мытарь, сначала отказавшийся от имени Левий, чтобы стать сборщиком пошлин, а затем оставивший и это занятие, чтобы последовать за учителем.
И наконец, Филипп, которому Варфоломей, тогда еще Нафанаил, отвечал: "Из Назарета может ли быть что доброе?"
На столе виднелся пасхальный агнец, поставленный посредине, справа от него стояло блюдо из горьких трав — напоминание о горьком хлебе неволи в египетском плену, слева — блюдо сладких трав — знак благой пищи, растущей на родной земле.
Прислуживал им Илий.
Прежде чем сесть, Иисус тихо произнес молитву, которую впервые огласил в Нагорной проповеди: "Отче наш, сущий на небесах!.."
Затем, при слове "Аминь!", он посмотрел в ту сторону, где оставил Богоматерь. И, также как она могла видеть его, он сам разглядел ее сидящей на скамье, у которой они расстались. У ног ее лежала Магдалина. Голова несчастной, прикрытая краем одежды, покоилась на коленях Пречистой Девы.
Мария, видя, что он глядит на нее, простерла руки в его сторону.
Иисус прошептал:
— Я думаю о тебе, матушка! Вскоре, когда причастимся, будем вместе, если не телесно, то духовно.
Мария грустно улыбнулась и уронила обе руки на распущенные волосы Магдалины, чьи голова и плечи вздрагивали от рыданий.
Тем временем Илий разрезал агнца и поставил перед Иисусом чашу, полную вина, перед апостолами же стояло всего шесть чаш, по одной на двоих — в знак их братства.
Иисус благословил вино в своем сосуде, пригубил его, а после с глубокой печалью произнес:
— Возлюбленные мои, вспомните слова пророка:
"Раб мой взойдет перед Господом как отпрыск и как росток из сухой земли: нет в нем ни вида, ни величия; и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему.
Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое; он был презираем, и мы ни во что ставили его.
Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились.
Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на него грехи всех нас.
Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца, веден был он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих.
От уз и суда он был взят; но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых; за преступления народа моего претерпел казнь".
Вот, возлюбленные мои, что говорил Исайя восемь веков назад, и произнося это, он думал обо мне, мою казнь предвидел, мою гибель предсказывал. И теперь я говорю вам: все унижения падут на мою голову. Видя меня бредущим в скорби и страдании, люди отведут глаза. Они подумают, что я согбен под грузом совершенных злодейств.
Они сочтут, что угрызения совести мучат меня. И я не смогу убедить их в ином. Но вы должны смело прокричать миру: "Люди, признайте ваши заблуждения! Если Мессия страдает и корчится под рукой вероотступника, под кнутом стражника, под мечом палача, — виновно все человечество! Он осужден, приговорен, он корчится в муках и умирает без жалоб, испустив лишь последний вскрик, как агнец, чьим воплощением он стал. Но попомните: его раны, внушающие вам содрогание, получены им за вас, и не забудьте, что каждая пролитая им капля крови прибавляет перышко в крыло ангела искупления. Кровь благодетельная источится по капле и не иссякнет, пока крылья ангела-спасителя не станут достаточно широки, чтобы укрыть собой все живое!"
— О Иисус, учитель мой, — простонал Иоанн, уронив голову на грудь Христа.
— День настал, возлюбленные мои. День, когда нам надо расстаться!.. Теперь вы без меня будете есть агнца, что еще скачет по лугам Саронским, без меня отведаете вина, что течет из давильных чанов в Ен-Гадди; но следуйте указанным мною путем. В доме Отца моего, в долине вечного мира, где он обретается, есть сладостные обители для всех моих друзей. Там мы все вместе отпразднуем искупление и спасение мира, и веселие наше не затуманит боязнь расставания!
Иоанн и Фаддей плакали, и он обратился к ним:
— Не проливайте слезы! Расставание наше будет на короткое время, а союз наш вечен.
— Но учитель, — сказал Фома, — если вы не хотите, чтобы мы плакали, почему сами плачете?
Действительно, крупные слезы тихо текли по щекам Спасителя.
— Я плачу, — ответил Иисус, — не от мысли о нашем кратком расставании, но от того, что один из вас предаст меня.
Иоанн вскочил, влажные глаза Фаддея заблистали гневом, и все ученики, за исключением Иуды, в один голос вскричали:
— Не я ли, учитель?
— Один из вас, — повторил Иисус. — Впрочем, это предательство предначертано. Но горе тому ученику, который предает учителя!..
Иуда побелел как мертвец. Но, поняв, что он единственный, кто промолчал, и это может вызвать подозрения у собеседников, он призвал на помощь всю смелость, какую имел, и прерывающимся голосом вопросил:
— Не я ли, Господи?
— Иуда, — обернулся к нему Иисус, — вспомни, что я тебе сказал, когда мы оба были детьми и ты ударил меня в правый бок. И жест твой и место удара не случайны и полны таинственного смысла. Именно из правого бока Адама была извлечена Ева, под правой рукой Исаака получил благословение Иаков, по правую руку Отца моего я воссяду на небесах, и в правую сторону груди моей вонзится копье. И наконец, по правую сторону от себя я поместил тебя, Иуда, на этой последней и самой важной для нас трапезе, поскольку я не теряю надежды на всякого человека, даже плута, разбойника и убийцу, пока он волен протянуть мне правую руку для пожатия.
И Иисус поглядел на Иуду с бесконечным милосердием, как если бы ожидал, что при этих смиренных речах Иуда раскается и, признавшись в предательстве, рухнет к его стопам.
Но, не поддавшись спасительному порыву, ученик отвернул голову и спросил:
— Как же учитель может знать, кто предаст его? Ведь надобно, чтобы предающий сам был кем-то предан?
— Иуда, — отвечал Иисус, — у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Посланный Всевышним к колыбели младенца, он сопровождает его по жизни, если, конечно, какое-нибудь преступление не отпугивает небесного стража и не побуждает отлететь от смертного к небесам. Я же видел ангела, посланного Отцом моим: он устремлялся ввысь, широко распахнув крыла и закрыв очи руками. Я позвал его и вопросил: "Сын эмпиреев, звездный собрат, что за преступление совершается на земле?" И он промолвил: "Господи, один из учеников твоих, кого ты наставлял словом и примером, предал тебя из зависти, продал из алчности и получил от первосвященника Каиафы тридцать серебряных монет за то, что отдаст тебя в его руки… Я более не его ангел-хранитель. Лишь в день Страшного суда он увидит меня подле себя: длань моя будет простерта над вечным мраком, и голос громовый прогремит: "Именем пролившего кровь свою на кресте реку, что недостоин ты созерцать Сына человеческого в славе его, проклинаю тебя и ввергаю в бездну адскую!"" Вот, Иуда, что отвечал мне ангел. Так я узнал, что один из учеников предал меня.
— А имя он назвал, учитель? — спросил Иуда.
— Назвал, — промолвил Иисус.
— Имя предателя, Господи! Имя предателя! — хором вскричали все апостолы.
А Иоанн прошептал:
— О учитель, скажи же, кто предал тебя?
— Лишь тебе, возлюбленный Иоанн, — чуть слышно прошептал Христос, — тебе одному, но никому боле: это тот, с кем преломлю хлеб сей.
И разломив надвое хлеб, лежавший перед ним, он подал Иуде этот знак примирения грешника и его Бога.
Иуда не смог выдержать испытания. Он встал, сжал лоб руками, как если бы кровь прилила к очам его и ослепила, и вращая глазами, как загнанный зверь, бросился из трапезной.
Иисус обернулся туда, где сидела Богоматерь, и увидел, что она все еще смотрит в его сторону. Лишь тогда, когда Иуда выбежал из дому, она прикрыла глаза накидкой, чтобы не видеть его.
Наступила тишина. Казалось, ужас окостенил всех.
Наконец Иисус прервал молчание:
— Теперь, когда мы в своем кругу, — произнес он, как бы показывая, что в этом у него не осталось и тени сомнения после того, как Иуда вышел, — я хотел бы объяснить, почему медлил до дня этой вечери отдаться в руки палачей: я обещал себе, что не изопью из смертной чаши прежде, нежели вы причаститесь к жизни моей. Затвори двери, Петр, чтобы ни один непосвященный не вошел. А ты, Иоанн, подай мне сосуд, что я оставлял на хранение у Серафии, жены Сираховой.
Иоанн поднялся, подошел к шкафу, открыл его и достал оттуда чашу. Это был древний сосуд, формой напоминавший цветок. Его подарил Храму при основании его Соломон, затем вместе с другими драгоценными сосудами похитил Навуходоносор. Чашу попытались расплавить, но никакой жар не смог одолеть неизвестный состав, из которого она была сделана… Тогда ее продали. Кому — неизвестно, но Серафия выкупила ее у торговцев стариной. Именно она приютила у себя Иисуса, когда он ребенком на три дня ушел от Марии и Иосифа. Иисус увидел эту бесценную реликвию и сказал: "Серафия, не расставайся с ней никогда, ибо придет день, когда она послужит свершению великого таинства. День этот будет предсмертным для меня, и я тогда пришлю к тебе за ней".
Иоанн подал Христу чашу вместе с опресноком, лежавшим на тарелке. Иисус наполнил сосуд вином.
— Возлюбленные мои, — промолвил он. — Есть старинный обычай, особенно если кто отправляется в долгое странствие, разделять хлеб и пить из одного кубка в конце трапезы. Теперь каждый из нас готов к странствию, долгому или краткому, по судьбе его. Мое странствие кончится раньше других… Дети! Недолго уже быть мне с вами: будете искать меня, но куда я иду, вы не можете прийти. Я оставляю вам заповедь, и она принесет больше блага, чем все, что до этого исходило из уст человеческих. Даже забыв все сказанное мною прежде, вы ничего не забудете, пока будете помнить то, что сейчас заповедую вам: "Любите друг друга!" Пусть все мироздание услышит из ваших уст этот завет братства и пожелает вступить в ваш союз любви и милосердия.
Затем, преломив хлеб на столько частей, сколько было учеников, не забыв и долю Иуды, возгласил:
— Примите и ядите; сие есть тело мое!
И благословив вино в чаше:
— Примите и пейте; сие есть кровь моя!
Иоанн, возлежавший слева от Иисуса, первым отведав еды и питья, обратился к Христу:
— О богоданный учитель, повтори верному твоему ученику, что не сомневаешься в нем.
Иисус улыбнулся небесной улыбкой.
— Вчера, когда я молился в Масличном саду, как делаю уже несколько ночей, ты уснул в немногих шагах от меня. Когда окончил молитву, я поискал тебя. Ты лежал на земле. Я подошел, но не стал будить, а последовал за тобой в твоем сновидении. Улыбка на устах твоих была безмятежнее той, с какою весна усыпает цветами возлюбленную свою землю. Я помню спящих Еву и Адама в первый день после их сотворения. Так вот: в Эдемовой купели сон их был не столь чист и невинен, как твой.
— Благодарю, учитель, — целуя руку Иисусу, промолвил Иоанн.
— А теперь, — сказал Христос, — возлюбленные мои, помните, что я отдал вам все что мог. Ведь оделив вас от плоти и от крови моей, я поручил вам себя. Что ж! Теперь ваш черед отдавать себя братьям вашим, как отдал я. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Те, кто предшествовал мне, говорили: "Народ иудейский избран Господом; иные племена не имеют прав на Моисеевы свет и истину, на слово пророков". А я говорю вам: "Когда солнце светит, освещает не один народ иудейский, но все другие народы; когда гремит гром, дождь плодотворит землю не одной Иудеи, но и всех иных стран".
Пусть истина, открывшаяся вам, станет солнцем, освещающим весь мир, с восхода до заката, от севера до юга. Пусть слово, пришедшее от меня к вам, станет росой, увлажняющей земли не одних отцов ваших, а всех народов и даже племен, еще неведомых вам. Пусть вас не заботит, когда углубитесь в чужеземные владения, какому богу там поклоняются, что за царь правит и какой народ обитает там. Ступайте прямо перед собой, а когда спросят вас, откуда вы, говорите: "Оттуда, где царит любовь вечная!"
И показалось тут ученикам, что при этих слова, Иисус засиял и стал как бы прозрачным. Случилось нечто подобное преображению Господню на горе Фавор, и все увидели, что учитель прислушивается к голосу, который они не слышали: это был голос матери его.
Ибо в этот миг Богоматерь, протягивая руки к сыну, говорила:
— О Господи! Вот когда я признала в тебе сына Всевышнего!
И Христос одной рукой поднял чашу, а другой — кусок опреснока.
Богоматерь скрестила руки на груди и откинула голову назад, полусмежив очи и приоткрыв уста.
Она незримо причащалась вместе со своим божественным чадом.
Иисус опустил чашу и хлеб на стол.
— А теперь, — обратился он к Петру, — можешь открыть дверь и сказать Илию, чтобы он принес воду и тазы для омовения.
Явился Илий с прислужниками, принесшими сосуды, полные воды, и куски полотна.
Апостолы сели, распустили ремни сандалий; перед каждым из них Илий поставил лохань с теплой водой.
И Иисус, на коленях, но сохраняя величественный вид, хотя и был занят самым смиренным из дел людских, принялся омывать ноги своих учеников.
Те позволили ему делать это, как слуги, послушные воле хозяина.
Но когда пришел черед Петра, тот вскричал:
— Господи! Тебе ли умывать мои ноги?
— Что я делаю, теперь ты не знаешь, но уразумеешь после, — ответил Иисус. А затем вполголоса продолжил:
— Ты, Петр, был удостоен от Отца моего узнать, кто я, откуда и куда иду. Ты станешь основанием веры; на сем камне я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и сила моя пребудет в последователях твоих до скончания времен.
Обратившись к остальным и возвысив голос, чтобы все услышали, он провозгласил:
— Возлюбленные мои, когда меня не будет с вами, не забудьте, что Петру принадлежит мое место подле вас.
— Напрасно вы так возвышаете меня, — возразил Петр. — Никогда не потерплю, чтобы учитель мыл ноги ученику своему!
— Если не умою тебя, — с улыбкой произнес Иисус, — не имеешь части со мною.
— Если так, Господи, — вскричал Петр — не только ноги мои, но и руки и голову!
Когда его ступни были омыты, Петр торжественно произнес:
— Теперь, учитель, я готов следовать за тобою повсюду, куда пожелаешь.
— Разве я не говорил, что, куда я иду, ты не можешь теперь со мною идти?
— Почему отталкиваешь меня, Господи? — взмолился апостол. — Я душу мою положу за тебя!
— Душу твою за меня положишь? — с грустной улыбкой спросил Христос. — Истинно, истинно говорю тебе, Петр: не пропоет петух, как отречешься от меня трижды.
Петр пожелал возразить, но Иисус поднял руку, призывая к молчанию.
— Братья, — сказал он. — Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?
— Ни в чем, Господи! — ответили все.
— Хорошо — продолжил Иисус. — Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет — продай одежду свою и купи меч; ибо то, что написано обо мне, должно исполниться.
А затем, еще раз взглянув туда, куда уже неоднократно обращался взором, с усилием промолвил:
— Довольно. Идем отсюда.
Иисус вышел первым, за ним — Петр, который продолжал настаивать, повторяя:
— Даже если придется за тебя умереть, не отступлюсь от тебя, учитель богоданный!
У входных дверей Иисус увидел с одной стороны порога Пречистую Деву, с другой — Магдалину. Обе стояли на коленях.
Иисус поцеловал свою мать в лоб, а в это время Магдалина прижала к губам край его одеяния.
IX КРОВАВЫЙ ПОТ
Иисус вышел из Иерусалима в те же ворота, в которые входил.
Было около десяти часов вечера.
Почти мертвенно-бледная луна, только что поднявшаяся над горой Ен-Рогел, готовилась погрузиться в пучину черных облаков; с юго-запада дул унылый, как жалоба природы, ветер, и голуби, несмотря на поздний час, заунывно стонали в кронах кипарисов Сионской горы. Иисус прошел по мосту через Кедрон, оставил справа дорогу в Ен-Гадци и Иерихон и стал подниматься по тропке вверх по Масличной горе к Гефсимании.
Он был молчалив, и это чрезвычайно смущало учеников: все свои силы они черпали в нем, и как только его слова переставали поддерживать их, они клонились словно тростинки под ветром.
Иоанн не спускал с него глаз. Он видел, как учитель шел медленным шагом, безвольно опустив руки, с лицом, бледнее обычного, склонив голову к земле. Чуть не доходя до Гефсимании, он приблизился к Иисусу и, не в силах сдержать душевного волнения, произнес:
— Учитель, как случилось, что ты так удручен? Ведь обычно ты высишься над нами, как столп веры.
Но Иисус покачал головой:
— Любезный сердцу Иоанн, мою душу объяла смертельная грусть!
— Что я могу сделать для всеблагого Господина нашего?
— Ничего, — отвечал Иисус. — Ведь ваши глаза не видят того, что мои…
— Что же так устрашило тебя?
— Я вижу ужас, отчаяние и соблазн, подстерегающие меня, и так удручен разлукой с теми, кого люблю, что, если Отец Небесный не придет мне на помощь, я не выдержу испытания. Вот почему вам подобает не оставаться со мной, чтобы помогать мне, а пребывать в отдалении: боюсь, как бы слабость моя не ввела вас в соблазн.
И, поскольку они уже вошли в Гефсиманию, он оставил на небольшом пустыре Симона, Варфоломея, Фаддея, Филиппа, Фому, Андрея, Матфея и Иакова-младшего и продолжил путь с Петром, Иаковом-старшим и Иоанном.
— Останьтесь здесь, — велел он первым, — и молитесь, чтобы не впасть в искушение.
Затем, пройдя селение и несколько отклонившись влево, он подошел к так называемому Масличному саду: там высились самые древние деревья из росших на горе.
Сад этот был окружен глинобитной стеной с проделанным в ней проходом, через который любой мог туда войти. В одном из самых укромных уголков, под сенью самых густых и мощных оливковых деревьев находилась пещера, вход в которую почти скрывали переплетения плюща и дикого винограда.
В этой-то пещере любил уединяться Христос. Там, распростертый на камне, он молился Господу. Обычно он и в сад входил в одиночестве, а теснившиеся на одном из уступов ученики с изумлением наблюдали, как, пока длилась молитва Иисуса, небо бороздили длинные огненные полосы. Они чертили воздух подобно падучим звездам и уходили в пещеру, где он говорил с Всевышним. Апостолы не сомневались, что в ночной тьме эти протяженные огненные следы оставляют крылья ангелов, посещающих Спасителя в часы его уединенных размышлений.
В нескольких шагах от входа в сад учитель покинул троих апостолов.
— Вы были со мной на горе Фавор, вы свидетели моего величия и силы. Останьтесь здесь: одни вы, не усомнившись, сможете увидеть меня и в слабости.
Петр, Иаков и Иоанн, как и ранее первые восемь апостолов, остановились и сели на землю.
Иисус же пошел вперед и, исполненный томления и страха, вступил под своды пещеры.
По местным преданиям о сотворении мира, именно в эту пещеру ранее удалились Адам и Ева, чей грех сейчас собирался искупать Христос. Другое же предание гласило, что прародители рода человеческого, окончив свой земной путь, почили вечным сном на вершине Голгофы, того самого места, где казнили преступников.
А значит, лишь город Иерусалим отделял пещеру, где изгнанники из Эдема оплакивали утраченное блаженство и молились, от могилы, где они упокоились в вечном молчании.
Едва войдя в пещеру, Иисус бросился ничком на землю.
Вдруг его молитву оборвал страшный трубный звук из тех, что призван пробудить мертвых в Судный день. Он прозвучал так внезапно и властно, что, подобно скакуну, вздымающемуся на дыбы от клича боевого рожка, люди при громе роковой трубы почувствовали, как земля содрогнулась и ушла из-под ног; в ужасе она сорвалась бы с предначертанного пути и затерялась в пространстве, если бы могучая длань Всевышнего не удержала ее на орбите.
Когда труба смолкла, прозвучал не менее устрашающий голос:
— Именем того, кто владеет ключами вечности и питает огнем ад, кто дарует всевластие смерти, спрашиваю: есть ли под сводом небесным человек, способный предстательствовать перед Богом за род человеческий? Если таковой существует, пусть отзовется: Всевышний ждет его!
Все тело Иисуса содрогнулось, как в предсмертной конвульсии, ужас проник до мозга костей, но он встал на колени, воздев руки, обратился взглядом к небесам и произнес:
— Я здесь, Господи!
И застыл, погрузившись в созерцание Небесного Отца, видимого ему сквозь горную толщу и глубь эфира.
Чудесный просвет в небесах затянулся, все вновь накрыла тьма, и воцарилось молчание. Но краткий миг созерцания Всевышнего, дарованный Христу, вернул ему всю утраченную было силу.
И тогда, прислонившись к стене сумрачной пещеры, он воззвал:
— Теперь, входи, Сатана… Я готов к встрече!
Тотчас плети плюща и дикого винограда у входа в пещеру раздвинулись и появился ангел зла в том же обличии, в каком некогда предстал перед Иисусом в пустыне, показывая ему все царства земные.
Начались три часа последнего искушения Спасителя.
ЧАС ПЕРВЫЙ
— Ты звал меня? — спросил Сатана.
— Нет, я не звал тебя, но, зная, что ты был там, сказал: "Входи".
— Значит, ты более не боишься? Надеешься не поддаться мне, как устоял в первый раз?
— Уповаю на то, что Господь укрепит меня.
— Все еще полон решимости искупить преступления мира сего?
— Ты слышал, как я только что ответил архангелу Страшного суда, когда он призывал человечество предстать перед ним.
— Почему же ты не позволил человечеству самому позаботиться о своей защите?
— Оно было бы обречено на проклятие. Чтобы спасти его, надобна добродетель, способная сама по себе перевесить все преступления: преданность Божьему делу!
— Итак, — спросил Сатана, — ты берешься держать ответ за все несправедливые дела земные?
— Да.
— Груз тяжел, предупреждаю.
— Донести бы его только до вершины Голгофы — и большего не надо.
— Ты можешь многажды упасть по дороге.
— Длань Господня поддержит меня!
— Допустим, — согласился Сатана. — Так, значит, грех праматери Евы и праотца Адама ты берешь на себя?
— Да.
— И первое убийство? Каинов грех ты берешь на себя?
— Да.
— И преступления того рода людского, который отец твой счел столь развращенным, что не нашел другого лекарства, кроме как его утопить, — ^ и это будешь искупать?
— Да.
— Пусть так. Но мы еще у пролога мировой драмы, основное действие разворачивается после потопа. — Что ты скажешь о Нимроде, великом зверолове пред Господом, презревшем ланей, оленей, лосей, тигров, пантер и львов как недостойную его дичь и спускавшем тетиву только тогда, когда целился в человека?
— Отвечу, что Нимрод — тиран, но я умираю за всех людей. И за тиранов — тоже.
— Ну, хорошо. Про Нимрода ты объяснил. Но мы помним и некоего Прокруста, который укладывал своих гостей на ложе и, если они оказывались слишком длинны для него, отрубал лишнее, а если коротки — растягивал… А что ты скажешь о Синисе, разрывавшем людей, привязывая их к двум пригнутым к земле деревьям, а потом отпуская верхушки?.. А еще мы не забыли некоего Антея, воздвигшего храм Нептуну из черепов странников, забредавших на его земли… И некоего Фаларида, который заставлял реветь бронзового быка, запирая узников в его чрево и разводя под ним огонь… А как тебе нравится Скирон, поджидавший путешественников на узкой дороге и сбрасывавший их в море?.. Ты возьмешь на душу и это? — Да будет так! Перейдем к другим! О, их долго искать не надо: человек — гнусное животное, а более мерзкой истории, чем история человечества, не найдешь. Здесь есть Клитемнестра, убившая мужа; Орест, зарезавший мать; Эдип, умертвивший отца; Ромул, поразивший мечом брата; Камбиз, избавившийся от сестры; Медея, покончившая с собственными малыми детьми, и Фиест, съевший своих чад!.. — Ты берешься и эту добычу оспорить у эвменид? Чудесно! Посмотрим, что ты скажешь о вакханках, растерзавших Орфея; о Пасифае, подарившей миру Минотавра; о Федре, из-за которой Ипполита разорвали, привязав к скакунам; о Туллии, пустившей колесницу по телу убитого ею отца, Сервия Туллия?.. Но это — цветочки! Оставим их в покое. Поговорим о Сарданапале, обещавшем провинцию тому, кто изобретет новое наслаждение. О Навуходоносоре, что разорил храм и увел твоих предков в рабство. О Валтасаре, бросившем Даниила в львиный ров. О Манассии, повелевшем распилить пророка Исайю надвое, и не поперек, а вдоль, чтобы растянуть себе удовольствие. Об Ахаве, совершившем столько преступлений, что Самуил проклял Саула, ибо тот помиловал злодея! А нравится тебе Иксион, возжелавший силой овладеть богиней? Или жители Содома, вознамерившиеся растлить трех ангелов Господних? Не забудем и о кровосмесителе патриархе Лоте и таинствах Венеры — Милетты, о жрицах любви из Тира, о римских вакханалиях, я уже не говорю о цикуте, выпитой Сократом по приговору суда, об изгнании Аристида, убийстве Гракхов, умерщвлении Мария, самоубийстве Катона, о проскрипциях Октавиана, о прерванной жизни Цицерона, об Антонии, пославшем своей жене головы "тех, кто ему неведом". А может, тебе милее Сципион, спаливший Нуманцию, Муммий, сжегший Коринф, или Сулла, предавший огню Афины? Прими во внимание, что я оставил в стороне евреев, финикийцев, греков и египтян, приносящих сыновей своих в жертву Молоху; бриттов, карнутов и германцев, убивающих дочерей во имя Тевтата. А что сказать об индийцах, бросающихся под колесницы их бога Вишну, или фараонах, скрепивших камни своих пирамид кровью и потом двух миллионов людей!.. И все это — для того, чтобы привести нас к Ироду Великому, который из-за тебя вырезал пять тысяч младенцев мужского пола! И к Иоанну Крестителю, которому — из-за тебя же! — Ирод Антипа повелел отрубить голову! Я спрашиваю тебя, будь ты сын человеческий или Божий, что ты можешь сказать обо всем этом? Говори же! Ответь: ты по-прежнему берешь на себя все грехи этого мира? Выдержат ли твои плечи такую ношу?
Иисус отвечал лишь воздыханиями. И все же, пересиливая себя, он прошептал:
— О Господи! Да свершится воля твоя, а не моя!
Сатана издал яростный рев.
Первый час мучений, тревог и испытаний, призванных дать мир вселенной, — этот час истек!
ЧАС ВТОРОЙ
— Ну, хорошо, — продолжил Сатана. — Оставим в покое прошлое. Что сделано, то сделано. Перейдем к настоящему. Ты призвал к себе двенадцать апостолов. Об иных учениках я не упоминаю — это далеко нас заведет… Ты оторвал этих добрых людей от их сетей и лодчонок, от плуга и виноградной лозы, от лавок и сбора податей; без тебя они были бы счастливы, жили бы в семейном кругу и умерли бы в своих постелях, окруженные чадами и домочадцами! И что же? Ты сделал их попрошайками при жизни твоей, а после нее — бродягами… Угодно ли тебе узнать, что случится с ними в награду за проповедь твоей веры и какой дорогой придут они в твое царство небесное? Оставим в стороне Иуду: он достоин ожидающей его петли! Меня интересуют только истовые, верные и несокрушимые! Начнем с первого, кто откроет победное шествие: с Иакова-старшего. Попутешествовав в Испании, он возвратится проповедовать Евангелие в Иерусалим, что не понравится Ироду Антипе, который по просьбе старейшин отрубит ему голову. Он — первый. За ним — Матфей. Этот постранствует вволю: сначала отправится в Персию, затем в Эфиопию. Он приведет к христианству целую толпу девственниц, но, пожелав помешать одной из них выйти замуж за влюбленного в нее местного царька, не добьется от него ничего, кроме смертельного удара ножом в спину. Это — второй! Затем наступит черед Фомы, — как видишь, я перечисляю в порядке хронологии. Ах, Фома, Фома! Он захочет проделать в Аравии то, что тебе удалось в Египте: сокрушить идолов. Но у него это выйдет не так удачно, как у тебя: сам первосвященник поразит его мечом. Он — третий. Перейдем к Петру, основанию твоей церкви, хранителю ключей Господних. Петра его Голгофа поджидает в Риме. Там он будет распят, как и его учитель, но из смирения попросит, чтобы его подвесили вниз головой. А поскольку он будет иметь дело с судией милосердным, тот исполнит просьбу. Это — четвертый! Ах, прошу прощения, я переступил дорогу Иакову-младшему: он на три года раньше Петра присоединится к сонму небожителей. Известно тебе, как умрет твой двоюродный брат Иаков, первый епископ Иерусалимский? Его силой заставят проделать то, чего ты не пожелал по доброй воле: спрыгнуть на землю с крыши храма. Так как в падении он сломает себе всего лишь обе ноги и руку, а уцелевшую возденет к небесам, один почтенный иудей раскроит ему череп сукновальным молотом. Это — пятый! Кто следующий? Ах да, Варфоломей, в прошлом Нафанаил, тот, кто утверждал, что ничего достойного не следует ожидать из Назарета. Его ждет весьма неприятная смерть: с него, как с нерадивого судии царя Камбиза, сдерут живьем кожу — ни более ни менее. И случится с ним это в городке, даже название которого он не успеет узнать — в армянском Албане. Это — шестой! За ним — Андрей, очевидец первого твоего чуда в Кане. Андрея распнут на особом кресте: его форму изобретут специально для него. Потом подобные кресты нарекут его именем, что справедливо: надо же учесть, что, вися на этом кресте, страдалец отдал Богу душу лишь на исходе второго дня. Это — седьмой! За ним — Филипп, он отправится во Фригию и там будет побит камнями. Это — восьмой! Симон и Фаддей, неразлучные друзья, не покинут друг друга и в смертный час, когда их в Персии побьют камнями жители города Саннира. Итого — десять! Ах да! Остался Иоанн, любимый твой ученик, чья судьба трогает тебя более, нежели жребий прочих, не так ли? Ты воздеваешь руки к небесам и просишь у Отца своего уберечь любимца… Действительно, он выйдет живым и невредимым из котла с кипящим маслом, куда его бросят по приказу Домициана… Ну, довольно! Один из двенадцати — не слишком много! Да, не дешево стоит быть твоим другом, Иисус! И дорого платят те, кто служат тебе, Христос! А избранные тобой, Мессия, воистину избирают страдальческий удел!
Иисус уронил голову на руки, чтобы скрыть слезы, избороздившие его щеки.
Сатана улыбнулся, и от его усмешки все померкло в мире.
— Подожди, — продолжал он. — Я упомянул лишь апостолов, поговорим немного о прозелитах, адептах и неофитах; здесь счет уже не на десятки или дюжины душ, а на сотни тысяч, на полумиллионы, а то и на миллионы! Приветствую тебя, кесарь Нерон, император Рима! Что поделываешь, сын Агриппины и Агенобарба! Ты уже посетил любимое зрелище: христиан, которых бросают зверям при свете других христиан, горящих заживо?.. Посмотри же, Иисус, как он изобретателен, этот великий артист, играющий на лире гимны Орфея под крики тысяч мучеников, бьющихся в агонии. Досадуя, что ночь кладет предел убийствам, он придумал мазать людей смолой, варом и серой и поджигать, как факелы. А значит, уже можно не покидать цирка и ночью; просто теперь спектакль имеет два действия: дневное и ночное! Положим на душу Нерона триста тысяч христиан. Клянусь, я весьма скромен в подсчетах: их будет, наверное, больше. Впрочем, правда и то, что Домициан перещеголяет Нерона: мир, старея, совершенствуется! Ну-ка, посмотрим, что ты изобрел, брат доброго Тита, чтобы скрасить досуг в часы, когда надоедало прокалывать мух шилом, протыкать христиан копьями, стрелами и дротиками? Хорошо и это, хотя такие забавы существуют от сотворения мира. Бросать их в огненные печи и в котлы с кипящим маслом? Навуходоносор изобрел это до тебя. Скармливать их в цирках тиграм, львам и леопардам? Топтать их слонами и гиппопотамами? Выпускать их внутренности, бросая быкам и носорогам? Так развлекал себя твой предшественник Нерон… Ну же, Домициан, неужто трудно измыслить ранее неведомую пытку, новое красочное зрелище? Отнюдь! Посмотри, Иисус, а вот это недурно: два корабля, двадцать, сто кораблей, сражаются друг с другом. На палубы сыплются горящие стрелы, так что вскоре все пылает!.. Ах! Как прекрасны огненные отблески на воде, и, по крайней мере, в гибели мучеников столько разнообразия! Одни мечутся с носа на корму, вторые карабкаются на мачты, третьи бросаются вплавь. А тут новая находка: вода кишит кайманами, крокодилами и акулами. Право, он обошел Клавдия. Тот использовал огонь и воду, но не додумался до рыб и рептилий. Положим пятьсот тысяч христиан, истыканных стрелами и копьями, сожженных в печах, сваренных в масле, разорванных тиграми, львами и леопардами, растоптанных слонами и гиппопотамами, поднятых на рога быками, поджаренных на кораблях и съеденных кайманами, крокодилами и акулами. Полмиллиона — не так уж много, но ведь Домициану всего сорок пять лет, когда его убивает Стефан, вольноотпущенник императрицы. Поживи он дольше, сколько бы еще натворил! Впрочем, недоделанное им довершит Коммод. Предстань же пред нами, сын Марка Аврелия, римский Геркулес, победитель львов, предпочитающий зрелищу смерти еще большее удовольствие от убийства как такового! Семьсот раз ты, сын Юпитера, спустишься на арену. И каждый раз это будет стоить жизни полутысяче христиан. В итоге мы имеем триста пятьдесят тысяч. Вместе с пятьюстами тысячами Домициана и тремястами Нерона мы получаем миллион сто пятьдесят тысяч! Я же говорил тебе, что их можно считать миллионами!.. Так считай же, считай, Иисус!
Иисус пал на колени. Раскинув руки, с лицом, мокрым от пота и слез, бледный, дрожащий, он молил Господа:
— Отче! О, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня!
Но затем, собравшись с силами и чувствуя, что сатанинская длань готова накрыть весь мир, воскликнул:
— Впрочем, не моя воля, но твоя да будет на земле, как на небе!
Сатана разразился смехом, более мучительным и страшным, чем его недавний яростный рев. Но тут послышалось тихое пение с небес:
"И второй час страха и тоски истек, час высших испытаний и страстей, которые несут миру избавление!"
То был хор ангелов, возвеселившихся, что Христос не поддался адским силам.
Эти голоса высушили пот и слезы Христа.
— Ты хочешь еще что-то мне сказать? — спросил он.
— Еще бы! — вскричал Сатана. — Клянусь адом, мне еще есть что сказать! Поговорим о ересях… Ах, какой это предмет! О, чувствительное сердце, обрати же на него все внимание и силы душевные.
Иисус не мог сдержать стона.
— О, сохраняй спокойствие, — проговорил Сатана. — Ты же знаешь, у меня не более часа. А значит, я буду вынужден сократить перечень и выбрать только самое интересное. Кстати, вот и список. Видишь, он не слишком длинен.
Сатана вытянул руку, и на стенах пещеры загорелись огненные буквы. Иисус мог прочесть:
Ариане. — Вальденсы. — Альбигойцы. — Тамплиеры. — Гуситы. — Протестанты.
ЧАС ТРЕТИЙ
Наступил краткий миг тишины, во время которого отчетливо слышался свист ветра в шелестящей листве олив.
Казалось, этот ветер доносит отзвуки всех жалоб, криков и проклятий — голоса демонов, вторящих ангельскому хору. С тех пор как лицо Сатаны исказила усмешка надежды, на всю природу словно бы накинули траурное покрывало.
— Что ж! — заговорил искуситель. — Начнем сначала. Заглянем в будущее, в год триста тридцать шестой твоего календаря. В триста двенадцатом в Александрии обоснуется Арий. Он проповедник нового учения, довольно-таки вольномысленного, скажу тебе. К счастью, еще не упразднена свобода мнений! Первые святые отцы и ученые мужи, сообразуясь с суждениями святого Павла, решат, что еретика должно сперва предупредить, а будет упорствовать в заблуждении — отлучить от Церкви, стало быть, и от сообщества христиан. В эти времена отлучение — все еще единственное наказание инакомыслящих. Правда, отцы-инквизиторы более поздних времен, испытывая стеснение от чрезмерной мягкости к еретикам, проявленной Церковью первых веков, объявят от имени Духа Святого, что если проповедники истинной веры явили прежде такую терпимость к отступникам, то лишь потому, что не имели должной власти. Как видишь, довольно-таки наивное признание для последователей святого Доминика. Однако надо допустить, что этот Арий окажется большим негодяем, ибо будет мутить народ в течение нескольких столетий. А если вообразить, что мы живем в году триста тридцать шестом, — знаешь, что Арий говорит о тебе? Он опровергает троичность Божества, утверждает, что тебя вначале вовсе не было, не допускает, что ты и отец твой — одно. И открыл, что ты всего лишь несчастный смертный, извлеченный из тьмы забвения, ни более ни менее. Как бедняга Лазарь! Да, тот самый, кто, после того как ты его оживил, побрел, цепляя ногами за все камни и натыкаясь на деревья, поскольку не мог поверить, что он живой. А самое худшее — не хватило всего трех голосов, чтобы Никейский собор сделал выбор в пользу Ария и против тебя! Ну вот, а сколько трудов и мук пропало бы втуне, если бы Никейский собор высказался не за триединую сущность Божества, а против единства в трех лицах Отца, Сына и Святого Духа. Ужасно подумать: ты не остался бы Богом. Вот и умирай тут ради человечества, когда тебя объявляют Богом только с преимуществом в три голоса!.. На твое счастье, Арий, которого оправдают три следующих собора, что, кстати говоря, несколько подорвет непререкаемость суждений никейских святых мужей, — этот Арий, добившись от Константина своего возвращения из ссылки и став его фаворитом, возьми да внезапно умри как раз в то время, когда император уже повелит константинопольскому патриарху Александру восстановить Ария в исполнении его священнических обязанностей! Ну и, само собой разумеется, человек, с которого весь мир не спускает глаз, не может вот так просто вдруг умереть ни с того ни с сего, не наделав этим большого шума. Еретики — последователи его отвратительного учения — станут утверждать, что причиной смерти был яд. Зато ревнители традиции, знатоки истинных путей веры, объявят эту смерть чудом, ниспосланным небесами в ответ на молитвы епископа Александра… Но что это за епископ, скажи-ка, который в молениях своих требует смерти врага! Что это за Бог, — ответь-ка мне, Христос! — который исполняет такую просьбу? И ты, Иисус, продолжаешь утверждать, что являешь с этим Богом одно целое, ты, говоривший: "Не желаю смерти грешника, желаю, чтобы он покаялся и жил!" Итак, смерть Ария послужит лишь во благо арианам. Вот уже у них и готовый мученик! Его учение проникает в варварские народы и обрушивается на Европу с готами, бургундами, вандалами и ломбардами. Твое божественное происхождение, Христос, признанное в Никее с преимуществом в три голоса, отвергается половиной нового христианского мира! Взаимная ненависть и соперничество диких орд хоронятся за постулатами веры как за щитами. У людей уже нет угрызений совести, когда они убивают друг друга. Они отдаются взаимному истреблению — одни под тем предлогом, что ты Бог, а другие — что не Бог… А ведь первыми словами при явлении твоем на землю были: "Слава Господу на небесах и мир на земле людям доброй воли!" Не знаю, в каком состоянии будет в ту эпоху небо, но, сладкоречивый мой Иисус, посмотри же на землю: это поле резни! От ариан произойдет социнианская ересь. Отсюда видно пламя костра, освещающего стены некоего города и отражающегося на озерной глади. Город этот — Женева, а на костре жгут Мигеля Сервета.
Иисус испустил вздох и провел рукой по глазам.
— Ага! Ты думаешь, что мы уже у цели? — спросил Сатана, делая вид, что неправильно истолковал жест Христа. — Тебе кажется, что мы с закрытыми глазами и пустыми руками уже перемахнули через восемь или десять веков? Прежде чем дойти до конца, нам осталось занести на скрижали несколько хорошеньких побоищ: оставим в письме ни, как сказал бы твой друг Матфей-мытарь. Итак, изгнанные религиозными войнами и церковными неурядицами, несколько христианских семейств к десятому веку, подобно горным цветам, пустят корни в самых отдаленных альпийских ущельях. Там они будут жить в чистоте и простоте, позабытые миром, укрытые скалами, которые они сочтут неприступными. Их души горделиво воспарят, как орлы в небесной лазури, их совесть сохранит белизну снегов, венчающих горы, что позже получат имена Роза и Визо — европейских сестер Хорива и Синая. Альпийский Израиль — имя, которым сама себя наградит эта Церковь с суровыми нравами и тканными без шва одеяниями. Христианский дух, нравы и обычаи в то время сохранятся в чистоте только среди этих выходцев из Лиона, сирых и убогих, как вальденсы из самоуничижения назовут себя сами. Евангелие станет их законом, а религиозный культ, вытекающий из такого закона, будет самым незамысловатым из всех, которые изобрело человечество: они сольются в братской общине, все члены которой собираются, чтобы молиться и любить друг друга. Их преступление — ведь нужен же повод к гонениям, — их преступление в том, что они утверждают, будто, даровав папам и Церкви большие богатства, Константин ввел в соблазн христианский мир. А учение свое они обоснуют двумя речениями из уст твоих. Первое: "Сын человеческий не имеет где преклонить голову"; второе: "Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие!" И что же? Большего и не нужно, чтобы навлечь на это маленькое братство гнев и суровые кары некоего святого учреждения, что только-только появится на свет под именем инквизиции. Священники-горцы, белобородые старцы, прозванные по сему поводу "бородачами", напрасно будут доказывать, что, в согласии с твоими поучениями, они ревностно платят дань кесарю, живут никого не обижая и деля время между молитвой и милостыней; что первый встречный — такой же проповедник, как и они (а это один из постулатов их учения: каждый христианин может причащать телом и кровью Господней), — инквизиция поразит пастырей, и овцы разбредутся. Но их будут преследовать даже в их пещерах: женщины, дети, старики — все падут под мечом служителей того, кто через час скажет Петру: "Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут!" Преследуемые и гонимые, они будут взывать к скалам: "Приоткройте лоно свое, дабы принять нас!" Но среди сумрачных отрогов тех самых Альп они найдут лишь разящий меч святого воинства, запятнанный кровью резни! Посмотри! Видишь два кровавых пятна? Имя им Кабриер и Мериндол. Взгляни на эти запекшиеся потеки: они чернеют, как следы молнии на окровавленных скалах. Пожрав поленья костра и тела людские, огонь станет лизать гранит… Попробуй сочти, — ведь ты Бог и все можешь! — сочти-ка число жертв. Я взялся подсчитать, сколько истребили Нерон, Домициан и Коммод, но не берусь исчислить убитых святым Домиником, Пьером де Кастельно и Торквемадой! Бойня продлится три века, а когда утихнет, даже след слова твоего сотрется с лица земли!
Иисус, вздыхая, отвернулся.
— Подожди, — усмехнулся ангел зла, — я не покончил с мучениками из кантона Во. У них на юге Франции появятся духовные братья, прозванные альбигойцами. Их тоже будут преследовать за приверженность смеси из твоих проповедей и учения перса Манеса. Как и манихеи, они не только отринут твою божественную природу — на это отважились еще ариане, — но станут отрицать и твое телесное существование. Ту самую плоть, что скоро исполосуют в клочья плети воинов, пробьют железными гвоздями и пронзят копьем! Можешь ли ты понять людей, за которых страдал и примешь муки, зная, что они будут отрицать само страдание твое, не признавая, что ты был во плоти! Для них ты лишь призрак, бестелесная тень, нереальное видение, и в чреве матери твоей ты не принял человеческого обличья: лишь показалось, что ты родился, жил и умер — вот и все. По их разумению, ты возник и исчез в воображении людском, так и не искупив зловещего проклятия земному существованию. Они отринут самое возвышенное в твоем бытии: страдание. Таинства твоей Церкви будут отвергнуты ими, как чувственные, а не духовные знаки веры, посему они объявят эти таинства недейственными. А курьезно то, что "ревнители истины и духа", как они сами себя назовут, обопрутся на слова твоего Евангелия: "… ибо настанет время, и настало уже, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу в духе и истине". Усвоив эту заповедь, они отбросят все внешние отправления и церковные ритуалы. Да и зачем этим детям Гаскони и Прованса величие театрального действа, творящегося в римских храмах, если небо — единственный алтарь и престол Господен? И все это на основании слов, которые ты имел неосторожность произнести: "не клянитесь не бом, потому что оно престол Божий!" Ох, Иисус, Иисус, когда ты воссядешь одесную своего Отца, ты ниоткуда более не услышишь такого хора восходящих к небесам жалоб и рыданий, как тот, что поднимется из этих веселых и прекрасных мест, где замки бдительно охраняются, мужчины почти все — поэты, женщины же — без изъяна прекрасны! Ведь мрачный крестовый поход утопит в крови альбигойцев и раздавит под обломками их городов не секту, а цивилизацию, литературу, язык. Три мощных города: Безье, Лавор, Каркасон — сокрушит огненный вихрь, что пройдет по всему югу Франции. Они расплавятся в пламени, как металл в печи! Слышишь?! Среди груды женщин со вспоротым нутром, младенцев, отъятых от материнских сосцов, и стариков, сожженных в собственных жилищах, слышишь ли голос одного из твоих приверженцев: он молотит распятием, поскольку режущее и колющее оружие запрещено вкладывать в освященные руки, и кричит: "Убивайте! Убивайте всех! Праведных и еретиков! Господь познает своих!.." И все, еретики и праведные, канули под перезвон колоколов, оповещавших об агонии двухсот тысяч человек. А затем над трупами в еще дымящихся развалинах Лавора, Каркасона и Безье твои священники грянут гимн "Veni, creator Spiritus!" — "Приди, Дух животворящий!" К чему же, о Христос, укорять тебе учеников, пожелавших ниспослать огонь небесный на Самарию, жители которой не пожелали тебя приютить?
Иисусу казалось, что он слышит мольбы умирающих, материнские вопли и предсмертный хрип стариков, и под похоронный звон, доносящийся с колоколен, перед его глазами проплывали руины, пожары, кровь!
Обеими руками он отер пот со лба, и из груди его исторглось стенание более душераздирающее, горестное и исполненное мольбы, нежели стоны, звучащие в его ушах.
Пока вещал ангел зла, волны человеческого горя, как ночной грозовой прилив, затопляли душу Иисуса.
Но, кроме вырвавшегося стона и пота на челе, ничто не обещало скорого поражения божественного Спасителя.
А потому Сатана продолжал:
— Не спеши, Иисус: на подходе тамплиеры. То будут рыцари, вооружившиеся во имя твое. Они будут оспаривать у неверных и ветров пустыни твою гробницу, место, где ты лежал в колыбели, развалины храма, который ты взялся за три дня отстроить заново. От постоянной торговли с Востоком, от путешествий и завоеваний они усвоят обрывки старинных верований и тайно вплетут их в твое учение. Их мрачные церемонии будут походить на неведомые египетские мистерии. Они станут поклоняться идолу с таинственно замкнутым выражением лица и семисвечнику, что понесут во время триумфа Тита. И хотя эти таинства причащения будут твориться за семью печатями, слух о них расползется по миру. Опасения, внушаемые самой Церкви военной доблестью храмовников, желание прибрать к рукам их огромные богатства, зависть других религиозных орденов и соперничество военных союзов — все станет способствовать их гибели. Против них нет никаких улик? Пустяк: под пыткой их добудут. Они признаются, а потом на суде отрекутся от своих показаний, но все равно умрут на костре. И твой наместник, папа римский, которому они будут угрожать тем, что ему придется держать ответ перед тобой, действительно ответит… Как станешь судить этого земного предстоятеля твоего, ты, сказавший: "Тростинки надломленной не переломите! Льна курящегося не угасите!" Прислушайся, Иисус, к исполненному глубочайшей грусти пению, что доносится из Богемии. Там родится человек по имени Ян Гус; горькими словами он заклеймит алчность служителей Церкви, как и ты в свое время проклинал тщеславие священников, книжников и фарисеев, говоря: "Горе вам, что лицемерно долго молитесь и поедаете домы вдов!" Он захочет собственной кровью отмыть грязные пятна с одежд твоей Церкви, как ты возжелал отмыть своей кровью грехи человечества. Ему понадобится умереть для успокоения собственной совести, а тогда, как и сейчас, за этим дело не станет. Твои священники заключат его в тюрьму, осудят и сожгут на одном костре с его учеником Яном Пражским. Он возьмет тебя в свидетели, что принимает смерть за дело твое, слышишь, Иисус? А чтобы убедить твоих прелатов в их неправедности, когда поднимутся языки пламени, он устремит очи к небесам в смиренном откровении и печально возвестит: "Ныне вы свернули шею жалкому гусю, но через сто лет явится прекрасный белый лебедь, его удушить вам будет не под силу". Этот прекрасный лебедь — Лютер. Бедный гусь испустит в огне последний вздох, но ветер развеет пепел и угли костра, а от них разгорится величественная гуситская война. "Отнять чашу!" — вот клич единения, сотрясающий всю Богемию. Ибо священники присвоят половину твоей сущности: причащение вином. Они оставят себе чашу, сделав непреодолимой пропасть между собой и народом. Против этой-то привилегии и поднимется вся Богемия, требуя причащения в обоих видах: хлебом и вином. Ах, какая свирепая разразится война! Если тебя, агнец Божий, она и опечалит, то возвеселит Бога-воителя, Бога-победителя, Бога-триумфатора! Сначала чашники и табориты встанут под одни знамена. Перед ними дрогнут Богемия, Германия и Италия. Совершив чудеса храбрости, веры и самопожертвования, потрепанные, разбитые, преданные всеми, они покинут жалкие остатки своей армии в каком-то сарае, а их враги его подожгут, чтобы ни один еретик не спасся. И ни один не спасется! Что ты думаешь о смерти этих людей, убитых по приказу римского понтифика за то, что желали причащаться в двух видах? Ответь, Христос! Ведь лишь два часа назад ты говорил своим ученикам, давая им хлеб и вино: "Ядите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя…" Ах! Ты содрогаешься, ты трепещешь, Иисус? И пот твой льется обильней и стал кровавым… Посмотри на свои руки: они красны, как у твоих священников, понтификов, пап! О, прекрасные руки, как они радуют сатанинский взор!
— Ты прав, — ответил Иисус. — Но кровь эта — моя собственная, и течет она не за мои страдания, а за муки человеческие. И Отец мой, видящий, как она струится, дает мне силу молить его: "Да не разжалобят тебя, Господи, страдания мои, да не остановят на предначертанном мне пути".
— Аминь! — произнес Сатана. — И продолжим. Пройдет сто лет после смерти бедного гуся, и лебедь, которому предсказано родиться, появится на свет и пропоет свою песнь. Лютер заклеймит торговлю индульгенциями, которую введут твои понтифики. Он издаст воинственный клич, ополчившись против Рима, — на этот голос откликнутся люди с совестью… Северные народы возмечтают вторично насытить свою ненависть к Вечному городу и взять приступом Ватикан, как некогда варвары взяли Капитолий. Духовным отцом этого нашествия станет монах с ликом, истощенным постом, со взглядом, омраченным сомнениями, и лбом, побелевшим от бдений. Ересь породит ересь, благодаря свободе мнений секты расплодятся и размножатся — и вот уже сто тысяч крестьян под водительством одного из твоих священников, Томаса Мюнцера, усеют своими костями земли Франконии. Что ж! Смелей, вперед, христиане против христиан! Протестанты против протестантов! Еретики против еретиков! Вот истребление, подобное тому, что твой любимый ученик Иоанн предречет в Апокалипсисе. Увы, это видение смерти не позволит ему разглядеть или вообразить даже бледную тень кровавого будущего. После крестьян Мюнцера придет черед анабаптистов под водительством Иоанна Беколда, Иоанна Бокелзона, или Иоанна Лейденского, — зови его как тебе угодно. Бывший портной и содержатель постоялого двора возродит во имя твое, о Христос, нравы Давида и Соломона. Как они, он сделается царем, подобно им, окружит себя куртизанками и станет проводить время в помпезных многодневных трапезах. Сей Сарданапал Запада провозгласит: "Бог — это наслаждение!" Потом его в конце концов изловят, сдерут с него кожу, сожгут в железной клетке. Его родной город Мюнстер не избежит ни меча, ни мора. Сторонников его рассеют и кого повесят, кого колесуют, четвертуют или просто прирежут! Ну, этим-то, по крайней мере, жаловаться не на что: они весело провели остаток жизни и опорожнили чашу до дна в ожидании того часа, когда — по твоему обещанию — изопьют с тобой чашу в царстве Отца твоего. Но вот бедные моравские братья, какой грех они совершат? Слово Сатаны — никакого. Единственными их земными усладами будут власяницы и плети для умерщвления плоти. Они станут жить, молиться и работать сообща, как христиане первых веков! Но это не помешает другим христианам ненавидеть и проклинать их. Их сочтут врагами общества, осудят, приговорят, изгонят и разгромят. Да и сама реформа не встретит сочувствия в глазах тех, кто владычествует над совестью людской. Кстати, приглядимся, чего желает проклинаемая ими реформа, та, что завоевывает мир с кличем "Иисус, Иисус!". Ах! Она стремится заменить мессу, о которой ты нигде не сказал ни слова, общим причастием, на котором ты так настаивал. Кроме того, реформа восстановит право церковнослужителей вступать в брак — в честь столпов первоначальной Церкви. Так гряди, реформа, гряди! Иисус хочет произвести смотр тебе и всем детям твоим: лютеранам, гугенотам, кальвинистам, протестантам, нечестивцам — короче, всем, кто так или иначе вкусил ереси! Раздвиньтесь же, стены, раскройтесь, горы, отхлыньте, моря — пусть Искупитель рода человеческого бросит взгляд на Запад! Но что это? Почему столько крови, огня и дыма? Откуда эти виселицы, эшафоты, костры, разрушения и всеобщие бойни?.. Да, Голгофа растет вширь, расползается по земле и становится необъятной. Она покрывает Европу от истоков Одера до побережья Бретани, от залива Голуэй до устья Тахо. Это то, что потом назовут восьмидесятилетней войной. Она начнется разграблением собора в Антверпене и закончится падением головы Карла Первого. Посмотри-ка: вон пылает Британия. Там бесчинствует Мария Кровавая. А вот дымится Испания: ее поджег Филипп Второй! О, вы достойны святого таинства, скрепившего ваш брачный союз — обручение северной тигрицы и южного беса!.. Жги! — И вот пылает Шотландия…
Еще! — Ирландия занялась! Поддай жару! — И Богемия, Фландрия, Венгрия, Вестфалия охвачены пламенем! Жги, круши! А, настает черед Франции! Да здравствует ночь святого Варфоломея, кстати, твоего апостола! Надеюсь, король Карл Девятый устроит в его честь отличный праздник! Видишь этого набожного монарха на балконе с аркебузой в руках: он охотится за кальвинистами, лютеранами, гугенотами… Прекрасная троица королей, слово демона! Каждый купается в крови до полного изнеможения и ею же утоляет безмерную жажду: Мария Тюдор ходит в крови по колено, Филипп Второй — по пояс, а Карл Девятый — по макушку… Что же остается Людовику Четырнадцатому? Так, пустяки!
Иисус уже не мог смотреть: он со стоном спрятал лицо в ладонях. Сатана бросился к нему и силой отвел руки от глаз.
— Смотри же, — приказал он.
Христос посмотрел, но ничего не смог разглядеть, кровавый пот ослепил его!
Тут силы покинули Спасителя, он пал лицом на камни, моля:
— Господи, Бог мой! Возьми всю жизнь мою до последнего биения сердца, вздоха, до последней капли крови, удвой, удесятери, умножь в сто раз мои пытки; но да свершится святая воля, а не помыслы моего адского искусителя!
Сатана издал ужасный крик и одним прыжком выскочил из пещеры; стены ее понемногу осветились небесным сиянием, и хор ангелов запел:
"Третий час испытания, страха и надежды истек. Кончилось время невыразимых страданий ради воцарения мира в природе! Слава Иисусу на земле! Слава Создателю на небесах!"
Сатана вторично был повержен!
X ПОЦЕЛУЙ
Когда Богоматерь накрыла голову, чтобы не видеть проходящего мимо Иуду, тот, как она и думала, вышел из трапезной, чтобы предать учителя.
Совет священников и старейшин должен был, как предложил Иуда, собраться ночью. Изменник обещал известить их, не уточнив, в кат:ом часу это будет: он сам не знал, как ему удастся выйти, и намеревался действовать по обстоятельствам.
С восьми часов вечера главные недруги Иисуса собрались у Каиафы. Анан заранее выбрал людей, на которых мог положиться. Их имена дошли до нас: кроме самого Анана, тестя Каиафы, было семь или восемь верховных священнослужителей и старейшин. Звали их Зум, Дафан, Гамалиил, Левий, Нефалим, Александр и Зир. Никодима же и Иосифа Аримафейского, высказавшихся накануне в пользу Иисуса, пригласить поостереглись.
Собравшиеся у Каиафы ждали уже более часа; их обостренный ненавистью слух отзывался на каждый шорох снаружи. Иные уже недоверчиво качали головами, говоря: "Этот человек обещал то, чего не может исполнить, он не придет!" Но вдруг ковер, прикрывавший вход, приподнялся и на пороге возник Иуда.
От дома Каиафы до места, где Иисус возлег за трапезой на тайной вечере, была лишь сотня шагов. Следовательно, ни быстрый бег, ни долгий путь не могли объяснить, почему Иуда пришел весь в поту.
Когда он переступал порог Каиафы, его терзали не угрызения совести, а сомнения. Неужели Иисус, так легко читавший в его душе, этот пророк, повелевавший ангелами, действительно был существом сверхъестественным, отличным от других людей?
Иуда был готов на убийство человека, но отнюдь не Бога.
К несчастью, в миг, когда он медлил у порога, не зная, вернуться или войти в дверь, та распахнулась. И Малх, служитель первосвященника, посланный хозяином поглядеть, не пришел ли ожидаемый посетитель, оказался лицом к лицу с Иудой, узнав в нем того, за кем его посылали.
— Входи, — сказал Малх. — Тебя ждут.
И втолкнув Иуду в дверь, затворил ее за ним.
Эта дверь, как вход в Дантов ад, стала той пропастью, что преодолел изменник. И пот, лившийся с чела Иуды, служил свидетельством того, что этот человек, войдя, оставил всякую надежду, как души перед вратами преисподней.
Увидев его, собравшиеся радостно вскрикнули.
— Ну что? — разом спросили двое или трое из них.
— А то, — отвечал Иуда, — что я здесь.
— И готов сдержать обещание?
— Иначе разве я бы пришел?
— Где Иисус?
— В сотне шагов отсюда, в доме Илия, родственника Захарии из Хеврона. А тому его сдали Никодим и Иосиф Аримафейский.
— Что он делает в этом доме?
— Справляет Пасху.
— Но ведь сегодня не Пасха?
— А разве это не безразлично тому, кто явился разрушить существующее и установить то, чего нет? Исцеляющий в субботу может справлять Пасху в четверг.
— Прекрасно, — сказал Каиафа. — Все слышали? Он в сотне шагов отсюда. Сейчас прикажу, чтобы его схватили.
— Поостерегитесь! — вмешался Иуда. — Дом Илии похож на крепость, и вокруг Христа — пять или шесть десятков преданных учеников. В Иерусалиме еще никто не спит; ему достаточно крикнуть, как сбегутся все его приверженцы. В нескольких сотнях шагов — Офел, а в этом предместье множество его сторонников… Отправиться за ним туда, где он сейчас — это поставить на ноги весь город.
— Так что же делать? — спросил Каиафа.
— Послушайте, — предложил Иуда. — Через час он выйдет из дому в сопровождении лишь немногих учеников, по всей вероятности, тех, кто сейчас с ним за одним столом. Я знаю, куда он ходит каждую ночь. Дайте мне двадцать хорошо вооруженных людей, и я отдам Иисуса в ваши руки.
— Он будет один?
— Нет, среди своих учеников, но вдали от города и без какой бы то ни было подмоги.
— Но если с ним много учеников, а у тебя лишь два десятка воинов, может произойти стычка, во время которой Иисусу удастся сбежать.
— Кроме Петра, все остальные ученики — люди мягкие и боязливые. Сопротивления они не окажут.
— Как же ночью среди многих людей мои воины отыщут Иисуса?
— Это будет тот, кого я поцелую, — ответил Иуда.
Члены совета невольно вздрогнули от слов человека, который предает, как прочие ласкают, — поцелуем!
— Хорошо, — согласился Каиафа. — Вот то, что совет приготовил тебе в награду, — и протянул кожаный мешочек с тридцатью серебряными монетами.
— Прежде чем что-либо брать, я бы хотел заручиться вашим обещанием.
— Каким?
— Что я смогу действовать свободно, что стражники будут следовать за мной издали и остановятся там, где я им укажу. К ученикам я должен приблизиться в одиночку, а прочие пусть подойдут лишь спустя четверть часа.
— Воины получат приказ повиноваться тебе.
— Хорошо, — удовлетворенно произнес Иуда и лишь после этого взял из рук первосвященника кошель. — Теперь, — продолжал он, — я хочу знать: это действительно мои деньги?
— Это задаток сделки, которую мы только что совершили. Как только лжепророк будет у нас в руках, совет позаботится о том, чтобы плата за службу была увеличена.
— Я спрашиваю не о том, — нетерпеливо оборвал Иуда. — Я хочу знать: это мои деньги, я волен делать с ними что пожелаю?
— Они твои, и ты можешь делать с ними все, что тебе угодно.
— Что ж! — сказал Иуда. — Чтобы доказать вам, что я действую не из алчности, а по убеждению, жертвую их на храм.
Но Каиафа оттолкнул протянутую к нему руку с кошелем.
— Оставь их себе. Они не могут быть пожертвованы на храм: это цена крови.
Иуда мертвенно побледнел, рыжие брови нахмурились, и он засунул кошель за пояс.
— Хорошо, — проговорил он. — В полночь я вернусь.
— Нет, — ответил Каиафа, переглянувшись с прочими членами совета, — лучше будет, если ты подождешь здесь.
— Я подожду, — сказал Иуда.
Он уселся на скамью в противоположном конце залы и, безмолвный, неподвижный, остался сидеть до полуночи.
Меж тем старейшины и священники коротали время тихо переговариваясь.
Иногда то один, то другой украдкой бросал взгляд на Иуду, но обнаруживал его на том же месте, онемевшего и похожего на изваяние.
В полночь вошел декурион, возглавлявший отряд из двадцати лучников, и объявил, что его люди готовы.
Тут Каиафа громким голосом велел ему во всем повиноваться Иуде, но тихо добавил:
— Не спускайте глаз с этого человека и не доверяйте ему!
Иуда повернул голову в сторону первосвященника, перехватив брошенный на него взгляд и, быть может, услышал что-то из сказанного, но сделал вид, что ничего странного не увидел и не услышал.
— Пошли, — сказал он и вышел первым.
Пока Иуда во главе двадцати воинов приближался к воротам Источника, истекал третий час искушения Спасителя.
Иаков, Петр и Иоанн, как мы уже упомянули, расстались с учителем у входа в Масличный сад и провожали его взглядом, пока его не скрыла бледная сверкающая листва деревьев Минервы, как называли оливы. Ученики уселись и накрыли головы плащами, подобно всем восточным людям, привыкшим так спать или молиться, и, сломленные усталостью и грустью, задремали.
Иоанн проснулся первый, поскольку его тронули за плечо. Он сбросил с головы плащ, поднял глаза, и тут из его груди вырвался крик, разбудивший остальных двоих.
Луна, пробивавшаяся сквозь море клочковатых облаков, отбрасывала тусклый свет, достаточный, однако, чтобы различать предметы.
Около апостолов стоял Иисус. Но Иоанн узнал учителя не глазами, а сердцем, ибо тот был почти неузнаваем.
Мягкое, спокойное лицо Христа было сведено страданием, смертельно бледно и залито кровавым потом, от которого борода склеилась, а всклокоченные волосы на голове стояли дыбом. Он не снял руки с Иоаннова плеча, но уже не для того, чтобы пробудить его, а просто для опоры, так как едва держался на ногах.
— Учитель! — вскричал Иоанн, обеими руками поддерживая Иисуса. — Что с тобой случилось?
— Вставайте и пойдем, — молвил тот, — ибо настал предсказанный мною час, когда мне предстоит отдаться в руки мучителей.
Петр и Иаков вскочили.
— Учитель, — взмолился Петр, — позволь мне позвать остальных учеников! Мы все одиннадцать преданы тебе по гроб жизни, мы можем сопротивляться, защищаться! Что до меня… — и апостол приподнял край плаща, под которым висел короткий меч, — за мной — смерть первого, кто осмелится поднять на тебя руку!
— Нет, Петр, — печально сказал Иисус. — Не делай этого: все, что произойдет, предрешено моим Отцом и мною… Пока вы спали, я корчился в предсмертных муках и не раз силы почти покидали меня… Посмотрите, как я слаб, бледен, взгляните на мои волосы: они слиплись от кровавого пота. Да, борьба была долгой, а враг цепок и безжалостен. Но с помощью Отца моего (Иисус обратил к небесам взор, полный благодарности) схватка окончилась победой! Пусть теперь придут пытки, мучения, смерть — я готов… Так пойдемте же.
И он сделал несколько шагов в сторону Гефсимании.
Петр ничего не ответил, но, встав вместе с Иаковом за его спиной, проверил, свободно ли клинок выходит из ножен.
Тропинка была так узка, что два человека едва могли идти рядом. Впереди, как уже было сказано, шел Иисус. Он продвигался медленно, опираясь на плечо Иоанна. Петр и Иаков замыкали это шествие.
Так они добрались до Гефсимании. Пока Петр с Иаковом будили остальных апостолов, Иисус, отведя Иоанна в сторону, тихо попросил:
— Когда меня уведут стражники, беги к Золотым воротам и найди мою мать. После моего ухода она осталась с благочестивыми женами у Марии, матери Марка. Оттуда, по особой милости Божией, ей было видно все, что со мной происходит, и слышно все, что я говорил и что было сказано мне. Она знает, что меня схватят, и спешит с Марфой и Магдалиной, чтобы повидаться со мною на пути в город… Она будет слаба и одинока… Иоанн, если я люблю тебя как брата, то она привязалась к тебе как к сыну. Ты пойдешь к матери моей и поддержишь ее!
— О учитель! — воскликнул Иоанн. — Неужели нет средства избежать этой страшной участи? Ведь от одной мысли о ней у тебя кровавый пот выступил на челе.
Говоря это, он смочил в ручье край плаща и омыл лицо Христа с такой же нежной заботливостью, с какой мать ухаживает за малым ребенком.
— Этот пот, что ты стираешь с моего лица, к счастью, никто не сотрет с лица земли, — медленно проговорил Иисус. — Он пролился не из-за того, что ожидает меня, а за всех людей. Вот почему, возлюбленный брат мой, я не только не попытаюсь бежать, но, напротив, отправлюсь навстречу смерти.
И, положив руку на плечо Иоанна, он продолжал:
— Ну вот, видишь дрожащий свет вон там, у ворот Источника? Это факелы тех, кто идет за мной. Они уверены, что схватят меня, и четверо отошли к Кедрону за двумя балками, перекинутыми как мостки: из них они сделают мне крест.
Иоанн разрыдался. Теперь уже он так ослабел, что не мог устоять на ногах и Иисус был вынужден поддержать его.
— Ничего, — прошептал Спаситель. — Чтобы ты придал силы другим, я сейчас приободрю тебя.
И он провел пальцем по векам зашатавшегося от слабости апостола.
Тот открыл глаза и с радостным возгласом воздел руки к небу.
Небеса растворились перед ним, и он увидел то, что до него не было дано лицезреть ни одному смертному: Бог в бесконечном могуществе и славе восседал на своем престоле, над челом его порхал Дух Святой, по правую руку стоял Христос, благословляющий спасенный им мир, по левую — Дева Мария, освобожденная от страданий и расцветшая для вечного блаженства.
Ослепленный сиянием, Иоанн вынужден был зажмурить глаза, а когда вновь открыл их, видение исчезло. Но в его душе оно не померкло.
Он пал к ногам Иисуса.
— О сын Предвечного! — вскричал он. — Будь благословен открывший мне тайны небесные, мне, который лишь дуновение Духа созидающего, лишь капля росы в океане бесконечности! Ты сделал меня одним из солнц, встающих в голубизне небесного эфира и освещающих малые атомы, называемые мирами. Ты счел меня достойным того, чтобы делиться со мной своими помыслами, хотя я был готов следовать твоим указаниям, не вникая в их смысл! Будь благословен, подаривший мне райское видение, хотя бы на миг приблизившее меня к Несотворенному! И дети Адама познают такое же счастье, что теперь затопило меня целиком! Они узрят это, когда ты отнимешь у смерти ее огненный меч, когда истекут сроки времен и жизни этого мира, когда начнется вечность!..
Иоанн на мгновение замер, полностью уйдя в себя, в созерцание счастливой жизни, — он, кому через шестьдесят лет на острове Патмос Иисус ниспошлет видение смерти.
А лучники, ведомые Иудой, тем временем приближались. У ворот Источника Иуда хотел было осуществить первоначальный замысел и отделиться от стражников, чтобы незаметно замешаться среди остальных апостолов. Но декурион, не забывший предписание Каиафы, придержал его за плечо:
— Не торопись, приятель! Ты в наших руках. Теперь не вырвешься, пока не выдашь нам галилеянина.
Иуда подавил новое разочарование и, осаженный декурионом, продолжал идти в рядах лучников.
Шагах в ста от Гефсимании он попробовал настоять на своем, но столь же безуспешно. Недоверие декуриона по мере приближения к цели лишь возрастало, усиливаемое ночной тьмой и безлюдьем. Он даже схватил край одежды Иуды, так что могло бы показаться, будто не Иуда вел их к Иисусу, а они тащили предателя на свидание с его жертвой.
Невдалеке от первых домов Гефсимании воины заметили кучку людей.
— Вот Иисус и его ученики, — шепнул Иуда. — Отпустите меня, чтобы я, по крайней мере, мог подать условленный знак.
— Успеется, — буркнул декурион. — Сначала мы должны убедиться, что это именно те, кто нам нужен.
И они продолжали двигаться тем же порядком.
Тогда сам Иисус сделал несколько шагов в их сторону и обратился к предводителю:
— Кого ты ищешь, Авен Адар?
— Это он! — прошептал Иуда, отступая на шаг и схватив декуриона за руку.
— Кто "он"? — спросил Авен Адар.
— Тот, кого я должен предать в ваши руки, — сказал Иуда.
Но поскольку декурион еще сомневался в истинности слов изменника, он выкрикнул:
— Мы ищем Иисуса Назорея.
И тем же голосом, каким спрашивал "Кого ты ищешь?", Христос произнес:
— Иисус Назорей — это я!
Слова были просты, и ничто не изменилось в интонации произнесшего их. Но Господь пожелал, чтобы люди узнали, что голос принадлежит тому, кто повелевает океанскими валами, побуждает Сатану низвергнуться в ад и творит из небытия души ангелов.
Он придал словам Христа силу грома и мощь урагана!
Услышав "Иисус Назорей — это я!", декурион, воины и храмовые служители — все, не исключая Иуды, пали ниц, уткнувшись лицом в землю.
Лишь один устоял на ногах, но он бросился к Иерусалиму с криком: "Горе тому, кто поднимет руку на этого человека!"
— Встаньте, — приказал Иисус.
И все, так и не по совладав со смятением и дрожью, поднялись на ноги.
Иисус же обратился к Иуде:
— Подойди, Иуда, и сделай то, что обещал.
Какое-то мгновение Иуда колебался, но, словно устыдившись слабости, пошел прямо на Иисуса со словами:
— Учитель, не позволишь ли смиреннейшему из учеников твоих облобызать тебя?
Иисус подставил щеку, шепча:
— О несчастный Иуда, лучше бы тебе не родиться на свет!
И одновременно с этим он протянул руки: щеку подставил, чтобы его предали, а руки, чтобы их связали.
Но стоило губам предателя коснуться щеки Иисуса, как раздался столь мощный удар грома, а небо рассекла столь угрожающая молния, что приближающиеся лучники застыли, а декурион даже отступил на шаг.
— Разве вы не слышали? — спросил Христос. — Я Иисус Назорей, тот, кого вы ищете.
Эти слова несколько успокоили стражников. Видя, что Иисус сам, без сопротивления, отдается в их руки, они набросились на него.
Иуда думал воспользоваться замешательством, чтобы скрыться, но Петр поймал его за край платья и толкнул в круг апостолов.
— Ко мне! — закричал он. — Защитим учителя! — с этими словами он выхватил меч и нанес сильный удар по голове того самого служителя Каиафы, который открыл дверь Иуде и ввел его в залу совета.
Малх издал вопль и рухнул навзничь.
Стражники решили, что он убит. В их рядах произошел беспорядок, некоторые уже готовы были пуститься бежать.
— Воины! — вскричал Авен Адар. — Перед вами всего лишь человек!..
Те устыдились, за исключением одного, со всех ног побежавшего к городу и вскоре исчезнувшего во тьме.
В суматохе, вызванной падением Малха, апостолы выпустили Иуду, и тот бежал, пробираясь по отвесным горным тропкам вдоль ручья, впадавшего в Кедрон.
Иисус подозвал Петра.
— Петр, — проговорил он мягким, но повелительным голосом, — возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч, мечом погибнут!.. Или думаешь, что я теперь не могу умолить Отца моего и он не представит мне более, нежели легион ангелов? Но я должен испить чашу, что определил мне Господь, ибо как же сбудутся Писания, что так должно быть?
Тут его схватили лучники, но Иисус тихо попросил их:
— Я готов следовать за вами, только позвольте мне прежде вылечить этого человека.
Они отстранились от него. Тогда Иисус наклонился над служителем первосвященника, который без сознания лежал на земле, истекая кровью, и коснулся его пальцем. Тотчас рана затянулась, кровь перестала хлестать из нее, и Малх поднялся на ноги.
Но вместо того чтобы убедить солдат, это сверхъестественное событие лишь удвоило их ярость. Они бросились на Иисуса и стали его бить, кто древками копий, кто в несколько раз сложенными веревками, которые они захватили с собой, чтобы его связать.
Иисус все так же мягко проговорил:
— Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня; каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Но теперь — ваше время и власть тьмы. Не бойтесь, я не окажу сопротивления, вяжите меня, хватайте: вот он я!
И сам отдался в руки палачей.
В одно мгновение Иисуса скрутили новыми жесткими веревками. Стражники стянули ему правую кисть с левым локтем, а левую — с правым, вокруг талии и шеи скрепили пояс и ошейник из ивовой плетенки, утыканные гвоздями. Ошейник и пояс крест-накрест соединили перевязью, тоже с шипами; к перевязи, ошейнику и поясу привязали еще четыре веревки, посредством которых можно было не только удерживать на ногах своего полузадушенного пленника, но и по прихоти дергать его вправо и влево, вниз и вверх.
От каждого толчка и рывка гвозди, торчащие остриями внутрь, вонзались в тело, и из-под них брызгала кровь.
При виде этой чудовищной прелюдии к пыткам, ожидавшим их учителя, апостолы, до сих пор уповавшие на некое чудо, потеряв остатки смелости и всякую надежду, разбежались. Одни устремились в сторону Вефиля, другие — к Ен-Гадди.
Иисус бросил им вслед прощальный взгляд и последний раз улыбнулся Иоанну, напоминая, что ему пора спешить к Богородице.
Тот без слов понял.
— Иду, учитель! — крикнул он. — Та, что всегда опиралась на твою руку, теперь обретет мое плечо.
— Готово? — поторопил декурион стражников, обматывавших Иисуса все новыми и новыми веревками.
— Да, начальник, — ответили те.
— В таком случае ты, Лонгин, ступай вперед и оповести первосвященника, что лжепророк у нас в руках.
Один из лучников вышел из шеренги и быстро зашагал к Иерусалиму.
Остальные напутствовали его насмешливыми выкриками: "Берегись, Лонгин, там камень, не ушибись!.. Осторожно, Лонгин, не налети вон на то дерево! И не угоди в Кедрон!.."
А Лонгин, уже растаяв во тьме, оттуда крикнул:
— Не беспокойтесь: я плохо вижу днем, зато прекрасно — ночью!
Голос затих, а вслед за ним смолк и шум шагов.
— Вперед! — скомандовал декурион. — К Каиафе!
XI СОН КЛАВДИИ
А в доме Каиафы, куда декурион вел Иисуса, царило смятение.
Как мы уже говорили, после ухода Иуды и стражников совет не стал расходиться и ожидал новостей.
Вдруг вошел бледный, в поту и пыли лучник — тот самый, что убежал с криком: "Горе тому, кто поднимет руку на этого человека!"
Как любой, кто стал свидетелем ужасного и невероятного происшествия, он прибежал поделиться увиденным.
По его словам, Христос около Гефсимании сам назвал себя воинам, а услышав: "Иисус Назорей — это я!", весь отряд — и декурион и лучники — был повергнут в грязь и пыль. Он один устоял на ногах, но полагает, что напасть обошла его лишь затем, чтобы он мог, прибежав к старейшинам, поведать об этом чуде.
Слух о всемогуществе Христа со дня его триумфального вступления в Иерусалим обрел такую силу, что, сколь бы неправдоподобным ни выглядел рассказ лучника, слушавших его охватила дрожь.
Все взгляды обратились к Каиафе.
Первосвященник понял: от него ожидают твердости. От того, как он себя поведет, зависит, что будут делать остальные.
Его страх был велик, но, призвав ненависть на подмогу храбрости, он закричал лучнику:
— Презренный! Ты продался Назорею или стал жертвой какого-то колдовства? Впрочем, это мы узнаем позже…
И, подозвав центуриона, командовавшего его личной стражей, он приказал:
— Заприте этого полоумного. Потом поднимите в казармах сотню воинов в полном вооружении и бегом отправляйтесь к Гефсимании. Может случиться, что там вашим товарищам нужна подмога: у них приказ взять Иисуса из Назарета, называющего себя Мессией. Помогите им, если нужно, и приведите сюда лжепророка, живого или мертвого.
Центурион препоручил беглеца двоим стражникам и поспешил к казарме, стоявшей напротив дома Анана.
Но не успел он сделать и полусотни шагов, как к Каиафе прибежал второй лучник, такой же бледный и растерянный, хотя известия, с которыми он явился, были благоприятнее.
Каиафа сразу догадался, что этот тоже вернулся с Масличной горы.
— Что случилось? — спросил он.
— Приветствую первосвященника и славных мужей, пришедших к нему! — произнес воин. — Я возвратился из Гефсимании, где на моих глазах произошло нечто ужасное… Малх убит! Многие из моих товарищей, наверное, ранены, но, несмотря на землетрясение, гром и молнии, Иисус выдан Иудой и взят под стражу.
— Взят? Ты уверен? — радостно вскричал Каиафа.
— Я видел, как он сам предал себя в руки стражников.
— И они ведут его сюда?
— Возможно, но я могу рассказать только то, что видел сам. Обуянный необъяснимым страхом, я бежал! Пришел в себя лишь за городскими воротами и, чтобы загладить вину, решил прийти сюда поведать обо всем, чему стал свидетелем. Теперь, если я провинился, накажите меня.
— Довольно, — сказал Каиафа. — В награду за твою искренность прощаю тебя.
Известие, что Иисус в руках лучников, не совсем успокоило присутствующих. Что, если ученики придут ему на помощь? А вдруг народ освободит его? А может, он сам с помощью какого-либо чуда вырвется на свободу?
Старейшины и первосвященники задавали друг другу подобные вопросы, на которые могли отвечать лишь догадками и предположениями, но тут портьера приподнялась в третий раз и в залу вступил новый вестник.
— Честь и слава вам, защитникам священного закона Моисеева! — отчеканил воин. — Я из отряда, посланного за Иисусом. Декурион Авен Адар поручил мне сообщить вам, что маг схвачен. Иисус призвал на помощь гром, молнию и трясение земли, но все было бесполезно. Наши храбрые воины одолели его и связанным ведут сюда. Да погибнут, подобно ему, все, кто поднимется на вас!
— Как тебя зовут? — спросил Каиафа.
— Лонгин, — ответил стражник.
— Авен Адар станет центурионом, а ты займешь его место декуриона, — провозгласил первосвященник.
Затем, порывшись в кошельке, он вынул оттуда горсть золотых и серебряных монет:
— А это тебе в придачу за добрую весть.
Лонгин спрятал деньги, поцеловал край одежды первосвященника и вне себя от радости вышел.
А тем временем в Иерусалиме началось странное движение.
Центурион, подняв по приказу Каиафы сотню лучников, не скрыл от них, зачем они понадобятся. Те в спешке вооружились и, подобно трем вестникам, сменившим друг друга во дворце Каиафы, не утаили от нескольких прохожих, встреченных на пути от дома первосвященника до ворот Источника, куда и зачем они направляются. Горожане в свою очередь поспешили разнести эту новость по всему Иерусалиму. Уже то здесь, то там стали распахиваться окна, приоткрываться двери. Жители окликали друг друга. А тут, усиливая любопытство и тревогу, новая сотня вооруженных людей, посланных на помощь Авен Адару, вывалилась из казарм и бегом, не соблюдая равнения, с мечами наголо направилась к воротам Источника; по бокам и впереди бежали гонцы с факелами. И вот приказы командиров, грохот шагов, скрежет щитов о ножны мечей, пламя факелов, разгоравшихся все ярче от быстрого бега и оставлявших на мостовой огненные брызги, — все это, наконец, разбудило тех, кто еще спал. Сначала оживление захватило улицы у подножия крепости, то есть в самой возвышенной части города, но вскоре начало выплескиваться из стен града Давидова в Нижний город, а затем в Предместье и даже в Везефу. Стало видно, как то тут, то там вспыхивают огоньки, блуждают по улицам, останавливаются, вновь начинают прерванный бег. Повсюду хлопали двери: одни горожане выходили на улицы, любопытствуя, что происходит; другие, напротив, опасаясь уличных волнений, закрывались в домах на все запоры. Чужестранцы покидали облюбованные места под перистилями и портиками и присоединялись к обитателям города, расспрашивая их о причинах происходящего, а те, кто стал лагерем на площадях, высыпали из палаток. Служители первосвященника, до бровей закутанные в плащи, перебегали от дома к дому, донося весть о поимке Иисуса книжникам, фарисеям, иродианам, а те в свою очередь поднимали на ноги своих слуг и приспешников, веля им подойти к дворцу Каиафы, на который в случае народного возмущения чернь обрушится прежде всего. Военные патрули скорым шагом сновали с мрачными и решительными лицами по улицам, отряды стражников бежали в разные стороны, торопясь усилить охрану стен и ворот. Все эти звуки слились в один тревожный ропот, поплывший над городом и накрывший его как бы обширным пологом. С людским гомоном мешался лай собак, мычание и рев животных, приведенных для жертвоприношения пришлыми людьми, и прежде всего — блеяние бесчисленных ягнят и козлят, предназначенных к закланию на завтрашнюю Пасху.
Но среди домов, дворцов, палаток, извергавших из себя живых, как могилы Судного дня — мертвецов, мрачными и замкнутыми оставались крепость Антония и примыкавший к ней дворец римских властителей.
Крепость была выстроена на месте старинных укреплений, поставленных Давидом на Сионской горе. За сто восемьдесят четыре года до рождения Христа ее возвел Гиркан Маккавей на высоком, в семьдесят пять ступней, со всех сторон неприступном утесе. Сначала она называлась башней Барис. Первосвященники, правившие городом от славных лет Маккавейских войн до времен разора и унижения, когда римляне навязали Иудее первого из Иродов, сначала как тетрарха, а затем и как царя, сменив Антигона из рода Асмонеев, — итак, первосвященники располагались в этой цитадели и оставляли там, после торжественных церемоний, свои парадные одеяния. Одежды складывались в особой кладовой, опечатываемой казначеями и распорядителями священных празднеств, а перед ее дверью управитель башни всегда держал зажженный светильник. Став царем, Ирод Великий оценил местоположение цитадели и, найдя ее более пригодной для отпора бунтующей черни, нежели Сионская крепость, повелел ее укрепить и украсить. Ее обнесли стеной в три локтя высотой, под прикрытием которой защитники могли метать стрелы и дротики, сбрасывать камни. А для украшения он повелел одеть в мрамор скалу, на которой она была построена, что послужило еще одним средством защиты, ибо делало склоны скользкими, крутыми и неприступными и не позволяло ни подняться по стене на вершину, ни спуститься по ней на землю. Четыре башни нависали по углам цитадели: северная — над Предместьем и Везефой, западная — над Нижним городом, южная — над храмом и восточная — над той частью города, что расположена от Навозных ворот до ворот Долины. Кроме того, цитадель включала в себя жилые постройки, или, вернее, дворец, столь обширный, удобный и полный переходов, галерей и закоулков, что он и сам мог бы сойти за маленький город. Дворец и цитадель постоянно охранял гарнизон из пяти сотен воинов. Ирод назвал все эти строения крепостью Антония в честь своего друга, триумвира Марка Антония. И — невероятно! — в пучине переворотов, несмотря на гибель победителя в битве при Филиппах, башня Антония, пережив правление Августа и Тиберия, сохранила свое название.
К этой цитадели примыкал дворец правителей, выстроенный у ее подножия с северной стороны. Четырьмя воротами он выходил на Большую площадь, и к нему вела мраморная лестница в восемнадцать ступеней. Как мы уже упоминали, с Антониевой башней дворец соединялся мостом Ксистом, с высоты которого римские сановники обращались к народу. С противоположной стороны подобный же мост, только в два раза длиннее, соединял цитадель с храмом.
Над кровлей дворца парили два позолоченных бронзовых орла, указывая, что он стал жилищем римского правителя Иудеи. Однако наместники, имея в своем распоряжении и дворец и цитадель, превратив первый в парадные покои и место, где вершили суд, сами же обосновались в цитадели, поскольку она была лучше защищена.
Вот эти-то два здания посреди распахнутых дверей, освещенных домов, царящего на улицах гула и гомона оставались запертыми, угрюмыми и молчаливыми.
При этом надо учесть, что в цитадели находился человек, который обязан был при ночных беспорядках, подобных тому, который мы попытались описать, просыпаться первым, поскольку на нем лежала трудная обязанность отвечать за порядок в Иудее. Это был испанец Понтий Пилат. Вот уже шесть лет, как он сменил на этом месте Валерия Грата, и на своем опыте убедился в строптивости иудеев. Ведь ему уже удалось усмирить три восстания против римлян. Первое произошло из-за того, что он ввел в Иерусалим легион с изображением римского императора на боевых знаменах, а это было недопустимо по иудейским законам. Второе разгорелось, когда он силой позаимствовал из священной храмовой казны деньги на строительство акведука. А третье началось из-за того, что он приговорил к смерти иудеев, которые по обычаям их секты не признавали иного бога, царя и повелителя, кроме Иеговы, и отказались принести жертвы в честь Тиберия. Так вот, по опыту зная, сколь легковозбудимы жители Иерусалима, он всегда был начеку, готовый гасить волнения и подавлять бунты. Потому-то его сон был некрепок, как у всех тех, кто, правя поверженными народами, знает, что каждый вечер засыпает на краю пропасти, куда перед рассветом может их столкнуть величественная и властная богиня, которая особенно страшна, когда ей приходится появляться в сумерках. Эта богиня — Свобода. И вот правитель Иудеи, вздрогнув при первых же возгласах, приподнялся на локте, проверяя, на месте ли меч и щит, ведь это их первыми издревле берет в руки, очнувшись ото сна, воин, так как они позволяют и нападать и защищаться. Затем опытным ухом тирана он уловил, что в городе действительно творится нечто необычайное, подозвал бодрствовавшего у двери часового, вызвал к себе декуриона и велел ему спуститься в город узнать, что это за шум. А если ответы будут неясными или противоречивыми, найти Анана или Каиафу, поскольку либо тому, либо другому безусловно известны причины происходящего.
Едва затворилась дверь за декурионом, как открылась дверь с противоположной стороны спальни, ведущая в опочивальню супруги правителя. В ней появилась бледная, закутанная в ночные одежды женщина с лампой в руках.
Жена Пилата была благородная, красивая и богатая римлянка, происходившая из ветви прославленной семьи, что дала жизнь императору Тиберию. Звали ее Клавдия Прокула. Именно ее влиянию и связям Пилат был обязан тем, что получил управление Иерусалимом и должность прокуратора Иудеи.
Эта женщина аристократических кровей была истинная римская матрона лет двадцати восьми — тридцати; она блистала отменной красотой и редким благоразумием, утонченностью манер и той смесью греческой грациозности и латинского благородства, что делает молодую особу воплощением совершенства.
Пилат любил Клавдию и питал к ней немалое уважение, а посему ее приход в столь поздний час лишь усилил его беспокойство: он подумал, что существует некая опасность и, узнав о ней, супруга пришла искать у него защиты и поддержки.
Поэтому, едва увидев ее, он откинул покрывала, сел и спросил:
— Что случилось?
— Ничего, в чем я могла бы быть уверена, — отвечала Клавдия, — но мне захотелось поделиться своими тревогами.
— И что же тебя тревожит? — осведомился Пилат, отодвинувшись к стене, чтобы освободить Клавдии место на ложе, где бы она могла сесть.
Клавдия поставила лампу на столик из порфира с основанием в виде золотого грифона, уселась на край ложа и уронила руку на ладонь мужа.
— Прости, мой друг, что я нарушила твой покой.
— О, не стоит извинений, я не спал… Меня разбудил этот шум, и я уже послал разузнать, что случилось.
— Что случилось? — переспросила Клавдия, пытливо взглянув ему в глаза. — Хочешь, я расскажу тебе, что делается снаружи?
— Ты выходила или кто-то предупредил тебя? — удивился прокуратор.
— Я никуда не выходила, и никто меня не предупреждал… Я видела!
— Ты видела? — переспросил Пилат.
— Так же ясно, как сейчас вижу тебя, друг мой.
— Значит, это был сон, видение или тебе померещился призрак! И ты пришла поделиться со мной?
— Не знаю, что это было, — медленно проговорила Клавдия, — но, без сомнения, это нечто неслыханное, странное, невероятное. Оно совсем не походило на сновидения, вылетающие из дворца Ночи через ворота из рога или слоновой кости… Нет, сновидения являются во сне, а я уверена, что не спала.
— Ну что ж! — с улыбкой отозвался Пилат, решив, что супруга пришла к нему под влиянием воображаемых страхов. — Спала ты или бодрствовала, не важно. Что же ты все-таки видела?
— Одно из существ, похожих на те, кому поклоняются иудеи в своем святилище. Они называют их ангелами.
— И этот ангел заговорил с тобой?
— Нет… Занавеси моей кровати были спущены. Я лежала с закрытыми глазами, пытаясь заснуть, но вдруг сквозь веки и ткань полога увидела яркий свет… Один из тех самых ангелов спустился в спальню, приблизился к ложу и отвел завесу около моей головы. В тот же миг стена, выходящая к Масличной горе, стала прозрачна, как пар, и взгляд мой охватил дорогу от пустыни до гробницы Авессалома. Но страннее всего, что, несмотря на даль и темноту, я смогла разглядеть все: от травинок, подрагивающих под ветром на берегу Кедрона, до пальм Виффагии, клонящихся под крылом ветра!
— Но, Клавдия, наверное, ты видела не только это, ведь подобное зрелище не смогло бы тебя испугать?
— Не торопи же меня, Пилат, имей жалость… Разве ты не видишь, как у меня бьется сердце, как дрожит голос? Знаешь, я чуть не умерла от страха, когда на миг мне показалось, что у меня не хватит сил добраться до твоей двери.
Пилат легонько прижал Клавдию к груди и поцеловал в лоб.
— Продолжай, — попросил он.
— Так вот, ангел указал мне на толпу воинов, что двигалась по дороге из Гефсимании в Иерусалим. Меж ними шел связанный человек. Его тянули на веревках и немилосердно избивали палками. Но над его головой, не видимые никому, кроме меня, на золотом облаке парили ангелы, похожие на того, кто стоял у моего ложа с челом, осененным кольцом огня, сложив свои большие белые крылья. Он указывал мне на человека, которого с такой жестокостью тянули и толкали.
— А ты смогла узнать того человека?
— О да! — прошептала Клавдия. — Это Иисус Назорей, тот самый, кого они в прошлое воскресенье с триумфом водили по здешним улицам. Ты еще сказал тогда о нем: "Забавный триумфатор, покоряющий города сидя верхом на осле!"
— Ах, ты уверена, что это именно тот человек?
— Да! Конечно! Я прекрасно знаю его. Видишь ли, я тебе не говорила, но не раз, закутавшись в покрывало, — надеюсь, ты простишь мне эту слабость, — я спускалась из крепости в храм, чтобы послушать его проповеди.
— Хорошо, хорошо, — смеясь, произнес Пилат. — Пока он ограничивается поношением книжников, фарисеев, саддукеев, ессеев и всех иных бессмысленных сект, меня это совершенно не касается. Пусть только не призывает к непослушанию законам августейшего императора Тиберия.
— О нет! — горячо запротестовала Клавдия. — Никогда он не проронил и слова против императора! А недавно, напротив, советовал исправно платить ему дань… Но подожди же, подожди, Пилат. Это еще не все. Вот этого-то мягкосердечного предсказателя, безобидного чудака из Назарета они скрутили, бьют палками, колют мечами. А когда проходили по мосту через Кедрон — ты помнишь, он без поручней, — они столкнули его, и он упал на едва прикрытые водой камни пенистого порога. Он разбил бы голову, но связанные руки чудом освободились от сплетенных из ивы пут и уберегли его. И вот, вместо того чтобы жаловаться или проклинать, подобно любому из нас, он прошептал слова, которые я, несмотря на отдаленность, расслышала: "О Отец мой, я теперь понимаю, почему эти люди столкнули меня. Ведь сказано в псалме сто девятом: "Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу"". Он наклонился к воде и стал пить, а ангелы над ним запели: "Слава Иисусу на земле, слава Господу на небесах!"
Пилат улыбнулся.
— Я знал, что у драгоценной моей Клавдии и наяву богатое воображение, — заметил он. — Однако для меня новость, что во сне твои видения становятся еще более роскошными, нежели во время бодрствования.
— Но ведь я говорю тебе, клянусь тебе, Пилат, что видела и слышала так же хорошо, как вижу и слышу сейчас!
— И это все, что ты хотела мне рассказать?
— Нет, еще не все… Послушай. Не обеспокоившись, способен ли он идти после такого падения, стражники поволокли его на веревках дальше, но вынуждены были повернуть назад, поскольку несчастный не мог сам выбраться из потока на стороне предместья Офел: там берег обнесен отвесной каменной стеной, которую недавно построили, чтобы земля не осыпалась в воду. Поэтому его протащили к противоположному берегу, где он выбрался из воды и вновь вступил на мост… О Пилат, как жалко было глядеть на него — в прилипшей к телу красной одежде, пропитанной водой и кровью! Он едва держался на ногах, так и не оправившись от падения. Перейдя, наконец, мост, он упал снова. Но тут его, хлеща плетьми, подняли на ноги за веревки. Тогда, чтобы ему было легче идти, один из стражей подоткнул на нем полы одежды, продернув их под пояс. И когда Иисус пошел дальше, обдирая нагие икры о камни и колючки, все кричали ему: "Ну как, Назорей, не подойдет ли к этому путешествию стих из Малахии: "Я посылаю ангела моего, и он приготовит путь пред тобою!"" И еще они спрашивали: "Эй, Иисус, помнишь, Иоанн Креститель говорил, что явился в мир приготовить тебе дорогу? Что, хорошо он справился с этим делом?" Но праведник ничего на это не ответил, а лишь тихо прошептал: "Господи, прости им, ибо не ведают, что творят!"
— По правде говоря, ты, моя Клавдия, произнесла прекрасную речь в защиту обездоленных. Если бы все описанные тобой страдания не были вымыслом, я бы растрогался, — со смехом сказал супруг.
— Пилат, Пилат! — с еще большей горячностью вскричала Клавдия. — Повторяю тебе, что это все было, и если бы ты дослушал меня до конца, ты бы сам убедился в том!
— Как, — спросил Пилат, — мы еще не разделались с этим несчастным Иисусом?
— Послушай. В это время к стражникам присоединился отряд в сотню человек, присланный Каиафой на подмогу. Он вышел из города через предместье Офел. Обнаружив Иисуса в руках товарищей, вновь пришедшие разразились торжествующими криками, от которых предместье, уже потревоженное подходом воинов, вконец пробудилось. И вот люди стали появляться на пороге своих домов. Ты же знаешь, там живут бедняки: разносчики воды, сборщики хвороста для храмовых печей — все пламенные почитатели Иисуса. Он ведь после падения Силоамской башни вылечил многих из них. Они сочувственно вздыхали, некоторые от сострадания испускали стоны, когда мимо них влачили Иисуса и издевались над ним. Но стражники грубо расталкивали их щитами, рукоятями мечей, древками копий и говорили: "Ну да, это Иисус, ваш лжепророк, ваш фокусник и мастер на всяческие чудеса и уловки… На горе ему и вам, первосвященник не желает, чтобы он и дальше занимался этим ремеслом. А потому не позднее сегодняшнего вечера он будет висеть на кресте!" При этих словах все вокруг принялись причитать и рыдать. Крики стали громче, когда несчастного привели к воротам Источника. Там бедняки увидели мать Иисуса, поддерживаемую одним из его учеников, а около нее — двух женщин, брата которых он, как говорят, воскресил. Мать вышла ему навстречу, но различив его среди стражников и фарисеев, бледного, забрызганного кровью, блестевшей при свете факелов, она застыла. Ноги отказали ей, и она упала на колени, протягивая руки к сыну… О Пилат! Это зрелище растрогало бы фракийцев, скифов и варваров! Но наши лучники — должно быть, их обуял какой-то злобный дух! — наши воины оскорбили и осыпали ударами обезумевшую от горя женщину. Тут по лицу узника потекли слезы и он крикнул едва живой матери своей: "Я же говорил, что тебя назовут Матерь, исполненная горечи!" И все жители предместья кричали: "Во имя Неба, верните нам этого человека! Во имя Господа, отдайте нам этого человека! Если вы бросите его в темницу, если убьете его, кто же нас утешит, вылечит, кто поможет нам?" А когда отряд ушел дальше, уводя Иисуса, они окружили его мать, говоря ей: "Ах, теперь ты будешь нашей матерью, а мы все — твоими детьми!" Тогда из-за слез мои глаза перестали что-либо различать и я, рыдая, уронила голову на руки. А когда пришла в себя и огляделась, ангела уже не было рядом. И занавеси моей кровати висели как раньше.
— И ты встала и пошла ко мне, добрая моя Клавдия? — спросил Пилат.
— Да, потому что сказала себе: "Только римляне имеют в Иудее право жизни и смерти. Ни один из подданных августейшего императора не может быть осужден и казнен без приказа Пилата. Если я поклянусь ему, что Иисус — праведник, Пилат не прикажет его казнить, я в этом уверена".
И плача, она обвила руками шею супруга.
— И Пилату, — сказал тот, — не будет никакой нужды отменять подобный приказ, ибо все, что ты рассказала мне, милая Клавдия, все, что ты якобы видела и слышала, ты видела и слышала лишь в своем воображении…
В тот самый миг дверь отворилась. Это возвратился декурион, посланный прокуратором. Он доложил:
— Повелитель, первосвященник Каиафа доносит тебе, что сейчас на Масличной горе по его повелению схвачен маг, лжепророк и богохульник Иисус. На восходе дня он предстанет перед твоим судом как заслуживающий смертной казни.
— Ну что? — спросила Клавдия. — Так это был сон?
В задумчивости Пилат уронил голову на грудь. Помолчав, он произнес:
— Ты слышала мое обещание: если этот человек ничего не делал против августейшего императора Тиберия, то ему ничего не будет.
XII АНАН И КАИАФА
Клавдия, как она уже сказала Пилату, проследила путь Иисуса лишь от Гефсимании до ворот Источника. Иначе она увидела бы, что Христа повели не прямо к первосвященнику, а к его тестю.
Анан, высокий тощий старик с редкой бородкой и бледным изборожденным морщинами лбом, занимал в Иерусалиме примерно такую же должность, что у нас судебный следователь. Именно к нему приводили обвиняемых, задержанных по приказу первосвященника. Он подвергал их одному или нескольким допросам и, если находил улики весомыми, отправлял к Каиафе для суда.
Его, как и первосвященника, снедала ненависть к Иисусу, и он ожидал расправы над ним с таким же нетерпением.
В одиннадцать часов вечера в его доме собрались предупрежденные заранее старейшины, составлявшие высший суд.
Мы уже описали, с какой быстротой слух о поимке Иисуса распространился по городу. Многие, кто не посмел бы объявить себя его противниками, пока праведник оставался на свободе, теперь, узнав, что Христос без сопротивления сдался страже, схвачен и связан, внезапно решились свидетельствовать против него. Такое часто случается с нечестивыми душами, злобствующими против тех, от кого отвернулась судьба.
От Гефсимании до дворца Анана можно было дойти за двадцать минут, но Иисуса вели туда более двух часов. Воины, уподобившись сытому тигру, решили позабавиться со своей добычей, коль скоро она уже не могла ускользнуть.
Христа, окруженного стражниками, можно было разглядеть издали. На всем пути его сопровождали громкие крики. Факелы колебались, разгораясь и отбрасывая все более яркий свет. Толпа толкалась, каждый желал пробиться поближе к пленнику, выкрикнуть ему в лицо ругательство, оскорбить, причинить боль.
До зала суда уже доносился гул приближающейся толпы. Вокруг скопилось множество людей, заполнявших преторий с воплями: "Он идет! Приближается! Вот он!" Так что, когда подошла стража, здесь уже не было места для того, ради которого все собрались.
Но стражники, покрикивая "Сторонись! Сторонись!", древками копий оттеснили любопытных и образовали проход от порога до возвышения с тремя ступенями, где восседали Анан и пятеро судей.
Наконец появился Иисус. Бледный, слабый, избитый и окровавленный, он едва держался на ногах; по пути от места, где его схватили, до дворца Анана он падал семь раз.
Его протащили по дворцовой лестнице, по узкому проходу в толпе и бросили к подножию возвышения, на котором ожидали судьи.
Ликующие завывания и оскорбления сопровождали его на этом пути. Анан дал время валу ярости накатиться и схлынуть, а затем, когда постепенно установилась тишина, начал так, словно бы не ожидал его увидеть перед собой:
— Ах, так это ты, Иисус из Назарета, царь Иудейский? А почему ты один? Где твои апостолы? А ученики? Где твой народ? Куда подевались легионы ангелов, которыми ты повелеваешь?.. И это ты, называвший храм Господень домом Отца твоего! А! Дела обернулись не так, как хотелось, не правда ли, Назорей? Наверное, кое-кто нашел, что довольно оскорблять Всевышнего и его служителей. Хватит безнаказанно нарушать субботу. Преступно трапезовать с пасхальным агнцем на столе в оскорбление обычаев, да еще в неположенное время и в недозволенном месте. Не так ли?.. Ах, сколько благодарственных молений вознесено Иегове! А он одно за другим лишает силы все чудеса, которые тебе так хорошо удавались. Иудея была слепа, но он раскрыл ей глаза, глуха — он отверз ей слух, нема — он вернул ей речь, и теперь она обвиняет тебя!.. Ты желаешь все изменить, перевернуть, разрушить, сделать великое малым, а малое великим; ты хочешь основать новый догмат веры… По какому праву? Кто позволил тебе учить? Кто напутствовал тебя? Говори же! Посмотрим, каково твое вероучение!
Спокойный и печальный, Иисус позволил излиться этому потоку оскорблений. Но когда пыл обвинителя иссяк, он поднял усталую голову и посмотрел на Анана с превосходством сострадания:
— Я говорил явно миру; я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им; вот они знают, что я говорил.
Простота и мягкость Иисуса вывели Анана из себя, и он уже не мог скрыть обуревающей его ненависти. Один из стражников, возможно не разобрав слов Иисуса, но читая в мыслях верховного священника, взялся сам ответить строптивому:
— Наглец! Так отвечаешь ты господину нашему Анану?
И рукоятью меча, который он сжимал в руке, ударил Христа по губам.
Изо рта и из носа Иисуса хлынула кровь. Пошатнувшись от удара и от грубого толчка кого-то из окружающих, он боком повалился на ступени.
Ропот сострадания раздался было среди злобных выкриков, ругательств и оскорблений, но, к несчастью, слабые голоса сочувствующих потонули в хоре распаленного негодования.
Среди этого шума Иисус поднялся и, дождавшись тишины, возразил:
— Если я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь меня?
— Что ж, — промолвил Анан. — Пусть желающие опровергнуть сделают это, а имеющие что сказать в обвинение да обвинят.
И он подал знак стражникам, удерживающим толпу древками копий, допустить ее к Иисусу.
Тут же все бросились на Христа, вопя, изрыгая проклятия, выкрикивая обвинения.
— Он утверждал, что он царь!.. Он говорил, что фарисеи — порождение ехидны с раздвоенными змеиными языками!.. Он называл книжников и старейшин лицемерами, не верующими ни во что!.. Он сказал, что храм — вертеп воров и разбойников! Он объявил себя царем Иудейским!.. Он хвастал, что снесет храм и отстроит его заново в три дня!.. Он справлял Пасху в четверг!.. Он лечил в день субботний!.. Он сеял смуту в предместье!.. Люди из Офела нарекли его своим пророком!.. Он накликал напасти на Иерусалим!.. Он ест с нечестивыми, бродягами, прокаженными, мытарями!.. Он отпускает грехи блудницам!.. Он не дает побивать камнями прелюбодеек!.. Он нечистыми чарами воскрешает мертвых!.. К Каиафе — мага! К Каиафе — лжепророка! К первосвященнику — бохогульника!
Все эти обвинения прозвучали одновременно; люди, выкрикивавшие их, плевали ему в лицо, размахивали кулаками, грозили немедленной расправой, дергали его за платье, вцеплялись в волосы и бороду.
Анан позволил всей этой своре побесноваться вволю, а затем продолжил:
— Ага, Иисус! Так вот каково твое учение?.. Ну же, изложи его, защити, опровергни нападки. Царь, повели! Мессия, докажи, что послан Всевышним! Вестник Господень, призови отца своего на помощь. Кто же ты! Ну-ка, поведай нам! Может, ты воскресший Иоанн Креститель? Или пророк Илия, восставший из мертвых? А вдруг ты Малахия, кто, как утверждают, был не человеком, но ангелом?.. Ты назвал себя царем? Пусть будет так. Я тоже назову тебя царем: царем бродяг, черни, падших женщин. Подожди-ка, сейчас ты будешь мною помазан на царство. Трость и папирус мне!
Начальствующему священнику мгновенно принесли просимое (это наводило на мысль, что он все подготовил заранее).
Свиток папируса был шириной в три пяди и длиной в локоть.
Анан занес на него все преступления, в которых обвинялся Иисус, затем скрутил лист в узкую трубочку, затолкал в продолговатую высушенную тыкву, которую привязал к камышовой трости.
— Держи, — сказал он. — Вот твой скипетр, вот знаки царского достоинства! Неси все это к Каиафе и не сомневайся, уж он увенчает твою голову венцом, какого еще недостает.
По жесту бледного от злобы старца Христос вновь был связан, но теперь меж стянутых кистей рук просунули трость — этот скипетр, тогда данный ему в посмеяние, но впоследствии знаменовавший царствие земное.
И вот Иисуса, охраняемого среди ожесточенной толпы только ненавистью тех, кто не желал ему скорого избавления от мук, повлекли по ступеням. То и дело он терял равновесие, а его ставили на ноги толчками и пинками. Он превратился в игрушку скопища недругов, отплачивавших ему за три года учения, смирения, страданий, преданности и любви, — подвиг духовный, в награду за который его удостоили лишь одного дня чествования. Под градом оскорблений, угроз и ударов Христос преодолел путь от дворца Анана до дома его зятя и почти без чувств предстал перед Большим советом.
Большой совет составляли семьдесят человек, и все они сейчас собрались. Они разместились на полукруглом возвышении, посреди которого и выше прочих стояло кресло Каиафы.
Нетерпение этого последнего было столь велико, что он часто вставал со своего места и подходил к дверям, повторяя:
— Что же медлит Анан? Почему он так долго держит у себя Назорея? Вот уже час, как этот человек должен был бы стоять предо мной. Здесь нельзя мешкать! Надо спешить!
Наконец появился Иисус. Когда он вошел, его склоненная на грудь голова откинулась назад, глаза уверенно и сразу отыскали в одном из углов залы Петра и Иоанна, замешавшихся в толпу, и губы тронула печальная улыбка.
Когда апостолы в панике разбежались, связанного Иисуса повлекли к городским воротам, а Иоанн спустился к долине Иосафата, торопясь увидеться с Богородицей, Петр ограничился тем, что спрятался за стволом оливы, пережидая первый приступ ярости стражников. Затем, перебегая от дерева к дереву, он издалека следовал за учителем, стараясь не терять его из виду и ныряя во тьму всякий раз, как пламя факела оказывалось поблизости.
У границы предместья Офел в сотне шагов от ворот Источника он повстречал Богоматерь. Полумертвая, в беспамятстве, она металась на руках Иоанна и благочестивых жен. Они вместе перенесли Пречистую Деву в один из домов и доверили заботам каких-то бедных людей, признательно называвших ее своей матушкой. Там к ней стали возвращаться признаки жизни.
Но, открыв глаза, Богоматерь испустила крик ужаса: она поняла, что, потеряв сознание, утратила дар издали видеть сына. Это было милосердным деянием Иисуса: зная, что за муки еще предстоят ему, он не захотел, чтобы мать оставалась свидетельницей его страданий.
Тогда Богоматерь умолила Петра и Иоанна последовать за Иисусом и время от времени приносить ей вести о последних мучительных часах его жизни.
Ничто так не совпадало с тайными помыслами обоих апостолов. Ведь понадобился строгий приказ учителя, чтобы заставить Иоанна расстаться с ним, а Петр, решивший следовать повсюду за Христом, после радостного согласия Иоанна на просьбу Марии приобретал надежного товарища в этом дерзком предприятии.
Тем не менее, они из предосторожности переоделись в некое подобие ливрей, которые носили храмовые гонцы. Ведь в обычных одеждах их сразу бы опознали. В таком обличии они постучались в наружные ворота дворца первосвященника, выходящие к долине Хинном. Через них они проникли на обширный двор с горевшим посреди очагом, около которого обогревались слуги Каиафы, стражники и немалое число людей из тех, кто, хотя и не служат сильным мира сего, но являются как бы приближенными их приближенных.
Благодаря одолженным накидкам апостолы без труда проникли на этот внешний двор; однако попасть оттуда в апартаменты Каиафы оказалось гораздо затруднительней.
На их счастье, Иоанн повстречал знакомого судейского служителя, занимавшего должность, подобную теперешнему судебному приставу. Этот человек, часто слушавший проповеди Христа, был недалек от того, чтобы примкнуть к сторонникам его учения. Поэтому он согласился пропустить Иоанна, но упрямо воспротивился тому, чтобы Петр следовал за ними. Как мы помним, Петр ударил мечом слугу первосвященника. Малх мог столкнуться с ним в покоях, опознать и, невзирая на свое чудесное исцеление, мстительно призвать апостола к ответу.
Впрочем, Петр недолго промучился перед затворенными для него дверьми: он увидел Никодима и Иосифа Аримафейского. Этих двоих никто не приглашал, но они узнали, что происходит, и в надежде быть полезными Иисусу явились занять положенное им место среди членов Большого совета.
Петр узнал их и напомнил о себе. Их не терзали опасения, схожие с теми, что испытывал знакомец Иоанна. Они все-таки принадлежали к сильным мира сего: за исключением римского наместника, никто не мог их и пальцем тронуть. Поэтому они взяли Петра под свое покровительство и провели в залу, куда направлялись и сами. Уже там он нашел Иоанна и присоединился к нему.
Здесь и обнаружил их взгляд Иисуса. Они стояли, прислонившись друг к другу, как если бы у каждого не хватало сил без поддержки вынести зрелище, к которому они приготовились.
Между тем к приходу Христа, как и в доме Анана, в зале теснилось множество народу, и толпа, следовавшая за Христом, за исключением самых сильных и напористых, вынуждена была отхлынуть в прихожую и даже на парадную лестницу. Как уже было упомянуто, дворец Каиафы одной стеной упирался в крепостные укрепления, а вокруг трех остальных стен оставалось большое свободное пространство. Толпа заполнила его целиком.
Никогда еще не собиралось столько людей, никогда еще не было слышно такого ропота — даже во время самых свирепых народных возмущений.
Действительно, в дни тех смут дело шло о недовольстве каким-нибудь претором, тетрархом, самое большее — императором. На этот раз бунтовали против Господа.
Каиафа приближался к сорока годам. Это был смуглый чернобородый мужчина с суровыми темными глазами. Фанатичный и тщеславный одновременно, он, получив высший священнический сан, считал, что добился вершины желаемого. Неутоленным оставался лишь фанатизм, и здесь могла бы помочь только казнь Иисуса.
Он сидел, облаченный в белоснежную мантию, на которую сверху был наброшен широкий темно-красный плащ с вышитыми золотом цветами и золотой бахромой. На груди был виден ефод — знак высокого положения, делавшего его третьим по значению лицом в Иудее, после наместника Пилата и тетрарха Ирода.
Едва Христос появился на пороге, всеобщий гомон перекрыл голос первосвященника:
— А, вот и ты, враг Господа нашего, возмутитель спокойствия этой святой ночи!.. Хорошо же, поспешим. Возьмите-ка у него и дайте мне тыкву, где лежит обвинительный акт.
Тыкву передали первосвященнику, а камышовую трость оставили в связанных руках Иисуса как шутовской скипетр.
Каиафа развернул папирус, огласил длинный список преступлений, вменяемых в вину Иисусу. Поскольку тот выслушивал чтение в полном молчании, Каиафа поминутно выкрикивал:
— Так ответь же, маг! Отвечай, лжепророк! Богохульник, почему ты молчишь? Может, ты разучился говорить, когда речь пошла о твоей защите? А ведь ты был таким красноречивым, когда осуждал нас!
При каждом окрике Каиафы стражники дергали за веревки, тянули Христа кто за волосы, кто за бороду.
Никодим не стерпел этого зрелища. Он встал и сказал:
— Иисус Назорей обвинен, но еще не приговорен. Я требую для него привилегии обвиняемых, то есть свободной защиты. Если признают его вину, его накажут, и сделает это тот, кому положено. Но я еще не видел, чтобы человека предавали палачам до вынесения приговора.
Иосиф Аримафейский поднялся и произнес только два слова:
— Согласен с этим.
Краткая речь Никодима и еще более сжатая реплика Иосифа Аримафейского были встречены недовольным ропотом большей части присутствовавших. Тем не менее, несколько голосов осмелилось крикнуть: "Справедливости к обвиняемому! Справедливости!"
Каиафа был вынужден придать делу привычный ход, чтобы, по крайней мере, соблюсти видимость правосудия.
Потому стражникам приказали чуть отступить от Христа и перестать издеваться над ним. В судебной церемонии появился хоть какой-то порядок, и старейшины приступили к выслушиванию свидетелей.
Не стоит и говорить, что в свидетели пошли одни только враги Иисуса: старейшины и книжники, которых он во всеуслышание порицал, греччки, кому он советовал обратиться к праведной жизни, прелюбодеи, чьих сожительниц он подвиг к раскаянию и воздержанию от греха. Один за другим все они повторяли те же обвинения, что и во дворце Анана, но единственным проступком, заслуживавшим внимания, было празднование Пасхи накануне положенного дня.
Тогда Каиафа обернулся к Никодиму и Иосифу Аримафейскому:
— Сиятельные начальники над священнослужителями и мудрые старейшины народа! По сему последнему поводу наши досточтимые собратья Никодим и Иосиф Аримафейский могут дать исчерпывающие объяснения, ибо, если судить по донесению, которое я получил, именно в их доме трапезовал обвиняемый.
Никодим почувствовал, что первосвященник наносит им чувствительный удар.
— Так и есть, — сказал он, поднявшись. — Хотя этот дом сейчас не принадлежит нам: его нанял человек из Вифании, он и сдал комнаты двум апостолам Иисуса, пришедшим по поручению своего учителя.
— Значит, — настаивал Каиафа, — трапеза имела место вчера?
— Да, вчера, — отвечал Никодим.
— Ты же знаешь, что Пасху должно праздновать только в освященный законом день. Почему обвиняемый сделал это на день раньше?
— Потому, что он галилеянин, — напомнил Никодим. — А у жителей Галилеи есть такое право.
Каиафа в ярости топнул ногой.
— Прекрасно! Сдается мне, что обвиняемый нашел себе защитника. А не скажет ли нам этот защитник, в силу какого закона галилеяне могут справлять Пасху в четверг?
— Я предвидел вопрос, — отвечал Никодим. — Ответ здесь.
И он вытянул из-за пазухи старинный указ, разрешавший жителям Галилеи праздновать Пасху на день раньше. Объяснялось это тем, что во время торжеств в Иерусалим прибывало слишком много народу: храм не мог вместить желающих, и, если бы к ним добавились галилеяне, Пасха ни за что не кончилась бы в субботу.
Затем, превратившись из защитника в обвинителя, Никодим продолжал:
— А теперь, если ты такой строгий почитатель законов, то тебе, Каиафа, должно знать, что запрещено вести дело в ночное время. И ни одно решение суда не может быть вынесено в день Пасхи.
— А озаботился ли он подобными же правилами, когда лечил в день субботний? — не помня себя от ярости, закричал Каиафа.
Иисус лишь грустно улыбнулся.
Никодим же возразил:
— Если и можно потерпеть нарушение закона, то лишь тогда, когда от этого проистекает добро, а не зло, спасение человека, а не смертный приговор.
— Никодим! — прошипел Каиафа. — Берегись, Никодим! Ты забываешь сказанное в тринадцатой главе Второзакония: "К Богу одному прилепляйтесь… Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: "Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им", — то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь!"
— Однако, — возразил Никодим, — если пророк ополчается не против Бога, а против людей, если он не лжепророк, а пророк истинный, что ты будешь делать тогда, Каиафа?
— Я отвечу, что в Писании сказано ясно: "Не придет пророк из Галилеи". Меж тем Иисус — из Назарета, а тот — в Галилее.
— Конечно. Но сказано также: "Придет пророк от корня Давидова и из града Давидова". При всем том Иисус — из колена Давидова, если судить по его отцу, Иосифу, и из града Давидова, ибо родился в Вифлееме.
— Хорошо, пусть будет так, — согласился Каиафа, утомившийся от спора, в котором он не мог одержать верх. — Спросим у самого обвиняемого и рассудим по ответам его.
После чего он обернулся к Иисусу:
— Заклинаю тебя Богом живым. Ответь: истинно ли ты Христос, Мессия и сын Божий?
Иисус пока что не проронил ни слова.
Теперь среди полного молчания он поднял голову, возвел очи к небесам, словно призывая Всевышнего в свидетели тому, что сейчас произнесет:
— Это так, Каиафа. Ты сам это сказал.
— Значит, ты сын Божий? — повторил первосвященник.
— Истинно, — с беспримерным достоинством отвечал Иисус. — Сказываю вам: отныне узрите сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных, хотя я кажусь вам прахом земным, подобным вам, и буду осужден вами.
Ответ прозвучал так торжественно, что многие содрогнулись. Каиафа же в знак негодования разодрал надвое плащ и вскричал:
— Вы слышали! Видано ли подобное богохульство?! На что еще нам свидетели? Мы должны покарать самозванца, объявляющего себя сыном Божьим.
Тысяча голосов откликнулась на разные лады:
— Да, мы слышали его! Да, он назвал себя сыном Божьим. Да, он богохульствует.
— Каков же ваш приговор? — спросил первосвященник.
Тут все, кроме очень немногих, повскакали с мест — судьи и зрители. Судьи потрясали своими одеяниями, зрители размахивали руками. Те и другие в один голос грозно закричали:
— Повинен смерти! Повинен смерти!..
— Хорошо, — произнес Каиафа. — Смертной казни, по слову Большого совета народа, предается Иисус Назорей, объявивший себя царем Иудейским, Мессией и сыном Божьим, за то, что он самозванец, лжепророк и богохульник.
И вставая, он закончил, обращаясь к стражникам:
— Поручаю вам царя, дабы воздали ему почести, которых он достоин.
Затем, подавая пример остальным судьям, он удалился в комнату, примыкавшую к залу суда. Те поднялись и потянулись за первосвященником. Их цепочку замыкали Никодим и Иосиф Аримафейский, на прощание обернувшиеся к Иисусу, жестами выказывая свое сострадание и бессилие что-либо изменить.
В зале меж тем все нечестивцы вопили от восторга. Но прозвучали и стенания сочувствующих Христу. Среди них можно было различить крик отчаяния, что вырвался из груди Богоматери, упавшей без чувств на руки благочестивых жен. Но громче всех звучал голос Иуды, который, обезумев от ужаса, ринулся сквозь толпу, вопя:
— Это я предал его! Горе мне! Горе!
XIII АК-ЭД-ДАМ
Услышав крик Непорочной Девы, Иоанн содрогнулся и бросился к Пресвятой матери Христовой, которую учитель доверил его сыновнему попечению. Что касается Петра, он остался на месте, твердо решив повсюду следовать за Иисусом.
А потому, не без причины рассудив, что осужденного, видимо, отведут на один из внутренних дворов и запрут в подвальных комнатах, служивших стражникам казармой и тюрьмой, он одним из первых покинул зал Совета и остался у входа, надеясь вовремя оказаться на пути учителя.
Хотя описываемые события происходили в конце марта и в предыдущие дни теплое дневное дыхание пустыни предвозвещало возвращение весны, ночами холод пробирал до костей. Можно было бы сказать, что год, уже двинувшийся в путь к теплу, отступал назад в ужасе от преступления, которое готовил ему день грядущий.
Итак, Петр задержался в прихожей у жарко горящего очага и, дрожа, подошел поближе к огню.
Вокруг очага столпились люди из простонародья — нет, не из отбросов общества, а из того злобного класса, который заранее враждебен всему: солдаты-наемники из Нижней Сирии, женщины из храмовой прислуги, фарисеи и книжники. Пламя плясало на их лицах, высвечивая все недобрые или низменные помыслы. Уродливая кучка людей временами разражалась хохотом — как раз тогда, когда кто-либо находил новое особо гнусное слово о Христе или живописал, каким хитроумным способом он догадался причинить ему мучения на его скорбном пути.
Не подозревая, о чем идет разговор, Петр приблизился — и содрогнулся, услышав об уже нанесенных оскорблениях и тех, что они в злобе своей еще надеялись нанести.
Один говорил:
— Мессии дали скипетр, но забыли про корону!
При этом он, пренебрегая опасностью разодрать руки, плел венок из местного колючего терна, стараясь не обломать листья — тугие и темные, как у лавра, они должны были издевательски напоминать те, какими венчают головы императоров и предводителей войска.
Каждый веселился, представляя, как на голову Христа водрузят шутовской венец, больно жалящий лоб и затылок.
Видя и слыша все это, Петр подумывал уже о том, как бы незаметно отойти, но, попав в круг света, оказался на глазах у дворцовой привратницы, которая ранее заметила его у внешних ворот с Иоанном, а во внутренних воротах — рядом с Никодимом и Иосифом Аримафейским.
И вот эта женщина, направившись прямо к Петру, вцепилась в его одежду, не давая нахлобучить плащ на глаза.
— Ого, — усмехнулась она, поворачивая апостола лицом к огню. — Ты же один из учеников галилеянина!
При этих словах присутствующие насторожились. Одни привстали, другие обернулись, готовые оскорбить или ударить. Их руки потянулись к оружию, какое у кого было: к палкам, ножам, кинжалам.
Тут Петр смутился духом и постарался улыбнуться.
— Ты ошибаешься, женщина, — пробормотал он. — Я не знаю, о ком ты говоришь, и не понимаю, что это значит.
И, выпростав плащ из рук привратницы, он выбежал за порог.
В ту же минуту запел сидящий на стене петух: было около часа ночи.
Но, выйдя во двор, Петр наткнулся на другую служанку Каиафы, воскликнувшую:
— Сюда! Вот еще один из свиты Назорея!
Во дворе было полно народу, людей всякого состояния, и на голос служанки многие обернулись. Петр снова, как и в прихожей, увидел вокруг угрожающие жесты и ухмылки. В еще большем страхе, нежели раньше, он закричал:
— Нет, нет, даю слово, что не был учеником Иисуса и не знаком с этим человеком!
Петух меж тем пропел во второй раз. Петр смешался с толпой в глубине двора. Дойдя до самого темного из его уголков, он нашел чурбан, сел на него, с головой закутался в плащ и горько заплакал.
Но неузнанным он и там не остался. Несмотря на сумрак в глубоком закоулке, куда он забрался, к нему подходили либо те, кто считал преступлением близость к Иисусу, либо тайные приверженцы новой веры, искавшие его не затем, чтобы угрожать или оскорбить, а желая самим найти у него силу и утешение. Избегая их, Петр тем же путем, что и в первый раз, когда он шел за Никодимом и его приятелем, поспешил в залу суда.
Иисус, отданный на милость черни, подвергался бесконечным поношениям и нападкам. С него содрали плащ и хитон, заменив их старой циновкой; ему снова связали руки, и человек, который уже сплел терновый венец, с силой надвинул его на чело Спасителя, так что каждая колючка проделала бороздку. Из царапин сразу проступили капельки свежей крови, они катились по щекам, стекая на бороду.
Петр в ужасе отступил и попытался было уйти. Но его волнение не укрылось от тех, кто окружал Христа. Опознав Иисусова ученика, они схватили его за руки и за плащ.
— Ага! Ты один из его сторонников. Ты галилеянин! Ну-ка, говори! Не звался ли ты прежде Симоном? Отвечай же! Ну, отвечай!
Петр отрицательно мотал головой.
Но один из стоявших рядом с ним закричал:
— От нас не скроешься! Слышите: у него выговор галилейский!
— Нет! — воскликнул Петр. — Нет, клянусь!..
Но тут некто подскочил к нему и вгляделся в лицо:
— Ручаюсь пророками! Это тот, о ком вы говорите! Я брат Малха, а этот ударил его мечом по голове…
Тут Петр, обезумев от ужаса, принялся клясться, отрицать, призывать Бога в свидетели, что он не только не трогал Малха, но и не был никогда учеником Иисуса, даже не знаком с ним, поскольку в Иерусалим пришел из дальних земель на Пасху.
Едва он кончил причитать, как петух пропел в третий раз.
В это время Иисуса провели вблизи от него. Божественный узник поглядел на своего ученика с таким состраданием и болью, что Петр внезапно вспомнил слова о том, что не пропоет еще трижды петух, как он трижды отречется. Он издал страшный крик, вырвался из удерживавших его рук и бросился из дворца на улицу.
Но там, на пороге, он столкнулся с Богородицей.
На ее крик после оглашения приговора сбежалось множество людей и среди них возлюбленный ученик Иисуса… Они с помощью благочестивых жен перенесли ее, во второй раз потерявшую сознание, в нечто похожее на мастерскую плотника, где, несмотря на позднюю ночь, кипела работа, и, уложив на только что изготовленные брусья, пытались привести в чувство, в то время как мастеровые продолжали свои занятия.
Прошло некоторое время, и Богоматерь открыла глаза.
Постепенно туман, застилавший ее взор, рассеялся, и при свете ламп и свечей она увидела, что лежит в большом сарае, а вокруг снуют человеческие существа, похожие на демонов, занятых каким-то адским ремеслом и трудившихся, казалось, со всем пылом ненависти. Богоматерь не понимала еще почему, но что-то в ее душе возмутилось от их суеты. Казалось, будто каждый вбиваемый в дерево гвоздь впивается ей в сердце. Больше того, она догадывалась, что работа этих людей как-то связана с похоронным ремеслом.
И тут она, наконец, разглядела: к стене были прислонены два креста, а трудились они над третьим, на два локтя длиннее остальных.
Хотя Пречистая Дева страстно желала о чем-то спросить полуночных работников, слова не приходили на язык. Все, на что оказалась способна несчастная мать, — это выпрямиться во весь рост и с застывшим взглядом, полуоткрыв рот, дрожа всем телом, указать пальцем на орудие пытки.
Тогда все взоры устремились туда, куда она указывала, и смертный холод, охвативший ее сердце, проник в сердца тех, кто вошел вместе с ней.
Магдалина закрыла лицо волосами, Марфа прижала ладони к глазам, а Иоанн осмелился задать вопрос:
— Что это вы делаете, друзья мои?
Работники расхохотались.
— Из какой же ты земли, — спросил Иоанна один из них, — если никогда не видел креста?
— Я знаю, что такое крест, — отвечал тот, — но здесь их три: два у стены и один на земле…
— Так вот, те, у стены — для двух разбойников Димаса и Гестаса, а тот, что на земле — для лжепророка Иисуса.
Крик исторгся из груди Богородицы. Казалось, эти слова, наполнив ее ужасом, придали ей решимость бежать. Она поднялась, повторяя:
— Вон отсюда! Вон отсюда! Идем! Идем!
Тут работники, разобрав свечи и лампы, подошли к сбившимся вместе благочестивым женам и единственному среди них мужчине — Иоанну. Ремесленники осветили лицо Пречистой Девы. По ее бледности, слезам, но особенно по искаженному мукой лицу они опознали ее или догадались, кто перед ними.
— Ага, — пробурчал один из них, — это жена нашего сотоварища, плотника Иосифа. Какая жалость, что он умер. Бедняга, он так бы нам помог сегодня!
— А по мне, — сказал другой, — не худо бы послать за его сынком. Ведь тут достаточно потянуть брусья, чтобы довести их до нужной длины. Мы бы попросили его растянуть дерево креста, в котором только пятнадцать ступней, и перекладину, где всего-то восемь. Вот был бы крест. Таким он мог бы гордиться!
— О Господи, — прошептала Дева Мария, — неужто ты поклялся не отвести от меня никакой боли и страдания?
Но затем, словно предчувствуя, что силы смогут вернуться к ней лишь от свидания с сыном, воззвала к Иоанну и женщинам:
— Где бы он ни был, ведите меня к нему!
И маленькая процессия, вырвавшись из круга ухмыляющихся лиц и ртов, изрыгающих брань, вышла на улицу и дошла до дворца Каиафы.
Богородица поднялась на верхнюю ступень дворцовой лестницы, когда на нее чуть не обрушился выскочивший из дворца Петр. С полузакутанной в плащ головой, расставленными руками, он бежал с еще не замершим на устах воплем:
— О, я предал его! Я от него отрекся! Я трижды отрекся от него, я недостоин быть его апостолом!
Мария остановила его.
— Петр, Петр, что стало с моим сыном? — спросила она.
— О матерь, исполненная горечи, не говори со мной! — взмолился Петр. — Я недостоин отвечать тебе.
— Но сын мой, что с ним? — воскликнула Богородица с такой болью, что ее слова, словно кинжалы, вонзились в его сердце.
— Увы! Твой сын, наш богоданный учитель несказанно страдает, и в миг самых жестоких страстей Господних я трижды отрекся от него!
Не желая ни слушать, ни отвечать далее, он бросился на улицу и как бы во искупление своего отступничества закричал:
— Да, я галилеянин! Да, я знаю Иисуса! Да, я его ученик!
Поддерживаемая Иоанном, в сопровождении благочестивых жен, Богоматерь проникла на большой двор. Теперь ворота были открыты. Каждый был волен войти и выйти без препятствий, чтобы как можно больше людей могло поносить и терзать Иисуса в свое удовольствие. На остаток ночи Спасителя заперли в маленькой сводчатой камере с выходившим во двор окном, пробитым вровень с землей и забранным переплетенной железной решеткой. При свете соснового факела, воткнутого в щель между камнями и наполнявшего воздух густым дымом с запахом смолы, можно было разглядеть привязанного к столбу Иисуса, вынужденного стоять на иссеченных, распухших ногах под охраной двух лучников.
Мария доплелась до оконной решетки и вцепилась в нее обеими руками:
— Сын мой! — простонала она, падая на колени. — Сын мой, это мать твоя!
Христос поднял голову и с грустью взглянул на нее.
— Я следил за тобой, матушка, не спуская глаз. Мне известно, сколь много ты претерпела. Знаю, что ты лишилась чувств в Офеле и потом, когда услышала, как Каиафа читал приговор. И я видел, как ты попала к работникам, которые делают для меня крест… О матушка! Будь благословенна меж женами за все страдания, какие ты приняла из-за меня!
Мария, прижавшись лицом к прутьям, целиком отдалась радости и боли от лицезрения сына.
Но вот первый луч солнца проник в темницу. Начался последний день земной жизни Христовой.
Иисус поднял глаза и улыбнулся. Луч этот был для него лестницей Иакова, и ангелы поднимались и спускались по ней.
Двое стражников подле него уснули, на краткое время перестав издеваться над ним.
Когда звуки оживающего дворца пробудили их и они поглядели на Иисуса, он предстал перед ними в сиянии этого золотого и пурпурного луча, гладившего избитые плечи и поблескивавшего на окровавленном лбу.
Шум, разбудивший солдат, производили старейшины и книжники, вновь собравшиеся в зале суда, чтобы днем повторить все обвинения по делу лжепророка, ибо ночное слушание не было законным.
Впрочем, и новый приговор был лишь предварительным: после римского завоевания иудеи потеряли право выносить смертные приговоры. Даже когда дело касалось одного из их соплеменников, они представляли свое решение на подпись римского правителя, который подтверждал или отменял его.
Пока что было приказано привести Иисуса на новое судилище.
Узнав о распоряжении, толпа бросилась к дверям темницы. А поскольку двое стражей, застыв перед облеченным в сияние Иисусом, не решались потревожить его, вновь пришедшие, подбадривая друг друга, его отвязали, причинив немалую боль, и во второй раз повлекли к Каиафе.
Первосвященник вновь огласил решение судей, а затем, приказав, чтобы на шею Христу навесили цепь, как поступали с осужденными на смерть, громко выкрикнул:
— К Пилату его!
Присутствовавшие подхватили крик; он эхом прокатился по всем закоулкам дворца и выплеснулся во двор. Те, что провели там ночь, теснясь к огню, вскочили; спавшие — ибо многие спали, завернувшись в плащи, под портиками или по углам крепостных стен — одновременно сбросили с себя остатки дремоты и стряхнули набившуюся в одежды пыль. В городе захлопали окна и двери, жители снова высыпали на улицы.
Среди присутствовавших на суде был некто, привлекавший взоры любопытных бледностью и страшным возбуждением. Он расспрашивал всех вокруг, в том числе стражников, не пропуская ни слова, сказанного в толпе, вздрагивал и трясся, когда ему отвечали, и переходил от нервного смеха к рыданиям, раздирая одежды и грудь ногтями.
То был Иуда.
Мы уже слышали его отчаянный вопль, когда все потребовали смерти Христа. Вне себя, он тогда бросился прочь из дворца, через одни из ворот Сиона проник в Нижний город, легко, словно обычную канаву, перескочил глубокий ров Милло, прорытый от ворот Источника до Рыбных ворот. Оттуда беглец поднялся к Большой площади, прошел под Ксистом, оставив слева дворец Пилата, а справа — Овечью купель. Потом он вышел через Навозные ворота, торопливо омочил бороду и волосы в Драконовом источнике, чтобы немного освежить горящее лицо, и, невольно притягиваемый неведомой неукротимой силой к месту, где находился Иисус, вернулся в Иерусалим через ворота Источника. На несколько мгновений он задержался в кипарисовой роще, вознесшей к небу свои кроны у подножия Силоамской башни. Затем Иуда вновь спустился к Давидовой стене и, увидев там большой навес, вошел под него, задыхаясь от усталости и истекая потом, несмотря на то, что освежил водой волосы и бороду. Здесь он упал на землю и какое-то время лежал так, уронив голову на обрубок дерева вместо подушки.
Едва он перевел дыхание и его веки смежились, как дремоту спугнули голоса и звук шагов.
Поднявшись на локте, он увидел несколько человек, приближавшихся к нему. У одного в руках горел фонарь. Когда они оказались всего в нескольких шагах, Иуда огляделся, стараясь понять, где он очутился. При свете фонаря он увидел, что оказался в тележной и плотницкой мастерской, а кусок дерева под его головой не что иное, как громадный крест, очевидно подготовленный для грядущей казни… Объятый неизъяснимым ужасом, он вскочил, ибо догадался, что этот крест станет орудием пытки для того, кого он предал!
Не задавая вопросов и не откликнувшись на возгласы работников, весьма удивленных, что кто-то именно здесь решил остановиться на ночлег, он снова кинулся во тьму и бежал до тех пор, пока ему не помешало двигаться далее скопление людей у дверей Каиафы.
Там, словно бы не понимая, что происходит, он спросил, почему в городе волнение. Но в эту самую минуту, когда он расспрашивал прохожих, Каиафа и старейшины появились на дворцовой лестнице, направляясь к Пилату. За ними в кольце стражников шел скованный Иисус.
Тогда те, у кого Иуда просил объяснений, приняв его за чужака, отвечали:
— Ты же видишь сам: вон Иисус из Назарета, которого первосвященник и синедрион только что приговорили к смерти… Его сейчас ведут к Пилату, чтобы римский прокуратор подтвердил приговор.
— Но что он сказал? — настаивал Иуда. — Он защищался? Обвинял кого-нибудь? Может, он жаловался на кого-то?
— Он не жаловался ни на кого, хотя имеет на это право: ведь его продал кто-то из своих, один из его собственных учеников!.. Что до защиты, он не сказал ничего, только утверждал, будто он Мессия и место его одесную Господа.
— И он не поносил никого? Не проклинал? — не унимался Иуда.
— Он попросил своего отца простить судей и палачей и даже, как уверяют, того, кто его предал.
Иуда испустил душераздирающий стон и бегом пустился к Давидовой стене. Там он через Верхние ворота сбежал словно безумный по обрывистой тропке к Сионскому мосту. На поясе его бился кожаный кошель и зловеще звенели тридцать сребреников, полученных за предательство. Иуда все сжимал кошель рукой, пытаясь помешать ему биться о бедро и приглушить звон монет.
Куда он направлялся? Несомненно, он сам не знал этого. Ведь бежал он от самого себя. Тем не менее, оказавшись между ипподромом и лестницей, ведущей на гору Мориа, Иуда вдруг припомнил, что в метаниях по городу он повидал множество священников, идущих в храм, и среди них было немало тех, кто сидел в Большом совете. Поэтому он юркнул во внутренний дворик дома, где жила храмовая прислуга, а затем через Западные ворота вышел в притвор храма, где обычно Иисус давал поучения жителям Иерусалима.
Там он увидел нескольких священников, книжников и старейшин из числа заседавших в синедрионе. Они беседовали о приговоре, только что вынесенном Каиафой. Это вконец смутило изменника. Иуда приблизился к ним; но некоторые из них, узнав его, зашептали прочим:
— А вот как раз тот, о ком мы говорили… Ученик, предавший его, апостол, что продал его.
И все уставились на него, причем стоявшие сзади привставали на цыпочки, чтобы лучше разглядеть.
Иуда, впав в отчаяние от этих явных знаков презрения, подошел ближе к ним и, сорвав с пояса кошель, прокричал:
— Да, вы не ошиблись! Это я предал, это я продал учителя моего… А вот деньги, цена моего предательства!
Он протягивал им кошель, но никто и не подумал принять сребреники назад.
— Возьмите же их! — стенал предатель. — Я их возвращаю! Разве не видите: они жгут мне руки! Я разрываю наш договор… Может, вам достанет моей крови сверх этих монет? Так возьмите кровь мою и отпустите Иисуса на свободу…
Но едва он делал шаг вперед, тряся кожаным кошелем, как все пятились от него. А руки свои они прятали за спину, боясь осквернить их случайным прикосновением к деньгам, уплаченным за предательство. Наконец один ответил от лица всех:
— Нас не трогает ни твой грех, ни то, что ты предал учителя. Да предай ты хоть самого Господа, мы-то тут при чем? Нам был нужен один Иисус, чтобы приговорить его к смерти! Мы выкупили его у тебя, а ты его продал. Мы уже осудили его, можешь оставить себе эти деньги: добром ли они заработаны или во вред кому, они теперь твои!
Тут Иуда, мертвенно-бледный, со вставшими дыбом волосами и пеной у губ, обеими руками разодрал кожаный мешок и, сжав в горсти тридцать проклятых монет, швырнул их в открытые двери храма. Потом, схватившись за голову, сбежал по ступеням к Золотым воротам и бросился вон.
Какое-то время он раздумывал, не пуститься ли ему через долину и Кедрон и не затеряться ли где-нибудь под сенью олив. Но тут же понял, что именно там его преступление воочию предстанет перед ним. Тогда он побрел вдоль внешней стены, крича как безумный:
— Каин! Каин! Что сделал ты с братом своим Авелем?
И голосом, полным отчаяния, отвечал самому себе:
— Я убил его! Я убил его!
Затем он останавливался, прислушиваясь к шуму за городской стеной. В нем ему чудился отдаленный ропот осуждения, угрозы, проклятия. Казалось, никакие стены не помешают им пасть на его голову.
— О! — шептал Иуда. — Ведь сказано в законе: "Продавший душу соплеменника и получивший плату должен умереть!"
И, бия кулаком себя в грудь, хрипел:
— Так покончи же с собой, презренный! Посмотри: вот пропасть под ногами; гляди: вон сук дерева… Бросайся вниз или вешайся!
Он метнулся к краю пропасти, но отшатнулся, убоявшись ее глубины.
Тут его взгляд уперся в огромную сикомору: ее тень под стоящим в зените солнцем могла бы накрыть целое стадо с пастырями и собаками.
Иуда подтащил к самой толстой ветви несколько камней и положил их один на другой, соорудив что-то вроде скамейки. Взойдя на эту шаткую постройку, он сбросил плащ на землю, распустил пояс, сделал на нем скользящий узел, другим концом прикрутил к ветви, нависавшей у него над головой, словно длань смерти, просунул голову в петлю и, оттолкнув рассыпавшиеся под ногами камни, повис, раскачиваясь между ветвью и землей.
Должно быть, в его мозгу с быстротой молнии пронеслось мрачное, как адская пропасть, сожаление или запоздалый страх: руки вскинулись над головой, обхватили пояс, ставший жестким под весом тела, и попытались добраться до ветви. Но она была так высоко! Несколько мгновений руки Иуды напрасно хватали воздух, потом обвисли, лицо посинело, налившиеся кровью глаза вылезли из орбит и рот скривился в придушенном хрипе.
Таков был последний вздох богоубийцы!
Деньги, брошенные Иудой в лицо священникам и раскатившиеся по храмовым плитам, подобрали. На них купили клочок земли, где и было погребено тело Иуды. Место это прозвали Ак-эд-Дам, что значит "цена крови". Это название — Акеддама — дожило до сего дня.
Что до сикоморы, росшей на юго-западе Иерусалима между Рыбными воротами и воротами Первосвященника, недалеко от источника Гион, она простояла еще пятнадцать веков. И за все это время, за жизнь двух десятков поколений ни один старец не вспомнил, чтобы кто-либо сидел под ее сенью, и не мог сказать, что ребенком слышал от другого старца, видел ли тот человека, отдыхавшего под ней.
XIV ЗНАМЕНОСЕЦ
Пока это отдельное трагическое действо близилось к концу, Иисуса вели к римскому прокуратору.
Путь от дома Каиафы до претория долог: требуется пересечь самую людную часть Иерусалима. Через Сионские ворота надо войти в Нижний город около башни Давида, повернуть на Рыночной площади под прямым углом, подняться к горе Мориа, оставив по левую руку дворец Маккавеев, а по правую — ипподром, пройти мимо храма от Западных ворот до дворцовой сокровищницы; наконец, пересечь наискосок Большую площадь и по восемнадцати мраморным ступеням подняться в преторий.
Кортеж Иисуса, уже многолюдный у дворца Каиафы, около крепости прокуратора превратился в неисчислимое скопище людей. Здесь сошлись не только обитатели Иерусалима, но и жители других городов; для них новым и оттого еще более любопытным развлечением было поглазеть на человека, виновного в таких страшных преступлениях, что его обвинители не имели терпения подождать до конца пасхального дня — самого священного в году, — чтобы осудить и казнить его.
Каиафа, Анан и несколько старейшин из синедриона в парадных одеяниях возглавляли процессию. Они намеревались самолично предстать перед Пилатом, чтобы требовать смерти Иисуса.
Встревоженная Клавдия, с самого утра сидевшая на дворцовой террасе, увидела, как они приближаются, и тотчас послала одного из слуг к Пилату, чтобы напомнить ему об обещании, данном несколькими часами ранее.
Иисус был лишь в хитоне и плетеной лоскутной циновке, издевательски наброшенной на плечи в виде царской мантии. Обернутая вокруг шеи цепь свисала, оканчиваясь двумя кольцами, попеременно ударявшими по коленям. Как и ранее, лучники тянули его за веревки, и божественный мученик двигался вперед среди криков, шума, воплей, угроз и оскорблений, весь в крови, бледный, избитый и ослабевший.
Мало того, в насмешку над пальмовыми ветвями, которые бросали к стопам Спасителя при его триумфальном вступлении в Иерусалим, теперь ему под ноги швыряли острые камни, колючие ветви, глиняные черепки и осколки стекла.
Вот так Иисус и двигался вперед — вернее сказать, был влеком под градом поношений и проклятий, — молясь и шепча о любви к ближним среди этого адского вихря.
Когда Богоматерь узнала, что ее сына поведут к Пилату, она пошла вперед, сопровождаемая Иоанном и благочестивыми женами, желая увидеть его посреди пути. Теперь же она остановилась на углу одной из улиц и издалека, задолго до появления Иисуса, уже слышала приближавшийся ропот валов человеческого моря. Наконец она увидела людей с отвратительными лицами, из тех, что обычно идут впереди подобных процессий. По временам они оборачивались, как бы следя, чтобы не утихли муки пытаемого, о которых они оповещали случайных прохожих своим радостным воем, непристойными ужимками и уродливым хохотом. За ними шли, как уже было сказано, священники, судейские, фарисеи и книжники, а позади них — в кругу стражников — Иисус!
Но вот Мария увидела сына, сирого и убогого, лишенного дружеского участия и избитого, обезображенного так жестоко, что она сама едва узнала его. Богородица пала на колени и, простирая к нему руки, закричала:
— Это ли мой сын? Это ли мое возлюбленное дитя?.. Иисус! Драгоценный мой Иисус!
Христос мягко повернул голову, и она услышала те же слова, что и во дворце Каиафы:
— Приветствую тебя, матушка! Будь благословенна меж женами за все страдания, какие приняла из-за меня!
И он прошел мимо, в то время как Богоматерь в третий раз лишилась чувств, упав на руки Иоанна и Магдалины.
Во дворце Пилата были раскрыты все двери, чтобы обвиняемый и обвинители могли свободно пройти.
Однако огромная толпа, оставшаяся на площади, громкими криками потребовала выхода римского наместника.
Тот в окружении римских воинов появился под аркой наружных ворот. За его спиной можно было разглядеть знаменосцев в львиных шкурах, наброшенных на головы и плечи. Глаза львов, сделанные из эмали, горели на солнце, сверкали львиные когти и зубы, покрытые позолотой.
В руках знаменосцы держали штандарты с орлом наверху и четырьмя буквами: S.P.Q.R. под ним. Со времен Мария орел заменил на римских знаменах волчицу.
Пилат показал рукой, что желает говорить, и в тот же миг шум стих.
— Почему вы не входите? И обвиняемого пусть введут! — приказал он.
— Мы не желаем оскверниться, вступая в день Пасхи в жилище человека иной, нежели у нас, веры, — отвечали ему иудеи.
— Странные предосторожности, — заметил Пилат. — Однако ничто не помешало вам нарушить предписания закона в эту ночь, собрав совет и осудив человека на смерть… Впрочем, это не важно. Если не желаете идти ко мне, я выйду к вам.
По приказу Пилата на своего рода галерею, нависавшую над преторием, вынесли кресло, похожее на трон. Усевшись в него, он приказал воинам выстроиться в две шеренги, между которыми обвиняемый смог бы подняться по лестнице и подойти к нему.
Внизу у лестницы стояли два знаменосца.
Отдав необходимые распоряжения, Пилат обратился к толпе:
— Какое преступление совершил этот человек? — спросил он.
Ему откликнулось множество голосов, толпа загудела, и Пилат ничего не смог разобрать.
Он поднят руку, требуя тишины, и тотчас все смолкло.
— Пусть говорит один, — приказал прокуратор. — И пусть внятно объяснит, в чем суть обвинения.
Каиафа приблизился к нему.
— Мы все знаем этого человека, — сказал первосвященник. — Он сын Иосифа-плотника и Марии, дочери Анны и Иоакима. При всем том он утверждает, будто он царь, Мессия и сын Божий! Но это еще не все. Он нарушает день субботний, он жаждет порушить закон наших предков, а это — преступление, караемое смертью!
— Быть может, это верно для вас, иудеев, но недостаточно для нас, римлян… Перечислите его дурные поступки, чтобы я мог судить по ним.
— Не будь он преступником, мы бы не прибегали к твоей помощи, — заметил Каиафа.
— Повторяю, — настаивал Пилат, — я допускаю, что он согрешил, нарушив ваш закон. Но наших установлений он не нарушил, а посему судить его — ваша обязанность.
— Тебе же известно, что это невозможно! — в нетерпении воскликнул Каиафа. — Ведь по нашему мнению, он заслуживает смерти, а право посылать на смерть отвоевано римскими властями. Это трофей победителей.
— Так обвините его в преступлениях, за которые нужно казнить… Я готов выслушать.
Каиафа стал перечислять:
— Наш закон запрещает исцелять в день субботний, а обвиняемый злокозненно излечивал в субботу расслабленных, хромых, глухих, сухоруких, слепых, прокаженных и бесноватых!
— Объясни-ка мне, Каиафа, как это возможно вылечивать злокозненно? — спросил Пилат. — Исцеление, как мне кажется, это действие милосердное и злого умысла содержать не может.
— Отнюдь, — возразил Каиафа. — Ибо излечивал он именем Вельзевула… Это маг, а августейший император Тиберий предписал строго карать магов и колдунов.
Пилат покачал головой.
— Нет, изгнание бесов из тела не может быть делом сил тьмы, а только свидетельством всемогущества Бога.
— Это не имеет значения, — упорствовал Каиафа. — Мы просим, чтобы властительный прокуратор повелел привести обвиняемого и допросил его.
— Да будет так, — согласился Пилат и, обратившись к тому же слуге, что пришел от Клавдии напомнить о данном обещании, приказал: — Пусть Иисуса приведут сюда и обращаются с ним помягче.
Посланец спустился по ступеням и, приблизившись к Христу, с поклоном промолвил:
— Господин, римский прокуратор Понтий Пилат, правящий от имени Тиберия, нашего августейшего императора, приглашает тебя предстать перед ним.
При этих словах по толпе прошел ропот, ибо посланный говорил с Иисусом как слуга с господином: к обвиняемому подобало обращаться не так.
Однако посланец, услышав угрозы, ничуть не смутился и пошел впереди, указывая Иисусу дорогу. А когда дошел до места, где осколки камней могли поранить ноги божественного узника, он расстелил свой плащ на земле, приглашая Христа пройти по нему.
Ропот в толпе усилился.
Иисус же с мягкой улыбкой ступил на плащ и продолжал свой путь к лестнице.
Тут иудеи закричали Пилату:
— Почему ты высылаешь к этому человека гонца, словно тот не преступник? Зачем посланный тобой назвал его господин?.. И, наконец, почему гонец расстелил перед ним плащ?..
Пилат знаком приказал Иисусу остановиться, чтобы осведомиться у слуги, по какой причине тот повел себя подобным образом.
Иисус застыл неподвижно в пустом пространстве, огороженном двойной шеренгой воинов, всего в нескольких шагах от ступеней.
Слуга же поднялся по лестнице и приблизился к Пилату.
— Почему ты назвал господином этого человека, — спросил его римский прокуратор, — и зачем ты расстелил плащ ему под ноги?
Тот ответил:
— В прошлое воскресенье я присутствовал при въезде этого человека в город. Он сидел на осле. Дети иудеев размахивали пальмовыми ветвями и подбрасывали их в воздух, крича: "Будь благословен, сын Давидов!", а отцы их расстилали свои одежды под копытами его осла с возгласами: "Да будет благословен пребывающий на небесах! Да будет благословен идущий от имени Господа!"
Иудеи, что стояли близко к преторию, расслышали объяснения слуги и закричали ему:
— Как случилось, что ты, грек, понял сказанное на здешнем наречии?
Слуга обернулся к спрашивающим:
— Все очень просто, — пояснил он. — Я подошел к одному из иудеев и спросил его: "О чем кричат эти люди?" И он мне все объяснил.
— И что же они выкрикивали? — спросил Пилат.
— "Осанна", господин! — отвечали иудеи.
— Так что же означает это восклицание? — продолжал спрашивать римский наместник.
— Оно означает: "Будь благословен, Господи!"
— Значит, — заключил Пилат, — вы сами кричали "Осанна!", когда проходил этот человек, и бросали ваши плащи ему под ноги. В чем же повинен мой посланец, назвав его господином и расстелив свой плащ перед ним?
И, обратившись к гонцу, он добавил:
— Ступай и пригласи Иисуса.
Тот спустился по лестнице и снова склонился перед Христом со словами:
— Господин, ты можешь идти дальше.
Иисус пошел вперед, и, когда он проследовал мимо двоих знаменосцев, знамена сами собой опустились перед ним, словно бы поклоняясь ему.
При виде этого иудеи закричали:
— Посмотрите же, что делают знаменосцы! Они поклоняются ему!
Пилат, как и другие, видел, что древки склонились долу, и не понял, по какой причине это произошло.
Он вопросил знаменосцев:
— Что вас заставило это сделать?
Но те в растерянности отвечали:
— Господин, мы язычники и поклоняемся храмам. Как мог ты предположить, что мы станем поклоняться этому человеку?
— Так что же? — настаивал Пилат.
— Не мы склонили наши знамена, — они сами склонились перед ним помимо нашей воли.
— Вы слышали? — обратился наместник к иудеям.
— Это ложь! — возмутились те. — Знаменосцы — тайные сторонники лжепророка!
— Я в это не верю, — промолвил прокуратор. — Поступим так: выберите самых сильных из вас и самых яростных недругов Иисуса. Пусть они примут знамена из рук моих воинов, а мы посмотрим, удержат ли они их в своих руках.
Иудеи выбрали двух молодцов геркулесового сложения, и те предстали перед Пилатом.
— Прекрасно, — сказал тот. — Пусть знаменосцы уступят этим двоим свое место и то, что у них в руках.
Двое могучих израильтян взяли знамена из рук воинов, встали на первую ступень, облокотились о поручни и напрягли все мышцы.
Пилат же обратился к своему посланцу:
— Отведи Иисуса на прежнее место. Пусть он вторично поднимется по лестнице, а мы посмотрим, крепче ли руки у новых знаменосцев, нежели у прежних.
Иисус вышел из претория, но через другую дверь, чтобы, спускаясь с лестницы, не проходить мимо знаменосцев.
Тем временем Пилат обратился к силачам-добровольцам:
— А сейчас я клянусь именем кесаря: если знамена склонятся, когда Иисус пройдет мимо вас, я повелю отрубить вам головы.
После этого он вновь обратился к посланцу, появившемуся вместе с Христом, и приказал:
— Пусть Иисус поднимется вторично!
— Господин Иисус, — обратился к тому слуга Пилата, снова постелив свой плащ под его ногами, — прокуратор Понтий Пилат повелевает тебе приблизиться к нему.
Иудеи опять возроптали, видя почести, оказываемые обвиняемому, но почти тотчас все их внимание вновь сосредоточилось на знаменосцах.
Иисус неторопливо, торжественно двинулся вперед, и, пока он приближался, знамена столь же медленно склонялись перед ним, несмотря на все усилия тех, кто стискивал в пальцах их древки. Они опустились так низко, что орлы коснулись каменных плит и божественный мученик, если бы пожелал, мог бы наступить на них, проходя мимо.
Пилат вскочил, сам ужаснувшись чуда: отчаянные усилия обоих иудеев, во что бы то ни стало желавших не уступить, были очевидны. Христос же не произнес ни слова, не сделал ни единого лишнего движения!
— Ну что? — закричали в толпе. — Разве мы не говорили, что он маг?
В душе прокуратора что-то надломилось. Он предпочел бы поверить в некую дьявольскую власть, нежели в проявление божественных сил. Однако все, о чем говорила Клавдия, отчетливо всплыло в его памяти.
Тогда он подошел к балюстраде и обратился к иудеям:
— Вы все, — заговорил он, — все, кто пришел сюда, знаете, что моя супруга Клавдия Прокула — язычница. К тому же она — родственница императора. Вам также известно, что она построила для вас много синагог. Так вот, в эту ночь она явилась ко мне и сказала: "Не предпринимай ничего против Иисуса, поскольку в видении мне открылось, что этот человек — праведник".
Но иудеи отвечали:
— А если это он наслал видение? Он мог прибегнуть к той же демонской силе, как и сейчас, когда заставил знамена склониться перед собой!.. Это маг, а Тиберий Август карает магов смертной казнью!
Вдруг среди иудеев раздался сильный шум. Некто, только что прибежавший с улицы, ведущей к Древним воротам, что-то громко говорил, размахивая руками.
— Пилат, Пилат! — закричали иудеи.
— Что такое? — спросил тот. — Чего вы еще хотите?
— Мы просим, чтобы испытание было повторено в третий раз.
— И кто же набрался храбрости решиться на новую попытку? — поинтересовался римский прокуратор.
— Я! — раздался мощный, зычный голос, и в свободное пространство между толпой и стражниками вступил мужчина лет сорока — сорока пяти, явно невысокого происхождения, хотя и с красивыми чертами необычайно правильного лица.
Черные глаза его горели гневом, белоснежные зубы сильного хищника обнажились под тонкими бледными губами, длинные волосы развевались, как львиная грива, и при резком движении головы, привычно откидывающем их со лба, беспрестанно хлестали его по плечам.
Под туникой угадывалось тело совершенных пропорций, а большой кожаный фартук, одним углом заткнутый за пояс, придавал ему нечто воинственное.
Встав перед Пилатом, он с вызывающим видом скрестил руки.
— Да, я, — повторил он.
— И кто же ты? — спросил прокуратор.
— Зовут меня Исаак Лакедем, сын Нафана из колена Завулонова, — отвечал тот. — Я не страшусь ни мага, ни колдуна. Во времена императора Августа я служил в восточном легионе, набранном в Сирии Квинтилием Варом. Я был с ним в землях бруктеров, когда германцы, предводительствуемые Арминием, атаковали и, предварительно заманив в ловушку, искромсали нас… Я нес орла, и если он упал, то только лишь со мной: мне раскроили грудь мечом. Вот шрам… И если я не склонил знамя перед грозным вождем германцев, я не опущу его и перед лжепророком. Дай же мне знамя! Пусть испытание возобновится в третий раз.
— Да будет так! — сказал Пилат. — Воин, отдай знамя этому человеку.
Тот повиновался, а для того чтобы Христу не пришлось опять спускаться, новый знаменосец, приняв из рук прежнего знамя, поднялся на десять ступеней, оставив Иисуса внизу. Остановившись посреди лестницы, он ждал, пока шедший вверх Иисус поравняется с ним.
Когда начался этот спор, Иисус уже занес ногу на первую ступень. Теперь он терпеливо ожидал, смиренно, покорно, почти безвольно оставаясь на месте, пока решение не было принято.
Лишь после этого он поднял глаза на бывшего легионера.
— Иди, иди, маг, — пробурчал тот. — Я жду!..
Иисус ступил на вторую, на третью ступень, затем на четвертую, и, пока он поднимался, все видели, как ветеран Вара изо всех сил прижимал к груди древко, как вздулись мышцы и жилы на мощных руках. Но все его старания были тщетны: пригнутое невидимой всесильной рукой, древко с орлом медленно опускалось по мере того, как поднимался Христос. Когда же Иисус взошел на десятую ступень, орел был у его ног, а легионер почти касался лбом мраморной плиты, приняв невольно позу молитвенного коленопреклонения.
Какое-то мгновение среди воцарившегося молчания Христос оставался стоять, возвышаясь во весь рост над гордецом, которого рука Всевышнего согнула словно тростинку.
Но почти тотчас бывший легионер вскочил, преисполненный ненависти и злобы.
— О маг, лжепророк, богохульник, будь ты проклят! — вскричал он.
И под улюлюканье толпы, сгорбившись и пошатываясь, сошел вниз, подобный Гелиодору под плетью ангела!
А знамя он вынужден был оставит под ногами Иисуса!..
XV ОТ ПИЛАТА К ИРОДУ
Толпа, ставшая свидетельницей троекратного чуда, на какое-то время пребывала в несказанном ужасе; однако же ненависть возобладала. Все стали вопить с удвоенной яростью, и Пилат подал Иисусу знак приблизиться.
Тот повиновался.
С величайшим любопытством римский наместник приглядывался к этому человеку. Он видел его впервые, но много раз слышал разговоры о нем. И даже собственная супруга заняла часть этой ночи рассказами об Иисусе.
Иисус терпеливо ждал, когда начнется допрос.
— Ты действительно царь Иудейский? — спросил, наконец, Пилат.
Услышав такой неожиданный вопрос, Иисус поднял голову. Начало оказалось совершенно не похоже на то, что было до этого, и с обычной мягкостью он ответил:
— Ты говоришь от себя самого или другие так называли меня?
— Я говорю со слов других, — сказал Пилат. — Ты же знаешь, что я не иудей… Твой народ и первосвященники передали тебя мне, так отвечай же.
Христос печально покачал головой.
— Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвизались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Я же, напротив, запретил ученикам сопротивляться.
Пилат задумался. Такой ответ не допускал двояких толкований. Обвиняемый отрицал какие бы то ни было притязания на светскую власть. То был отказ повелевать миром не только в настоящем, но и в будущем.
— Хорошо, — произнес наконец прокуратор. — Насколько я понимаю, ты предводитель одной из сект. Так что за секту ты основал или же к какой из них ты себя причисляешь? Не к фарисеям — ты открыто нападаешь на них и часто против них проповедуешь.
— Претор, — отвечал Иисус, — дело не в том, что я принародно обличаю фарисеев и проповедую против них. Фарисеи основывают свою мораль на внешних поступках человека, а не на совести его. Они хотят достичь наивысшего совершенства, строго следуя не духу, а букве закона. Вот почему я не принадлежу к ним. Они возмущены, что я сажусь за один стол с мытарями, что вокруг меня — люди с небеспорочным прошлым, а я им отвечаю: "Это больные нуждаются в лекаре, а не здоровые; я привожу к покаянию грешников, а не праведных". Фарисеи следуют Моисееву закону, взывающему к мести и требующему око за око и зуб за зуб, а я говорил: "Ударившему в правую щеку подставь левую!" Фарисеи злопамятны, таят обиды и мстят за оскорбление. Я же советую ученикам возлюбить врагов наших и благословлять ненавидящих нас, платя добром за зло. Фарисеи дают милостыню под трубные звуки и всегда появляются на людях с бледными от поста лицами; я же, напротив, учу, что левая рука не должна знать, что делает правая, к тому же порицаю упорное воздержание, выставленное напоказ… Судите сами, фарисей ли я!
— Так значит, — спросил Пилат, — ты саддукей?
— Саддукеи считают, что душа умирает вместе с телом, и полагают, что бессмертны не души, но племена. Они отрицают действие высших сил и благодать, ниспосланную свыше. А также они утверждают, что добро и зло исходят от нас самих, и не допускают, что Бог руководит нашими поступками. Я же, напротив, говорю, что душа бессмертна, проповедую воскрешение телесное, поклоняюсь Всевышнему и молюсь ему как великому устроителю человеческих поступков. Кроме того, я верю в первородный грех, и спустился я сюда для того, чтобы его искупить. А о Господе я утверждаю, что при конце света он будет судить живых и мертвых… Как видишь, я не саддукей!
Пилат слушал с глубочайшим вниманием, и чем больше говорил Иисус, тем яснее остановилось, что его речи достойны похвалы, а не хулы.
— А, понимаю, — сказал он, — ты ессей.
Иисус отрицательно покачал головой.
— Ессеи отрицают брак, поскольку женщина кажется им непостоянной по своей природе. Они почитают, что лишь рок движет миром, а также требуют трехлетнего послушания и подвергают испытаниям всякого, кто желает войти в их секту. Напротив, я проповедую святость брака, говоря, что муж и жена — единая плоть. Я составил молитву, первые слова которой: "Отче наш, сущий на небесах…" И наконец я призываю всех на братское пиршество и, посылая учеников проповедовать слово Господне по всему лику земли, наставляю их учить добру, не деля племена на своих и чуждых, ибо океан правды, что они несут в своей горсти, равно изливается на всю землю… Как видишь, я не ессей!
— Но кто же ты тогда? — спросил прокуратор.
— Я — Мессия, посланный в этот мир, чтобы сеять здесь свет истины.
— Истины, — рассмеялся Пилат. — Ох, прошу, Иисус, объясни: что есть истина?
— Истина для ума то же, что свет для мира земного.
— Разве на земле так мало истины, что ты был вынужден нести ее свет с небес?
— Ее достаточно, но те, что отстаивают истину на земле, судимы теми, кому принадлежит власть земная… И вот доказательство: меня привели к тебе и требуют моей смерти за то, что я открывал истину.
Пилат поднялся, два-три раза прошелся по галерее, всякий раз поглядывая на Христа с удивлением, доходящим почти до восхищения. А затем произнес, обращаясь к самому себе:
— Клавдия права, этот человек — праведник!
Тогда, подойдя к балюстраде, он обратился к тем, кто, все еще боясь оскверниться, толклись снаружи.
— Обвините этого человека в других проступках. До сих пор я не нашел в его делах ничего предосудительного.
Толпа загудела, и новые обвинения не заставили себя ждать.
Среди них римский наместник обратил внимание на те, что касались магии:
— Он говорил: "Я разрушу храм сей рукотворенный, и чрез три дня воздвигну другой, нерукотворенный".
— Какой храм? — спросил Пилат.
— Храм Соломона, который строили сорок шесть лет… Ты понимаешь, Пилат? Он сказал, что опрокинет его и восстановит за три дня!
— Я понимаю одно, — раздраженно заметил прокуратор, — а именно, что по той или иной причине вы жаждете крови этого человека. Однако я не считаю, что он заслуживает смерти лишь потому, что нарушил субботнее воздержание, когда из этого не проистекло ничего, кроме блага, или за сказанные слова о храме, в которых, без сомнения, сокрыта какая-то притча.
Действительно, иудеи плохо поняли или не захотели правильно понять слова Христа: "Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его". Ведь они значили лишь: "Можете убить меня — меня, который и есть истинный храм Господень, поскольку от меня исходит истина, — но через три дня я воскресну!"
Этот второй ответ Пилата возмутил врагов Иисуса, но одновременно придал несколько бодрости его доброжелателям. Никодим, стоявший в толпе, ожидал, как и на заседании синедриона, лишь благоприятного случая, чтобы возвысить свой голос в защиту обвиняемого. Теперь он счел, что такой случай представился, и вышел вперед.
— Пилат, взываю к правосудию твоему и справедливому, блистательное доказательство коей ты только что явил, а потому прошу позволить мне сказать несколько слов.
— Подойти к подножию галереи и говори, — приказал Пилат.
Никодим встал на указанное ему место.
— Я уже высказывался в защиту этого человека, — начал он. — Я делал это перед синедрионом и сказал старейшинам, левитам и всем, кто там был: "В чем обвиняете вы Иисуса? Он совершил многочисленные и славные чудеса, каких до него никто не делал. Отошлите его и не наказывайте. Если эти чудеса исходят от Господа, они будут прочными и вечными. Если от демона — то они окажутся зыбкими и непостоянными и вскоре разрушатся сами собой. С ним будет то же, что с египетскими волхвами, которых фараон подвиг выступить против Моисея: пред лицом чудес, исходящих от Всевышнего, их волшебство оказалось бессильно, и они погибли". Прошу, Пилат, воспользуйся примером, извлеченным из нашей собственной истории, отошли Иисуса из города. Пусть время рассудит, самозванец он или Мессия, лжепророк или сын Божий.
Но тут иудеи, взъярившись на Никодима, закричали:
— Не слушай этого человека, Пилат! Не слушай, это же его ученик!
— Разве я ученик его? — воскликнул Никодим.
— Да, да, да! — завопили в толпе. — Ты его ученик, потому что говоришь в его пользу!
— Тогда и прокуратор кесаря, высказывавшийся в его пользу, — его ученик! — возразил Никодим. — Так нет же! Кесарь возвел его в эту почетную должность, чтобы с вершины, на которую он поставлен, ему легче было судить о наших ничтожных страстях и творить правосудие, не различая одних и других, больших и малых, слабых и сильных.
— Значит, — закричали самые яростные, — если ты берешь на себя часть его преступлений, ты готов взвалить на свои плечи и долю его наказания?
— Я приму ту долю, какую мой господин Иисус изволит уделить мне в его мучениях и грядущей славе, — откликнулся Никодим. — Пока же я взываю: правосудия, Пилат, правосудия!
Пилат поднял руку, требуя тишины, и, указав на Никодима, произнес:
— Кроме этого человека, который достоин веры, потому что он один из членов вашего совета, кто еще может свидетельствовать в пользу обвиняемого?
Тут некто из толпы приблизился и спросил:
— Дано мне будет сказать?
— Говори, — разрешил Пилат.
— Так вот, я расскажу о том, что приключилось со мной. Тридцать восемь лет я не покидал своего ложа, терзаемый ужасными болями и под постоянной угрозой смерти. Иисус пришел в Иерусалим, и я узнал, что он, по рассказам, излечивает слепых, глухих и одержимых бесом. Несколько юношей подняли меня вместе с ложем и принесли к Иисусу. Увидев меня, он был тронут моим страданием и сказал: "Встань, возьми постель свою и иди в дом твой". И тотчас я выздоровел: я встал на ноги, взял постель и пошел.
— Это так! — закричали из разных мест. — Но спроси его, в какой день он вылечился.
— Когда тебя излечили? — поинтересовался Пилат.
— Я должен признать, что в день субботний, — ответил свидетель.
Тогда, обернувшись к Иисусу, претор осведомился:
— Так ты лечил в субботу, как и в другие дни?
— Пилат, — со всегдашней грустной улыбкой ответил Христос, — Какой пастырь, видя, как одна из овец его упала с обрыва в бурную реку, не бросится в воду, будь тот день субботний или какой иной?
Прокуратор провел рукой по взмокшему лбу.
— Этот человек, как всегда, прав, — проговорил он и снова обратился к народу: — Кто-нибудь еще может свидетельствовать в пользу обвиняемого?
— Да, я! — откликнулся еще один из толпы, выступая вперед. — Я от рождения был слеп. Я слышал вокруг себя человеческую речь, однако никого не видел. Но Иисус проходил через Иерихон, и милосердные люди поставили меня на его пути. Я громко кричал: "Сын Давидов, сжалься надо мной!" И он надо мной сжалился, наложил руку на глаза мои, и я, прежде никогда не видевший, прозрел!
Тут еще женщина приблизилась к балюстраде и обратилась к Пилату:
— Двенадцать лет у меня не прекращались кровотечения, и я была еле жива. Я попросила, чтобы меня вынесли к дороге, по которой собирался пройти Иисус. Поскольку у меня не было сил даже позвать его, я смогла лишь коснуться края его плаща. И в тот же миг исцелилась.
Она не успела договорить, как рядом с ней встал еще один горожанин.
— Меня видели все в Иерусалиме, — начал он. — Я не ходил даже, а влачился по улицам на костылях, будучи хромым и скособоченным. Иисус протянул руку в мою сторону, произнес слово, и я выздоровел.
Тут подал голос прокаженный:
— И меня он вылечил единым словом.
И одержимый бесами объявил:
— Из меня он изгнал беса, закляв его.
— Ты же видишь, у этого человека власть над демонами! — закричали в толпе.
Пилат обернулся к Иисусу, как бы спрашивая: "Что можешь сказать в оправдание?"
— Да, — отозвался Христос. — Я имею власть над демонами. Но лишь для того, чтобы изгонять их в ад, откуда они вышли. И эта власть, напротив, доказывает, что я послан Господом.
— В третий раз повторяю вам, что этот человек невиновен! — провозгласил Пилат.
— А мы повторяем тебе, римский претор, — завопили в ответ, — мы утверждаем, что он призывает народ к возмущению от Галилеи, где он начал, до нашего города, где кончит тревожить наш покой!
— От Галилеи до сего места? — оживился Пилат. У него появилась надежда снять с себя ответственность. — Значит ли, что человек этот — галилеянин?
— Да, да! — закричали из толпы. — Он галилеянин, а в Писании сказано, что никакого пророка не будет из Галилеи. Смерть лжепророку! Смерть галилеянину!
Пилат обернулся к Иисусу и переспросил:
— Ты и вправду галилеянин, как говорят эти люди?
— Я родился в Вифлееме, но мои отец и мать из Назарета, что в Галилее.
— В этом случае, — удовлетворенно проговорил римский наместник, устремляясь по нежданно открывшемуся для него пути, — ты подлежишь не моему суду, поскольку я прокуратор кесаря в Иерусалиме, но власти Ирода, тетрарха Галилеи.
И он обратился к народу:
— Коль скоро этот человек — галилеянин, он подсуден Ироду, а не мне. Вследствие этого я отправляю его к Ироду, который как раз сейчас находится в Иерусалиме по случаю праздника.
А затем приказал стражникам:
— Ведите этого человека к Ироду и передайте тетрарху, что я, прокуратор Иудеи, отсылаю его к нему, не сочтя себя вправе судить одного из его подданных.
Стражники окружили Иисуса, и тот с привычным смирением и покорностью сошел с лестницы претория.
Тем временем Пилат, услышав, как кольца занавески скрипят по карнизу, обернулся.
На пороге двери, ведшей во внутренние покои, стояла жена.
— Ну что, Клавдия, — спросил он, весьма счастливый тем, что представилась возможность освободиться от этого дела. — Ты довольна?
— Это лучше, чем приговорить его, — вздохнула Клавдия. — Но меньше, чем оправдать…
А тем временем Иисуса вели, вернее, тащили ко дворцу Ирода.
Если бы идти по прямой, дорога заняла бы не более десяти минут. Достаточно было пересечь Большую площадь, пройти по одной из улиц и, оставив справа тюрьму и дворец Правосудия, а слева — ту самую постройку, что после рассказанной Христом притчи о богаче и Лазаре стала известна как дом злосчастного богача, и войти во дворец через дверцу в решетке, напротив горы Акра, всего в сотне шагов от указанного дома. Но в этом случае пытка была бы слишком непродолжительной, мучения праведника не насытили бы всеобщей ненависти. И процессия направилась в Предместье, проследовав перед величественным сооружением, связанным с именем Александра Янная, иудейского царя и первосвященника. Затем Иисуса повлекли в Новый город и протащили от горы Везефа до места, что напротив Женских башен. Только потом, описав столь длинную дорогу, толпа возвратилась в Предместье мимо мавзолея первосвященника и царя Иоанна Гиркана, дошла до Нижнего города и наконец приблизилась к решетке дворца, что, как мы сказали, находится напротив горы Акра.
Дворец Иродов было еще одним из обычных для античности гигантских городских сооружений. Выстроенный целиком из мрамора разных цветов по велению Ирода Великого из Аскалона — того самого, что отравил жену Мариамну, убил двух своих сыновей и устроил избиение младенцев, дворец слыл неприступным как из-за стены в тридцать локтей, окружавшей его, так и благодаря соседству трех башен — Гиппики, Мариамны и Фасаила, — почитавшихся самыми высокими в мире. Что касается внутренних покоев, то они были настолько обширны, что одна только пиршественная зала могла вместить сотню сотрапезников, каждый из которых возлежал бы на ложе не хуже тех, какими пользовались в Риме.
Ирод Антипа, тетрарх Галилеи, никогда не видел Иисуса, но был весьма не прочь познакомиться с ним. А потому, узнав, что того ведут к нему по приказу Понтия Пилата, он приготовился к встрече и спустился в покои, где обычно принимал горожан.
Они уже прибыли.
Неподвижный и, может быть, впервые посуровевший взгляд Христа вперился в тетрарха: Иисус не мог забыть, что перед ним — убийца Иоанна Крестителя.
Это придало облику пленника столько грозного величия, что сам Ирод на мгновение онемел, застыв в недоумении.
— Ну-ну! — наконец промолвил он не без иронии. — Так вот каков великий пророк!.. Да, ты не вовсе мне неизвестен: слух о твоих подвигах дошел до меня. Клянусь здоровьем кесаря, я был в ссоре с Пилатом, но то, что он прислал тебя ко мне, — добрая услуга, и она примиряет меня с ним! Теперь увидим, на что ты способен. До сих пор я сомневался, однако же Господь, вероятно, хочет, чтобы меня убедили, и посылает тебя ко мне, дабы ты на моих глазах совершил такие чудеса, что уж не оставят в сомнении самые недоверчивые умы… Так принимайся за дело. Ну же, Иисус! Я готов посмотреть на твое искусство. Я жду!
Но Христос не соблаговолил ответить. Он все еще не сводил неподвижного взгляда с Ирода, хотя выражение глаз изменилось: из сурового и, мы бы даже сказали, почти угрожающего, каким было сначала, оно стало теперь величественным и спокойным.
Ирод почувствовал: чтобы выдержать этот смущающий его взор, необходимо подхлестнуть себя целым потоком слов.
И он продолжал:
— Что такое? Ты стоишь в столбняке, вместо того чтобы действовать? Что же ты медлишь, Мессия?.. A-а, ты, верно, в сомнении, какое из чудес более всего подходит к случаю… Так я помогу тебе, ибо хочу воздать тебе почести открыто. Ведь ты выдаешь себя за умудренного человека, который старше Моисея, родился раньше Авраама и не больше не меньше как современник этого мира! Посмотри же туда, на вершину горы Мориа, где выстроен храм. Вели ему: "Поклонись мне, ибо я сын Божий!" И если храм склонит перед тобой свою главу, я воздам тебе хвалу и не только оправдаю, но и восславлю.
Иисус хранил молчание.
— Ах, — продолжал Ирод, — я, видимо, потребовал слишком многого! Ничего, я выберу чудо поскромнее, по твоей мерке… Ты воскресил дочь Иаира, ты вернул к жизни Лазаря. Что ж! Обернемся на юг — от храма к гробнице царей Иудейских. Там дремлют останки великого царя Давида. Думаю, ему доставило бы огромную радость повидаться с тобой, человеком его рода и, подобно ему, коронованным на царство. Так произнеси же вот эти простые слова: "Давид, великий пращур мой, выйди из могилы и явись нам!" Как видишь, я благоразумен в своих притязаниях, и прошу у тебя не более, нежели Саул у Аэндорской волшебницы, вызвавшей для него тень пророка Самуила… Что такое? Ты колеблешься? Ты отказываешься?
Действительно, Христос не произнес ни слова и даже не пошевелился.
— Итак, — помолчав, вновь заговорил тетрарх, — ты остаешься глух и нем. Так перейдем к иному. Поскольку ты не можешь приказывать ни храму, ни мертвым, обратись к водам рек и морей — ведь они подвластны тебе, не так ли? Разве лгут те, кто рассказывает, как ты ходил по водам Генисаретского озера, не омочив ноги? Кстати, вон пруды в моем саду; лебеди тоже движутся по их поверхности и не тонут. Выбери, какой из трех прудов тебе больше приглянется, и пройдись по нему как посуху. И тогда я, да, да, я собственноручно сниму с твоей головы терновый венец, который так ее изранил, и водружу на его место свою корону тетрарха Гилидеи!
Но и это третье по счету обращение не заставило Иисуса прервать молчание.
— Вот видишь! — вскричал Каиафа, который вместе со старейшинами Большого совета проследовал за Христом от Пилата к Ироду. — Видишь, тетрарх! Можно ли верить в чудотворные способности этого человека, если теперь он отказывается сотворить чудо, благодаря которому не только спас бы себе жизнь, но сделался бы царем?
— К чему ему становиться царем, — усмехнулся Ирод, — если он им уже является? Разве ты не царь Иудейский, а? Ответь же, Иисус! Не ты ли въехал в Иерусалим как завоеватель, со всеми почестями триумфатора, удостоившись пальм победителя, словно какой-нибудь славный военачальник?.. Белые одежды триумфатора Иисусу из Назарета! Облачите его в белую тогу и ведите обратно к Пилату! Скипетр и корона у него уже есть, теперь будет и белая тога. Недостает только пурпурной мантии… Впрочем, Пилат дарует и ее!
И тетрарх знаком повелел увести осужденного.
Стража, только и ждавшая этого знака, бросилась к Иисусу и повлекла его прочь.
XVI ОТ ИРОДА К ПИЛАТУ
Пилат уже поздравил себя с освобождением от страшной ответственности. Ему не пришлось приговорить невиновного или оправдать его и тем самым вызвать городской бунт. Однако крики, проклятия, но, главное, рев толпы, бушевавшей, как океан в бурю, снова потрясли стены претория и мощные основания Антониевой башни.
Прокуратор еще находился у своей супруги, во внутренних покоях, где они завершали утреннюю трапезу, когда донесся этот шум; они оба бросились к окну, выходившему на площадь, увидели толпу вокруг Иисуса и различили победные выкрики.
Клавдия побледнела.
— Подумай хорошенько над тем, что ты сейчас будешь делать, — обратилась она к мужу. — И помни мою просьбу.
— Я дал тебе обещание, — откликнулся Пилат. — Пока этот человек не будет обвинен в покушении на власть императора Тиберия, его жизни ничто не угрожает.
— Дай мне залог, — попросила Клавдия.
— Вот мое кольцо, — сказал Пилат.
— Иди же и помни, что Иисус — праведник!
Пилат вернулся в преторий и нашел там посланца Ирода, который доложил:
— Тетрарх Ирод, мой повелитель, весьма доволен оказанными ему знаками уважения, то есть тем, что ты послал к нему галилеянина. Он объявляет тебе, что счел его сумасшедшим, а не преступником. А посему — отсылает к тебе снова, чтобы ты поступил с ним так, как тебе угодно или как подскажет твоя совесть… Кроме этого, он поручил передать, что шлет со мной искренний привет и если некое облачко ранее омрачало ваши отношения, то теперь туман рассеялся!
За вестником Ирода вошел Иисус, которого грубо втолкнули лучники. Пока он поднимался по лестнице, его ноги запутались в слишком длинной тунике, он упал, ударившись виском о ребро ступени, и теперь голова его была в крови.
Пилат не смог удержаться и прошептал:
— Этот человек не в руках священнослужителей, но в лапах мясников. И они до срока спешат закласть его.
Затем, подойдя к краю террасы, с высоты которой он уже неоднократно обращался к народу, спросил собравшихся:
— Чего еще хотите от меня, снова приведя этого человека? Вы уже представили его лжепророком, богохульником, возмутителем спокойствия. Я допросил его в вашем присутствии и не нашел ничего для порицания ни в учении его, ни в действиях. Я отослал его к Ироду, который тоже ничего противозаконного не отыскал. Если надобно, чтобы вас удовлетворить, обязательно наказать его, я повелю высечь его плетьми и затем отпустить.
Но этот приговор, хотя и обещавший сильнейшие муки осужденному, не удовлетворил черни. Она уже отведала крови и теперь желала ему большего, нежели порки. Она жаждала смерти!
Поэтому все как один завопили:
— Нет, нет!.. Смерть, смерть!… На крест его! На крест! Распять Иисуса! Распять! На Голгофу!
Но Пилат, не обращая внимания на эти крики, уселся за стол и на листе папируса изящным стилосом из египетского тростника начертал по-латыни следующий приговор:
"Jesum Nazarenum, virum seditiosum, etmosaicce legis contemptorem, per pontifices et principes suce gentis accusatum, expoliate, ligate et virgis cedite.
I, lictor, expedi virgas"[12].
Затем он передал написанное ликтору, который выбежал из претория, чтобы призвать исполнителей.
Наказание лозами, если следовать букве закона, ограничивалось сорока ударами без одного. Здесь содержалась некая пародия на акт милосердия: избавление виновного от последнего удара.
Из оставшихся тридцати девяти тринадцать следовало нанести по правому плечу, столько же по левому, а остальные ниже плеч.
Столб, к которому привязывали осужденного, стоял особняком, имел в вышине десять ступней; в него на высоте от семи ступней и выше были вбиты кольца. К ним притягивали руки жертвы, добиваясь, чтобы вся кожа на теле была натянута и, следовательно, ничто не могло бы умерить силу удара.
Это орудие пытки называли столбом поношений или надругательств, поскольку во время наказания народ был волен оскорбить истязаемого и словом и действием.
Стражники увели Иисуса; но приговор не успокоил, а лишь раззадорил толпу, ибо ни священники, ни фарисеи не добились своего, а потому одни словом, другие деньгами подогревали ярость народа, удваивая усилия, когда она грозила утихнуть.
Прежде чем Иисус приблизился к позорному столбу, исполнители уже заняли свои места. Это были шестеро низкорослых смуглых людей, бывших преступников, ставших палачами. Дубленая темная кожа, худые, но жилистые руки свидетельствовали, что эти люди родились на границе с Египтом. Они набросились на Иисуса, когда он еще на несколько шагов не дошел до позорного столба, вырвали его из рук стражи, разорвали рукава хитона и тунику, чтобы обнажить спину, и, уткнув свою жертву лицом в мраморную колонну, привязали руки к кольцам, вбитым выше остальных, чтобы он касался земли лишь пальцами ног.
Затем двое взяли в руки пучки ореховых прутьев, а остальные ожидали своей очереди, медленно считая удары.
Но большая часть народа не переставала повторять на все лады:
— Распни его! Распни его!
Стоял такой шум, что Пилату, дабы быть услышанным, пришлось позвать горниста.
Тот протрубил, и установилась тишина.
В этой тишине стали явственными три томительных звука: свист лоз, ударявших по спине жертвы, жалобы, полные молитвенных благословений, что срывались с губ Иисуса, и грустное блеянье пасхальных агнцев, которых отмывали в Овечьей купели перед закланием, назначенным на этот же день.
В этом блеянии было что-то трогательное — только слабые голоса пасхальных жертв смешивались со стонами того, кто готовился умереть ради людей.
Все остальные звуки исходили от кричащих и изрыгающих проклятия!
После первых тринадцати ударов палачи сменились. В руках второй пары оказались узловатые ветви колючек. И тотчас на коже, уже испещренной багровыми и синими пятнами, заалели капли крови.
Меж тем толпа у подножия претория продолжала глумиться и реветь; временами звуки горнов призывали ее к молчанию, и тогда в воцарявшейся на несколько мгновений тишине становились различимы резавшие уши звуки ударов, стоны Христа и блеянье агнцев!
Но когда Пилат пробовал обратиться к жителям Иерусалима, его голос заглушали тысячеустые яростные вопли:
— Распни его! Распни его!
После двадцать шестого удара палачи сменились снова и к делу приступила третья пара: у нее в руках были уже не розги и колючки, а кожаные плети с железными крючьями, при каждом ударе вырывавшие клоки кожи и мяса.
Трубачи в третий раз призвали к молчанию, и в установившейся тишине почти угасшим голосом Иисус еле слышно вымолвил:
— Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят!..
После тридцать девятого удара страдальца отвязали; его тело превратилось в сплошную рану, силы покинули его настолько, что, едва лишь палачи перестали поддерживать его за плечи, ноги Христа подкосились и он рухнул, привалившись спиной к подножию столба.
Тогда тот, кто должен был бы нанести сороковой удар, но пока не сделал этого, приблизился и, видя, что голова Иисуса запрокинута, прошипел:
— Всех прочих мы избавляем от последнего удара, но тебе, Христос, тебе, Мессия, тебе, сын Божий, надо получить полную меру!
И его плеть прошлась по лицу пытаемого. Иисус, почти теряя сознание, опрокинулся навзничь.
Меж тем несколько падших женщин вырвались из толпы и принялись поочередно плевать ему в лицо, перекидываясь с палачами скабрезными шуточками, пока те оттирали со своих лиц и рук кровь Спасителя, забрызгавшую их.
А на краю площади сбились стайкой несколько женщин, на которых по счастливой случайности никто из любовавшихся бичеванием и вопящих не обратил внимания. Это были благочестивые жены.
Они обступили мать Спасителя. При первых же ударах она рухнула на колени, затем упала лицом на землю и вскоре лишилась чувств. Когда Христа вели к позорному столбу, его исполненные нежного сострадания глаза сумели выхватить ее лицо из толпы, но, к несчастью, потом его привязали так, что лишили возможности обернуться к матери и взглядом поддерживать ее.
Магдалина, немало не беспокоясь, что в ней признают сестру Лазаря и ту, что сопровождала Христа в его скитаниях, при каждом ударе испускала громкие стоны и каталась в пыли, вырывая горстями пряди своих прекрасных золотистых волос.
Марта и Мария Клеопова стояли на коленях и плакали.
Иоанн пытался поддержать Богородицу, столь бледную, что казалось, будто душа ее уже покинула или вот-вот покинет бренное тело.
Но тут, без сомнения, некий ангел неслышно и невидимо пролетел среди этих жалоб и стонов, этих воплей и проклятий беснующейся толпы и нашептал на ухо Христу какие-то божественные слова, ибо запрокинутая голова Иисуса приподнялась, он обеими руками уперся в землю, с трудом встал на колени, и наконец с помощью стражей ему удалось подняться.
К Марии, казалось, снова возвращалась жизнь по мере того, как приходил в себя ее сын: она повторяла все движения Иисуса и оказалась на ногах одновременно с ним.
И тут Христос, протерев окровавленными пальцами залитые кровью глаза, смог на другом краю площади разглядеть свою мать, стоящую с протянутыми к нему руками…
Тем временем Пилат приказал, чтобы после казни Иисуса облачили в красный плащ и привели в преторий.
Надеялся ли прокуратор, издевательски награждая Христа пурпурной мантией царей, смутить толпу или он хотел скрыть от собственных глаз кровь своей жертвы?
Как бы то ни было, Иисуса ввели во двор претория, затем затолкнули в комнату стражи, где накинули на спину старый ликторский плащ, а потом по внутренней лестнице ввели на мост, соединявший дворец Пилата с цитаделью Антония.
Прокуратор пришел туда чуть ранее. Он снова велел протрубить в горн, призывая к молчанию и заставляя все взгляды обратиться к нему.
А в это время, поддерживаемый двумя служителями, появился бледный, бескровный, шатающийся Иисус с камышовой тростью в руке, терновым венцом на голове и в красной мантии на плечах.
— Ессе homo![13] — произнес Пилат.
Из-за перемены в одежде многие не узнали Иисуса, но едва зрители поняли, что за человека им показывают и чего добивается Пилат, они в один голос завопили:
— Распни его! Распни его!
Тут первосвященник сделал знак, что желает говорить. Снова прозвучала труба, и все смолкли.
Среди тишины послышался голос Каиафы:
— Берегись, Пилат, если ты освободишь этого человека, ты не друг кесарю. Ведь он объявил себя царем, и есть другие, что признают его таковым, а тот, кто именует себя царем, восстает против императора.
Пилат почувствовал, что ему расставили ловушку: обвиненный в возмущении против кесаря, Иисус представал уже не лжепророком, богохульником или магом, но бунтовщиком, и здесь лозами не обойтись: дело попахивает веревкой.
Стоит послать донос Тиберию, и подозрительный император может внести в один и тот же проскрипционный список и ненаказанного смутьяна, и слишком снисходительного судию.
Тем не менее, прокуратор решился прибегнуть к последнему средству.
Он чуть слышно отдал приказ центуриону, находившемуся подле, тот спустился с четырьмя воинами и поспешил к тюрьме, расположенной лишь в нескольких шагах от дворца. Он отправился туда за ничтожным убийцей, приговоренным к смерти и ожидающим часа расплаты.
Убийцу звали Вар-Авва, то есть "сын Аввы".
Лишь только он расслышал шаги в проходе, ведущем в его застенок, лишь только заскрежетал дверной засов, он подумал, что пришли распять его, и, вооружившись цепью, собрался защищаться.
При свете факелов центурион и четверо стражей увидели приговоренного, забившегося в самый дальний угол, сжавшегося в комок, с горящими глазами, стиснутыми зубами, с занесенными над головой руками, готового ударить оковами первого, кто приблизится к нему.
Однако это проявление враждебности мало обеспокоило четверых посланных. Они подступили к узнику, прикрывшись щитами, против которых цепь была бессильна. К тому же, прежде чем Вар-Авва сумел занести руки вторично, они ухватили его за ту же цепь. Двое потащили приговоренного вперед, а их товарищи принялись пинками подгонять его сзади.
Выйдя из тюрьмы, Вар-Авва приветствовал новый день, который счел последним в жизни, потоком кощунственной брани.
Завидев огромное скопище народа, он решил, что все собрались ради него, а заслышав крики "Распни его! Распни его!", подумал, что и они относятся именно к нему.
У источника напротив тюрьмы остановились передохнуть какие-то люди, тащившие огромный крест, и у Вар-Аввы не осталось сомнений, что орудие пытки предназначено ему.
Тогда он бросился на землю и стал кататься по ней, вопя и воя.
Стражникам понадобилась еще четверка товарищей в подкрепление, чтобы ухватить за руки и ноги этого отверженного и таким способом доставить на Ксист.
— Вот человек, за которым посылал властительный прокуратор, — отчеканил центурион.
— Хорошо, — откликнулся тот. — Пусть его поставят рядом с Иисусом.
Солдаты подтащили Вар-Авву к Христу. На краткое время перед народом предстали человек-демон рядом с богочеловеком, один — с горящими глазами, сведенным яростью ртом, скрюченными руками, орущий и богохульствующий, другой — мягкий, смиренный, покорный судьбе, молящийся и благословляющий всех.
Глядя на этих двоих, Пилат нисколько не сомневался, что Христос будет спасен, и повелел трубить, чтобы прекратить шум, усилившийся с появлением Вар-Аввы.
— Иудеи, — громко и отчетливо заговорил он. — Существует обычай, по которому в день Пасхи я отпускаю в вашу честь одного из осужденных на смерть… Выбирайте между этим негодяем, одно имя которого всего месяц назад заставляло вас содрогаться, и пророком, которого еще неделю назад вы называли помазанником Божьим.
Вар-Авва побледнел; он едва лишь взглянул на Иисуса и понял: невозможно, чтобы его предпочли этому человеку.
Поднялся невообразимый шум.
— Назовите того, — продолжал Пилат, — кто кажется вам более достойным снисхождения. Так кого же из двоих следует помиловать?
Но ни один голос не прозвучал в защиту Иисуса.
Толпа загрохотала:
— Вар-Авву! Вар-Авву!
Убийца радостно потряс своими цепями.
— Ты слышишь их, Пилат, — прохрипел он. — Ты слышишь! Освободи же меня!
— На крест Иисуса! На крест! — снова завопили внизу.
— Вы не люди, а стая тигров, — воскликнул Пилат. — Ведь я сказал вам и повторяю, что, по моему убеждению, он невиновен!
— Он заговорщик против кесаря! Заговорщик против кесаря!.. Пусть отпустят Вар-Авву и выдадут нам Иисуса!.. Иисуса на крест, Иисуса на Голгофу!.. Распни его! Распни его!..
— Вы хотите этого? — проговорил Пилат. — Что ж, но подождите хотя бы, пока… — и он тихо приказал что-то одному из рабов.
— Смерть! Смерть! — рычала и злобствовала толпа.
— Он умрет, — сказал Пилат. — Но предупреждаю, кровь его падет на вас!
— Да будет так! Пусть кровь его падет на нас, на детей наших и на детей наших детей, но пусть он умрет!..
В это время появился раб, неся в одной руке бронзовую лохань, а в другой узкогорлый серебряный кувшин, полный воды.
— Пусть он умрет, если вы так желаете его смерти, — решительным тоном произнес прокуратор Иудеи, — но я не причастен к вашему преступлению. Мои руки пребудут чисты и не запятнаны кровью праведного!
И перед всеми собравшимися он торжественно, не обращая внимания на град насмешек, на улюлюканье и проклятия толпы, умыл руки.
Но на дне бронзовой лохани он нашел свое кольцо.
— Что это значит? — спросил он.
— Не знаю, — отвечал раб. — Супруга сиятельнейшего, досточтимая Клавдия, сняла его со своего пальца и бросила в лохань, сказав: "Этот залог возвращаю Пилату, не желая, чтобы он оказался клятвопреступником!" И, вся в слезах, опустив на лицо накидку, она удалилась в свои покои.
Глубоко вздохнув, Пилат прошептал:
— Она права: это праведник!..
Через пять минут лучники уже снимали цепи с Вар-Аввы; тот, поняв, что свободен, бросился из претория и нырнул в гущу толпы с такой хищной радостью, что все в испуге отшатывались от него. Пилат же тем временем писал следующий приговор:
"Привести на обычное место казни Иисуса из Назарета, возмутителя спокойствия, злоумышлявшего против кесаря, лже-Мессию, как то было доказано свидетельством большей части его соплеменников, и за осмеяние царского достоинства распять его меж двух злодеев.
Ступай, ликтор, и приводи в исполнение".[14]
XVII ПРОКЛЯТИЕ
Составив и подписав приговор, Пилат отправился к себе.
Претор чувствовал, что так и не договорился с собственной совестью. На душе его было черно, и он нуждался в уединении.
Клавдия не просила о встрече: она понимала, что ее присутствие стало бы лишним упреком мужу. Она удалилась в глубь женских покоев и приказала завесить окна и двери снаружи и изнутри, чтобы до нее не доходил дневной свет и шум.
А тем временем Иисуса вели на форум. Заранее изготовленный крест уже ждал его там.
Спаситель очутился на месте одновременно с двумя ворами, Димасом и Гестасом, которых должны были распять вместе с ним и по этому поводу вывели из тюрьмы.
Один из них молился, другой богохульствовал: срок ожидания казни им сократили на два дня.
Но этих двоих едва ли кто замечал: всеобщее внимание притягивал к себе только Иисус.
Когда он появился меж лучников, шагнув на верхнюю ступень лестницы претория, работники, тащившие крест, поспешили поднести его к нижним ступеням.
Поравнявшись с крестом, Иисус встал на колени и трижды поцеловал орудие своей пытки, которое ему предстояло претворить в символ искупления.
Подобно языческим жрецам, по обычаю лобызающим новый алтарь, который они освящают, Христос целовал этот вечный алтарь своей искупительной жертвы.
Тут воины приблизились и с большим трудом взвалили неподъемный груз на его правое плечо, тогда как на плечи двоих мошенников возложили лишь короткие поперечные перекладины их крестов и привязали как к ярму вскинутые на них руки, а длинные продольные тесины обоих крестов поручили нести рабам.
Двадцать восемь конников, призванных сопровождать эту процессию, выстроились у подножия Антониевой крепости.
Под звуки трубы Иисус, с крестом на плече, поднялся; ему помогли два стража, поддерживая его под руки.
Предводитель маленького отряда всадников встал с четырьмя сотоварищами во главе зловещего кортежа и крикнул:
— Вперед!
Это был Лонгин.
В то же мгновение вся толпа всколыхнулась и разразилась ликующими криками. До сих пор осужденный испытал на себе лишь предварительные истязания. Теперь же начиналась настоящая пытка.
За Лонгином и четверкой всадников следовал трубач. Ему полагалось останавливаться на каждом углу улицы и на перекрестках, трубить и громко оглашать приговор, вынесенный прокуратором.
За трубачом шел отряд пеших стражей в кирасах, со щитами и мечами. За ними, один в намеренно образованном пустом промежутке, шествовал юноша и нес исполненную маслом по белой доске надпись на трех языках: арамейском, латыни и греческом:
ИИСУС НАЗОРЕЙ, ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ
Вот за этим юношей и шел Иисус; вокруг него и позади двигались пешие воины, а за ними текла неисчислимая, неслыханно густая и растянувшаяся в длину толпа!
Поскольку божественному мученику не по силам было тащить крест, длинный конец которого волочился бы по бугристой иерусалимской мостовой, этот конец на растянутых веревках поддерживали два работника с корзинами, где лежали молотки, клещи и гвозди.
Одну из таких корзин помогал нести очаровательный мальчик с длинными волосами, розовыми щеками и белоснежными зубами; смеясь, он перебирал эти чудовищные предметы и играл с ними!
Правой рукой Иисус пытался чуть приподнимать крест, чтобы тот не так давил на плечо, левой же вынужден был придерживать край слишком длинного одеяния, в котором путались его ноги.
Босые ступни были окровавлены; кровь сочилась из ран на теле, текла по израненному лицу, отчего его бледность еще сильнее бросалась в глаза.
После вечери вот уже много часов он ничего не ел, не пил, почти не спал; потеря крови, лихорадка и жажда мучили его.
Так он пустился в последний путь, который назовут Крестным путем. С этого места каждый шаг его будет сосчитан и тщательнейшим образом изучен благоговейными пилигримами. Итак, от дворца Пилата до места, где крест воткнули в скалистую расщелину — тысяча триста двадцать один шаг или три тысячи триста три ступни.
После первых восьмидесяти шагов силы оставили Иисуса, и он упал в первый раз.
На какое-то время вся процессия пришла в замешательство. Вместо того чтобы помочь Иисусу, поддержав за протянутую руку, палачи принялись бичевать его веревками, а воины кололи наконечниками копий.
Однако, вне всякого сомнения, тот же ангел, что уже приходил на помощь Иисусу, вмешался и сейчас: он принял протянутую руку, которой люди не желали касаться, и без видимой посторонней помощи Христос поднялся.
Но, падая, он ударился головой о камень, и с этой стороны терновый венец глубоко впился в череп. Тем временем толпа выкрикивала, согласуя свои возгласы с ритмом его шагов, что придавало этим звукам сходство с торжественным гимном:
— Славься, Иисус Назорей, царь Иудейский!.. Зачем ты идешь на Голгофу во главе шумной процессии?.. Ах да! Ты желаешь всю Палестину увидеть с высоты нового трона, чтобы узреть распростертым у ног тот Иерусалим, разрушение которого ты предрекал… А ну-ка, назови срок, когда от храма не останется камня на камне? Скажи нам, когда будет так, что ящерицы и ужи станут ползать по лестницам наших домов? Когда же верхушки наших башен зарастут волчцами и терниями? Расскажи нам об этом, пророк Иисус! Открой, помазанник Божий! Поведай, богоподобный Мессия!
Взрыв хохота прибывавшей толпы покрывал выкрики тех, кто уже прошел. Так разбивающаяся о скалы волна морского прибоя заглушает шум предыдущей, уже схлынувшей.
Через шестьдесят шагов после первого падения — все расстояния потом были тщательно выверены, как мы уже говорили, — итак, через шестьдесят шагов на пути к Голгофе Иисуса поджидала Богоматерь. После сечения лозами, которому подвергли ее сына, она покинула форум; к тому же там ее заметили, что тотчас привлекло к ней взгляды недоброжелателей и глухие угрозы. Она попросила Иоанна провести ее туда, где ей можно будет еще раз увидеть сына на его крестном пути.
Там она и ждала.
Заслышав приближающийся, подобный приливу, рокот человеческого моря, увидев первых воинов, за спинами которых уже неясно виднелась согбенная под тяжестью креста фигура ее сына, Пречистая Дева задрожала и не могла унять стоны.
Люди, бежавшие по бокам мрачного кортежа, слышали стенания измученной горем страдалицы и останавливались, чтобы узнать, почему она плачет.
— Кто эта женщина, что так мучается? — спросил один из них.
— Эге! — воскликнул другой. — Разве ты не узнаешь ее? Это же мать галилеянина!
Тогда первый стал правой рукой копаться в поле кожаного фартука, который он держал левой за край, сделав из него большой кошель. Когда он вытащил руку, в ней была пригоршня гвоздей.
— Гляди! — крикнул он Богоматери, — вот подарочек для твоего сына!
Чтобы не упасть, Мария была вынуждена прислониться спиной к стене. В это время мимо нее проследовали Лонгин и его четверо всадников, затем прошагал трубач и, поскольку там был перекресток, остановился, затрубил и прочитал приговор, а затем двинулся дальше. За ним прошли воины, потом — юноша, что нес в руках издевательскую надпись, и наконец с ней поравнялся Иисус.
Он повернул голову в ее сторону, невольно протянул к ней руки, но тут же ноги его запутались в волочащейся одежде, он зашатался, упал вторично — на этот раз на колени и вытянутые вперед руки.
Тут Пречистая Дева уже не смогла сдержать материнских чувств. Она бросилась вперед, расталкивая зевак, стражников, палачей и, пробившись в первый ряд обступавших Спасителя, закричала:
— Сын мой! Сын мой!
— Будь благословенна, матушка, — откликнулся Иисус.
Он обессилел; но сопутствующий ему ангел Господень сумел вдохнуть в страдальца новые силы, — и Христос поднялся. А Богородицу оттолкнули, осыпали бранью, но не ушибли и не поранили, и она упала на руки подхвативших ее Иоанна и Магдалины.
Не заботясь о ней, процессия снова тронулась в путь, и толпа стала кричать:
— Вар-Авва! Где Вар-Авва?.. Почему дали убежать Вар-Авве? Это ему надо было бы вручить трубу. Пусть бы он на каждом углу, перекрестке, у всех закоулков скликал рабов, плетельщиков сетей, крутильщиков жерновов, воров, убийц. Он говорил бы им: "Слушайте, слушайте великую новость: Иисус из Назарета, ваш царь, ждет вас у своего трона на Голгофе. Идите те, что в домах, и те, что снаружи, идите все, сбегайтесь все!.." Да славится Вар-Авва!
Тем временем издалека показался дом Серафии — той, у которой Иоанн брал драгоценную чашу для вечери, той, у которой Иисус, еще ребенком, провел три дня, в то время как родители искали его по всему Иерусалиму. Теперь напротив этого жилища Иисус заметил человека, на голову возвышавшегося над всеми, кто его окружал. Дело в том, что этот человек, чтобы лучше видеть, встал на каменную скамью, сложенную у порога и вытянувшуюся вдоль окна его дома. Справа от него стояла жена, а к ней, встав на цыпочки, прислонилась красивая молодая девушка лет пятнадцати; слева на подоконнике стоял его сынишка лет восьми-девяти, которого отец бережно поддерживал. Наружная стена его дома была увита виноградом с уже набухшими почками, обещавшими укрыть фасад тенистым покровом из листвы: весной и летом — изумрудной, а осенью — рубиново-красной.
Человек этот, как казалось, с мрачным нетерпением ожидал приближения Иисуса; вместе с толпой хлопая в ладоши, он выкрикивал: "Идите те, кто внутри, и те, кто снаружи, убийцы, воры, крутильщики жерновов, плетельщики сетей, рабы, — приходите все: ваш царь ожидает вас, и трон его — на Голгофе!"
Когда же Иисус подошел ближе, этот человек указал на него жене:
— Ого! Видишь сияние вокруг головы этого мага? Разве потом не будут божиться, что это ореол истинного пророка?
На что женщина отвечала:
— Сколько я ни смотрю, Исаак, ничего особенного не вижу.
— Это возможно, но я-то вижу, я вижу… Кажется, будто оно составлено из самых чистых солнечных лучей: вот еще одна из его колдовских проделок!
А Иисус приближался.
— Ах! — продолжал этот человек. — Вот когда бы я хотел держать в руках орла цезарей! Теперь мы бы посмотрели, смог бы ты склонить его себе под ноги, будто ты император какой! Где же теперь твоя сила? Ведь ты шатаешься, гнешься и вот-вот упадешь под крестом!
И действительно, Христос был согнут, шатался и едва не падал под столь тяжкой ношей. Вот почему, увидев скамью, он отклонился от прямого пути, сделал шаг в сторону к тому, кто на ней стоял.
— Исаак Лакедем, — произнес Христос, — это ты?
— Да, я, — откликнулся тот. — Чего тебе нужно от меня, колдун?
— Меня мучит жажда, дай мне немного воды из твоего колодца.
— Колодец высох.
— Я устал, Исаак, помоги мне нести мой крест, — продолжал Иисус.
— Я тебе не носильщик. Ты называешь себя сыном Божьим, призови одного из ангелов своего отца, он поможет тебе!
— Исаак, мне трудно идти дальше… Позволь мне чуть-чуть отдохнуть на твоей скамье.
— На моей скамье нет места ни для кого, кроме меня, жены и детей… Ступай, ступай!
— Позволь мне хотя бы сесть на твой порог: там никого нет.
— Порог мой не для колдунов, лжепророков и богохульников… Ступай!
— Протяни лишь руку и достань одну из табуреток в твоей лавке.
— Нет, ведь если ты на нее сядешь, мне придется ее сжечь… Ступай!
— Исаак, Исаак! Эта табуретка станет для тебя золотым престолом в царстве Отца моего!
И Иисус с умоляющим видом сделал еще шаг к бывшему легионеру.
— Вон отсюда! Вон! — закричал тот — Разве не видишь, что мой виноград сохнет при твоем приближении?.. Прочь! Смотри: дом мой содрогается лишь оттого, что ты попросил позволения на него опереться. Назад! Вон дорога прямо перед тобой, иди своей дорогой!
И, соскочив со скамьи, он так яростно оттолкнул Иисус, что тот упал в третий раз.
— Ступай! Ступай! Ступай! — твердил легионер.
Иисус приподнял крест и встал на одно колено.
— Несчастный, — проговорил он. — Я упорно желал спасти тебя, а ты упорно желал себя погубить… "Ступай!" — говоришь ты? Проклятие тебе за то, что вымолвил это слово!.. Мне предстоит еще лишь несколько шагов сделать с этим грузом на плечах, и все будет кончено. А ношу, оставленную мной, взвалишь на себя ты! Другие причастятся тела моего, крови и духа — ты же унаследуешь страдание мое. Только для тебя оно не будет иметь конца и продлится до истечения сроков жизни людской на этом свете, до конца времен!.. Тебе, несчастный, что сказал мне "Ступай!", —
тебе суждено идти вперед вплоть до Судного дня! Поторопись же: приготовь сандалии и дорожный посох. А пояс не готовь — отчаяние перетянет чресла твои и обхватит грудь твою. И станешь ты вечным скитальцем, вечным странником, ибо бессмертие уготовано тебе! Я жаждал, а ты отказал мне в питье — ты выпьешь до дна горький осадок на дне моей чаши. Моя крестная ноша давила мне на плечи, ты отказался разделить ее со мной — никто не поможет тебе вынести груз собственной жизни. Я был утомлен, а ты не позволил мне отдохнуть на твоей скамье, на твоем пороге, не дал табуретки, чтобы мне сесть, — я отказываю тебе в могиле, где ты бы упокоился сном!
— Ох-ох! — пробормотал Исаак, пытаясь усмехнуться, хотя его зубы стучали, смертельный холодный пот потек по лбу и спине, а колени задрожали, словно утомились более Иисусовых. — Ты хотя бы оставишь мне время пообедать с женой и детьми? Или нет?
— Да, — ответил Иисус. — Но тебе отпущено не более, нежели осужденному, которого положено не беспокоить, пока не истек срок одной трапезы… Да, ты пообедаешь с ними, но сегодня же вечером ты отправишься в бессрочное странствие. Ты будешь блуждать бесконечно и бессчетно раз появляться то там, то здесь, так что в конце концов все сотворенное Богом — от каменного утеса до человека — узнает тебя. При виде тебя орел, парящий в облаках, замрет и прокричит тебе: "Ступай, отверженный!" Коршун высунет голову из гнезда и, остановив на тебе налитые кровью глаза, заклекочет: "Ступай, отверженный!" Змея выползет из своей норы, поднимет перед тобой плоскую голову с раздвоенным языком и прошипит: "Ступай, отверженный!" Ты увидишь, как поблекнет и потухнет звезда, что тысячу лет будет слушать, как в молчании ночи твои слезы одна за другой катятся в бездонную пропасть вечности. И, умирая, звезда шепнет тебе: "Ступай, отверженный!" Ты будешь следить, как змеится река по равнинам, лесам и лугам, ты будешь идти по ее течению, как и она, никогда не отдыхая, а океан, останавливающий ее бег, не захочет остановить тебя и прошумит: "Ступай, отверженный!" В города, которые ты оставил цветущими, когда они отторгли тебя, ты будешь возвращаться вновь, заставая их уже в руинах, и призрак мертвого города подберет камень из своих развалин и кинет в тебя со словами: "Ступай, отверженный!" Ты будешь, повторяю, идти и идти, останавливаясь лишь для того, чтобы совершить — борясь со мной или во славу мою — лишь то, что тебе предназначено, ибо станешь орудием Провидения. Так будет до дня, когда я вернусь на землю!
И обессилев, Иисус вновь упал под тяжестью креста.
Тут из дома напротив выбежала женщина и, увидев лицо Спасителя, залитое слезами и кровью, покрытое пылью, подала на вытянутых руках белый алтарный покров со словами:
— Сладчайший господин мой Иисус, благоволите утереться этим тонким полотном, оно только вышло из рук ткача, отбелено утренней росой на луговых травах и еще не запятнано ничьим прикосновением.
Иисус ответил:
— Благодарю, добродетельная Серафия, дар твой желанный, ведь ты видишь, как я страдаю. Только утри мне лицо сама: я не могу оторвать рук от земли…
Благочестивая женщина бережно промокнула платом лицо Иисуса, стирая слезы, кровь и пыль.
— Хорошо, — сказал он. — А теперь взгляни на плат свой.
Серафия глянула и вскрикнула.
Лик Иисуса неизгладимо запечатлелся на нем и ярко сиял, а от тернового венца, что ранил лоб Христа, исходили лучи света, символ его божественной природы.
Каждый имел возможность увидеть чудесный отпечаток, ибо Серафия на какое-то время застыла, растянув плат в вытянутых руках и не смея поверить, что ей выпала такая честь.
— С этого дня, — молвил Иисус, — оставь имя Серафии и зовись Вероника[15].
— Я поступлю как угодно моему господину и повелителю! — воскликнула Серафия, упав на колени.
Меж тем все, кто окружал Иисуса и слышал, как он проклял легионера, шептались, охваченные ужасом.
Лонгин бормотал:
— Почему это все время, пока осужденный говорил, моя лошадь плакала?
Пеший воин недоумевал:
— Почему это все время, пока осужденный говорил, мой меч стенал в ножнах?
Копьеносец также не находил объяснения:
— Почему, в конце концов, все то время, пока осужденный говорил, копье содрогалось у меня в руке?
Те же, кто видел чудо, пребывали в еще большем замешательстве.
Какой-то человек тряс головой и шептал:
— Я никогда не знал страха, но вот сердце рвется из груди, словно испуганный олененок! Открой дверь, жена, я хочу войти в дом и не выходить, пока этот день не кончится.
Женщина трясла головой и тихо ныла:
— А если все же это некий Бог, неведомый Бог, которого весь мир ожидает, как поговаривают… Ох-ох-ох! А я-то его оскорбила и побила… Матушка моя, открой мне дверь, я хочу возвратиться к тебе и спрятать лицо на груди твоей… Может статься, он меня не разглядел? Тогда в день Страшного суда он пройдет мимо, не узнав меня.
Ребенок с корзинкой, сжимавший в кулаке гвозди, тряс головой и хныкал:
— Почему гвозди так жгут руку, а я не могу ее разжать?.. Отец, открой мне дверь и вырви из руки раскаленные гвозди!
И мужчина выбирался из толпы и бежал.
И женщина выбиралась из толпы и бежала.
И ребенок выбирался из толпы и бежал.
Тем временем процессия снова тронулась в путь, и те, кто ничего не видел и не слышал — слепое, бессмысленное людское стадо — продолжали орать и петь:
— А ты, Пилат, возьми кувшин серебряный и лохань бронзовую! Пилат праведный, умой руки именем Рима!.. Ах, ты забыл нам раньше рассказать, что Рим — такая невинная девственница, что никогда не наденет на пальчик колечка из крови… Умывай руки, Пилат, нам-то какое дело! У нас, кроме тебя, кесарева прокуратора, кроме Ирода, тетрарха Галилеи — у нас новый государь — Иисус из Назарета, царь Иудейский! А если кто сомневается, пускай прочтет вон ту надпись на трех языках… Ну, иди, иди, добрый царь, иди на Голгофу с двумя разбойниками. Один из них будет тебе носителем опахала, другой — виночерпием. Иди на Голгофу, и завтра орел с горы Кармель спустится к тебе и сорвет венец терновый с твоей головы и, держа его в когтях, будет летать с севера на юг, с запада на восток и кричать: "Земля, смотри на меня, я несу по всему миру корону Иисуса Назорея!"
И взрывы хохота толпы накатывающейся заглушали голоса толпы схлынувшей, как волна прибоя, ударяясь о скалы, заглушает звук волны отступающей.
Вот так текли во множестве люди, подобно реке, готовой без остатка броситься в море, оставив ложе свое сухим и пустынным…
Лишь Исаак Лакедем застыл молча, словно бы окаменев, на том же месте, где его застигло Иисусово проклятие.
Однако, когда шум, крики, смех, ругань и богохульные восклицания замерли по другую сторону Древних ворот, отверженный, казалось, постепенно пришел в чувство. Он огляделся, увидел, что остался один, обеими руками хлопнул себя по лбу и кинулся в дом, закрыв за собой дверь на все засовы.
XVIII ГОЛГОФА
Но вот Иисус дошел до подножия Голгофы.
Чуть ниже того места, где он проклял Исаака и оставил на руках у Серафии свое нерукотворное изображение, находился перекресток, куда выходили три улицы. Там Иисус споткнулся и упал, а крест перевернулся и остался лежать в нескольких шагах от него.
Люди, отправлявшиеся в храм, сострадая несчастному, стали громко говорить:
— Разве вы не видите, что бедняга при смерти?
И тогда некоторые фарисеи, желавшие до конца насладиться зрелищем казни, закричали стражникам:
— Эти люди правы: так мы не доведем его живым до вершины Голгофы. Найдите кого-нибудь, кто бы помог ему нести крест.
Стражи огляделись. Поскольку же большинство из них, хотя и состояли на службе у императора Тиберия, были иудеи, то сразу выделили из толпы человека в сопровождении троих детей, язычника, поклонявшегося богу Юпитеру. Его-то они схватили и подвели к Иисусу.
Звали этого человека Симон. Он был родом из Киринеи, а по ремеслу садовник. Солдаты вырвали у него из рук вязанку хвороста и заставили нести на плече один из концов креста.
Симон вздумал было воспротивиться, но не тут-то было. Служители пригрозили ему: кто замахнувшись рукоятью меча, кто древком пики. Ему пришлось стать за спиной Иисуса, а трое его детей шли рядом и плакали, поскольку не понимали, чего хотят от их родителя, и боялись, что его самого распнут.
Женщины, замешавшиеся среди шедших близко от головы процессии, взяв детей за руку, успокоили их; это удалось легко: двое были уже большими, десяти-двенадцати лет, и лишь третьему едва минуло шесть.
Сначала Симон справлял свою повинность с отвращением, но, вставая, Иисус одарил его таким благодарным взглядом и сказал ему несколько столь проникновенных слов, что киринеянин начал неясно догадываться: быть может, он извлечет в будущем более утешения, нежели позора из той случайности, благодаря которой судьба столкнула его с Иисусом.
Пройдя под аркой Древних ворот, перейдя через мост, перекинутый над Долиной мертвых, оставив слева гробницу пророка Анании, Иисус оказался перед несколькими женами и девами иерусалимскими.
Как раз тогда он чуть не упал. Но Симон Киринеянин, уперев в землю свой конец тесины, подбежал к Христу и поддержал его.
Женщины, ждавшие Иисуса, оказались из числа тех, кто слушал, как он проповедовал. Некоторые из них были даже в родстве с Иоанной, женой Хузы, и Марией, матерью Марка, поэтому они пришли явить жалость к нему, а не оскорблять. Заметив же, что он так бледен, слаб и изувечен, они заплакали и протянули свои головные накидки, чтобы он мог осушить лицо.
Но он, обернувшись в их сторону, сказал:
— Дщери иерусалимские! Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, которые скажут: "Блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие!" Тогда начнут говорить горам: "Падите на нас!" и холмам: "Покройте нас!"
Женщины попытались пробиться к Иисусу. Одна из них несла ему серебряную чашу с вином, согретым с ароматическими травами, в надежде, что ей удастся приблизиться к Спасителю настолько, чтобы дать ему омочить губы. Но стражники их всех так грубо отталкивали, что вино выплеснулось и разлилось по земле.
Иисус, однако, укрепился на ногах, и все тронулись далее. На вершину Голгофы вела извилистая, усыпанная острыми камнями дорога. Иисус поднимался с трудом и, потратив около четверти часа на то, чтобы сделать сто шестьдесят шагов, упал в пятый раз.
Но он был почти у цели. Поэтому с него сняли крест и отослали Симона, хотя тот уже хотел остаться, столь нежной жалостью он проникся к страдальцу. Однако стражи не позволили ему этого и прогнали прочь.
Иисус же утешил его и отблагодарил словами:
— Иди спокойно, Симон, мы еще встретимся в царстве Отца моего!
Весь холм был оцеплен лучниками, занявшими свои места за два часа до прихода Иисуса: Каиафа не мог поверить, чтобы апостолы и ученики Христа не попытались силой отбить учителя.
Этих лучников привел Авен Адар.
То, что на холм стянули столько войска, объяснялось еще и подозрением, что Иуда, как и апостол Симон, принадлежал к секте зилотов, поклявшихся освободить Иудею любой ценой, и предал он своего учителя не из зависти или алчности, а желая подтолкнуть его к какому-то решительному действию.
Вот почему Каиафа попросил у Пилата подкреплений, а прокуратор в свою очередь умножил число дозорных, разослав их по всему городу, особенно в квартал Везефы и предместье Офел, где жило много сторонников Иисуса.
Увы! Если бы Пилат сейчас мог видеть Иисуса, когда тот, шатаясь, стоял у креста, колеблемый то утихавшей, то усиливавшейся болью, словно тростник под ветром, он бы поверил в сказанное ранее пророком: "Царство мое не от мира сего!"
А нужно было еще приготовить крест, все части которого, пока не соединенные, лежали на земле. И божественный мученик должен был улечься на орудие будущей пытки, чтобы палачи измерили его руки и ноги. Когда же мерку сняли, ударом ноги его скинули с тесины.
Он уже не мог идти, поэтому два стражника грубо схватили его под мышки, рывком поставили на ноги и оттащили на двадцать шагов в сторону.
Именно там они собирались раздеть его и прибить к кресту.
Палачи между тем заканчивали последние приготовления. Кресты обычно ставили на самой вершине скалистого холма. Там уже вырыли три ямы, а в двадцати шагах оттуда, как мы уже сказали, на древе крестов укрепляли перекладины, прибивали деревянные бруски, поддерживающие ноги, сверлили отверстия в досках с надписями, чтобы привязать их, и делали выемки на месте выступающих частей тела, чтобы оно плотно прилегало и держалось на кресте. Если бы пытаемый обвис, вся тяжесть пришлась бы на руки, к тому же у Иисуса были тонкие, слабые кисти и запястья — они могли бы не выдержать.
Пока что на вершине топталось восемнадцать солдат, восемнадцать лучников и столько же палачей. Одни суетились около двух разбойников, другие — у креста Иисуса или вокруг самого Христа. Их дубленая темная кожа, иноплеменные лица, невероятно белые зубы, мелкокурчавые, как у негров, шевелюры делали их весьма похожими на демонов, занимающихся каким-то адским ремеслом.
Пока что они принялись раздевать Иисуса.
Сначала с него совлекли красную мантию, перевязь, утыканную гвоздями, глубоко избороздившими кожу вокруг чресел и там, где она крест-накрест перетягивала грудь и спину. Потом с него сняли шерстяную белую тогу, в которую его обрядил Ирод. И наконец дошла очередь до красного хитона, по рассказам, сотканного Богоматерью для ребенка и потом, пока он подрастал, остававшегося всегда новым, чистым и пригнанным впору. Этот хитон без швов был чудесным, как все, что было связано с божественным чудотворцем. Хитон сняли со всеми предосторожностями: воины надеялись его продать, а чтобы не делить, как другие одежды, его заранее решили разыграть в кости.
Оставался еще последний льняной хитон, но он пристал к коже из-за бесчисленных ран и царапин, покрывавших все тело, был почти весь пропитан засохшей кровью от груди до спины и полностью утратил первоначальный цвет. Если бы его увлажнили холодной водой, это утишило бы боль, когда его отдирали от кожи; однако палачи сочли бесполезными даже такие предосторожности по отношению к подобному подопечному. Так как они уже разрезали рукава, когда секли Христа, то теперь изо всей силы рванули ткань: один с груди, а другой со спины. У Иисуса вырвался слабый стон, на который откликнулись храмовые трубы: это оповещали о заклании пасхального агнца. Все раны Христа разом открылись; он сел, точно рухнул, на камень и попросил глоток воды. Тогда лучники подали ему смесь равных частей вина, мирры и желчи, каковую давали всем осужденным, чтобы притупить боль. Но Иисус, лишь пригубив питье, отвел его рукой и отказался выпить.
Когда крест был готов, его подтащили к месту, где должны были поднять, и придвинули основанием к вырытой яме.
Затем двое палачей схватили Иисуса, готовясь приступить к распятию.
В этот миг обычные преступники, как правило, пытаются сопротивляться, напрягают тело, отталкивают исполнителей, сквернословя и вопя. Иисус же лишь прошептал слова "И к злодеям причтен" из пророчества Исайи и, подойдя к кресту, — правда, надо сказать, медленными и слабыми шагами, но лишь потому, что силы изменяли ему, — сам лег на указанное место, безропотно и смиренно припав к презренной тесине, которую пролитая им кровь превратит в древо спасения.
Тут палачи схватили его правую руку и притянули к правой стороне перекладины. Один из них стал коленом ему на грудь, чтобы подавить дрожь и судороги боли, другой разжал пальцы, третий в раскрытую ладонь упер острие гвоздя и пятью ударами молотка прибил к столбу эту руку, которая никогда не протягивалась для чего-либо иного, кроме благословения!
При первом ударе молотка кровь брызнула в лица державшего руку и вбивавшего гвоздь.
Иисус громко застонал.
Палачи перешли к левой руке, но увидели, что она на две или три пяди не доходит до предназначенного ей места.
Тогда один из мучителей обвязал веревкой запястье и, напружинив ноги, упершись ими в камень, выступавший из земли, будто часть какого-то гигантского остова из другого, плохо захороненного мира, стал с силой тянуть, пока кости не вышли из суставов и левая рука не пришлась на нужное место.
Пока это продолжалось, грудь Иисуса вздымалась, несмотря на то, что палач давил на нее своими коленями; ноги Христа поджимались к животу.
Левую руку привязали, как правую, так же раскрыли, прижали и прибили пятью ударами молотка.
Гвозди же были восьми или десяти пядей в длину, треугольные, с круглой выпуклой шляпкой; их острый конец выходил с другой стороны тесины.
Стук молотка не заглушал стонов Иисуса, которым вторили иные стенания.
То были стенания Пречистой Девы.
Из жалости или жестокости — кто осмелится выбрать, какое из двух слов здесь подходит больше? — лучники допустили на вершину холма мать Иисуса, чтобы она могла присутствовать при казни сына.
Мария стояла в двух десятках шагов от креста, бледная, полумертвая, шатающаяся, словно измятая лилия. Благочестивые жены поддерживали ее, не давая упасть.
Магдалина же, чтобы не усугублять мучений Богородицы рвавшимися из груди криками, закусила зубами волосы и в молчании раздирала ногтями лицо.
Христос был уже уложен на крест и не мог повернуть головы, но, даже отдавшись на волю собственных страданий, он, тем не менее, распознал, что этот мучительный стон, казавшийся эхом его собственных стенаний, исходит из груди Богоматери, и прошептал:
— О матушка, да будешь ты благословенна меж женами за все страдания, какие претерпела и еще претерпишь!
Оставалось пригвоздить его ноги.
Под них уже прибили выступающий брусок, чтобы, как было сказано, тело нашло опору и не обвисло на руках, иначе гвозди могли прорвать ладони. Но и здесь, потому ли, что плохо сняли мерку, либо из-за того, что сухожилия ног, подтянутых к животу, судорожно сократились и ноги из-за этого стали короче, — как бы то ни было, а брусок оказался прибит слишком низко.
Палачи впали в бешенство. Им казалось, что их жертва не желает вытягиваться им назло.
Полные ярости, они набросились на Иисуса и, привязав его локти к перекладине, а торс к древу креста, чтобы не порвать ладоней, они стали растягивать веревками правую ногу. Сделали три мощных рывка — при каждом ребра хрустели, а из уст Христа вырывался лишь тихий стон:
— О Господи!
И уста Марии откликались словно эхом его страданий:
— О сын мой!
Затем пришла очередь левой ноги. Ее притянули к правой, и сначала особым буравом проделали отверстие в кости, поскольку боялись, что иначе погнется острие гвоздя, а потом вбили и гвоздь, сильно ударяя по нему молотком.
Понадобилось четырнадцать ударов, чтобы чудовищная стальная игла, пробив обе ноги, вошла в дерево на нужную глубину.
Во время этой ужасной пытки Иисус только шептал слова псалмопевца: "Пронзили руки мои и ноги мои, и можно было бы перечесть все кости мои!"
Богородица же не произнесла больше ни слова. Она лишь плакала, стенала и умирала тысячью смертей.
Когда с пригвождением Христа было покончено, над его головой прибили надпись на трех языках, сделанную по повелению Пилата.
А затем наступило время ставить крест.
Семь или восемь лучников сгрудились, чтобы приподнять его, двое или трое поддерживали основание, направляя в вырытую для него яму. По мере того как крест поднимался, длины рук человеческих более не хватало, чтобы его удерживать. Пришел черед крюков и копий. Наконец, встав почти отвесно, вся постройка с тяжким грохотом рухнула в яму, где было около трех ступней глубины.
От ужасного толчка Иисус издал новый крик боли, его растянутые кости ударились одна об другую, раны раскрылись еще шире, и кровь, двигавшаяся затрудненно по перетянутым веревками жилам, брызнула отовсюду.
То было самое мучительное мгновение в жизни человечества — миг, когда шатающийся крест застыл, и все ощутили, как дрогнула земля при глухом звуке удара дерева о каменистое ложе.
Искупитель земных грехов явился миру распятым.
Внезапно наступила полнейшая тишина, не прерываемая ни стонами Иисуса, ни плачем Богоматери. Брань палачей, проклятия фарисеев, трубы в храме — все смолкло.
Лишь ухо ангелов слышало, как движутся в бесконечности тысячи миров и среди них звучат, эхом передаваясь из конца в конец вселенной, слова, что Иисус в третий раз произнес в душе своей, поскольку не имел уже сил говорить громко: "Прости им, отче, ибо не ведают, что творят!"
Христос висел между Димасом, находившимся от него справа, и Гестасом, чей крест стоял слева. Палачи повернули его лицом на северо-запад, ибо нужно было, чтобы слова пророка воплотились во всех мелочах, а Иеремия сказал: "Как восточным ветром развею их пред лицем врага; спиною, а не лицем обращусь к ним в день бедствия их". А задолго до того царь-пророк сказал в псалме шестьдесят пятом: "Очи его зрят на народы!"
В эту минуту вид Иисуса надрывал душу, но и возвышал ее. Кровь струилась по лицу его и заливала глаза, текла по рукам, по ногам, на лоб падали окровавленные волосы, борода приклеилась к груди; плечи, руки, запястья, ноги и, наконец, все тело так напряглись и распрямились, что можно было сосчитать все кости груди — от ключиц до самых нижних ребер. Оно бледнело и голубело по мере того, как кровь покидала его.
И во всей природе, как уже говорилось, настал миг необычайной тишины, когда боль от толчка приглушила даже крик пытаемого. Но вскоре Иисус приподнял голову… Едва ее сын зашевелился, ничто уже не могло удержать Богоматерь. Она бросилась к кресту, шатаясь, дошла до него и пала на колена у подножия, обняв его с такой нежностью, будто это ее дитя…
Иисус опустил к ней глаза.
— Матушка, — проговорил он. — Вспомни, что я тебе сказал тридцать лет назад в Египте, указывая на злого разбойника, не желавшего нас пропустить, и доброго, который выкупил у него нашу свободу?.. Я сказал тогда: "Матушка, через тридцать лет иудеи распнут меня, и воры эти будут висеть на крестах у меня по бокам: Димас справа от меня, а Гестас — слева. И в этот день Димас, добрый разбойник, опередит меня на пути в рай!"
Оба вора, услышав это, подняли головы.
— Ага! — вскричал Гестас, — ты хочешь этим сказать, что ты Мессия?.. Прекрасно, если так, то спаси нас и спасайся сам… Но нет, какой ты Мессия, раз позволил себя распять? Ты лжепророк, богохульник и маг!
Но тут вступил Димас:
— Как ты можешь оскорблять этого человека? Вот я молюсь о нем и оплакиваю его, ибо признаю в нем пророка, своего повелителя и сына Божьего!
При этих словах доброго разбойника среди стоявших на холме произошло какое-то движение. Солдаты расстроили ряды и позволили любопытным приблизиться к крестам. Голгофа сверху донизу, как муравейник, кишела людьми. Тысячи зевак облепили внешние стены, башни и крышу дворца Ирода.
И тогда те, кто был ближе к Иисусу, начали поносить его, крича:
— Ну что, самозванец! Так ты не захотел обрушить храм и отстроить его заново за три дня?.. Ты не смог вызвать мертвых, как хвалился?.. Ты уже не хочешь заставить воды Иордана повернуть вспять и течь в Генисаретское озеро?.. Других спасал, а себя самого не можешь спасти! Если ты царь Израилев, сойди теперь с креста, и мы уверуем в тебя! Уповал на Бога? Пусть теперь Бог избавит тебя, если ты угоден ему! Сойди с креста, если ты сын Божий!..
— Эй! — кричал злой разбойник. — Разве вы не видите, что он негодяй, преступник, колдун? Не зря вы предпочли ему Вар-Авву, нашего друга и сотоварища!
— Помолчи, Гестас, ох, помолчи лучше, — просил добрый разбойник. — Неправда: Вар-Авву осудили за дело. И нас осудили по заслугам. Если мы страдаем, то это справедливо, нам воздается по преступлениям нашим… А он невиновен! Подумай же, Гестас, ведь пробил твой последний час. Вместо того чтобы кощунствовать, покайся!
И Димас обернулся к Иисусу, моля:
— Господи, Господи! Я большой грешник и осужден справедливо… Господи, Господи, сжалься надо мной!
Иисус ответил ему:
— Успокойся, Димас, я в благости моей принимаю тебя!
Едва прозвучал этот ответ, как густой красноватый туман поднялся от земли к небу, солнце погасло и задул ветер пустыни.
Было около половины первого пополудни.
XIX ИЛИ, ИЛИ! ЛАМА САВАХФАНИ?
В тот миг, когда Иисус, словно изливая божественный бальзам на раны, приобщал душу доброго разбойника к надежде на жизнь вечную, Исаак Лакедем при закрытых на все запоры дверях, при наглухо замкнутых окнах сидел со своей семьей за пасхальной трапезой.
Она происходила в комнате с окнами во внутренний двор и с выходом на улицу через его лавочку. За общим столом собрались отец и дед Исаака — оба седовласые (самый седой — ста лет от роду!), а также его жена тридцати четырех лет, пятнадцатилетняя дочь и девятилетний сын.
В люльке спал полугодовалый ребенок. Бабушка жены Исаака, превратившаяся в бессмысленное и беспомощное существо, что-то бормотала, тряся головой. Жалкое создание, она говорила бессвязно, потому и сидела в стороне, в кресле, куда ее сажали утром и откуда ее забирали лишь на ночь.
Исаак, мужчина сорока трех лет, в своей семье был средним звеном полной цепочки возрастов — от колыбели до могилы.
Пасхального агнца уже разрезали. У каждого на блюде лежала его часть, и то, что почти у всех мясо было едва тронуто, показывало, что еда в этот день мало занимала сотрапезников.
Домочадцы были мрачны и молчаливы. Чудовищное проклятие нависло над всем семейством, освещаемым дрожащим, неверным светом лампы, что свисала со стены.
Только сын, по малолетству не захваченный уличными впечатлениями и страхами, напевал и смеялся.
Он завел песню, в которой, по обыкновению всех детей, сочинят одновременно и слова и мелодию. Другие если и говорили, то почти шепотом. Исаак хранил безмолвие, опустив голову на грудь и запустив обе руки в густые волосы. Жена смотрела на него глазами, полными тревоги и страха.
А мальчик пел вот что:
Если я стану воином, воином, как и отец мой, — я потом возвращусь в дом с красивой кирасой в чешуйках, в красивом золоченом шлеме, со славным острым мечом, — если я стану воином, воином, как и отец мой.
Если я стану купцом, купцом, как и мой дед, — я возвращусь из Тира и Иоппии с большим кожаным кошелем, полным золота и серебра, — если я стану купцом, купцом, как и мой дед.
Если я стану моряком, моряком, как и мой прадед, — я вернусь из плавания по морю, что виднеется с гор, в красивом плаще цвета волны, с красивой седой бородой, — если я уйду в море моряком, моряком, как мой прадед.
И только если умру я, умру, как отец моего прадеда, — я не приду вовсе, ведь говорят, что мертвые спят вечно в своих могилах, — если они умирают, как умер отец прадеда!
Один только Каин не может умереть, — неправда, будто его убил племянник Ламех: Каин не мертв, а приговорен жить вечно, потому что убил брата Авеля, — только Каин, Каин жив и умереть не может!
И когда какой-нибудь завоеватель, завоеватель ведет на бой своих воинов, Каин, первый убийца на свете, садится на своего коня Семехая, который потеет кровью, и скачет, крича: "Ступай! Ступай! Ступай!.." — когда завоеватель, завоеватель отправляется на бой!
И когда чума, чума идет по земле, Каин, первый убийца на свете, садится на птицу Винатейн, что летит быстрее чумы, и кричит чуме: "Ступай! Ступай! Ступай!.." — когда чума, чума идет по земле.
А когда буря, буря вздымает морские волны, Каин, первый убийца на свете, садится верхом на рыбу Махар, что плывет быстро как ветер, и буре, буре кричит: "Ступай! Ступай! Ступай!…"
Исаак не смог дальше вытерпеть повторений ужасного слова, сказанного Христом. Он стукнул кулаком по столу и поднялся со словами:
— Ради кесаря и всех его побед, женщина, уйми же этого ребенка!
Сын удивленно взглянул на отца и замолк.
Давящая тишина еще более сгустилась. Слышалось лишь невнятное бормотание дряхлой старухи. Но неожиданно в этих словах забрезжила мысль, и из ее уст полилась странная, ни на что не похожая баллада:
Есть малая трава в три листика, и на каждом листике пятнышко крови, а в цветке вместо венчика — терновый венец.
— Травка, а травка, почему у тебя на каждом листике капелька крови, почему вместо венчика — терновый венец?
— Старая бабушка, ты все знаешь, ты должна знать об этом. Ты не знаешь, старая бабушка? Сейчас я тебе расскажу.
Вчера в молчаливом саду на горе Гефсиманской Спаситель встал на колени, и был он смертельно печален!
Небо было без звезд, ученики уже сном забылись, и только Господь не спал, томила его тревога.
Тогда подступил к нему Сатана, и от слов его вместо пота со лба закапала кровь.
Капля за каплей падали на меня, все потемнело вокруг, и даже Господь, сам Господь не имел сил застонать.
И вот я сказала ему тонким своим голоском, тихим, как у всех трав: "Господи! Господи! Твоя кровь течет мне на листья, а с них каплет на землю.
Дай же мне руки — и не пророню ни капли твоей драгоценной крови, и сохраню кровь спасения!"
А было так тихо, что мой голос достиг престола Всевышнего, и Всевышний мне сказал:
"Пусть будет так, как ты, малая травка, просила. Вовек не сотрется с твоих листьев кровь моего сына!
Когда же раскроешь цветочный бутон, пусть вместо венчика будет терновый венец, похожий на тот, что на голову сына наденут в час его мук!"
Вот почему назовут меня клевером иудейским, колючим клевером: ведь у меня каждый листик — с кровавым пятном, а вместо цветка — терновый венец…
Семейство внимало этому диковинному пению в необъяснимом ужасе. Уже три с лишним года параличная старуха не говорила ничего вразумительного. Впрочем, и теперь, стоило ей закончить балладу, как ее речь стала бессвязной, слова — неразличимыми, а вскоре бормотание и вовсе стихло.
Исаак уже шагнул было к старухе, чтобы заставить ее замолчать, но она сама умолкла: песня кончилась.
— Лия, — попросил Исаак дочь, — возьми-ка кифару, на которой ты играешь в храме во время песнопений. Сыграй и спой, чтобы мы выкинули из головы и то, что пел мальчишка, и то, что бубнила старуха.
Прекрасная девушка с темными бархатными глазами, волосами цвета черного янтаря и темной кожей, с коралловыми губами и жемчужной улыбкой поднялась, сняла со стены кифару, настроила и, перебирая струны, запела:
— Откуда идешь, прекрасный вестник, из Тира или Вавилона, Карфагена или Александрии? С равнины или горы? От озера или леса?
— Ни от леса иду, ни от озера. Ни с горы, ни с равнины. Ни из Александрии, ни из Карфагена. Ни из Вавилона, ни из Тира. Я иду из самого дальнего далека и с самого высокого высока!
— Прекрасный вестник, кто дал тебе голубой плащ? Он окрашен лазурью морскою? Он выкроен из небосвода? Он соткан из шерсти иль шелка?
— Не из шелка иль шерсти он соткан, не из небосвода он выкроен, не морской лазурью он окрашен, и не плащ это вовсе, а крылья, чтобы летать в облаках и спускаться в глубокие бездны.
— Прекрасный вестник, какой тебя царь послал? Это он вложил тебе в руку трость из боярышника? Это он увенчал тебе лоб прекрасным кидаром золототканым?
— Не кидар золототканый у меня на челе, а сияние, не трость из боярышника в руке, а огненный меч, царь же, пославший меня, это Царь Небесный!..
Когда Лия произнесла последние слова, раздался такой сильный стук в дверь, что содрогнулся весь дом.
Сотрапезники вздрогнули и переглянулись.
Исаак побелел до синевы, но призвал на помощь всю свою храбрость и спросил:
— Кто стучит?
— Тот, кого ты ждешь, — прозвучало ему в ответ.
— Чего ты хочешь?
— Узнать, готов ли ты.
— От кого ты пришел?
— От Господа!
И в тот же миг засовы и щеколды отскочили, дверь распахнулась сама собой. На пороге появился ангел в белом с длинными крыльями, сложенными за спиной, золотым ореолом на челе и огненным мечом в руке.
Это был Элоа, самый прекрасный из ангелов Господних: Всевышний создал его в океане золотистых и пурпурных облаков. Для тела его он взял самый чистый, свежий и прозрачный свет неба перед восходом; заря стала его сестрой, и народившееся солнце увидело его возносящим хвалы у ног Создателя. Он слыл самым быстрым гонцом Иеговы; когда он нес мир, его взгляд был добр, как свет утреннего неба, когда же он возвещал о небесной каре, глаза его вспыхивали как молния.
При его появлении оба старца, старуха, жена, Лия и ее брат молитвенно сложили руки и пали на колени, даже младенец попробовал встать на колени в своей колыбели.
Лишь один Исаак остался стоять, скрестив руки, дрожа, со вставшими дыбом волосами, но не спуская глаз с ангела.
— Ты просил у Господа дозволения провести последнюю Пасху с семьей… Трапеза закончена, время твоего ухода настало, — сказал Элоа.
— Зачем мне покидать мой колодец — ее вода так чиста; мою сикомору — ее тень так освежает; мою смоковницу — ее плоды так сладки; семью — ее любовь мне так дорога?
— Таково повеление.
— А кто повелел?
— Господь!
— Я никуда не пойду, — сказал Исаак и сел на скамью.
Ангел медленно прошел по комнате, наполняя ее светом, протянул руку с мечом и коснулся его острием лба легионера.
Исаак вскрикнул и вскочил, прижимая обе руки к лицу.
— Что ты сделал? — спросил он.
— Отметил тебя каиновой печатью, чтобы люди узнавали в тебе брата первого убийцы.
— Послушай, позволь мне еще лишь на год остаться с теми, кого я люблю, а затем я уйду…
— Ни дня!
— Ну, хоть день…
— Ни часа!
— Хоть час…
— Дарованный Иисусом час истек… Ступай!
— Позволь мне завязать ремни сандалий, набросить плащ на плечи, опоясаться мечом, надеть кольчугу!..
— Ни сандалий, ни плаща тебе не понадобится: ступни твои от бесконечного хода станут как железо, и ты будешь разбивать пятками камни. Плащом тебе послужат утренний туман и ночная роса. Ни меча, ни кольчуги тебе не надо, ибо ни огонь, ни железо не будут иметь над тобою власти… Ступай!
— Какую дорогу мне выбрать?
— Ты пойдешь по земле путем перелетных птиц.
— Что делать мне в неизвестных землях, где нет проложенных дорог?
— Ты первый проложишь путь… Ступай!
— Что мне делать, когда я окажусь на берегу океана и у берега не будет ни лодки, ни корабля?
— Ты станешь переходить с волны на волну, и там, где нога коснется воды, волна сделается твердой, как гранитная пирамида… Ступай!
— Через какие города я должен пройти?
— Что тебе за забота? Все они когда-нибудь падут и разрушатся у тебя за спиной… Ступай!
— Позволь мне в последний раз обнять жену и детей.
— Да будет так! Обними жену и детей и отправляйся! Я жду тебя у порога.
Элоа вышел.
Исаак по очереди расцеловал жену и детей. Дольше всего он сжимал в объятиях младшего, вынутого из колыбели.
Затем, словно испытывая неодолимое притяжение, он приблизился к двери, хотя и пятясь, протягивая руки к дорогим существам, которых приходилось покидать, цепляясь за предметы, столбы, углы… Но ничто не было в силах удержать его, вещи могли лишь сохранить как память следы его ногтей.
Так он дошел до порога и воскликнул в отчаянии:
— О, ты, конечно же, сильнее меня, ведь я вынужден повиноваться тебе… Так укажи мне дорогу, и я пойду.
Ангел пальцем указал Исааку путь, которым прошел Иисус.
— Ступай, — приказал он.
— А ты?
— Я возвращаюсь, откуда пришел.
И, раскинув крыла, ангел вознесся на небо с быстротой молнии, падающей на землю.
— Прощайте! — воскликнул Исаак. — Прощай, скамья моего родителя, прощай, порог отчего дома!.. Отец мой, прощай! Прощай, отец отца моего! Прощайте, жена, дети! Прощайте! Прощайте! Прощайте!..
И он быстро зашагал в сторону Древних ворот.
Но едва он сделал несколько шагов, как обратил внимание на странное явление, которого сначала не заметил: хотя было едва ли больше двух часов пополудни, на землю спустились сумерки.
Подняв глаза, он увидел как бы новый мир, возникший между солнцем и землей: круг, похожий на обруч из железа, докрасна раскаленного в плавильной печи, — вот все, что осталось от солнца.
А по небу неслись медно-желтые облака, подгоняемые огненными крылами самума.
Кроваво-красные молнии раскалывали небо на всем его протяжении.
Местами проступали звезды, но тотчас исчезали, словно там кто-то открывал и закрывал глаза.
Глухо прокатывался гром…
Жители тревожно спрашивали друг друга, что мог бы значить такой переворот в природе; женщины в спешке перебегали по улицам, чтобы попасть из одного дома в другой, тащили за собой плачущих детей.
Какие-то люди останавливались посреди перекрестков и, воздев руки к небесам, восклицали:
— Мы же говорили! Мы говорили!
Другие качали головой, бормоча:
— Но я-то тут ни при чем, слава Всевышнему!.. Пусть кровь его падет на настоящих убийц!
Домашние животные носились по улицам, испуганные едва ли не более людей.
Две лошади, сбросившие своих седоков, пронеслись мимо Исаака, выпуская дым из ноздрей и высекая копытами снопы искр из каменной мостовой.
Вдруг Исааку показалось, что земля дрожит и дома колеблются, словно деревья под ветром.
Все отправившиеся на Голгофу, чтобы поглазеть на казнь, все, кто облепил укрепления, башни и крыши, бежали в город к своим домам: одни через Древние ворота, другие мимо Женских башен — но все торопясь, толкаясь, спеша скорее попасть домой.
Среди обезумевшей толпы виднелись люди в длинных белых одеяниях, шествующие с достойной медлительностью. Исаак задрожал: ему показалось, что то были не живые, идущие в свои дома, но мертвые, покинувшие могилы.
А одеждой им служил саван!
Дойдя до Древних ворот, он взглянул на гробницу Анании, что была в сотне шагов за ними; в то мгновение, когда Исаак миновал городскую черту, крышка гробницы сдвинулась, а мертвец вышел и направился в город.
Отверженный бросился по мосту через Долину мертвых. Гора Гион осталась справа от него, слева возвышалась Голгофа, а перед ним тянулась дорога на Гаваон.
Взглянув назад, он увидел царя Давида на той самой башне, что сохранила его имя, — как раз оттуда он некогда бросал любострастные взгляды на жену своего верного военачальника Урии. Сейчас царь-пророк, при короне и скипетре, смиренно склонялся перед Голгофой.
Исаак мог выбирать, идти ли ему прямо или отклониться влево; он стал карабкаться по каменистому склону холма: невидимая рука толкала его к Иисусу.
Однако, вместо того чтобы подчиниться руке, направлявшей его шаги, и склониться перед волей ведущего, он, уподобясь духам пропастей земных, восставшим против их создателя, изрыгал проклятия и богохульствовал.
Но, тем не менее, он продолжал подниматься, подчиняясь воле более властительной, чем его собственная. И по мере того как он восходил на холм, под ним открывался Иерусалим, похожий на град обреченный, корчащийся в сумерках последней битвы с демонами смерти…
Когда голубоватая или кроваво-красная молния освещала ущелья улиц, было видно, что одни совершенно пусты, другие полны призраков, по иным же во все стороны бежали обезумевшие мужчины, женщины и дети.
На вершине Голгофы в огненном небе чернели три креста. На среднем недвижно висел Иисус, окруженный бледным сиянием, а справа и слева от него оба разбойника, насколько позволяли им прибитые руки и ноги, извивались в чудовищных судорогах.
Палачи, суетившиеся на обезлюдевшем холме, походили на демонов. Лишь один Лонгин, попиравший конем гребень холма, стоял недвижно с копьем в руке, как бронзовая статуя на гранитном постаменте.
В нескольких шагах от креста скорбно молилась группа людей: это были Мария, Иоанн и благочестивые жены.
Исаак продолжал подниматься.
Он услышал, как Иисус сказал:
— Я хочу пить.
Тогда Лонгин отделился от своей скалы и на острие копья протянул ему губку, смоченную в уксусе.
В этот миг послышался устрашающий рев стремительной и могучей грозы, а в глубинах земли послышались мощные раскаты, заглушающие даже гром небесный. Ураган, этот старший сын всякого разрушения, завыл в кедрах, сикоморах и пальмах, ломая все на своем пути; под его напором Иерусалим заколебался всеми своими дворцами, домами и башнями, подобно океану, раскачивающему тонущие корабли.
Раскаты грома надвигались, грозя испепеляющими молниями.
Но внезапно все смолкло, и послышался голос Иисуса, из груди которого исторгнулся тот великий крик, что через века донесла до нас история:
— Илй, Илй! лама савахфанй?.. Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?..
Вся природа замолкла, чтобы услышать эти слова, но едва угас их последний звук, разнесенный на крыльях ангелов и подхваченный во всех четырех сторонах света, как буря разразилась с удвоенной яростью.
На землю опустилось что-то напоминающее покров из пепла.
Сквозь этот покров Исаак различал, как чрево нашей матери-земли разверзлось в ужасающих родах: словно в Судный день, земля возвращала своих мертвецов!
Сначала бывший легионер поглядел в сторону Долины мертвых, куда сбрасывали тела казненных вместе с орудиями их казни.
Он увидел, как над громадной грудой тел клубится пыль.
Все, что некогда было человеком, вновь становилось человеком; все, что когда-то было деревом, вновь становилось деревом; все, что было железом, вновь становилось железом.
А осужденные — и те, чьи тела лежали там века, и казненные недавно — снова обнимали окровавленными ладонями свои кресты или ползли на коленях и воздевали руки к Христу.
Исаак направил взор в другую сторону и увидел длинную чреду патриархов и пророков, закутанных в саваны. Толчок креста, отвесно обрушившегося в яму, пробудил их. Они тотчас восстали из мертвых и со всех концов Иудеи явились, чтобы присутствовать при смерти того, кто должен был с почетом препроводить их на небо. И все они в молитвенных позах простирали руки к Иисусу.
Невольный свидетель этого зрелища отвел взгляд и посмотрел прямо перед собой, туда, где, согласно преданию, обрели вечный приют Адам и Ева. Там огромный старец вышел по пояс из земли; его белая борода падала на грудь, а седые волосы развевались под ураганным ветром. Рядом с ним поднялась женщина, хотя еще мгновение назад она сомневалась, вставать ли ей из могилы. Волосы почти совсем скрывали ее от взоров, но видно было, что она побледнела не столько от четырех тысяч лет могильного плена, сколько от теперешнего ужаса.
— О! — простонала она. — Я тоже видела смерть моего сына Авеля, как теперь Мария видит угасание Иисуса!..
— Женщина, — откликнулся старец, — забудь обо всем и помни лишь об одном: из-за твоего грехопадения сегодня этот праведный принимает смерть на кресте.
Тут оба воздели к распятому руки — те самые руки, что некогда направляли шаги первых людей, и вскричали:
— Милосердия, милосердия просим, Иисус, прощения отцу и матери рода человеческого!..
Исааку все это, при грохоте грома, сполохах молний и завывании бури, представлялось каким-то чудовищным сном.
В третий раз природа вдруг смолкла, и в тишине голос Иисуса произнес:
— Отче! В руки твои предаю дух мой!..
И уронив голову на грудь, со слабым стоном сын Божий испустил последний вздох…
Тотчас гром загремел в двадцати разных местах. В воздухе разнесся свист ангельских крыл; небесные вестники спешили возвестить этому и иным мирам, вращающимся в пространстве, о смерти Искупителя… Храм содрогнулся, склонил главу свою, вновь поднялся и склонился снова; в Святая Святых разорвалась снизу доверху драгоценная алтарная завеса; а у подножия креста с ужасным треском и скрежетом разверзлась земля.
Адская пропасть явила себя этому свету!
Узрев такое чудо, даже титан упал бы на колени, смирившись перед волей Бога.
Исаак зашатался. Но тут же посреди всеобщего возмущения природы он овладел собой, выпрямился и, простирая руку в сторону Христа, произнес:
— Или ты Бог, или человек. Если ты человек, я с легкостью одолею тебя. Если ты Бог, я буду сражаться с тобой, ибо проклятие сделало меня равным тебе: всякий бессмертный — Бог!
И пройдя мимо креста, с угрожающим жестом, от которого лошадь Лонгина поднялась на дыбы, а палачи отшатнулись, он спустился по восточному склону Голгофы, перепрыгивая с утеса на утес, и пропал из глаз. Тьма, сгущавшаяся с каждым мгновением, поглотила его.
XX ВОСКРЕСЕНИЕ
Иисус был мертв!
За ужасающей катастрофой, потрясшей всю природу, последовали часы всеобщего оцепенения и упадка сил. Казалось, жизнь человечества при последнем вздохе и нить ее дрожит, грозя прерваться.
Снова, как при рождении Богочеловека, остановилась работа творения.
В этот священный миг на Голгофе остались благочестивые жены: Богоматерь, Магдалина, Мария Клеопова, Саломия и с ними Иоанн; кроме них — Лонгин на лошади, объятые ужасом лучники, мертвецы, вышедшие из могил, чтобы воздать хвалы Иисусу, да Исаак, мечущийся между крестом злого разбойника и распятым сыном Божьим, изрыгающий ругательства и проклятья.
Когда Исаак исчез, уже ничто не нарушало воцарившегося молчания и неподвижности.
А затем из груди Божьего творения словно бы раздался долгий вздох: природа, переводя дыхание, возвращалась к жизни.
При этом дуновении обновленного мира мертвые исчезли с глаз и могилы затворились.
Тут как раз появились из Древних ворот восемь солдат, посланных Пилатом. Шестеро несли железные лестницы, заступы и веревки, седьмой — железный лом, а восьмым был их предводитель центурион Авен Адар.
Шестеро со своими орудиями шли снять с креста и захоронить распятых, в обязанность седьмого входило раздробить их члены, как того требовал обычай; Авен Адар надзирал за тем, чтобы все делалось как положено.
Увидев их, Иоанн, Мария Клеопова и Саломия, уступая им место, отошли в сторону, но Пресвятая мать Христова бросилась к кресту, обхватив его руками, а Магдалина, движимая тем же порывом, не желая, чтобы тело Спасителя подвергли новым оскорблениям, преградила дорогу лучникам.
— Он мертв, мертв! — вскричала Мария. — Что еще вы хотите от него?
Магдалина же упала на колени, рыдая, протягивая к ним руки и повторяя вслед за Богоматерью:
— Он мертв, мертв!..
Лучник с железным ломом косо глянул на Христа и, ничего не обещая, проговорил:
— Пусть так! Займемся сначала разбойниками.
Приблизившись к Гестасу, двумя ударами лома он перебил ему голени, а двумя другими — берцовые кости.
Затем, велев солдату прислонить лестницу к крестному древу, он нанес четыре торопливых удара по рукам умирающего выше и ниже локтя.
На каждый Гестас отзывался воплями и чудовищными богохульствами.
Наконец, чтобы положить предел его мукам, стражник тремя ударами лома раздробил ему грудь; после третьего — несчастный проклял судей и палачей и умер.
Наступил черед Димаса. Глаза его были обращены к Иисусу; казалось, черпая у него силы, он отвечал на каждый удар лишь стоном, а между предпоследним и последним произнес следующие слова:
— О божественный Искупитель, вспомни об обещании, которое ты мне дал!
И, не отрывая взгляда от Иисуса, он испустил последний вздох.
Но даже после этого его открытые глаза смотрели на Спасителя; можно было подумать, что и за порогом смерти он обращается к тому, с кем связаны все его упования.
И вот, пока остальные стражи принялись снимать с креста обоих разбойников, человек с ломом подошел к Иисусу.
Но Богоматерь бросилась к Лонгину, на лице которого — а в этом матери не ошибаются, — она уловила некую тень сострадания.
— О, смилуйся! — взмолилась она. — Скажи этому человеку, что сын мой мертв и увечить его — ненужная жестокость!..
Авен Адар, надзиравший над соблюдением распоряжений Пилата, приблизился к Лонгину и спросил:
— Правда ли, Лонгин, что тот, кого они называют Христом, мертв?
— Клянусь благополучием кесаря, это так! — торжественно провозгласил тот.
А поскольку Авен Адар, видимо, еще сомневался и палач уже подходил к кресту, Лонгин дал шпоры коню, сам изогнулся вперед и на скаку пробил копьем грудь Иисуса. Копье вошло с правой стороны груди и вышло из левой.
— Вот, посмотри, — сказал он.
У Богоматери вырвался крик: она неправильно истолковала намерения Лонгина. Она увидела только то, что он сделал, и ей показалось, что копье пробило ее собственное сердце!
Тут силы покинули ее, она упала навзничь, прикрыв ладонями глаза, и ударилась бы о камень, если бы Магдалина не бросилась поддержать ее.
Но именно в эту минуту произошло то, о чем за двадцать лет до того Иисус говорил Иуде:
"Они пронзят мой правый бок копьем, и из раны с остатком крови вытечет остаток жизни!"
Действительно, из раны, нанесенной Лонгином, вытекло много воды и крови.
И вдруг этот последний бросился на колени с криком: "Чудо!"
Несколько капель крови попали ему на веки, и глаза, до того такие слабые, что Лонгин едва мог свободно передвигаться, внезапно стали ясными и зоркими.
А Господь благоволил, чтобы вместе со зрением телесным открылось и зрение духовное — вот почему Лонгин на коленях кричал: "Чудо!"
Конечно, это чудо не могло бы помешать новоприбывшим поступить с Христом как и с остальными двумя, но воины Лонгина, присутствовавшие здесь с самого начала казни, обступили крест и говорили, качая головами:
— Нет, этот мертв, совсем мертв, и нечего его трогать!
Приходя в себя, Богоматерь расслышала эти слова.
— Будьте благословенны, — прошептала она, — да спасутся те, кто сжалился над матерью!
Авен Адар подал знак, и пришедшие с ним лучники отступили на несколько шагов.
Как раз в это время на холме появилось два человека, закутанные в широкие плащи. Они двигались в сопровождении большого числа слуг, одни из которых несли лестницы, другие — клещи, третьи — свертки полотна и корзины с мазями и благовониями.
Стражи хотели было преградить им дорогу, но один из них сунул руку за пазуху и показал центуриону бумагу с печатью Понтия Пилата, прокуратора римского кесаря.
На пергаменте было начертано, что пришедшим разрешено снять тело Иисуса и похоронить его в отдельной гробнице.
Пречистая Дева вскрикнула от радости: в показывавшем центуриону свиток она узнала Иосифа Аримафейского, а в том, кто держался справа от него, — Никодима, не убоявшегося защищать Иисуса перед Каиафой и Пилатом и сохранившего верность мертвому, как до того был верен живому.
Оба они предстали перед Пилатом и просили римского претора об особой милости: позволить им похоронить Иисуса в отдельной гробнице. Сначала Пилат колебался, боясь навлечь на себя неприятности. Но Клавдия, вошедшая к нему в эту минуту, присоединила свою просьбу к мольбам Иосифа Аримафейского и Никодима, и Пилат не смог устоять перед их настойчивостью.
Мало того, когда разрешение было получено, Клавдия сделала иудеям знак следовать за ней и вынесла из своих покоев амфору с самым драгоценным из благовоний.
Обзаведясь пергаментом и взяв сосуд с благовониями, два советника синедриона тотчас повелели своим слугам собрать все необходимое для снятия с креста и погребения и поспешили к Голгофе.
Приказ Пилата разрешал все трудности. Авен Адару и его подручным оставалось лишь заняться телами Димаса и Гестаса, предоставив тело Христа попечению близких.
Выбрав плоский, как стол, камень, удобный для предстоящих погребальных трудов, слуги Никодима и Иосифа Аримафейского поставили подле него два или три плетеных короба с благовониями, несколько кожаных мешочков с порошками и притираниями и алебастровую амфору, подаренную Клавдией.
Одновременно один из них раскладывал молотки, клещи, губки, флаконы, принесенные им в кожаном фартуке.
Затем в печальной и благоговейной сосредоточенности они начали снятие с креста.
Солдаты, от которых, в конченом счете, требовалось всего лишь переломать кости разбойникам и сбросить их тела в ров, называвшийся из-за своего предназначения Долиной мертвых, закончили свою работу, оттащив по южному склону Голгофы тела казненных и кресты, которые надо было сбросить в ров вместе с ними, после чего они оставили вершину Голгофы в полном распоряжении Лонгина, его стражей, а также родных и близких Иисуса.
Никодим и Иосиф Аримафейский поставили по лестнице с двух сторон крестного древа и растянули под телом Христа большой погребальный плат, к которому были крепко пришиты три длинных ремня.
Их первой заботой стало привязать каждую из рук к перекладине, а тело к древу. Затем, убедившись в прочности этих пут, они принялись вытаскивать гвозди, выбивая каждый со стороны острия другим гвоздем.
Гвозди вышли довольно легко и упали на землю, не сильно потревожив и без того изувеченные запястья. Тем не менее при каждом ударе молотка, звучавшем как зловещее эхо тех первых ударов, что исторгли у Иисуса такие мучительные стенания, Богоматерь тяжело вздыхала, простирая руки к мертвому сыну. А Магдалина с криком повалилась в пыль и билась на земле, пока эти звуки не смолкли.
Иоанн, растянув в руках плащ, принимал в него падающие гвозди; когда все три оказались у него, он их почтительно поцеловал, потом подошел к Пречистой Деве, сложил их у ее ног и вернулся к Никодиму и Иосифу Аримафейскому, уже опускавшим тело Христа.
Именно для этого они принесли плат с ремнями.
Одну из лестниц установили со стороны спины Распятого, другую — напротив первой.
Кроме крючьев, позволявших зацепить ее за перекладину, каждая лестница имела еще крючья на высоте пяти, восьми и двенадцати ступней — именно к ним прикрепляли ремни погребального плата.
Два из трех ремней уже прикрепили: один к первой лестнице, другой — ко второй. Один человек рогатиной, продетой через третий ремень, растягивал плат, чтобы образовать дно у полученного таким образом подобия полотняного желоба, а другой придерживал четвертый конец плата, чтобы, очутившись на полотне, тело могло без толчков соскользнуть на землю.
Проделав все это, начали развязывать пояс, притягивавший Иисуса к древу креста. Затем его ноги положили в наклонный полотняный желоб. Никодим отвязал левую руку, Иосиф Аримафейский — правую, и наконец, поддерживаемый Иоанном, Христос был мягко опущен в саван. Убедившись, что все сделано как следует, Никодим, Иосиф и Иоанн медленно, не выпуская Иисуса из рук, стали опускаться, переступая с перекладины на перекладину, поддерживая тело за плечи и соблюдая такие предосторожности, словно Христос был еще жив и они боялись причинить ему новую боль.
Лонгин помогал им, но не без колебаний. Не потому, что сомневался в чем-либо: напротив, после того как к нему возвратилось зрение, он был полностью обращен в новую веру. Однако воин не знал, достоин ли он, нечестивец, касаться этого божественного тела.
Кроме нескольких вздохов, вырвавшихся у Богоматери, и редких всхлипываний Магдалины, стояла полная тишина, торжественная, почти молитвенная, и исполнители скорбного дела с величайшим почтением хранили ее. Лишь в самых необходимых случаях они, помогая друг другу, шепотом перебрасывались одним-двумя словами.
При каждом движении опускаемого тела Богоматерь и благочестивые жены вздрагивали, словно ожидая, что Иисус сейчас вскрикнет, и всякий раз у них сжималось сердце при мысли, что эти уста уже навсегда смолкли, что последний крик уже исторгнут.
Когда Иисуса опустили на землю, Богоматерь, продолжая простирать к нему руки, села на расстеленное для нее рядом покрывало и напомнила, что она требует для себя столь дорогой ценой купленного права исполнить последний долг и обрядить умершего.
Иоанн, Никодим и Иосиф Аримафейский подняли тело Иисуса и положили ей на колени. В это время Мария Клеопова и Саломия проложили свои скатанные накидки между спиной Богородицы и уступом скалы, чтобы ей было удобнее и легче исполнять свои скорбные обязанности.
Магдалина на коленях подползла к ногам Христа и, не осмеливаясь к ним прикоснуться, склонилась над ними, орошая их слезами.
Глаза Иисуса остались открыты. Первым движением Пречистой Девы было закрыть их своими губами. Но чувство почтения удержало ее: мертвый Иисус был ей сыном лишь в силу ее материнской любви. Покинув этот мир, он стал Богом!
И мягким движением руки она закрыла ему глаза.
Потом она попыталась снять терновый венец.
Его трудно было отвести от головы: с одной стороны его вдавил крест, с другой — после одного из падений Иисуса он крепко и глубоко вонзился в лоб. Богоматерь обрезала каждый из шипов, вошедший в череп, затем сняла сам венец и положила его рядом с гвоздями. Оставались шипы: Мария клещами вытащила их один за другим из нанесенных ими ран и сложила около венца.
Тем временем мужчины в нескольких шагах от них готовили благовония и притирания, необходимые для умащения тела Христова, а женщины на костерке из древесных углей, разведенном между двумя каменными выступами, подогревали воду в медной лохани.
Удалив терновый венец, Богоматерь с нежностью обмыла прекрасный и печальный лик Спасителя, на который смерть наложила печать высшего благородства. Под благоговейно заботливыми руками Пречистой Девы почти неузнаваемое вначале лицо понемногу приобрело выражение несказанного милосердного покоя и мира.
А Магдалина, молитвенно сложив руки и устремив на него глаза, лишь повторяла:
— Прекрасный Господин мой, Иисус, прекрасный Господин мой!..
Омыв лик своего сына, Богородица разделила волосы на пробор и убрала их за уши, затем расчесала бороду, умастила ее и волосы. Но ее горестный труд на этом не кончился.
Увы! Все тело божественного мученика было как одна сплошная рана, и вид каждой раны наносил подобную же в сердце бедной матери!
По плечу тянулась ужасная ссадина — след перекладины креста. Вся грудь была избита и рассечена ударами лоз и плетей во время бичевания и крестного пути. Под правым соском виднелась маленькая ранка, через которую вышло копье Лонгина, а между нижними ребрами слева чернела большое отверстие, куда копье вошло…
Мария промыла все раны одну за другой, и от благовонной воды, струившейся сквозь ее пальцы, тело приобретало мраморную белизну и голубоватую бескровность. Лишь там, где кожа была повреждена или сорвана, виднелись пятна коричневые или красные, в зависимости от того, насколько сильным было увечье.
Каждую рану протерли мазями и умастили благовониями, так же поступили с ранами от гвоздей на руках и ногах. Только перед тем как сложить на груди, уже обернутой тканью, руки своего богоданного сына, Пречистая Дева легко и почтительно коснулась их губами.
И тут же в смертельной усталости, как если бы силы были ей отмерены только на то, чтобы завершить этот скорбный труд, она уронила голову рядом с головой Иисуса и застыла почти без чувств.
Когда Богоматерь вновь открыла глаза и посмотрела вокруг, она увидела, что Иосиф и Никодим стоят подле нее в ожидании.
Иоанн же опустился рядом с ней на колени.
— Что вы хотите от меня? — спросила Пречистая Дева почти что в ужасе.
Иоанн объяснил: время уходит, недалек первый час дня субботнего, и поэтому пора расстаться с телом возлюбленного сына.
Руки Марии упали, голова ее откинулась назад.
— Так возьмите же его, — сказала она.
Затем, воздев сложенные ладони к небу, воскликнула:
— О сын мой, богоданный сын мой! Дай мне силы сказать тебе "прощай"…
Тем временем Иосиф и Никодим бережно подняли тело Иисуса с материнских колен и унесли вместе с платом, на котором оно лежало.
Когда Богородица почувствовала, что ее колени более не отягчены божественной ношей, она вскрикнула как от боли, уронила руки наземь и голову на грудь.
Так она оставалась недвижною, пока на тело изливали ароматы и спелёнывали саваном, и очнулась, лишь когда к ней подошел Иоанн и сказал, что она может сопровождать бренные останки божественного чада своего до гробницы.
Гробница принадлежала Иосифу Аримафейскому; он некогда приказал высечь ее в камне для себя самого. Она имела восемь ступней в длину и помещалась в его саду, расположенном на одном из склонов Голгофы в сорока шагах от места, где был распят Христос.
Похоронная процессия тронулась, Христа положили на носилки, покрыв их плащом Иоанна; Иосиф и Никодим стали в ногах Иисуса, а Иоанн и Лонгин — в изголовье; воины шли впереди с факелами, потому что уже настала ночь, а под каменным сводом гробницы темнота должна была еще сгуститься.
За носилками шла Мария, поддерживаемая Магдалиной, за ними — Саломия и Мария Клеопова. Вероника и Иоанна, жена Хуза, а также Сусанна и Анна, племянница Иосифа, присоединились к ним по пути.
У входа в сад Иосифа Аримафейского все остановились, поскольку он был обнесен частоколом. Пришлось вынуть из ограды несколько кольев, чтобы процессия смогла пройти внутрь.
Уже открытый склеп ожидал своего бесценного обитателя.
Благочестивые жены остались у входа, внутрь с мужчинами вошла одна лишь Богоматерь, а Магдалина принялась рвать в саду самые красивые цветы.
Пречистая Дева усыпала благовонными травами и полила ароматами выемку, высеченную в скале, сделала в ней подушку из пахучей листвы там, где должна была лежать голова Спасителя. Мужчины поставили носилки на землю, расстелили в могильной выемке плат, положили на него тело, завернув свободный конец ткани сначала на ноги, потом на голову, а затем подвернув ее с боков.
Все это время Богоматерь плакала в глубине склепа.
Когда же стали двигать могильный камень, вошла Магдалина с огромной охапкой цветов.
— Подождите, подождите! — сказала она и усыпала цветами саван, шепча:
— Счастливы эти цветы!..
Тут Иосиф, Никодим, Иоанн и Лонгин вчетвером надвинули тяжелый камень на могилу, крышкой которой он стал, бережно, почтительно вывели из склепа Богоматерь и Магдалину и вышли сами, закрыв за собой дверь.
Возвращаясь в город, они встретили Петра, Иакова-старшего и Иакова-младшего; все трое плакали, но Петр рыдал горше других: он не мог утешиться, что не был при последних часах и на погребении учителя и поминутно шептал, бия себя в грудь:
— Прости, что я отрекся от тебя, божественный учитель, прости, прости!..
Мужчины, вернувшись в дом Илия, переоделись и в спешке доели остатки пасхальной еды, ожидавшей их со вчерашнего дня; в это время благочестивые жены проводили Марию в домик у подножия Давидовой крепости, где их встретила Марфа, прибывшая из Вифании с самарянкой Диной и вдовой из Наина, чьего сына вернул к жизни Христос.
Что касается Лонгина, то он направился прямо к Пилату, чтобы доложить о происшедшем. Хотя прокуратор уже выслушал отчет Авена Адара, тем не менее, он отнесся со вниманием и к рассказу Лонгина.
Римский наместник чувствовал себя разбитым: беседа с женой в предыдущую ночь, увиденное собственными глазами днем, то, что поведал ему Лонгин, — все это составляло одну непрерывную цепь сверхъестественных происшествий и чудесных событий, поселивших в его душе сильнейшее сомнение.
И все же прокуратор попытался улыбнуться.
— Послушай, — обратился он к Лонгину, — сейчас отсюда вышли начальники иудейские, фарисеи и книжники. Так вот, они объявили мне: "Господин, этот самозванец, преданный смерти по твоему приговору, не постеснялся утверждать, что воскреснет через три дня после своей кончины. Повели же, чтобы гробницу его охраняли, а то мы боимся, как бы под покровом ночи ученики не выкрали тело, иначе они потом скажут, что произошло новое чудо". Тогда я им ответил: "У вас есть ваша собственная стража, поступайте как вам угодно, ибо полагаю, что ваши воины будут стеречь истовее моих…"
— Действительно, — подтвердил Лонгин, — идя к тебе, господин, я повстречал центуриона Авена Адара и шесть солдат, которые шли в сторону Голгофы.
— Вот-вот, — сказал Пилат. — Так присоединись к ним, и, если случится нечто необычайное, тотчас поспеши доложить мне, когда бы это ни произошло.
— Но если Авен Адар отошлет меня? Я ведь не вхожу в число тех, кого послал первосвященник. Что мне тогда делать? — спросил Лонгин. — Авен Адар выше меня по должности, и, следовательно, я обязан ему подчиниться.
— Ты скажешь, что пришел от меня. К тому же я назначаю тебя центурионом, теперь вы равны. Иди, облачись соответственно новой должности и ступай к гробнице.
Лонгин поклонился и вышел.
Придя к гробнице, он нашел там Авена Адара и с ним шестерых стражей: двое сидели в пещере, четверо сторожили вход. Для большей надежности приглашенный кузнец наложил цепи и пломбы на камень, служивший крышкой Иисусовой могиле.
Весь следующий день, суббота, по израильскому обычаю, прошел в отдыхе и молитве. Что делали Мария и благочестивые жены? Ответ прост: они плакали.
Затем, когда начался день воскресный, они раздобыли новый запас мастик, благовоний и мирры, пожелав в последний раз умастить тело Иисуса.
Было почти три часа утра, когда они собрали и сложили все, что нужно для этого, и покинули маленький домик. Но, убоявшись, что Древние ворота охраняются и стража не пропустит их, они прошли из града Давидова в Нижний город, проследовали по долине Тиропеон, вышли через Рыбные ворота, обошли вдоль всей восточной стены города между горой Гион и Долиной мертвых. В час, когда первые лучи осветили вершину Масличной горы, они достигли подножия Голгофы. Богоматерь несколько отстала, собираясь присоединиться к ним позже.
Ворота, вернее проход в сад, был свободен. Благочестивые жены вошли. Их вела Магдалина, шедшая первой. За ней робкой и дрожащей кучкой двигались остальные. Они остановились перед дверью склепа, а Магдалина ступила внутрь…
Но вдруг из склепа донесся крик. Женщины бросились туда. Кричала Магдалина. Она глядела на солдат, лежащих уткнувшись лицом в землю, на отодвинутую крышку гроба, в котором никого не было. У изголовья стоял прекрасный, весь в белом, подросток с ангельскими крылами и сиянием вокруг головы!
Умиротворяющим жестом протянув руку к ней и благочестивым женам, он произнес:
— Ничего не бойтесь. Вы ищете Иисуса из Назарета, что был распят… Он уже не здесь, ибо этой ночью он воскрес и вознесся на небеса, где его место одесную его Отца!.. Теперь идите и скажите Петру и другим ученикам, что Иисус идет впереди вас в Галилею и встретится с вами на горе Фавор.
От звука его голоса и самого его вида, от зрелища открытой могилы и лежащих воинов, столь недвижимых, что их можно было бы счесть мертвыми, — от всего этого благочестивые жены прониклись ужасом. Они поспешили в обратный путь, растерянные, испуганные, и каждая бежала так быстро, как позволяли ей силы. При том все они причитали:
— Горе, горе! Украли Господа из его гроба, а мы не знаем, куда его унесли!..
Осталась одна Магдалина. Святая любовь, какую она питала к Христу, была столь глубокой, что в ее сердце не осталось места для иных чувств. Рыдая, она пала на колени, простирая руки к опустевшему гробовому ложу.
Ангел поглядел на нее и голосом, полным милосердия, спросил:
— Почему ты плачешь, женщина?
— О, я плачу, — отвечала Магдалина, без доверия выслушавшая то, что он сказал ранее, — я плачу, потому что украли тело моего возлюбленного Господа и я не знаю, куда его положили.
Но тут она увидела около себя как бы сияние. Обернувшись, она заметила человека, стоявшего с киркой в руке.
— Женщина, почему ты плачешь? — задал он тот же вопрос, что и ангел.
Подумав, что это садовник Иосифа Аримафейского, она отвечала:
— О друг мой, если это ты унес его отсюда, скажи, куда ты его дел?
Но тут мнимый садовник, оказавшийся не кем иным, как Иисусом, произнес своим обычным голосом и очень мягко:
— Магдалина!..
При этом слове она вздрогнула и с радостным криком: "Мой сладчайший повелитель!" — бросилась перед ним на колени.
— Магдалина, — с улыбкой сказал Христос, — я обещал вознаградить тебя за твою любовь и тебе первой объявиться после воскресения… Ты видишь, я сдержал слово.
Магдалина пыталась поцеловать ноги Иисуса, но его тело было неуловимо воздушным, как туман.
— А теперь, — продолжал он, — иди и расскажи Петру и другим ученикам, что ты видела и слышала. Пусть идут на гору Фавор, мы там встретимся.
Подобно облаку, тающему, исчезая в вышине, небесный пришелец стал бледнеть, становиться все более прозрачным и наконец совсем растворился в эфире.
Тогда Магдалина, вне себя, встала и выбежала, крича, как безумная:
— Радость, радость! Господь воскрес!..
Так голос грешницы возвестил всему миру, что Искупитель вознесся на небеса.
Тут один из воинов, лежавших на земле, словно бы проснулся. Он открыл глаза и приподнялся на локте.
— Что это было? — спросил он товарищей. — Я почувствовал, как земля уходит из-под ног, и рухнул прямо в пыль!
Второй воин, очнувшись, пробормотал:
— Не пойму что-то. То ли мне почудилось, то ли вправду я видел, как пламя слетело с небес в эту могилу.
И третий сказал:
— Послушайте, вы что, тоже его видели? Он разбил могильную плиту головой и весь в сиянии поднялся на небо!
В свою очередь вскочил на ноги и Авен Адар. Он приказал:
— Пусть каждый, кто еще жив, встанет и отзовется!
Шестеро воинов откликнулись:
— Мы здесь!
— Хорошо, — сказал Авен Адар. — Не хватает только Лонгина.
Но Лонгин в это время уже отправился держать отчет перед Пилатом. Тогда Авен Адар заключил:
— Что ж, друзья, мы здесь больше не нужны. Идем во дворец к Каиафе. Засвидетельствуйте вместе со мной, что мы видели, и объявим первосвященнику и всему синедриону, что гроб пуст.
В сопровождении воинов Авен Адар поспешно покинул сад, и гроб остался под охраной ангела.
И вот этот гроб — единственный, откуда никто не выйдет в день Страшного суда — уже восемнадцать веков продолжает быть местом поклонения всего христианского мира под именем Гроба Господня.
Поскольку пророк Исайя сказал: "И покой его будет слава!"
И дарует Господь тому, кто пишет эти строки, милость сотворить смиренную молитву, прежде чем он отойдет в мир иной!
Часть вторая
XXI АПОЛЛОНИЙ ТИАНСКИЙ
Коринф, Коринф! Некогда лишь избранные имели случай посещать тебя. Ныне же взору путешественника, идущего дороге из Немей, ты представляешься невзрачным городком. Над крепостными стенами возвышаются семь колонн — остатки храма, посвященного неизвестному божеству. Коринф, ты дитя Эфиры, а сестры твои — Афины и Спарта. Коринф, родина Сизифа и Нелея, царство Медеи и Ясона!
Как, должно быть, ты был хорош, когда влюбленные в тебя Аполлон и Нептун оспаривали друг у друга честь обладания тобой и, не желая уступить, позвали в судьи титана Бриарея. Он присудил тебя богу моря с условием, что возвышающаяся над тобой гора будет принадлежать богу дня.
Коринф, Коринф! Ты был столь любим Венерой, что она даровала тебе спасение, вняв мольбам своих жриц — твоих куртизанок. Ты, выкупив у афинян рабыню Лаис, сделал ее своей любимейшей дочерью и воздвиг ей гробницу, украшенную изумительной скульптурой львицы, лапой придерживающей барана — символ безграничной власти! Коринф, утоляющий жажду неиссякаемыми слезами нимфы, оплакивающей смерть своего сына, которого случайно задела стрелой богиня охоты. Как, должно быть, ты был хорош во время Истмийских игр, привлекавших всю Грецию на узкий перешеек, отделяющий Саронийский залив от моря Алкионы! Изящно и плавно раскинувшись на склоне священной горы, ты взирал на корабли, подходившие с двух сторон в твои порты из Тира и Массилии, Александрии и Кадиса и наполнявшие твои обширные склады богатствами Востока и Запада.
Коринф, Коринф! На твоих улицах храмов было не меньше, чем домов, а на площадях столько статуй, сколько колосьев в поле. Коринф, когда ты смотрел на восток, то видел Афины, на север — Дельфы, на запад — Олимпию, а на юг — Спарту. Коринф, в триумфальную перевязь твоих побед вплетены Саламин, Марафон, Платеи и Левктры, и на ней вышиты имена Фемистокла, Мильтиада, Павсания, Эпаминонда и Филопемена. Как, должно быть, ты был прекрасен, когда Арат принес тебе освобождение от македонян, некогда покоривших тебя, и включил в Ахейскую лигу! Это и стало причиной твоей гибели: покоритель мира Рим поднялся против тебя и превратил всю Грецию в одну провинцию. Сто вольных городов стали рабами, скованными одной цепью.
Коринф, Коринф! Беспощадный завоеватель обрек тебя на восьмидневный пожар. Из золота твоих сосудов, серебра светильников и бронзы статуй, расплавленных во всепожирающем пламени, был создан металл драгоценнее любого из когда-либо рождавшихся в недрах земли. Коринф! Ты не был разрушен Ксерксом, но пал перед войском Муммия. Возродившись из руин, ты стал еще роскошнее: оделся мрамором, дарованным Юлием Цезарем и Августом. Возникли театр и стадион, амфитеатр и храмы Нептуна, Палемона, Киклопов, Геракла, Цереры, Соблазна. Был там и храм Куртизанок. Их заступничество спасло тебя в первый раз, но не смогло спасти во второй.
Твои площади украшали изваяния Амфитриты, Ино, Беллерофонта, Венеры, Дианы, Бахуса и Фортуны, а Меркурию было установлено две статуи, Юпитеру — три и целая сотня — атлетам-победителям. Были построены бани Елены, Эвриклеи, Октавии… Вспомним, наконец, гробницы Ксенофонта, Диогена, детей Медеи, Схойнея и Лика Мессенского!
И вот, в конце месяца гелафеболиона ты, прекрасный Коринф, еще не разоренный тремя разрушительными жатвами статуй и картин, свезенных Римом из твоих храмов, с твоих площадей и улиц, мог бы с удивлением наблюдать человека, сошедшего с одного из легких суденышек, что бороздят Эгейское море и скользят, как алкионы, между его островами. Он пешком прошел под ветвями одинокой сосны на восточном побережье, оставив слева алтарь Меликерта, а справа — кипарисовую рощу, растущую вдоль укреплений, названных в честь Беллерофонта. У стража Кенхрейских ворот он справился, где можно найти философа Аполлония Тианского. Получив ответ, что тот, кого он ищет, наверное, беседует с учениками под сенью платанов у источника Пирены, неизвестный стал карабкаться по извилистой тропе, ведущей к Акрокоринфу, даже не бросив взгляда на город.
Тот, о ком справлялся путешественник, действительно был там, и нет ничего удивительного, что первый же встречный смог правильно указать это место. Уже целый месяц как философ, чье имя все произносили с удивлением и восхищением, вернулся в Коринф в сопровождении пяти или шести своих учеников, с которыми посетил Азию, Индию, Египет и Италию. Не трудно понять любопытство, возбуждаемое этим необыкновенным человеком, притягивающим к себе всеобщее внимание. В противоположность незнакомцу, прибывшему через Саронийский залив и высадившемуся в Кенхрейской гавани, философ прибыл со стороны моря Алкиона в Лехейскую гавань.
Никто в то время не мог сравниться с Аполлонием Тианским, одаренным столь невероятными способностями, что возводили смертного из ранга мудрецов, философов и героев в ранг полубога. У него было все: выдающиеся таланты, доброе имя, красота, почти божественное рождение.
Благодаря то ли тайным ухищрениям науки, то ли врожденному дару, то ли покровительству богов Аполлоний обладал преимуществами, с первого взгляда поражающими и простых людей, и утонченные души. Приближаясь к шестидесяти, он выглядел как человек, едва переступивший порог первой молодости. Хотя никто не замечал, чтобы он особенно предавался изучению языков, все наречия мира были ему знакомы. Иногда, внимательно прислушиваясь к шуму деревьев, пению птиц или крику диких животных, он даже развлекался тем, что переводил окружающим эти звуки природы, будь то рев зверя или шелест травы. Как и последователи Пифагора, он полагал, что животные имеют душу и что они меньшие наши братья. Он исповедовал максиму Пифагора и его последователей: Бог — абсолютное единство, начало начал; мир построен гармонично, его центр — Солнце, а другие небесные тела лишь спутники, вращающиеся вокруг него, порождая божественную музыку сфер. По мнению самосского мудреца и самого Аполлония, Бог един на небесах, на земле же добро едино, а зло многообразно. Как и Пифагор, Аполлоний увлеченно занимался арифметикой, геометрией, астрономией и музыкой. Числам, по его убеждению, присущи чрезвычайные свойства, особенно числу "X". При помощи их, утверждал он, можно постичь самые отвлеченные и даже невидимые глазу вещи. Кроме всего прочего, небеса наделили Аполлония сверхъестественной проницательностью. Он умел читать самые сокровенные мысли людей, приходивших к нему, даже если видел их впервые и никогда ранее о них не слышал. Пришелец не успевал открыть рот, чтобы выразить свое желание, а мудрец уже знал о нем все.
Он долго жил в Эгах и почти все время пребывания там посвятил занятиям медициной в храме Эскулапа под присмотром жрецов, служителей этого сына Аполлона, причисленного к богам за благодеяния, оказанные человечеству. Закончив учение, Аполлоний занялся врачеванием, более походившим на чудотворство. Он победил чуму, которая успела охватить целую область, исцелил одержимого, в которого вселился демон. Он вызывал тени умерших и беседовал с ними. Наконец, решив пополнить знания, полученные в Греции, науками, известными в других странах, Аполлоний всего с двумя или тремя учениками отправился в далекое путешествие. Он побывал в Малой Азии, Месопотамии, Вавилоне. Затем пересек Кавказ, прошел по берегам Инда, пробыл некоторое время у царя Фраота, проник в Индию, достиг Замка мудрецов, беседовал с учеными браминами и даже с самим Иархом, который был в Индии тем же, кем Аполлоний был в Греции.
Убедившись, что эти обладатели древней премудрости не могут научить его ничему, чего бы он не знал, Аполлоний продолжил путешествие. Возвращаясь через Египет, он виделся и беседовал с Эвфратом и Дионом и пролил свет на чудеса Мемнона. Пытаясь отыскать истоки Нила, он поднялся выше третьего порога. В тех местах он встретил и укротил сатира. Затем он спустился до Александрии, где поразил всех ученых своими рассуждениями о золоте, которое несет Пактол, и о древности мира. В Антиохию он прибыл во время землетрясения, объяснив его причину и предсказав его конец; там он нашел клад, передав его бедному отцу семейства, имевшему четырех дочерей на выданье, вернул здравый рассудок юноше, влюбленному в статую Венеры, и вылечил больного бешенством. В Ионии его приняли за божество; оттуда он отправился в Аттику и наконец в Афины, посетив по дороге Элевсин. Затем он пересек Мегариду и достиг Коринфа, где уже несколько дней, как было сказано, привлекал к себе всеобщее внимание.
Необходимо учесть, что коринфяне всегда были весьма падки на чудеса. Зная преклонный возраст Аполлония, они были потрясены при виде человека лет тридцати — именно на столько выглядел философ — с прекрасными развевающимися волосами, в которых сверкал золотой обруч, с красивой черной бородой, изящно завитой на восточный манер, с живыми, полными юного задора глазами. К тому же в любую погоду он ходил босиком, в белой тоге, надетой на голое тело и перехваченной льняным поясом. Коринфяне с трудом могли поверить, что это Аполлоний, пока один старый человек, смолоду живший в Тиане, не рассказал им историю его удивительного рождения и они, увидев в нем не человека, а полубога, перестали сомневаться.
Предание донесло до нас этот поэтичный рассказ. Согласно ему, Аполлоний, как то явствует из его имени, родился в Тиане. Этот каппадокийский город расположен между Тарсом и Кесарией. Когда его мать была беременна им, ей явился Протей, сын Нептуна и Феники. Мать спросила у божества, каков будет новорожденный, и получила ответ: "Второй Протей!" При этом надо заметить, что у древних чудесные сны почти всегда считались вещими. Странное предсказание побудило будущую мать обратиться к очень известной в том краю сивилле. Та в свою очередь истолковала слова бога в том смысле, что сын, рожденный от нее, будет совмещать в своем уме столько всевозможных знаний, сколько различных свойств воплощено в самом Протее. Так заранее было предопределено, что Аполлоний Тианский станет самым ученым из всех смертных.
Еще до его появления на свет все предвещало необыкновенность ожидаемого ребенка. Перед самыми родами его мать посетило еще одно видение: женщине приснилось, что она гуляет на поляне недалеко от Тиана и на каждом шагу ей попадаются прекрасные, редкие, невиданные цветы, достойные быть возложенными к алтарю Флоры. Утром она захотела посетить именно это место, известное, кроме всего прочего, своим чудодейственным Асбамейским источником. Стоило клятвопреступнику случайно или намеренно, а то и по принуждению омочить в нем руки, как ледяная вода вскипала, поражая его столь жестокой болью, что, сделав несколько шагов, несчастный падал в страшных муках и вынужден был признаться в содеянном.
Так вот, неслыханное чудо явила собой эта лужайка, вся покрытая дивными цветами, каких никто не видывал в той стороне. Наперсницы матери Аполлония, придя к источнику, разбежались, словно нимфы, поспорив, кто составит лучший букет. Но госпожа не последовала их примеру, охваченная неодолимым желанием лечь на траву и заснуть. И тут большая стая белоснежных лебедей окружила ее. Птицы все теснее обступали спящую, пока не приблизились вплотную к ней, и вдруг, точно повинуясь небесному приказу, запели стройно и нежно и забили крыльями, освежая воздух над ее головой. От звуков почти божественного пения, от ощущения ласкового воздуха женщина проснулась, открыла глаза и, удивленная невиданным зрелищем, произвела на свет самое прекрасное дитя, появившееся с тех пор, как богини перестали рожать на земле.
Это и был Аполлоний Тианский, что ныне стоял на вершине Акрокоринфа — в белой тоге, с золотым обручем в волосах и завитой на персидский манер бородой. Источник Пирены журчал у его ног, тень священных платанов трепетала над его головой. Он беседовал со своими учениками не только о тонкостях философии Пифагора, но и об основах других учений, словно в него вселились души Зенона, Аристотеля, Платона и Хрисиппа.
С высокой вершины перед Аполлонием и его учениками открывался вид на два моря и обширные окрестности: на восток — до мыса Суний, на север — до горы Киферон, на запад — до Ахайи, а на юг — вплоть до Микен. Они видели и того самого путника, что полчаса назад высадился в Кенхрейской гавани, а теперь шагал в гору по крутой каменистой дороге, ведущей к цитадели.
По мере его приближения стало ясно, что он направляется к Аполлонию. Внимание учеников, окружавших знаменитого философа, отвлеклось от беседы, сосредоточившись на путнике. Вопреки своей привычке с первого взгляда оценивать незнакомого человека, угадывая страну, откуда он прибыл, его религию и даже настроение, Аполлоний разглядывал чужака с напряженным любопытством, граничившим с изумлением. Его удивление было заметно по взгляду, особенно пристальному, и по внезапному молчанию — он даже поднес палец к губам. Один из учеников по имени Филострат спросил:
— Учитель, кто этот неизвестный, чей приход, похоже, так сильно тебя занимает? Что ему нужно? Это друг? Враг? Твой почитатель? Противник нашей школы? А может, это просто посланец одного из тех царей, который оказывал нам гостеприимство, или мудрецов, у которых мы жили?
Аполлоний покачал головой.
— Ни то, ни другое, ни третье, — отвечал он, — это нечто большее… Никто не посылал его, ни властители, ни ученые. Он идет по собственной воле. Ему мало дела до наших теорий и школ. Отвлеченные споры мудрецов чужды ему, им владеет мысль, толкающая к действию. Он скорее друг, чем недруг. Он явился из отдаленных краев, чтобы искать во мне посредника. И он его найдет, ибо противник, выпавший на его долю, достоин нас. Он настолько же выше обыкновенных людей, насколько вершины платанов выше этого источника, насколько парящий в облаках орел выше вершин платанов. И наконец, мои дорогие ученики, к стыду моему, должен признаться, что его цель столь возвышенна, что я не могу постичь ее. Вопрос, который он задаст мне, столь труден и отличен от всего, чем обычно интересуются простые смертные, что я буду вынужден ему ответить: "Я не знаю".
Пораженные ученики переглянулись: впервые они услышали подобные слова из уст учителя.
— Мое смирение удивляет вас, — заметил Аполлоний. — Но запомните: истинная мудрость — в сомнении. Лишь истинные ученые осмеливаются на некоторые вопросы отвечать: "Я не знаю"!
— И все же, — промолвил второй ученик по имени Алкмеон, — скажи нам, что ты знаешь об этом человеке.
— Он горд и мрачен. Если бы, как наш божественный учитель Пифагор, он присутствовал при осаде Трои, то носил бы имя Аякса Оилида, этого великого хулителя богов.
— А откуда он прибыл? — спросил третий ученик.
— Его след теряется на побережьях, на границах пустынь, на краю лесов… Откуда он сейчас?.. Из Индии… Где он был с тех пор, как пустился в путь? В странах столь отдаленных, что мы и названий их даже не знаем. Он готовится задать мне вопрос, но за ответом я буду вынужден отослать его к другому. На его вопрос не ответили ни маги Азии, ни жрецы Египта, ни брамины Индии.
— Но ведомо ли тебе, о чем он собирается спросить?
Аполлоний снова внимательно пригляделся к путнику, теперь находившемуся от него не далее двадцати шагов.
— Да, ведомо.
— Что ему надо знать?
— Где отыскать золотую ветвь Энея…
— Стало быть, он, подобно Энею, хочет спуститься в ад?
— Он хочет пойти еще дальше.
Ученики снова переглянулись. Мало сказать, что эти слова Аполлония изумили их: они были совершенно ошеломлены.
— Так куда же этот дерзкий смельчак хочет попасть? — спросил Филострат.
— Тихо! — оборвал ученика Аполлоний. — Это его тайна. Если мне дано проникать в секреты других людей, то я не властен разглашать их.
Он шагнул навстречу путешественнику и. протянув руку, сказал:
— Исаак Лакедем, от имени Юпитера Гостеприимного Аполлоний Тианский приветствует тебя!
Путник застыл, пораженный, не ответив на приветствие ни словом, ни жестом.
— Ты мне не отвечаешь, — продолжал Аполлоний со свойственной ему мягкой, доброжелательной улыбкой. — А между тем ты меня понял, не так ли? Хоть ты из сынов Моисея, язык Гомера известен тебе.
— Ты прав, — произнес Исаак. — Я понял, но я в сомнении.
— В чем же ты сомневаешься?
— В том, что ты действительно Аполлоний Тианский.
— Почему?
— Потому что Аполлоний Тианский родился на двенадцатом или тринадцатом году консулата Августа, учился в Тарсе со стоиком Антипатром, философом Архедемом и обоими Афинодорами. Следовательно, ему должно быть около шестидесяти лет… а тебе не дашь больше половины этого возраста.
— Исаак, — заметил Аполлоний, — разве тебе не известно лучше, чем кому бы то ни было, что есть люди, которые не стареют?
Пришелец вздрогнул.
— Но полно, — продолжал философ. — У тебя есть письмо, предназначенное мне, дай же его.
— Если ты знаешь о письме, то должен знать, от кого оно.
— Оно от человека, которого ты нашел на холме в центре мира. Он живет там во дворце с шестью другими мудрецами. Дворец по воле его обитателей то видим, то невидим. Когда Бахус с Гераклом захватили Индию, крепость на холме отказалась сдаться. Оба сына Юпитера приказали сатирам, сопровождавшим их, пойти на приступ. Но нападение было отбито. Геракл и Бахус захотели узнать, кто так хорошо защищал крепость. Оказалось, что там всего-навсего семь мудрецов. Но так как они были самыми учеными людьми на земле, то совокупная сила их мудрости могла противиться даже воле богов. Боги пощадили эту гору, и с тех пор на ней постоянно пребывают семь самых ученых браминов Индии. Ты явился сюда по совету их главы, Иарха.
— Верно. А теперь скажи, где он был, когда передавал мне это письмо?
— Он восседал, окруженный золотыми статуями на сиденье из темной бронзы.
— А что он сказал, услышав мой вопрос, ответа на который не имел?
— Что тебе трижды будет сказано "Я не знаю", пока ты не услышишь "Я знаю".
— А по какому знаку я должен тебя опознать?
— Задав мне три вопроса по твоему выбору: о животных, о вещах или людях, что окружают меня.
— Это так, — подтвердил пришелец, извлекая из складок своего одеяния пергаментный свиток. — Ты истинно Аполлоний Тианский. Вот письмо Иарха.
Аполлоний распечатал свиток, поцеловал подпись и, прочтя письмо, обратился к путешественнику.
— А теперь, Исаак, пока главный вопрос, томящий тебя, не будет разрешен кем-то более мудрым, чем я, каковы твои второстепенные вопросы?
Исаак помедлил, огляделся и, заметив воробья, стремительно слетевшего на дорогу, дерево, трепетавшее листвой, хотя не было ни ветерка, и молодую женщину, выходившую из храма Венеры Победительницы, спросил:
— Я хочу знать, какую весть сообщил этот воробей себе подобным, что роются здесь в пыли, почему эта осина дрожит при безветрии и, наконец, кто эта женщина?
XXII НЕМЕЙСКИЙ ЛЕС
Аполлоний улыбнулся, как человек, ожидавший услышать более сложные вопросы. Он прислушался к чириканью птички и, обратившись к Исааку, произнес:
— Что прилетел сообщить этот воробей своим собратьям? Вот слово в слово: "Вы что, с ума сошли, тратя время на несколько жалких семян проса, сурепки или конопли, когда за крепостью только что проехал на осле мельник с мешком зерна? Сейчас он там кричит, проклиная его, ведь мешок лопнул, и вся дорога усыпана зерном. Летите быстрей! Спешите! Все воробьи округи уже пируют. Не поторопитесь, так вам не достанется. Скорей! Летите же!"
В самом деле, едва Аполлоний закончил свои пояснения, воробьи, казалось внимательно выслушав, что сказал, а вернее, прочирикал их собрат, стремительно взлетели и опустились в сотне шагов от них.
— Но как доказать, — спросил Исаак, — что ты правильно понял эту птицу и твой перевод точен?
— О, это очень просто, — ответил Аполлоний, — посмотри и увидишь.
Исаак и Аполлоний, сопровождаемые учениками, направились к повороту дороги, куда указал философ. Через несколько шагов перед ними открылась на пять или шесть стадиев дорога.
Она вся была усыпана зерном, и множество птиц жадно клевали посланное фортуной угощение. Вдалеке можно было еще рассмотреть мельника, осла и мешок.
— Верно! — признал Исаак. — Теперь об осине.
— Почему она дрожит, хотя нет ветра? — повторил вопрос Аполлоний. — Сейчас узнаю от нее самой.
Несколько минут он сосредоточенно вслушивался в жалобный шелест листьев дерева. Затем, подобно переводчику, обязанному объяснить иноземцу смысл речи, внятной ему одному, он обратился к Исааку:
— Бог, предугаданный Эсхилом, тот, что должен был умереть за людей, принял смерть на кресте. Агония была медленной, он страдал невыразимо… Где это случилось? — продолжал Аполлоний, как бы стараясь удержать исчезающее видение, — где это?.. Я об этом ничего не знаю… Когда?.. Мне неведомо…
Руки Исаака сжались в кулаки. Слова, произнесенные Аполлонием Тианским, вызвали страшное воспоминание.
— Я знаю это. Продолжай.
— Все сущее участвовало в этой агонии, — повествовал далее мудрец из Тианы. — Солнце заволокло кровавой тучей. Гром рвал небо огненными бороздами. Человек в испуге простирался ниц. Зверь, житель лесов, зарывался глубоко в норы. Птица укрывалась в чаще ветвей. Молчали цикады и сверчки. Ни одно насекомое не жужжало. Все живое онемело в величайшей скорби…
Иудей провел рукою по лбу.
— Да… да… — пробормотал он чуть слышно. — Я это видел… Продолжай.
— Лишь деревья, кустарники и цветы шептали на своем языке, — рассказывал Аполлоний. — То был глухой, угрожающий хор. Люди слышали его, но не понимали. Дамасская сосна шептала:
"Он сейчас умрет! В знак печали мои иглы потемнеют отныне и навеки…"
Вавилонская ива шептала:
"Он гибнет! От боли мои ветви выгнутся отныне к водам Евфрата…"
Виноградная лоза в Сорренто шептала:
"Он умирает! Пускай же в память о моем сострадании вино из моих кистей зовется "Lacrima Christi"[16]…
Кармельский кипарис шептал:
"Смерть подступает к нему! Безутешный, я стану вовек обитателем кладбищ, верным стражем могил…"
Сузский ирис шептал:
"Жизнь покидает его! В память о моем горе пусть золотая чашечка моего цветка будет отныне окружена лиловыми лепестками!"
Ипомея, прозванная "красою дня", шептала:
"Он угасает! В знак отчаяния мои цветы будут закрываться каждый вечер, чтобы раскрыться лишь поутру полными ночных слез…"
Так весь мир растений от кедра до иссопа стенал и плакал, вздрагивая, трепеща и содрогаясь от вершин до корней. Лишь один из надменных тополей оставался холоден среди вселенской скорби.
"Какое мне дело до страданий этого бога, умирающего за грехи людей? — бормотал он в свою очередь. (И ни одна из его ветвей не шевельнулась, ни один лист не дрогнул.) — Разве мы люди? Нет! Мы деревья. Разве мы преступны? Нет! Мы безгрешны!"
В это время в небе пролетал ангел, неся чашу, полную крови страждущего Бога. Услышав слова себялюбивого дерева, которое посреди всеобщей печали требовало себе привилегию остаться бесчувственным, он слегка наклонил чашу, и на корни злополучного тополя упала капля божественной крови.
"От тебя, не вздрогнувшего, когда вся природа содрогалась, отныне пойдет род дрожащей осины. И в летний полуденный зной, когда замирает малейший ветерок и деревья в лесах хранят неподвижность, давая путнику свежую тень, ты будешь трепетать от корней до вершины. Дрожать вечно…"
— Довольно, — прервал иудей с плохо скрытым нетерпением. — Ты хорошо рассказал и о воробье и о дереве. Остается женщина, молодая и обольстительная, что вышла сейчас из храма Венеры Победительницы. Что ты скажешь о ней?
— Ну, — с улыбкой ответил Аполлоний, — коль скоро мы, поговорив о животных и растениях, переходим к человеку: это уже другое дело. В человеке присутствуют маска и лицо, внешность и суть. А вот, кстати, и мой ученик Клиний. Он сможет тебе показать ее маску, видимость, а затем уже я в свою очередь раскрою тебе ее лицо и познакомлю с истинной сутью.
Действительно, с той стороны, куда удалилась незнакомка, к ним подбежал красивый молодой коринфянин. Его длинные ухоженные волосы развевались на ветру, прихваченные на висках лишь миртовым венком. Его большие черные глаза были полны огня, в них светилась любовь, а все лицо сияло молодостью.
Обе руки были вытянуты вперед, словно он хотел поймать и удержать призрак счастья.
Бросившись к Аполлонию, он с жаром, поцеловал руки наставника и, не замечая мрачного лица Исаака, воскликнул:
— Ах, учитель! Ты видишь перед собой самого счастливого из людей!
— Поведай нам твою радость, Клиний, — попросил Аполлоний. — Счастье подобно благовонию. Достаточно одного счастливого человека, чтобы все вокруг испытали радость.
— Учитель, я люблю и любим!
— Ты произнес сейчас два самых магических слова, какие знает человеческий язык.
— Я опасаюсь лишь зависти богов!
— Так расскажи нам, сын мой, как к тебе пришла эта любовь.
— Охотно, учитель! Я бы хотел, чтобы вся земля услышала гимн моему счастью… Внимайте же мне, сладостно шепчущиеся деревья, нежно поющие птицы, дивно благоухающие цветы! Слушайте меня, облака, скользящие в лазури, и вы, ручьи, бегущие в долинах, и ты, пролетающий ветерок! Я расскажу, как я узнал Мероэ!..
Исаак не сдержал нетерпеливого жеста, но Аполлоний положил ладонь на его руку:
— Разве неведомо тебе, — сказал он по-арамейски, — что встречный ветер мешает неопытному матросу, тогда как ловкому лоцману он помогает достигнуть гавани. Я — лоцман, ты — матрос. Слепец, позволь же вести тебя тому, кто зряч.
— Но знаешь ли ты, куда лежит мой путь? — возразил иудей на том же языке.
— Да… Только не знаю, как ты пойдешь.
— Скажи мне одно слово, подтверждающее, что ты понял, чего я хочу от тебя, и я буду ждать с терпением, достойным ученика Пифагора.
— Ты желаешь, чтобы я указал тебе дорогу или нашел проводника туда, где прялка прядет, где кружится веретено, а ножницы режут нить.
Исаак вздрогнул:
— Воистину, — воскликнул он, — Аполлоний, ты великий ученый, Иарх не солгал мне! С этого часа я твой. Слепец позволит вести себя тому, кто ясно видит.
Тогда Аполлоний обратился к Клинию:
— Продолжай, мы тебя слушаем.
Тот только и ждал разрешения, чтобы завести речь о своей любви, предварив ее, как мы сейчас увидим, рассказом о пережитых ужасах.
— Позавчера я возвращался из Микен, где немного задержался. Между тем я обещал матери вернуться к вечеру, так как назавтра была годовщина ее рождения. Она сказала, что почтет за дурное предзнаменование, если в такой день я буду вдали от нее. Учитель, ты знаком с моей матерью и знаешь о ее любви ко мне и моей нежности к ней. И хотя меня удерживали, я не захотел провести ночь вне стен Коринфа. Мне оседлали лошадь, и на исходе дня я отправился в путь. Друг, от которого я уезжал, богач Палемон, известен своей конюшней: его скакуны лучшие во всей Коринфии. Он выбрал для меня великолепного фессалийского жеребца — их у него четыре, и все они одного роста, с длинными гривами и хвостами, в белых и золотых пятнах, словно леопарды. Хозяин назвал их в честь четырех коней бога Солнца: Эоус, Эфос, Пироэнт и Флегонт. Мне оседлали Пироэнта. Он был достоин своего имени. Казалось, он дышит пламенем, извергая искры из ноздрей! В несколько минут я проскакал берег Астериона, все двадцать стадиев, отделяющих Микены от Немей. Сумерки застали меня недалеко от селения, на опушке леса… Мне уже приходилось раз двадцать пересекать этот лес и днем и ночью. Он мне знаком с детства так же хорошо, как сад моей матери. Я часто бывал со своими молодыми друзьями в знаменитой пещере, один из выходов которой закрыл Геракл, чтобы схватить ее страшного хозяина. Вот почему, ничуть не боясь заблудиться, я уверенно въехал под темную сень дубов, в выборе дороги полностью положившись на моего умного коня. Я знал, что он не собьется с пути. Но, видимо, чаша веселья на этот раз слишком часто обходила гостей или ее содержимое оказалось более опьяняющим, чем обычно, а может статься, в лесу и впрямь происходило нечто таинственное, только мне показалось, будто все привычные предметы приобрели странный вид. Стволы деревьев напоминали привидения в саванах. Их корни выползали из земли, шевелясь, словно змеи. Я подумал, что попал во власть дремотных видений, и провел рукой по глазам, чтобы проверить, не сплю ли. Но нет: глаза были открыты. С тревогой следил я за диковинными превращениями окружающих предметов. Испуганная лошадь моя между тем двигалась прыжками, поминутно взвиваясь на дыбы, шумно дыша и шарахаясь в сторону, будто встречала на пути препятствия, видимые ей одной. Я потрепал коня по шее, чтобы успокоить и приласкать. Грива его стояла дыбом и вся взмокла.
"Ну, Пироэнт, что случилось?" — спросил я.
Казалось, он понял вопрос. Умное животное заржало, и я, не без трепета, заметил, что в его ржании можно было расслышать что-то похожее на человеческую речь. Я умолк, но, сжав круп коня коленями, послал его вскачь, полагая, что на своем быстром скакуне за полчаса выберусь на опушку, если поеду прямо. Можно было подумать, что Пироэнт разделяет мое нетерпение. С рыси он перешел в галоп и помчался быстрее ветра. Так он был способен покрыть сотню стадиев в час, а весь лес, как я знал, тянется всего на шестьдесят. Тем не менее, потому ли, что я оказался в чьей-то магической власти, либо из-за того, что волнение не позволило мне точно определить время, но мне показалось, что уже больше часа я скачу среди этих призрачных деревьев и они сами мчатся так же быстро, как я.
"Вперед, Пироэнт, вперед! — кричу я лошади. — Смелее! Еще десять минут, и мы будем в Коринфе!"
Но он трясет головой и ржет человеческим голосом:
"В Коринфе? В Коринфе? Нет, этой ночью мы туда не попадем!"
Я так опешил, услышав это, что чуть не упал, по всем моим жилам пробежала дрожь, на лбу выступил холодный пот. Тем не менее, каким бы чудовищным ни казался этот диалог лошади и всадника, я нашел в себе смелость ответить Пироэнту:
"Почему же, добрый мой скакун, мы не доберемся этой ночью до Коринфа?"
"Потому что лес скачет вместе с нами, — ответил он. — Разве ты не видишь, что деревья и слева и справа куда-то мчатся?"
И действительно, как я уже говорил, деревья двигались и терлись при этом друг о друга ветвями со вселяющим ужас шорохом. Вспугнутые огромные птицы летали над моей головой, древесные корни скручивались в кольца и распрямлялись в таинственной мгле, как клубки змей, — так неистово устремлялись куда-то дубы, платаны и буки… Вдруг Пироэнт взвился на дыбы, и столь внезапно, что я, опытный наездник, едва не свалился на землю.
"Что ты делаешь, Пироэнт? — вскричал я. — Чего ты боишься? Еще несколько минут, и, повторяю, мы будем в Коринфе… Там тебя ждет великолепная подстилка из свежей соломы, смешанной с цветами, золотистый ячмень в яслях, чистая вода в кленовом ведре с серебряным ободом. Я сам принесу тебе ее из источника…"
Но Пироэнт, пятясь на задних ногах и молотя воздух передними, захрипел:
"Ты что же, не видишь? Не видишь?"
От ужаса у него вырывался огонь изо рта и ноздрей. Всмотревшись в темноту, я различил впереди на поляне, которую нам предстояло пересечь, какие-то смутные фигуры, движущиеся по кругу в голубоватых волнах тумана. До моих ушей донеслось неясное пение.
"Мне ни за что не пройти, — шептал Пироэнт. — Трава, по которой они ступали, сожжет мне ноги, воздух, который их факелы наполнили дымом, отравит нас обоих".
"Попробуй, постарайся, мой верный скакун! — сказал я ему. — Не забывай, что ты носишь имя одного из коней бога дня… Разве огонь боится пламени? Смелее, Пироэнт!"
"Нет, нет, ни за что! С ними фессалийская колдунья, предводительница их магического хоровода. Ее чары смертельны! Нет, нет, мне ни за что не пройти!"
Он продолжал пятиться с испуганным ржанием.
"Тогда, мой добрый скакун, возвращайся к Палемону. Ты знаешь дорогу к хозяйским конюшням. Видишь, я отпускаю поводья".
Получив свободу, Пироэнт развернулся и бешено помчался назад. Бедняге так хотелось вырваться из страшного леса! Но деревья, следовавшие за нами, когда мы держали путь на север, теперь кинулись в погоню с севера на юг. Те же птицы сновали меж ветвей, но теперь они летали еще стремительнее. Те же змеевидные корни ползли теперь быстрее. Позади нас неясные фигуры, покинув хоровод, туманной вереницей скользили по нашим следам, размахивая тусклыми дымящимися факелами. Их искры смешивались с искрами, летящими из-под копыт Пироэнта. Так безудержно скакали мы более получаса; я уже надеялся, что мы достигли опушки леса, когда заметил, что русло реки Астерион изменилось. Оно не проходило более между горами Трет и Апес, голые темные вершины которых виднелись из-за макушек деревьев! Вместо того чтобы течь от Клеон к храму Юпитера, река обтекала лес, став непреодолимой преградой. Великолепным прыжком Пироэнт достиг берега, но тут же встал на дыбы, как прежде на поляне. Астерион катил не воды, а огонь!.. Я тщетно пытался послать коня вперед, все еще думая, что это наваждение, сон, что зловещие звуки существуют лишь в моем воображении, а все эти огни потухнут, стоит лишь дунуть на них. Но Пироэнт снова и снова вставал на дыбы.
"Ну же, мой добрый конь! — уговаривал я его. — Вспомни о мосте между Немеей и Бембиной!.. Скачи к нему, скорей найди этот мост! В первом же городе мы остановимся, обещаю!"
Пироэнт затряс головой.
"Мост рухнул в реку, — прохрипел он. — Фессалийка столкнула его ногой… Мы не отыщем моста!"
"Пусть! Вперед! — закричал я. — Да посмотри же! Призраки приближаются! Или ты не слышишь смеха, не слышишь, как они бормочут во тьме?.. Что они шепчут?.. Да постой же, я не разбираю слов… "В бездну! В бездну!" О чем это они?.. А, да вот же они, совсем рядом! Пироэнт, пусть у тебя вырастут крылья химеры, скачи!"
Я понукал его криком, колотил по бокам коленями, пятками, а он, обезумев от страха, несся быстрее орла, быстрее стрелы, быстрее молнии! Началась скачка, но не по прямой с юга на север или с севера на юг, а по кругу, причем становившемуся все уже. А деревья глухо шептали: "В бездну!", и птицы вслед за ними кричали: "В бездну!", и песнь колдуний вторила им: "В бездну!"
"В бездну! В бездну! — повторял Пироэнт. — Ты понимаешь, Клиний? В бездну! Ты не увидишь больше домика своей матери, из окон которого ребенком ты считал волны в Крисейском заливе!.. А я не увижу конюшен Палемона, где поилки из мрамора, и ясли из кедра! Прощайте, мои друзья Эоус, Эфос, Флегонт! Прощайте!.. В бездну! В бездну!"
С ужасом, не изведанным мною ранее, я начал понимать, что означали шепот деревьев, крик птиц, песня колдуний. Посреди Немейского леса был огромный провал. Не однажды ребенком я бледнел, заглядывая в его глубину.
Пропасть казалась особенно мрачной из-за окружавших ее деревьев, кроны которых образовывали сплошной свод. Ее называли Бездной. Грозный круг, сужаясь, теснил нас именно туда. Бездонная пропасть проглотит нас! Вот почему Пироэнт говорил, что мне не видать более материнского дома, ему — конюшен Палемона. Охваченный ужасом, я хотел соскользнуть с седла на землю, но бег Пироэнта был слишком стремительным, а стволы деревьев и скалы проносились так близко, что не оставалось надежды спрыгнуть, не разбившись о них. К тому же, если бы деревья и камни пощадили меня, я бы попал в руки колдуний, еще более ужасных, чем вакханки, что разорвали на части Орфея на берегах Гебра и бросили в реку его голову и лиру!.. Между тем бессмысленный галоп по сужающемуся кругу продолжался, все убыстряясь. Я начал узнавать знакомые места, несмотря на дикие видения, порождаемые этой ночью призраков. Да, мы приближались к пропасти! Здесь в детстве я собирал цветы и желуди, а юношей с луком в руках поджидал лань или косулю. Здесь на ложе из мха я впервые вкусил поцелуй возлюбленной. То было прекрасным весенним вечером, когда заходящее солнце пронизывает лес своими лучами словно огненными стрелами…
"Горе мне! Горе! — вскричал я, чувствуя, как неудержимо притягивает меня пропасть. — Пироэнт, мой верный конь, попытайся свернуть с дороги! Неужели ты не можешь разорвать это кольцо деревьев? Не можешь отпрыгнуть, проскользнуть меж скал? Пересечь вплавь Астерион?"
Но он по-прежнему тряс головой:
"Нет, нет! Ты же видишь! Деревья сомкнулись стеной, скалы стали выше, над Астерионом вздымаются языки пламени. Куда бежать, если нас окружает фессалийская свора ведьм под предводительством самой Канидии? В бездну! В бездну! В бездну!"
И все голоса лесные отзывались: "В бездну!" А мы приближались к ней. Я уже слышал слева от себя, всего в нескольких шагах, этот ужасный гул, эхо бездонных провалов! Сквозь стволы деревьев, еще скрывающих пропасть, я уже различал ее, мрачную, как Эреб, темную, как Ночь!.. Пироэнт ржал, плакал, его била дрожь, а круг все сужался. Только крылья Пегаса могли бы спасти меня, подобно Беллерофонту, перенеся по воздуху над бездной. Теперь уже можно было рассчитать, когда мы рухнем в нее. Этот миг настал. Зияющая пропасть разверзлась перед нами. Пироэнт в последний раз заржал и, будто бы решив, что бесполезно продолжать борьбу с судьбой, бросился вниз. Невольно, не размышляя и не рассчитывая, я воздел руки к небу с воплем: "Прощай, матушка!.."
Мои руки коснулись ветвей склоненного над пропастью дерева, и я судорожно схватился за них. Я почувствовал, как Пироэнт проваливается, а сам повис над бездной. Словно эхо, донесшееся из центра земли, до меня дошел шум падения лошади…
Клиний говорил, все более бледнея. Сжав руки Аполлония, он воскликнул:
— Ах, учитель, теперь мне не страшно умереть, ибо я уже изведал мучения конца. Я висел над бездной, а ветка гнулась под моим весом. Можно сказать, что ногами я был уже в могиле… А страшные видения продолжались. На краю пропасти корни деревьев тянули ко мне свои змеиные головы. Над кронами кружили зловещие птицы. Хоровод ведьм подступил к самому краю провала. Казалось, все они ждали мгновения, когда силы оставят меня и я полечу вниз. Змеи, птицы, ведьмы хорошо знали, что я в их власти. Я это тоже сознавал, в том и было мое мучение. "Сколько времени затекшие руки смогут удерживать меня?" — спрашивал я себя, и волосы шевелились у меня на голове, пот заливал лоб и стекал по щекам… Я чувствовал, как слабеют мои мышцы, хотел подтянуться до ветки, схватить ее зубами, но тонкая ветвь сгибалась от этих усилий, а я слабел от бесполезных попыток. Тяжесть тела так тянула вниз, что казалось, будто духи бездны подвесили к моим ногам наковальню киклопа. Вся жизнь промелькнула в моей памяти: от дня, когда я впервые осознал окружающие предметы, до мгновения, когда Палемон поднес мне, уже сидящему на Пироэнте, прощальную чашу, а я осушил ее за здоровье сотрапезников. Они провожали меня в венках из цветов, со смоляными факелами в руках… И зачем я уехал от них? Мы так славно возлежали в своих длинных льняных одеждах на пурпурных ложах! Как ярки были огни, как веселы были песни, как игристы были вина! Возможно, они сейчас вспоминают обо мне и говорят: "Вот Клиний приехал к матери, и бог Сна осыпает лепестки мака у его изголовья".
О, как они ошибаются!.. Их друг, со стоящими дыбом волосами и сведенными усталостью руками, трепеща от ужаса, висит над пропастью, связанный с жизнью лишь этой жалкой ветвью, которую он уже готов выпустить из одеревеневших от усталости пальцев! За несколько мгновений он припоминает всю прежнюю жизнь. Детство, учение, юность, любовь, подобно живым картинам, мелькают перед его глазами с головокружительной быстротой… Но вот я почувствовал, как члены мои онемели, предсмертная тоска скрутила внутренности, сердце колотится, заглушая своим стуком окрестные шумы, кровь прилила к вискам, так что все вокруг показалось мне багровым и пламенеющим. Одна рука выпустила ветку, из груди вырвался вздох… И тотчас же громче забормотали деревья, крики птиц стали резче, пронзительнее запели колдуньи. И все повторяли: "В бездну! В бездну! В бездну!"
Я попытался второй рукой схватить ветку столь же безуспешно, как тогда, когда старался вцепиться в нее зубами. Казалось, тело своим весом готово разорвать в суставах руку, на которой я висел. Глаза налились кровью и почти вылезли из орбит. Хотелось кричать, звать на помощь, но все сознание было заполнено нескончаемым криком: "В бездну! В бездну! В бездну!"
Наконец я понял, что час мой пробил; задыхаясь, я застонал, пальцы сами разжались — я выпустил ветку и, в свою очередь прошептав "В бездну!", ощутил падение в бездонную чудовищную пропасть. Я потерял сознание…
При воспоминании об этом последнем страшном миге Клиний побелел, колени его подогнулись, голова откинулась назад, и он, выскользнув из рук Аполлония, без сил опустился на обломок мрамора.
XXIII МЕРОЭ
— Когда я открыл глаза, — продолжал Клиний после недолгого молчания, подняв голову и тряхнув прекрасными черными волосами, — я лежал на ложе из мха посреди очаровательного сада. Сквозь деревья в сотне шагов белели стены дома. Утренний ветерок, еще наполненный ночными ароматами, овевал мою голову.
Над полоской зари быстро всходила Венера, возвещая начало нового дня. От земли поднимался легкий пар, как бывает перед восходом солнца. Рядом стояла женщина. Букетом цветов, влажных от росы, она проводила по моему лицу, возвращая меня к жизни этим благоуханным утренним дождем. Откинутое покрывало оставляло открытым ее лоб и ветку вербены в волосах. Бархатный взгляд, полный скрытого огня, под смоляными бровями, прямой нос идеальной формы, нежный овал лица с круглым подбородком, над которым ярко-коралловые губы, приоткрытые в улыбке, обнажали два ряда жемчужных зубов. Стройностью стана она напоминала одну из нимф Дианы, ступни и кисти были достойны Гебы. Ткань покрывала, спускаясь с головы, струилась по спине; пеплум и туника, скрывавшие ее тело, казалось, были сотканы из тончайшей паутинки, что плавает в воздухе осенью, когда наступает месяц Цереры и Помоны. Откинутые рукава позволяли видеть обнаженные руки; единственным украшением им служил браслет в виде аспида с золотой чешуей и рубиновыми глазами, трижды обвивавший правое запястье.
Первой моей мыслью было, что я разбился при падении, унесен на Елисейские поля гениями смерти и передо мной владычица этого царства мрака. Меня только удивляло, что в длинных аллеях этого чарующего сада не видно других умерших, спутников моей вечной ночи. Взгляд прекрасной незнакомки скользил по мне; когда же она увидела, что я смотрю на нее, нежная улыбка коснулась ее губ.
"Ну, прекрасный путешественник, ты, наконец, проснулся?" — заговорила она таким сладостным голосом, что звук его показался неземным, словно последний вздох ночи, витавший в воздухе.
Я взирал на нее с изумлением. Если эта улыбка и голос принадлежали властительнице царства теней, я готов был понять Плутона, похитившего Прозерпину.
"Если жизнь есть сон, а смерть — пробуждение, тогда, о прекрасная богиня, я проснулся!"
"А мне, судя по твоим словам, кажется, что ты все еще грезишь. Вот и улыбка у тебя сменяется стонами. Верно, ты второй Орест, что твой сон так мучителен? Ты путешествуешь из Аргоса в Афины, чтобы испросить прощение у ареопага?"
Мое удивление возрастало.
"Я Клиний из Коринфа, — отвечал я, — а вовсе не сын Клитемнестры и Агамемнона. Накануне я обедал у моего друга, богача Палемона из Микен. Он мне одолжил Пироэнта, своего коня, чтобы проехать сто шестьдесят стадиев, отделяющих город Персея от города Эфиры. Ночь застала меня в пути. Преследуемый страшными видениями в Немейском лесу, мой конь после бешеной скачки бросился в пропасть, что находится между Клеонами и пещерой льва… Что до меня, я какое-то время боролся со смертью, повиснув на ветви дерева. Но вскоре руки устали, я отпустил ветку и скатился в пропасть".
"Прекрасный Клиний, — насмешливо улыбнулась незнакомка, — похоже, что вино Палемона щедро лилось в кубки гостей! Или на этом пиру подавали настолько хмельные напитки, что твое воображение завело тебя на такие ужасные дороги! Мне жаль, ибо это не столь поэтично, однако развязка твоего приключения была совсем иной… Ни твой конь Пироэнт, ни ты сам не падали в бездну, откуда никто и ничто не возвращается. И вот доказательство: ты благополучно возлежишь на мху моего сада, а Пироэнт, всхрапывая и перебирая копытами, жует вкусный клевер и душистый эспарцет в роскошных конюшнях Палемона; на самом деле Пироэнт избавился от седока, под неуверенной рукой которого серебряные удила причиняли ему боль, и вернулся домой, оставив друга своего хозяина лежать на берегу ногами к морю, а головой к старой городской стене, вдоль которой тот ехал и не смог перепрыгнуть. Там, после ночной прогулки в гавань, я тебя и нашла. Ты считаешь, что был без сознания, но я свидетельствую: ты попросту спал. Вот я и приказала моим рабам поднять тебя и перенести сюда. Теперь-то ты пришел в себя?.. Ты не на Елисейских полях, а на берегу моря Алкионы. Справа от тебя, над вершинами деревьев, Акрокоринф; смотри: крепость розовеет от первых лучей восходящего солнца. Позади нас Мелисс с его золотистыми лозами, ручей же, который журчит слева, впадает в реку Немею. Что до меня, то я не богиня и не царица, а финикиянка Мероэ. Три месяца назад я пересекла Эгейское море, чтобы поселиться в Коринфе. Я свободна, делаю что хочу, у меня нет ни мужа, ни брата, которые имели бы право требовать отчета в моих поступках".
"Прелестная Мероэ, — отвечал я, — коль скоро ты уверяешь, что я жив, не стану опровергать слов, слетевших с таких очаровательных уст. Но вынужден предупредить: не так-то легко будет заставить меня согласиться, что ты не царица и не богиня… Я рожден в Коринфе, где женщины так прекрасны, что сама Венера выбрала своих жриц среди коринфянок. Я бывал в Афинах, видел тамошних величественных красавиц, благодаря которым Афины называют городом Минервы. Посетил я и Аргос; его женщины так горды, что, когда они проходят в своих длинных белых одеждах без украшений и вышивок, их можно принять за богинь, равных Юноне. Я объявляю тебе, Мероэ, коль скоро ты хочешь называться этим именем во время пребывания среди простых смертных, что вся красота коринфянок, величавость афинянок, горделивость женщин Аргоса, умноженные искусством художника Зевксиса и скульптора Праксителя, бессильны создать что-либо подобное тебе!"
"Ах да, когда я покидала Финикию ради Греции, Тир ради Коринфа, меня предупреждали, чтобы я опасалась златоустов, что ходят на красных котурнах и обитают между двумя морями! Эти молодые люди думают одно, а говорят другое. Они настолько самодовольны и такого высокого мнения о собственных достоинствах, что их сердце редко участвует в том, что они говорят или думают".
Я смотрел на Мероэ с бесконечной любовью, медленно приподнимаясь на одно колено. Медленно, так как мне все еще казалось, будто мои кости должны были переломаться при падении и малейшее движение причинит мне боль. Глаза мои выражали такой восторг, что движением, полным грации и сладострастной чистоты, если возможно соединить эти два понятия, она накинула покрывало, этой преградой из воздушной ткани защищая свое смущение от моего жаркого взгляда… В этот миг первые лучи солнца окрасили небо на востоке розово-опаловым светом. Мероэ, подобно тем цветам, что всего слаще благоухают в темноте, закрывая свою чашечку с наступлением дня, пожелала вернуться в затененные покои дома, влача за собой шлейф ночи. Казалось, заря разгоравшаяся в небе, чем-то встревожила ее. Ранее закрыв накидкой лицо, теперь она спрятала в муслиновых рукавах свои белоснежные, словно у статуи из паросского мрамора, руки. Я хотел удержать одну из них в своих ладонях, но Мероэ с живостью отняла ее.
"Клиний, — сказала она, — тебя с тревогой ждет одна персона, о которой ты помнил вчера, но забыл сегодня утром… Она прокляла бы меня, если б догадалась, где ты сейчас, и узнала, что мое присутствие ослабило твою память о ней. Я говорю о твоей матери!"
При этих словах я вспомнил обещание, данное накануне матери, ради которого я подвергся всем опасностям минувшей ночи… Как могущественна любовная страсть! Едва зародившись, она способна изгнать, потушить и уничтожить все другие чувства. Еще вчера половину моей души занимала мать, та, к кому был обращен мой последний зов перед падением, как я полагал, в бездну. И вот я забыл о ней, любуясь женщиной, увиденной впервые четверть часа назад! Только что я думал об этой женщине не больше, чем о тысячах вещей, существующих в мире, но мне неизвестных. Однако едва лишь войдя в мою жизнь, она стала для меня столь необходимой, что, кажется, легче сердцу расстаться с телом, чем мне — не видеть ее, не думать о ней!
"Моя мать? — повторил я, почти не понимая, о чем говорю. Да, верно… А тебя, Мероэ, когда я снова увижу тебя? Когда? Ты ведь знаешь, я не смогу более жить без тебя!"
"Хватит ли тебе дня, чтобы отдохнуть после такой страшной ночи? — отвечала, улыбаясь, Мероэ. — Если сегодня вечером ты еще не перестанешь думать обо мне, приходи погулять на берег у горы Оней, туда, где она отбрасывает тень на море в час, когда созвездие Лиры зажигается в небесах. Там ты найдешь ту, что не решается сказать: "Клиний, я не верю твоим словам!"
"О, Мероэ, Мероэ! — вскричал я, — дай мне твою руку… твою руку, умоляю!"
Мероэ сделала движение, словно хотела оказать мне эту милость, но, подумав, покачала головой и убрала руку, которой я хотел завладеть, чтобы приникнуть к ней губами.
"Нет, нет! — сказала она. — До вечера!"
Удаляясь торопливыми шагами, она издали послала мне кончиками пальцев воздушный поцелуй, унесенный утренним ветерком в луче золотого света, и исчезла в темной прихожей дома… Я остался один. Впервые, учитель, я понял вес и значение слова "один"! Природа просыпалась улыбаясь: в воздухе играли морские и горные ветерки; птицы начали петь, порхая с дерева на дерево; зябкая цикада искала лучик солнца, чтобы высушить свои крылышки и застрекотать ими; голубые и зеленые скарабеи пробирались в траве; сверчок приветствовал зарю, прильнув к стебельку; ящерка, пугливая и доверчивая одновременно, бежала по стене; слышен был шум пробуждающегося Коринфа: песня рыбака, уходящего в море вытягивать поставленные на ночь сети, крики матросов, поднимающих якорь. Наконец, всего в двухстах шагах отсюда бодрствовала моя мать, с тревогой и в слезах ожидающая моего возвращения. А я чувствовал себя таким потерянным, таким одиноким, словно после кораблекрушения меня выкинуло на берег пустынного необитаемого острова, затерянного в огромном Эритрейском море! Какое одиночество! Ни жизни, ни радости, ни солнца: Мероэ нет рядом!.. Медленно добрел я до материнского дома. По шуму открываемой и закрываемой двери, по звуку моих шагов в прихожей мать узнала меня и выбежала навстречу.
"О скверный сын! — воскликнула она. — Да будет проклят тот день, когда богиня Луцина допустила твое рождение, чтобы однажды ты причинил мне столько горьких мук! А что же твое вчерашнее обещание вернуться до наступления утра?.. Я лишь на миг прилегла, всю ночь провела в ожидании… Какие жуткие картины вставали перед моими глазами, хоть я и не смыкала их, думая, что тебе надо проехать этот мрачный Немейский лес! Уж мне казалось, что вернулись страшные времена старинных разбойников, что тебе встретились Герион или Синие, что Геракл не добил немейского льва и тот, выйдя из логова, пожрал тебя!.. Ну вот наконец-то я тебя вижу, целую, сжимаю в объятиях, прижимаю к сердцу. Слава Юпитеру! Все забыто!"
"О, матушка! Как она прекрасна!"
Она посмотрела на меня с недоумением.
"Прекрасна?" — повторила она.
"Это не простая смертная, это богиня!"
"О ком ты говоришь, сын мой?"
"Как далеко еще до вечера! О, Венера!"
Мать было призадумалась, но тут же все поняла.
"Ох! — вскричала она, — ты влюблен, мой бедный мальчик!"
"В первый раз, матушка, я чувствую такое…"
"Берегись, Клиний! Любовь — либо траурное покрывало, наброшенное на сердце, либо покрывало из золота и пурпура на глазах. Есть любовь радостная, а есть и роковая. Одна полна улыбок, другая чахнет в слезах… Скажи мне хотя бы, сын, кого ты любишь? Тогда я смогу предвидеть, радости или огорчения принесет эта страсть. Я знаю всех девушек Коринфа, Мегары, Сикиона… Уж не Фелаира ли это? Остерегайся ее черных глаз. Они предвещают больше бурь, чем безмятежных часов; ее брови, как два темных облака: едва сойдутся, блеснет молния и загремит гром… Или это белокурая Мирте? В ее голубых очах светится лазурь неба и лазурь моря. Но берегись: ее сердце бездонно, как две бесконечные стихии, что отражает ее взгляд… Тайс? Тогда опасайся вдвойне! Никогда еще бог Протей, которого принято называть отцом этого Аполлония, что должен был научить тебя мудрости и не преуспел, не принимал столько обличий, сколько умеет принимать ее кокетство. Ползущая змея, взлетающая птица, вода, текущая сквозь пальцы, всепожирающее пламя… — да, все это Тайс, что заставляет вздыхать от любви самых красивых юношей Коринфа… Клиний, я женщина, и позволь мне опасаться других женщин!"
"Я не люблю ни одну из тех, что ты назвала, матушка, — отвечал я. — Не ищи напрасно в своей памяти. Ты ее не знаешь. Я сам впервые увидел ее сегодня утром".
"Значит, она не из Коринфа?" — с беспокойством спросила мать.
"Она из Тира".
"О, будь осторожен с финикиянками, сынок! Венера, которой они поклоняются, не Венера из Пафоса, Киферы или Книда. Это также не Венера Анадиомена — мать всего сотворенного, не Венера Урания — властительница неба, не Венера Благая, что кормит весь мир. Эта — из Индии, спустившаяся по Нилу до Сирии. Это Анаит, Энио, Астарта. Она рождена не от крови Урана и морской пены. Она не та, что появилась в волне в весенний день, подобно морскому цветку, и, окруженная тритонами и океанидами, ступила на прибрежный песок, выжимая соленую воду из длинных волос, чтобы потом надушиться, украсить себя венком из роз и, сияя, как луч, легче облака взойти на Олимп сквозь лазурь эмпирея. О нет! Это сестра мрачного Молоха, богиня неистовой любви и кровавых войн. Наша Венера довольствуется жертвой двух голубей, иногда ей даже хватает двух воробьев, а этой могучей и дикой финикийской Венере мало крови хищных зверей: ей нужны человеческие жертвоприношения!.. О мое бедное дитя, уж лучше бы тебе влюбиться одновременно в темноволосую Фелаиру, белокурую Мирте и кокетливую Тайс, чем в дочь Тира или Сидона".
Но я твердил свое:
"Матушка, я люблю Мероэ".
И так как она хотела продолжить, я жестом прервал эти бесполезные увещевания и ушел к себе в покои, шепча нежное имя, произнося его с бесконечной радостью. Вполголоса я повторял: "Мероэ! Мероэ! Мероэ!", и это было как прекрасная музыка. Одиночество! Вот единственный истинный наперсник души. Во всякой зарождающейся любви есть святая чистота, очаровательная мягкость еще не ведающей себя страсти, которая, если можно так выразиться, в сердцевине сердца таит самые чистые желания и самые целомудренные надежды. Истинно влюбленный не решится приоткрыть перед другим человеком, говорящим на том же языке и живущим теми же заботами и помыслами, завесу над святая святых своей нежности. Ведь никогда два сердца не чувствуют одинаково. И когда твое сердце переполнено и помимо воли должно излиться, ищешь одиночества, выбираешь в собеседники озеро, звезду, ручей или облака — они же не только не могут ответить, но даже не услышат твоего голоса… И все-таки одиночество в моих покоях давило меня: ничто здесь не напоминало о Мероэ. Ни один предмет не видел ее, ни к чему она не прикасалась… Я хотел бы раствориться в воздухе, которым она дышит, окунуться в пыль, поднятую ее шагами, в тень, освещенную ее присутствием. Каким счастьем было бы для меня встретить ее, чтобы поймать ее взгляд, ее дыхание, малейшую частицу обвевающего ее ветерка… Я больше не мог оставаться взаперти. Я задыхался. Мне, как гиацинту, нужен был свет моего солнца. Выйдя из дому, я оказался на середине улицы. Занятый своими мыслями, я не сторонился ни лошадей, ни повозок, натыкался на прохожих, не узнавал лучших друзей и, когда они меня громко приветствовали, вздрагивал, смотрел рассеянно, словно они были посторонними или давно надоели мне. Я торопливо продолжал путь и наконец оказался за городом.
В трехстах шагах от себя, на берегу моря я заметил полускрытый деревьями и оградой чудесный маленький дворец. Никогда раньше я не обращал на него внимания, даже не замечал, что он существует, а ныне на всей земле не было места, столь дорогого моей душе. Я поднялся на холм. С его вершины прямо под собой я видел сад и дом. Там я был сегодня утром и она была со мной… Под этим олеандром она стряхнула на меня жидкий жемчуг с букета, чтобы привести в сознание. Уходя, она рассыпала цветы; они и сейчас лежали там, увядая на лужайке… О, если бы я мог оказаться один в этом саду, поцеловать траву, еще примятую ее шагами, подобрать каждый оброненный ею цветок, что она собирала; прижаться губами к лепесткам: карминным — анемона, стрельчатым, окружающим золотой диск — маргаритки или алебастровым — белой лилии, что похожа на кубок, еще хранящий след ночных слез. Мне кажется, я был бы счастлив, я бы не просил большего. Я сказал бы богам: "Зачем вы столь надменны на ваших тронах из облаков? Не гордитесь синими коврами, затканными звездами, вашей амброзией, нектаром и самим вашим Олимпом! Один взгляд, слово, одна ласка Мероэ способны меня приравнять к вам!"
Одно меня беспокоило: дом был закрыт и казался необитаемым. Никто, никакое живое существо туда не проникало и не показывалось оттуда. Он был похож на изящный склеп. Что делала Мероэ в этом тихом доме? Без сомнения, она отдыхала после трудной ночи. Она же сказала, что нашла меня без сознания, возвращаясь с ночной прогулки по морскому берегу.
Как же прошел этот день, самый длинный из всех, прожитых мною? Частью на холме, откуда я напрасно вглядывался в пустынный сад, частью в храме Венеры Победительницы, где я молился, частью в блужданиях по морскому берегу. Задолго до назначенного срока, хотя ни одна звезда еще не всходила на эмпирее, я уже сидел на берегу, пристально глядя в небо, туда, где должно было появиться счастливое для меня созвездие. Как ранее я наблюдал постепенное наступление дня, так теперь видел его гаснущие одну за другой краски. Наконец, Феба поднялась над Кифероном, медленно совершая свой перламутровый путь в небе, и скрылась за горой Оней, тень которой, удлиняясь, росла, пока не достигла моря. Я взглянул на южную часть небосвода: Лира ярко сияла на нем! И тут же до моего слуха донеслось нежное и жалобное пение. Так поют наши коринфские моряки. По волнам быстро скользила лодка. Звучали голоса двух гребцов: каждый попеременно начинал и доводил до конца одну строфу, а следующий подхватывал другую. Так же в "Эклогах" латинского поэта поют поочередно два пастуха. По мере того как лодка приближалась, слова слышались отчетливее и песня летела над волнами, спеша достигнуть берега. Гребцы повествовали о любви Кейка, царя Трахина, и Алкионы, дочери Эола. В эти мгновения все было для меня полно такого глубокого значения, что я запомнил песню от слова до слова, хотя слышал ее впервые.
"О, мой родитель, могучий Эол! Тебе поручил бог морей следить за ветрами. Так не выпускай из твоих мехов ни хладом дышащего Борея, ни Эвра в широком покрове, ни Нота, что из склоненной чаши беспрестанно поливает землю дождем! Лишь любимец Флоры, легкокрылый, как бабочка, Зефир мне желанен, отпусти его из твоих Стронгильских пещер на волю!
Ибо царь Кейк, возлюбленный мой супруг, уже вышел в море из Димы; его стройный корабль возведен на верфях Сикиона, что богат и сосной и буком. И нос корабля уже повернут в сторону гавани Крисы, где, сгорая от нетерпения, я его ожидаю, устремив глаза к небесам и моля их о солнечном дне и безоблачной ночи.
Многие дни провела я в моленьях. Увы! Лишь в последнюю ночь задремала. Утром сказали мне, что, пока я крепко спала, разразилась буря, и гром гремел, и молния бесновалась; а когда я пришла на берег, море еще бурлило и волны оделись пеной.
Но что вижу я там, на горизонте?.. Не волна ль подняла главу над другими волнами, не чайка ли это летит над самой водой? Не парус ли полнится ветром, спеша из Левкады или Итаки? Но нет! Что-то темное, неподвижное — обломок мачты? бессильное тело? — плывет, отдавшись волнам.
Таинственный этот предмет подплывает все ближе и ближе, виден все явственнее. Сомнений нет, увы: это злосчастная жертва твоего, о Нептун, гнева, просит у берега места, где бы найти ей покой. Вот я уже различаю цвет туники и волос. Зеленее травы луговой ткань, что полощет пена, а волосы белокуры, словно у бога дня.
Горе, горе! Любимый Кейк вышел в море в подобной одежде; у него в час разлуки на память светлый локон отрезала я… Почему же мертвец одет в похожую тунику? Зачем кудри его золотисты, как у Кейка? Почему, о отец мой, не внял ты дочерним мольбам? Зачем, о Нептун-повелителъ, ты таким возвратил мне супруга?"
И пока подплывает мертвец, Алкиона, узнавая его, склоняется ниже на уступе скалы, нависающей над пучиной. Вот он внизу под ней, и с криком, взмахнув руками, вниз летит Алкиона навстречу любимому мужу. Но родитель ее Эол не позволил ей упасть в море: вместо рук у нее появились крылья, и тело оделось в перья. Алкиона, стеная, парит над супругом, в волнах распростертым.
И ожил тогда Кейк и тоже сделался птицей. С тех пор оба они летают низко над морем, криком предупреждая моряков, что ненастье близко. А в брачную пору гнездо они вьют прямо на волнах. По просьбе Эола Нептун дарит им неделю покоя, который не потревожит ни единый порыв ветра. И эту неделю люди назвали "семь дней Алкионы".
Когда гребцы допели свою песню, лодка достигла берега. Одним прыжком я вскочил в нее и упал к ногам Мероэ, ожидавшей меня, возлежа на шелковых подушках под пурпурным пологом…
Ах, учитель! Какую ночь я провел под пение моряков и шум моря, в мерно покачивающейся лодке, рядом с Мероэ, рука в руке, глаза в глаза! Мои волосы смешались с ее кудрями, мое дыхание — с ее дыханием! Как быстро пролетели эти долгие часы! И как я не умер от счастья, когда на рассвете, у порога своего дома, она мне сказала на прощание: "О, Клиний, я люблю тебя!"
Аполлоний улыбнулся и положил руку на плечо не помнящему себя от счастья Клинию:
— И когда же свадьба?
— Сегодня вечером, божественный мой учитель. Я искал тебя, чтобы сообщить об этом. Всего полчаса назад я встретил Мероэ, выходившую из храма Венеры Победительницы у подножия крепости. Она уступила моим мольбам и согласилась стать моей женой.
— Итак, она молода, красива, благородного происхождения?
— Молода, как Геба, прекрасна, как Венера, горда и благородна, как Минерва!
Аполлоний обратился к Исааку:
— Вот маска, — сказал он, — вот видимость… Пойдем со мной вечером на свадьбу этого бедного безумца. Я тебе покажу истинное лицо, и ты увидишь суть.
— Хорошо. Но не забудь, зачем я пришел к тебе, Аполлоний, — откликнулся Исаак.
— Следуй за мной, не колеблясь. Я выбрал кратчайший путь к осуществлению твоих намерений и начинаю верить, что сами боги помогают тебе, ибо сумасбродная любовь Клиния откроет тебе дорогу к цели.
XXIV СВАДЕБНЫЙ ПИР КЛИНИЯ
Два часа спустя весь Коринф облетела удивительная новость: Клиний, ученик философа Аполлония Тианского, женится на красавице Мероэ.
Любопытство горожан было сильно возбуждено. Они тщетно спрашивали друг друга, кто такая невеста, откуда она. Знали только, что Мероэ явилась в Коринф около двух месяцев назад, высадившись в Кенхрейской гавани. Ее свита состояла из пяти или шести женщин, как и она, красивых и молодых, облаченных в восточные одеяния. Четыре раба-нубийца в белых туниках, стянутых на талии индийскими шалями, с серебряными кольцами на щиколотках и серебряными обручами на шее, выгрузили сундуки, сделанные из кедра, платана и сандала; как единодушно полагали свидетели, они должны были заключать в себе сокровища. Их навьючили на мулов и отвезли на постоялый двор, где обычно останавливались богатые путешественники. На следующий же день они были перевезены на ту прелестную виллу, где очнулся Клиний. Мероэ купила ее за шесть золотых талантов вечером в тот же день, когда она прибыла в столицу Коринфии.
Через две коринфские гавани с востока и запада в город стекалось множество чужеземцев. Различия в их нравах и верованиях обеспечивали каждому такую свободу в выборе уклада жизни, какую трудно было бы обрести в другом месте. Но даже здесь странные повадки богатой финикиянки не могли остаться незамеченными.
Во-первых, ни одна коринфская дама или девица ни разу не была приглашена к ней как гостья. Ни один прислужник, кроме привезенных ею с собой, не переступил порога виллы. Кроме того, как это заметил Клиний, днем, пока сияло солнце, окна и двери дома были плотно закрыты. Правда, с наступлением вечера вилла, подобно цветку, благоухающему лишь по ночам, раскрывала свой мраморный венчик: распахивались двери и ставни, дом освещался, сияя огнями, подобными факелам. Жизнь, замиравшая с рассветом, вспыхивала здесь с приходом сумерек: слышались чудесные мелодичные песни на неизвестном языке. Напрасно было бы пытаться определить, из каких инструментов составлен необыкновенный оркестр. Иногда будто раздавались дрожащие звуки арф, лир или кифар, рождающих смятение в сердцах. Волны пьянящих терпких запахов усиливали вызываемый музыкой сладострастный трепет. Так бывало всегда, если только своенравная поклонница одиночества не покидала своего загадочного обиталища. В носилках, на плечах своих черных рабов, Мероэ отправлялась в лес насладиться вечерней прохладой под шепот листьев, если не предпочитала морскую прогулку. В лодке с двумя гребцами под алым пологом созерцала она в лунном свете серебро Саронийского залива или глубокую синеву моря Алкионы.
Короче говоря, любопытство всего Коринфа, повторяем, было весьма возбуждено.
А что же Клиний? Расставшись с Аполлонием, обезумевший от любви юноша бросился сообщить новость матери. Та сразу же поняла безнадежность любых возражений. Все их небольшое состояние принадлежало сыну. Ей оставалось лишь молить Венеру — Диону о счастье для сына. Ведь он был ей дороже собственной жизни.
Когда последние лучи заходящего солнца скрылись за горами Аркадии, свадебный кортеж вышел из дома Мероэ. Днем городской чиновник составил договор о взаимных обязательствах будущих супругов. По указанию невесты он записал в нем, что ее приданое составляло сто талантов золотом; десять из них она отдавала в распоряжение супруга. Клиний хотел было отказаться, заявив, что любовь прекрасной финикиянки и так делает его богачом. Затем без лишних разговоров уступил: все эти мелочи казались ему такими ничтожными в сравнении с тем огромным событием, что должно было изменить всю его жизнь.
В назначенный час двери дома Мероэ отворились и свадебное шествие направилось в храм Венеры Меланеидской, расположенный по дороге из Истма к Кенхрею на высоком выступе побережья рядом с храмом Дианы. Для этого можно было не пересекать Коринф, а пройти вдоль городских стен по величественной сосновой аллее, где стояло сто бронзовых статуй атлетов-победителей в Истмийских играх. Завоевав город, Муммий пощадил их.
Вдоль всей дороги длиной в пятнадцать — восемнадцать стадиев толпились зрители. Почти все держали в руках факелы; освещенная их пламенем дорога представляла собой великолепное зрелище огромной и пышной иллюминации.
Первыми появились жених с невестой. Клиний был одет с большой роскошью. По обычаю, невеста прислала ему этот наряд в день накануне торжества: белую тунику, щедро расшитую золотом, и плащ, окрашенный в изысканный тирский пурпур. Обут он был в персидские остроконечные туфли с золотыми шнурками.
На Мероэ была длинная белоснежная туника из мягчайшей индийской ткани. Справа подол, приподнятый и заколотый алмазной брошью, оставлял открытой до середины бедра ногу идеальной формы. Ее сандалии закрепляла на щиколотке нитка жемчуга. Пальцы красивых ступней были украшены драгоценными перстнями. С головы на плечи ниспадала огненного цвета накидка — римский фламмеум. Сквозь ее прозрачную ткань просвечивали тройная жемчужная нить на шее, браслеты на предплечьях и запястьях.
У обоих новобрачных поверх надушенных волос были надеты венки из красных маков, кунжута и майорана — растений, посвящаемых Венере.
У ворот их ждала коляска, запряженная парой белых лошадей. Ими правил чернокожий раб, которого можно было бы принять за эфиопского царя, до такой степени он был увешан драгоценностями.
Далее следовали прислужницы Мероэ и друзья жениха. Напрасно Клиний искал среди них Аполлония. Однако его не оставляла надежда встретить учителя по пути или по возвращении в доме Мероэ.
На прекрасную финикиянку отсутствие философа оказало совершенно обратное действие: ступив на порог, она окинула быстрым беспокойным взглядом группу молодых коринфян и, не увидя среди них Аполлония, вздохнула с облегчением, радостно улыбнувшись.
Наставник Клиния не пришел и, как она полагала, уже не должен был появиться.
Вид молодых красивых супругов рассеял последние предубеждения, если они существовали. Коринфяне слыли горячими поклонниками прекрасной формы. А ведь даже в храмах, где стоят статуи богов, даже на самом Олимпе, где обитают боги, трудно было бы найти пару прекраснее, чем эта. Вот почему девушки устилали путь обрученных лепестками цветов, а юноши возжигали благовония.
И те и другие восклицали: "О нет! Это не простые смертные! Это Бахус и Геба, Аполлон и Клития, Венера и Адонис!"
Раздавались голоса:
"Их союзу предначертано быть счастливым, ведь сегодня утром два голубка опустились на платан у дома Клиния".
Самые суеверные, однако, добавляли:
"Все же идите поосторожнее, вы там, впереди! Внимательно поглядите на то высокое дерево: нехорошо, если слева от влюбленных прокаркает ворона! Остерегайтесь круглоглазого филина, заслоните молодую чету от его мрачного взгляда! Не разбудите сову, а то она заухает прямо над головой молодых!"
Ну а большинство в это время распевало свадебный гимн:
Ты, обитатель горы Геликон, сын Венеры Урании, брат Амура, о Гименей! Ты, что сумел ради встречи с возлюбленной замешаться среди афинских дев, скрывшись под женской одеждой, — о Гименей, Гимен, Гимен, Гименей!
Ты, попав вместе с девами в руки пиратов, сумевший внушить подругам мужскую отвагу, одолеть с их помощью похитителей и вернуть отчему дому прелестнейших из дочерей Аттики, — о Гименей, Гимен, Гимен, Гименей!
Ты, получивший за это в жены свою возлюбленную, став богом для благородной Греции, где от мыса Малей до горы Орбел и от обрыва Фалары до пролива Левкады ни одна пара молодоженов не может тебя забыть и имя твое прославляет, — о Гименей, Гимен, Гимен, Гименей!
Ты, что увлекаешь к супругу зарозовевшую от смущения деву, приди, чарующий бог, явись с челом, осененным благоухающим майораном, ступая ногами, обутыми в огненные сандалии, — о Гименей, Гимен, Гимен, Гименей!
Приди, помоги нам, вплети свой сладостный голос в веселый хор песнопений, сей лепестки цветов, воскури фимиам вместе с нами, помоги удержать сосновый искрящийся факел — о Гименей, Гимен, Гимен, Гименей!
Введи во храм прелестную деву-невесту и проводи ее в дом, чтобы со дня сего любовь сплела ее жизнь с жизнью супруга, как плющ, обвивающийся по могучему вяза стволу, — о Гименей, Гимен, Гимен, Гименей!
Потом все вместе повторяли хором:
А мы, молодые невинные девы и юноши, когда настанет для нас такой же радостный день, грянем гимн, что сложил в твою честь Симонид Кеосский, — о Гименей, Гимен, Гимен, Гименей!
Свадебное шествие достигло храма Венеры Меланеидской. Перед входом в нее были воздвигнуты три жертвенника: Диане, Минерве и Юпитеру с Юноной.
Диане и Минерве приносили жертву как непорочным божествам, никогда не знавшим брачных уз: чтобы умилостивить их, каждой заклали нетель.
Юпитеру же с Юноной воздавали почести потому, что несмотря на маленькие неурядицы, неизбежные в вечном сожительстве, их любовь имела начало, но не знала конца.
Не возводя отдельных жертвенников, взывали также к милости Неба и Земли, дающих изобилие и плодородие, к паркам, в чьих руках находится жизнь людская, к грациям, украшающим дни счастливых супругов.
На пороге храма Венеры жрец богини вручил брачующимся по ветви плюща — символа связи, нерасторжимой до самой смерти. Затем они вошли в артемизий, храмовый притвор, где Клиний и Мероэ возложили по пряди волос. Клиний своим локоном обвил ветку цветущего мирта, Мероэ — веретено. После этого все вошли в храм, где жрецы, рассмотрев внутренности жертвенных животных, объявили, что боги благосклонны к союзу молодого коринфянина и прекрасной финикиянки.
Бракосочетание было освящено. Супруги покинули храм первыми, как ранее первыми выходили из дома. И здесь их ждали музыканты и танцоры.
Все отправились в обратный путь. Впереди двигались факельщики, за ними музыканты и танцоры, затем в своей коляске следовали Клиний и Мероэ. Лицо молодого супруга сияло любовью; его избранница блистала красотой. Шествие замыкали приглашенные, за которыми шли почти все жители Коринфа.
При выходе из храма молодожены окинули взглядом толпу. Огорченный Клиний тщетно искал глазами учителя.
Мероэ тоже с беспокойством высматривала Аполлония, боясь увидеть его.
Пока Клиний и Мероэ отсутствовали, вилла стараниями рабов была ярко освещена и украшена гирляндами. Дорожку от ворот до двери дома устлали коврами, тканными в Смирне и Александрии. Молодожены и их гости могли пересечь двор, ни разу не ступив на землю. Вход в дом и зала для свадебного пиршества были богато убраны цветами.
Клиний и Мероэ задержались на пороге. Над их головами появились корзины с плодами — символами изобилия, что должно сопровождать их будущую жизнь. Два поэта по очереди продекламировали им свои эпиталамы. Затем все вошли в залу. Там уже находились гости, не сопровождавшие их в храм Венеры и не пришедшие к выходу из него. Клиний надеялся увидеть среди них Аполлония; Мероэ этого опасалась.
Философ отсутствовал.
Последнее облачко беспокойства, заметное, впрочем, лишь взгляду влюбленного, исчезло с лица прекрасной финикиянки.
Она весело взяла за руку Клиния и подвела его к подобию трона посередине подковообразного стола. Оба сели на шкуры пантер с золотыми когтями и зубами из жемчуга. Остальные расположились как им заблагорассудилось.
Пиршественная зала казалась совершенством вкуса, будто сам создатель пропилеев Мнесикл позаботился о ее украшении.
Она была прямоугольной, с беломраморными стенами. Свод, поддерживаемый двадцатью четырьмя ионическими колоннами из того же мрамора, что и стены, имел в середине отверстие, пока что задернутое расшитым золотом пурпурным веларием. Колонны на треть их высоты покрывала роспись в соответствии со стилем капителей. Казалось, изображенные цветы сейчас распустят свои бутоны, а среди них запорхают, как живые, птицы с ярким оперением и бабочками с перламутровыми крыльями. Повсюду, наподобие лесных светлячков или мерцающих углей тлеющего костра, вспыхивали искорками мелкие мазки золотом. В промежутках между колоннами помещались картины работы лучших художников. Они воссоздавали знаменитые пейзажи Греции: Дельфы и их храм, Афины и их Парфенон, Спарту и ее крепость, До дону и ее священную дубовую рощу. Вдоль всего фриза тянулась фреска, изображавшая охоту амуров, которые на повозках, запряженных единорогами, в сопровождении своры собак преследовали ланей, оленей, косуль, волков и кабанов. Сцена охоты связывала роспись стен с потолком, где в тщательном подражании натуре был выписан лиственный свод, населенный самыми необыкновенными и яркими птицами Индии и Фасиса. Мозаика пола, приписываемая Гермогену Киферскому, являла собой историю любви Приама и Фисбы, послужившую впоследствии рождению не менее прекрасной легенды о Ромео и Джульетте.
Лишь только сотрапезники возлегли на ложах и подушках, крытых алыми чехлами, как сверху на них брызнул рассеиваемый сквозь ткань велария тончайший дождь благовоний, а девушки и юноши внесли венки. Каждому гостю полагалось по два венка — малый возложили на голову, большой надели на шею. В них сплелись мирт, плющ, лилии, розы, фиалки, шафран или нард и неизменно, как средство против опьянения, веточка сельдерея.
Пиршество могло бы устыдить гурманов того времени, чьи имена донесла до нас история: Октавия и Габия Апиция. Кроме греческих вин с Кипра и Самоса, старого фалернского урожая 632 года по римскому календарю (привилегированного консульского вина, упоминаемого Тибуллом), кроме мульсума — медового напитка, составляемого из коринфского вина и меда с горы Гиметт с добавлением нарда и розовых лепестков, — кроме, повторяем, всех этих вин, которые в зависимости оттого, подогретыми или охлажденными надо было их пить, выдерживались в горячей воде или замораживались во льду, — стол изобиловал мясом, рыбой и фруктами, доставленными из трех частей света.
С быстротой, похожей на чудо и говорящей о богатстве съестных лавок Коринфа, Мероэ получила павлинов с Самоса, рябчиков из Фригии, фазанов из Фасиса, журавлей с Мелоса, козлят из Амбракии, тунцов из Халкедона, осетров с Родоса, устриц из Тарента, морских гребешков с Киоса, ветчину из Галлии, улиток из Африки, грецкие орехи с Фасоса, лесные орехи из Иберии, финики из Сирии.
Ужин, возглавляемый молодыми, начался. Но дивные кушанья не соблазнили влюбленного Клиния. Вне себя от радости, не обращая внимания на то, что подавали ему чернокожие рабы, он пожирал глазами Мероэ.
Она же, серьезная, почти грустная, бледная, как мрамор, рассеянно улыбалась, не прикасаясь к подаваемым яствам. Лишь время от времени красавица подносила к губам опаловый кубок в форме тюльпана и с каким-то странным наслаждением отпивала несколько капель густого, как сироп, неизвестного напитка цвета крови, поданного ей в золотом сосуде. По мере того как она глотала содержимое кубка, щеки ее приобретали прозрачную свежесть. Так окрашивается алебастровый сосуд, наполняемый пурпурным вином.
Она теперь позволяла Клинию брать себя за руку, до которой, казалось, доходила эта розовая теплая волна. Прежде, случайно касаясь пальцев Мероэ — она торопливо отстранялась от него, — Клиний чувствовал холод ее руки, будто принадлежавшей мраморной надгробной статуе. Теперь же они потеплели и почти конвульсивно сжимали его руку. Казалось, Мероэ живет в предчувствии какого-то ужасного, известного ей одной события. Или, быть может, вернее было бы сказать, что в ожидании такого события она не осмеливается жить. О чем бы ни заговорил Клиний, что бы она ему ни отвечала, Мероэ не отрывала взгляда от входной двери, словно ждала некоего рокового явления.
Пир шел к концу среди смеха и веселых возгласов гостей. В полночный час, согласно обычаю, молодые должны были удалиться в опочивальню.
За несколько минут до полуночи в залу вошла длинная вереница девушек, которую во всей Греции зовут коринфской феорией. Когда зазвенели на медном пруте золотые кольца занавеси, скрывавшей кедровую входную дверь и теперь отдернутой, чтобы пропустить процессию, Мероэ побледнела, в ужасе сжала руку Клиния и обрела способность говорить, лишь увидев первую пару девушек, одетых в белое, с ветками боярышника в руках.
Разделившись на два потока, процессия проплыла между колоннами и стенами, заключив в свой непорочный круг и гостей, и прислуживающих рабов.
Затем, в сопровождении невидимого оркестра, вновь прибывшие запели:
Сейчас весна нашей жизни; из лучших дев Коринфа, известных своей красотой, выбраны мы… И все ж, о Мероэ, любая из нас уступает тебе в красоте.
О Мероэ! Ты легче фессалийского скакуна, гибче сицилийского тростника, грациозней, нежели лебеди с Илисса! Ты среди нас, о Мероэ, то же, что лилия средь прочих цветов в любимом саду Флоры.
Пальцы твои искусны, глаза же полны любви. Ты одинаково ловко владеешь иглой Арахны и кистью Апеллеса… Царица средь женщин, мы завтра пойдем на луг и принесем тебе большой венок из цветов.
Мы повесим его на самом красивом платане твоего сада, а под деревом воскурим фимиам в твою честь. На его серебристой коре мы напишем: "О смертные, приносите же мне благовония, ибо я древо Мероэ!"
Супруга счастливая и счастливый супруг, хвала вам! Пусть Латона, мать Дианы и Аполлона, и Юнона — Луцина, что решает судьбу рождений, даруют вам, о Клиний, о Мероэ, сыновей, похожих на вас!
Но пробил желанный час, погрузитесь же в лоно блаженства, дыша лишь любовью и счастьем… Завтра мы возвратимся с рассветом и в последний раз пропоем: "Гименей, Гимен, Гимен, Гименей!"
Юные девы умолкли. Клиний и Мероэ поднялись, вслед за ними встали гости, устилая своими венками им путь.
Клиний нежно привлек к себе прекрасную финикиянку, говоря:
— О Мероэ! Настал час, когда самая целомудренная и строгая женщина не может ни в чем отказать своему супругу… Пойдем, Мероэ, пойдем!..
Но напрасно он звал ее, напрасно пытался привлечь к себе. Она точно вросла ногами в пол, как некогда Дафна, возлюбленная Аполлона, вросла корнями в землю.
Клиний взглянул в лицо Мероэ и увидел, как она бледнеет, дрожа и сжав зубы так, что они обнажились из-под сведенных судорогой губ. Она цеплялась за него левой рукой, указывая правой на входную дверь, на давно ожидаемое видение.
Молодой коринфянин взглянул туда, куда были устремлены глаза и рука Мероэ, и увидел в противоположном конце залы входящего Аполлония Тианского, а за его спиной бледное, хмурое лицо иудея. Очевидно, именно их появление было причиной испуга Мероэ. Но что могло ее устрашить в Аполлонии Тианском, который ни слова не сказал о ней и о котором она не произнесла ни звука?
Тем не менее, увидев направляющегося к ней философа, она смертельно побледнела, дыхание ее стало прерывистым; Клиний почувствовал, что она готова упасть.
Чем ближе подходил Аполлоний, тем настойчивее Мероэ тянула Клиния назад, во внутренние покои, и шептала, видимо не понимая, что не сможет сделать и десяти шагов:
— Уйдем, уйдем… Бежим!
Но тут мудрец из Тианы простер длань и, будто обладая властью над Мероэ, заставил ее застыть на месте.
Иудей, сопровождавший знаменитого философа, остался стоять на пороге, прислонившись спиной к стене и заведя ногу на ногу.
Аполлоний приближался.
— Учитель, — начал Клиний, — чего ты хочешь? Что требуешь? И что тебе сделала Мероэ? Ты словно угрожаешь ей, а она боится тебя.
Не отвечая Клинию, Аполлоний произнес:
— Женщина, ты меня знаешь, не правда ли? И знаешь, что я знаю тебя.
— Да, — глухо отозвалась Мероэ.
— Ну так объяви сама этому юноше, что между тобой и им не может быть ничего общего.
— Что такое ты говоришь, учитель? — вскричал Клиний. — Она моя жена, я ее супруг… Нерасторжимые узы соединили нас в храме Венеры!
— Женщина, — продолжал Аполлоний, — скажи этому несчастному безумцу, что все принимаемое им за действительность не более чем сон и ты сейчас распрощаешься с ним навсегда.
На лице Мероэ отразилось охватившее ее глубокое страдание. Лицо же Клиния не выражало ничего, кроме удивления.
— Ты слышишь его, Мероэ!? — вскричал он. — Слышишь, что он говорит?! Он сказал, что ты покинешь меня. Объясни же ему, что это невозможно, что ты меня любишь, что ты выбрала меня среди более богатых и красивых… Он обращается только к тебе, а не ко мне… Что мне ему ответить?
— Именно потому, что она тебя любит, она должна расстаться с тобой. Ибо ее любовь смертоносна… Довольно, женщина, — голос Аполлония зазвучал грозно, — возвращайся туда, откуда явилась! Немедленно покинь этот дом, оставь этого юношу, и я обещаю сохранить твою тайну. Но уходи! Уходи, не теряя ни минуты! Уходи, я приказываю! Уходи, я так желаю!
Видимо, страшная борьба происходила в сердце финикиянки. Было ясно, что она вынуждена повиноваться воле философа: то ли из-за одного из тех страшных секретов, что позволяют человеку подчинять себе других людей, то ли благодаря особому искусству, неведомому непосвященным, но которым, вероятно, обладали они оба, причем власть Аполлония была сильнее.
И вдруг к Мероэ возвратилась решимость. Она попыталась сопротивляться:
— Нет, никогда! — вскричала она, сверкая глазами.
Всхрапнув, как кобылица, и раздув ноздри, она обвила ледяными одеревенелыми руками шею Клиния, словно сковав его мраморным кольцом.
Аполлоний, нахмурившись, глядел на нее, взвешивая силу своего взгляда. Увидев, что она, пренебрегая его приказом, все сильнее сжимает Клиния, он сказал:
— Хватит, пора с этим кончать!
И он тихо произнес то же заклинание, каким несколько месяцев ранее в Афинах изгнал беса из молодого человека с Коркиры, что был потомком феака Алкиноя, гостеприимно принявшего Улисса после осады Трои.
Едва отзвучали его слова, Мероэ вскрикнула, словно пораженная в самое сердце. И в то же мгновение исчезла вся прелесть ее молодости. Розоватый цвет кожи, вызванный волшебной жидкостью, сменился землисто-серым, на лбу выступили морщины, прекрасные черные волосы стали седыми, побледнели губы, двойной ряд жемчужных зубов исчез: Клиний увидел висящую на его шее безобразную высохшую старуху.
Вырвавшийся у него вопль ужаса потонул в криках присутствовавших.
С усилием он резким движением разомкнул руки мнимой Мероэ, обнимавшие его шею.
— Прочь, колдунья! — закричал он, — прочь!
Бледный, с искаженным от ужаса лицом, жених бросился вон из залы. Перепуганные гости устремились за ним.
Аполлоний остался один среди потухающих факелов. К нему приблизился иудей. На полу, устланном цветами, корчилась в отчаянии чародейка.
— Вот истинное лицо! Вот она — суть! — сказал Аполлоний и, обращаясь к мнимой Мероэ, добавил: — Теперь, когда ты снова обрела настоящий облик, возьми обратно и свое подлинное имя… Встань, Канидия, и слушай, что я тебе скажу.
Чародейка явно не хотела бы повиноваться, но, сломленная более сильной властью, чем ее собственная, уступила. С глазами, еще полными слез отчаяния, она поднялась на одно колено, скрипя зубами и запустив обе руки в волосы.
— Приказывай же, — произнесла она, — раз дано тебе это право.
— Так-то лучше, — промолвил Аполлоний, — ступай вперед и жди нас в Фессалии, в долине между Филлийскими горами и Пенеем… В ночь будущего полнолуния собери там колдуний, вещуний, демонов, злых духов, ламий, эмпуз, кентавров, сфинксов, химер — всех чудовищ, принимающих участие в ночном колдовстве. Для труднейшего дела нам понадобятся все средства магии, даже если придется прибегнуть к силам ада!
— Я отправлюсь сейчас же, — отвечала Канидия.
— Пусть будет так! Но, чтобы быть уверенным в твоем повиновении, я хочу видеть, как ты отправишься.
— Тогда идем! — позвала старуха.
Аполлоний и Исаак пошли вслед за ней и, выйдя из залы, попали в каморку, напоминавшую лабораторию. Лишь лунный свет, проникая через маленькое окошко без стекла и ставен, освещал это мрачное, загадочное место, где Канидия творила свои заклинания.
Аполлоний и его спутник остановились на пороге.
— Смотри! — сказал философ иудею.
Исаак не нуждался в подобном совете. Он начал понимать, каким могущественным помощником станет Аполлоний в невероятном предприятии, которое он затеял. Все его внимание было сосредоточено на ведьме.
В самом дальнем углу своего колдовского убежища Канидия зажгла сначала маленький светильник — его красноватое пламя и бледно-голубой луч луны составляли неприятный контраст. Чародейка сожгла на его огне шарик величиной с горошину, бормоча при этом непонятные слова. Тотчас разнесся сильный запах ладана. Затем она открыла медный сундучок, заполненный множеством склянок различной формы с жидкостями всех цветов, вынула одну из них, наполненную маслянистой — густой, почти как мазь, — жидкостью. Сбросив одежду, она стала натираться ею с головы до ног, начиная с ногтей. По мере втирания ее тощее тело уменьшалось в размерах и покрывалось перьями. Кисти рук стали хищными когтями, нос изогнулся клювом, зрачки пожелтели и засветились… В несколько минут она превратилась в птицу и, почувствовав себя достаточно оперенной, взмахнула крыльями, издала заунывный крик, каким орлан оглашает развалины, и вылетела в окно.
— Что ж, — сказал Аполлоний, — я спокоен. Теперь, когда наш гонец отправился в путь, мы найдем каждого там, где ему надлежит быть.
— А когда же отправимся мы сами? — спросил Исаак.
— Завтра, — ответил философ.
XXV ПУТЕШЕСТВИЕ
Все следующее утро Аполлоний употребил на утешение Клиния и прощание с учениками. Около часа дня путники сели в лодку, хозяин которой обещал доставить их в тот же вечер в маленькое селение Эгосфены. Там они собирались переночевать, чтобы на рассвете начать переход через ущелье Киферона.
Человеку, который не был бы так утомлен бесконечными дорогами, как спутник Аполлония, эта небольшая переправа доставила бы истинное удовольствие. Нужно было пересечь всю ширь восточной оконечности моря Алкионы, не отдаляясь от красивейших берегов, густо поросших соснами, кипарисами и платанами, и белеющего среди них храма Нептуна, покровителя Истма. Путешественникам предстояло также увидеть храм Дианы, примечательный тем, что в нем имелась деревянная статуя богини, одно из древнейших творений искусства, приписываемых Дедалу-скульптору, современнику Миноса, впервые изваявшему на лице глаза и отделившего руки и ноги от корпуса статуй. С моря можно рассмотреть стадион, где происходили Истмийские игры, учрежденные Сизифом в честь Меликерта, сына Ино. Под конец взору открывался амфитеатр.
К двум часам лодка обогнула Ольмийский мыс, где кончаются увалы горы Герания. К пяти вечера показались кокетливые домики городка Паги, утонувшие среди виноградных лоз, что обвивают их стены у самой воды. С наступлением сумерек, как и предполагалось, путники высадились у Эгосфе, в двух стадиях от города.
Коринфия осталась позади, они ступили на землю Мегариды.
На заре следующего дня они тронулись в путь. Перед ними возвышались южные отроги Киферона, его склоны, пока еще пологие, но далее, к северо-востоку, по направлению к Эвбейскому проливу, становившиеся все круче. В утренней дымке слева выступала зеленая вершина Геликона. Шестнадцатилетний Плутарх, когда учился в Дельфах, записал в тех местах поэтическую легенду о возникновении этих двух гор.
Геликон и Киферон были братьями, но нравом друг на друга не походили. Первый, добрый, щедрый, крепко любивший отца и мать, поддерживал их в старости. Второй же, грубый и жадный, постоянно стремился завладеть достоянием семьи. Однажды он сообщил брату, что ночью отец скончался. Тот поглядел на Киферона с ужасом и назвал его отцеубийцей. Рассвирепев^ Киферон бросился на Геликона, стараясь столкнуть его в пропасть. Но, сорвавшись вниз, Геликон увлек за собой убийцу. Оба они разбились о скалы… Тогда Юпитер превратил их в две горы, носившие их имена. Киферон, мрачный и дикий, в наказание за двойное злодейство — убийство отца и брата — стал прибежищем ведьм. Геликон, нежный и ласковый, возвышенный и поэтичный, стал любимым обиталищем муз.
И в наши дни обе горы, как бы в подтверждение легенды, сохраняют свою несхожесть. Нет места более жизнерадостного, освежающего, чем тенистое убежище муз, овеваемое лазурными волнами эфира под поцелуями золотых лучей солнца. Вершину Геликона венчают купы дубов, кроны которых колеблются на ветру, как гигантские султаны из перьев. Его пологие склоны и долины у подножия изобилуют оливами, миртовыми и миндальными деревьями. Берега его ручьев, что льются, сверкая на порогах и водопадах, — будь то Аганиппа, Пермесс или Гиппокрена, которая низвергается сверкающими каскадами, — поросли розовыми и белыми олеандрами.
Здесь, на Геликоне, родился Гесиод — соперник Гомера. Здесь сохранился манускрипт, писанный от начала до конца рукой автора "Теогонии" и "Трудов и дней". В век Антонинов на Геликоне еще были целы скульптуры девяти муз, созданные тремя разными ваятелями, а также Аполлона и Меркурия, соревнующихся в пении, статуя Бахуса — шедевр Мирона. Кроме них, были там изваяния Лина, Тамира, перебирающего перстами струны разбитой лиры, Ариона верхом на дельфине, Гесиода с арфой на коленях, Орфея в окружении животных, прирученных его пением. На Геликоне произрастали сладчайшие плоды, о которых повествует Павсаний, и целебные травы: касаясь их, самые опасные змеи теряли смертоносную силу своего яда.
Киферон, по южному склону которого взбирались наши путники, производил совершенно иное впечатление. Это была туманная, дикая и негостеприимная гора, убежище эриний. Каждую ночь на ней раздавались исступленные вопли вакханок. Все, что случалось на этой горе, было отмечено печатью рока. На Кифероне, под пологом темных сосен и кипарисов, был растерзан фиванский царь Пенфей. Он имел неосторожность взобраться на дерево, чтобы увидеть тайную оргию вакханок. Вакх наслал безумие на его мать Агаву и ее сестер Ино и Автоною. Они первыми бросились на несчастного, приняв его за молодого быка.
Именно здесь злополучный сын Аристея, устав на охоте, напился из источника, где купалась Диана. Оскорбленная богиня превратила Акгеона в оленя, и он был растерзан своими собственными собаками. На Кифероне пастух Форб нашел младенца Эдипа, брошенного там потому, что его отец царь Лай, испуганный предсказаниями оракула, захотел избавиться от сына. И наконец, именно здесь с обрыва высотой в четыре тысячи ступней видны места, где были древние Платеи с их жертвенником Юпитеру Киферонскому, куда каждые шестьдесят лет четырнадцать городов Беотийского союза доставляли четырнадцать дубовых статуй, сжигаемых на Дедалиях вместе с деревянным алтарем.
Дойдя до этого уступа, путники остановились. У их ног находились истоки Асопа, и видно было, как змеится по достопамятной Платейской равнине эта река, в которую Юпитер, соблазнивший дочь Асопа, метал молнии за то, что, выходя из берегов, река затапливала окрестности; потому и несла она в своих водах куски угля.
Но не ради этих старинных сказаний пришел иудей на просторы Беотии. Иначе, вместо того чтобы спуститься по крутому склону Дриоскефальского прохода, он бы задержался, созерцая вид, открывшийся вплоть до Гиликийского озера, что в двадцати пяти стадиях от Фив. Он бы попросил своего ученого спутника рассказать о событиях того страшного дня, когда персы потеряли двести шестьдесят из трехсот тысяч воинов. Он пожелал бы увидеть место, где в начале битвы погиб Масистий, а в конце — Мардоний. Он мог бы мысленно последовать за сорокатысячным войском Артабаза, бегущего по дороге Фокиды, увидеть, как по приказу Павсания и Аристида собирают добычу на поле битвы, отделяя десятую часть в пользу храма Аполлона Дельфийского и оставив остальные трофеи ценой в четыреста талантов, то есть более двух миллионов теперешних франков, под охраной пятидесяти тысяч присланных из Лакедемона рабов, ибо свободным людям не пристало подобное занятие.
Но иудея совершенно не волновала эта великая битва между Востоком и Западом, в которой Ксеркс попытался отомстить за Трою. Дав Аполлонию отдохнуть всего четверть часа, неутомимый ходок снова заторопился в путь и, как мы уже поведали, от истоков Асопа спустился в долину через проход, который беотийцы именуют Тремя вершинами, а афиняне Дубовой вершиной.
Несмотря на усталость, путники задержались в Платеях, лишь чтобы подкрепиться, а затем направились в Фивы, куда и прибыли с наступлением ночи. Со всеми подъемами, спусками и обходами Киферона они сделали за день около четырнадцати льё.
В ту пору Фивы были достойны внимания не только своей историей — они еще имели значительное влияние. И все же лучшие дни города ста ворот миновали. Прошли времена, когда там царствовали Кадм, Лабдак, Лай, Эдип, Этеокл и Полиник. Давно отгремели война "семерых против Фив", воспетая Эсхилом, и битвы эпигонов, не нашедшие, увы, своего поэта и оставшиеся в полумраке истории. Амфион, Пиндар и Эпаминонд были родом из Фив. Когда Александр Македонский за неповиновение разрушил город до основания, от столицы Беотийского союза остался лишь дом поэта, воспевавшего победителей Олимпийских игр.
И все же Фивы восстали из руин, как позже возродились Афины и Коринф. Затем они попались в сети нового завоевателя мира — Рима. Население города стало наполовину италийским. На улицах повсюду слышалась латынь, как греческий язык звучал на улицах Рима.
На следующий день Исаак и Аполлоний отправились в дорогу столь же рано, как и накануне. Часа через полтора они достигли Гиликийского озера, обойдя которое, пересекли Схеней, оставив справа гору Гипат, а слева — город Акрефий. Через два часа пути перед ними возник храм Аполлона. Отсюда открывался вид на Копаидское озеро, этот главный имплювий Беотии. Здесь, и более нигде, рос тростник, издающий мелодичные звуки в руках прославленных флейтистов всей Греции на музыкальных состязаниях, что устраивались на празднествах граций в Орхомене, муз — в Либефроне и Амура — в Феспиях.
Ночь застала путников в Копах. За день они прошли Платаний, чтобы достичь Опунта — места, где царствовал Аякс, сын Оилея. Родина Патрокла, друга Ахилла, не заставила их задержаться более чем на час. В середине дня они отправились дальше, продвигаясь вдоль Эвбейского побережья, миновали Фроний, оставили слева гору Эта, с вершины которой Геракл на огненном облаке вознесся на Олимп. Вскоре открылся вид на Фермопильский проход.
Несколько раз их путь пересекал Боагрий. Дорога и река были точно две борющиеся змеи, пытающиеся сжать друг друга своими кольцами. У гавани Тарфы река впадала в Малийский залив, а дорога продолжала виться вдоль берега, чуть ниже Гераклова камня, сузившись до того, что колеснице, проезжающей здесь, грозила опасность сорваться в пропасть.
В этом месте четыре века назад расположился Леонид с тремя сотнями спартиатов и семью сотнями лакедемонян; к ним присоединилась тысяча бойцов из Милета, четыреста из Фив, тысяча из Локриды и столько же из Фокиды.
Всего под началом спартанского царя оказалось около семи тысяч четырехсот воинов. Кого же он ждал? Ксеркса почти с миллионом персов и двумястами тысячами наемников из подчиненных земель!
Ксеркс намеревался жестоко отомстить за своего отца Дария. Он сказал: "Я переплыву моря, сровняю с землей преступные города и возьму в рабство их жителей!"
Он призвал под свои знамена народы Азии, Африки и Европы.
В своем царстве он набрал войско из девятисот тысяч бойцов.
Карфаген послал ему сто тысяч галлов и италийцев.
Из Македонии, Беотии, Арголиды и Фессалии пришли еще пятьдесят тысяч человек.
Триста хорошо оснащенных и полностью вооруженных кораблей дали Финикия и Египет.
Три царя и одна царица выступили под знаменами Ксеркса; то были цари Тира, Сидона, Киликии и царица Галикарнаса.
Он выступил, перебросив понтонный мост через Геллеспонт. Прорыв гору Афон, его войска затопили Фессалию как наводнение и покрыли шатрами все земли малийцев.
Ему сообщили, что около города Анфелы его ожидает греческое войско. Он не знал только, что в войске этом всего семь тысяч человек.
Каждый воин из Лакедемона, Спарты, Фив, Феспий или Локриды должен был сразиться со ста пятьюдесятью противниками.
Но греки понимали это. Они пришли, чтобы умереть в бою.
Прежде чем покинуть Спарту, три сотни избранников смерти справили по себе погребальный обряд в знак того, что почитают себя уже покинувшими мир живых. Жена Леонида, прощаясь с супругом, попросила у него напутствия перед вечной разлукой, и он отвечал:
— Желаю тебе мужа, достойного тебя, и похожих на него детей.
А у городских ворот, вернее, у последних домов, так как стенами Спарты, по мнению ее обитателей, служила доблесть спартанцев, к Леониду приблизились эфоры.
— Царь Спарты, — обратились к нему они, — знаешь ли, что людей у тебя слишком мало, чтобы выступить против персидского войска?
Но он отвечал:
— Не победить мы желаем, но дать грекам время собрать войско. Нас мало, чтобы остановить врага, но слишком много для того, что нам предназначено: наш долг — защитить проход в Фермопилах, а судьба — погибнуть там. Трехсот жертв достанет для чести Спарты, а большее число их опустошит город, ибо полагаю, что ни один из нас не спасется бегством.
Пройдя Аркадию, Арголиду и Коринфию, Леонид немного поколебался в выборе места битвы между Истмийским перешейком и Фермопильским ущельем. Он предпочел последнее, перебрался через горы Беотии и остановился лагерем у Анфелы. Там он с толком употребил остаток времени: послал всех людей восстановить старинные укрепления, перегораживающие дорогу и именовавшиеся стеной фокийцев, поскольку те некогда возвели ее, сражаясь с мессенцами. На это не потребовалось многих дней — дорога в этом месте была так узка, что могла пропустить лишь одну колесницу.
Спартанцы выставили дозор за рекой Феникс; ему было поручено охранять подходы к ущелью. По отрогам горы Анопеи и ее вершине мимо селения Альпен шла тропа, кончавшаяся у камня Геракла Мелампига и известная только пастухам. Чтобы защитить ее, Леонид отправил тысячу фокийцев, укрепившихся на горе Эта, что нависала над Анопеей.
Все эти предосторожности предпринимались не ради победы, а для того, чтобы погибнуть как можно позже: чем медленней будет поступь смерти, тем больше времени окажется у Греции, чтобы собраться с силами.
Все зависело от недель, дней и часов.
Счастье уже сопутствовало спартанцам и их союзникам: они пришли на место первыми и могли быть уверенными, что могила их будет именно там, где они пожелали.
Уже можно было различить первых дозорных Ксерксовых полчищ, услышать скрежет колесниц и повозок, почувствовать, как сотрясаются скалы от топота миллиона ног, но спартанцы едва снисходили поднять голову и взглянуть, откуда идет погибель!
Вот появился персидский всадник: посланец Ксеркса, желавшего узнать, с каким врагом имеет дело царь царей.
В лагере Леонида одни занимались борьбой, другие расчесывались и умащали голову, поскольку первая забота спартанцев перед лицом опасности — украсить волосы и увенчать чело цветами.
Всадник смог беспрепятственно проникнуть до передовых укреплений, полюбоваться на военные игры, пересчитать их участников и вернуться вспять. Спартанцы не подали вида, что обнаружили его.
Заметив только Леонидовых воинов (стена фокийцев скрыла от наблюдателя остальных), разведчик доложил Ксерксу:
— Их три сотни!
Тот не мог поверить. Он ожидал какой-то ловушки и провел в бездействии четыре дня.
На пятый он послал Леониду письмо:
"Царь Спарты, если покоришься мне — получишь в управление всю Грецию".
И получил ответ:
"Предпочитаю умереть за отечество, нежели предать его".
Тогда перс послал второе письмо:
"Сдай мне оружие!"
Под столь немногословным повелением Леонид не менее лаконично начертал:
"Приди и возьми!"
Прочтя, Ксеркс призвал к себе войско мидян и киссиев числом в двадцать тысяч и приказал:
— Отправляйтесь против этих трех сотен безумцев и приведите мне их живыми.
К Леониду прибежал дозорный с криком:
— Царь! Идут мидяне! Они уже рядом с нами!
— Ошибаешься, — отвечал Леонид. — Это мы рядом с ними!
— Их так много, что их стрелы затмят солнце.
— Тем лучше, — заметил один из спартанцев, Диенек. — Будем сражаться в тени.
Тогда Леонид приказал не ожидать воинов Ксеркса в укреплениях, а выйти на открытое место и наступать на них!
И было их всего триста. Правда, и против них шло лишь двадцать тысяч мидян и киссиев.
Через час битвы все двадцать тысяч ратников Ксеркса обратились в бегство!
На помощь им персидский царь послал десять тысяч "бессмертных".
Так их звали потому, что бреши в их цепочках тотчас заполнялись добровольцами-смельчаками из других отрядов.
Предводительствовал ими Гидарн.
Но после упорного сражения были оттеснены и они.
О Спарта, Спарта, как правы те, кто утверждал, что лучшие твои стены — грудь твоих воинов!
На следующий день сражение началось снова.
И снова персов разбили.
Настала ночь. Ксеркс сидел в своем шатре, подперев рукой щеку; он уже терял надежду прорваться сквозь ущелье и спрашивал себя, не лучше ли было бы отказаться от похода.
Он вспоминал, что, будучи в Вавилоне, куда отправился повидать гробницу царя Бела, он повелел вскрыть царскую усыпальницу и обнаружил два саркофага: один — с останками, а другой — пустой. И на дне пустого лежала табличка с надписью: "Здесь будет жребий того, кто меня откроет".
После двух подобных поражений не настало ли время похоронить свою удачу под могильной плитой рядом с телом вавилонского правителя?
Тут в царский шатер вошел Гидарн и привел изменника. Того звали Эфиальт.
Если сохранять имена смельчаков — наш святой долг, то помнить имена предателей следует для восстановления справедливости. Истории мало быть благоговейной, она должна быть справедливой.
Недаром одна из богинь Греции звалась Немесидой, что значит "мстительница".
Эфиальт сообщил об обходной тропе, ведущей по горе Анопее к лагерю Леонида.
Гидарн и десять тысяч "бессмертных" тотчас поспешили туда, взяв изменника проводником.
Густая тень дубов, росших на горных склонах, и тьма ночи скрыла нападавших от дозорных фокийцев.
Схватка была короткой. Защитники некоторое время сопротивлялись, ведь они сражались всего лишь один против десяти. Но с них и нельзя было спрашивать большего, они не были ни спартанцами, ни даже лакедемонянами.
Леонид услышал звуки битвы, разгоравшейся у него над головой, затем прибежали дозорные и доложили, что защитники прохода смяты.
Тотчас же он собрал предводителей своих союзников. Все считали, что нужно отступить и защищать Коринфский перешеек.
Но Леонид покачал головой:
— Здесь Спарта повелела нам умереть, здесь мы и умрем. Вы же сохраните себя и ваших воинов для лучших времен!
Они желали остаться. Тогда Леонид заговорил от имени Греции, и пелопоннесцы, локры и фокийцы уступили.
Но феспийцы и фиванцы объявили, что не покинут Леонида.
Пелопоннесцев было три тысячи сто, локров — тысяча триста, фокийцев — тысяча.
А значит, отступили пять тысяч четыреста человек, остались же две тысячи сто. Отступавшие успели проскочить через Фроний прежде, нежели отряд "бессмертных" смог перерезать им путь.
Вечером Леониду доложили, что Гидарн уже в селении Альпен и на следующее утро выступит с тыла, в то время как Ксеркс ударит в лоб.
— Тогда, — ответил Леонид, — незачем ждать утра.
— Что же нам делать? — спросил его брат.
— Ночью мы нападем на шатер Ксеркса и убьем его или погибнем посреди его войска… А пока что поужинаем!
Трапеза была очень легкой, ибо еду уже никто не мог доставить в стан защитников, о чем и сообщили Леониду.
— Это не в счет, — отозвался он. — Этой ночью мы отужинаем у Плутона!
Обернувшись, он заметил двух спартанцев, юных, прекрасных, к тому же его родственников.
Один что-то тихо шептал другому: наверное, поверял свои сердечные тайны, что часто делают воины перед смертью.
Леонид подозвал их и вручил первому письмо к своей жене, а второму — тайное поручение к старейшинам Лакедемона.
Оба улыбнулись уловке, скрывающей нежную жалость родича.
— Мы не гонцы, а воины! — ответили они и отправились занять место, отведенное им в строю.
Под покровом ночи Леонид бесшумно покидает укрепленный лагерь и во главе своего маленького войска бегом устремляется на врага. Смельчаки опрокидывают передовые дозоры и, как железный клин, вонзаются в персидские порядки ранее, чем противник успевает взяться за оружие. Шатер Ксеркса уже во власти спартанцев, но царь царей, как он сам себя именует, успел спастись бегством! Изорвав в клочья его шатер, спартанцы, лакедемоняне, феспийцы и фиванцы, испуская устрашающие крики, рассеиваются по всему лагерю, нанося удары направо и налево и сея страх и смятение. В стане Ксеркса разносится слух, что десять тысяч "бессмертных" опрокинуты в пропасть вместе с Гидарном, что к спартанцам подошло подкрепление. Они потому и осмелились пойти вперед, что вся греческая армия уже готова войти в этот прорыв и дать настоящий бой!
Если бы персы могли бежать, они были бы обречены, но куда бежать? Ночью, не зная дороги, имея слева море, справа трахинские скалы, позади — фессалийские ущелья, они смогли противопоставить погибели лишь неподвижное стояние огромного скопища людей, — и их убивали всю ночь.
Но настал день, и первые же лучи солнца выдали малочисленность нападавших. Тогда вся громада персидского войска обступила их, чтобы, как разверстая бездна, поглотить оставшихся в живых воинов Леонида.
Но тем не менее схватка была жестокой как никогда. Леонид пал мертвым! Соблазнительная честь завладеть его останками и доблестное рвение отстоять тело своего предводителя подвигла и нападавших, и защищавшихся удвоить ярость боя; в итоге два брата Ксеркса, много персидских военачальников, двести спартанцев, четыреста лакедемонян, столько же феспийцев и двести фиванцев были принесены ради него в жертву во время этой чудовищной гекатомбы. Жертва, достойная героя! Наконец в высшем напряжении сил, отбросив врагов, греки остаются хранителями тела своего вождя, в полном порядке отступают, выдержав четыре наступления персов, оставляя в каждом убитых, но все же не расстраивая рядов. Они переходят Феникс, но останавливаются у стен своих укреплений и держатся там, пока десять тысяч "бессмертных" во главе с Гидарном не обрушиваются на них с тыла.
Погибли все.
Лишь трое уцелели совершенно случайно. Один — почти ослепнув, — остался около селения Альпен. Узнав, что туда вошли воины Гидарна, он велел своему рабу подвести себя близко к "бессмертным", взял меч и щит и, бросившись в гущу врагов, пал, пронзенный их клинками… Двое других, не зная, что сражение вот-вот произойдет, отлучались с поручениями своего предводителя; по возвращении их заподозрили в том, что они нарочно не успели к решающей схватке. Тогда один убил себя сам, а другой искал и нашел свою смерть в битве при Платеях.
Ксеркс же продолжил свой путь и был остановлен лишь у Саламина и при Марафоне…
Аполлоний и его спутник на миг задержались у могилы Леонида. Как ни был озабочен Исаак Лакедем своей вечной схваткой с собственным жребием, ему, призванному связать воедино старый и новый мир, было невозможно не окинуть почтительным взглядом место битвы, оставившей глубокий след в веках.
Пока он оглядывал окрестности, Аполлоний рассказывал ему о Леониде, его героической преданности долгу и о бессмертном уроке, преподанном им всем племенам и народам.
Затем оба отправились дальше.
XXVI ПУТЕШЕСТВИЕ (Продолжение)
Путники приближались к цели их долгого странствия. Они вступили в Фессалию, покинув предгорья Эты, еще закопченной пламенем Гераклова костра; затем прошли через Гипату и Л амию — города колдуний, углубились в ущелья Офрия, миновали вершины, где титаны десять лет сражались с Юпитером; наконец оставили справа реку Ахелой, пытавшуюся отнять у Геракла Деяниру, когда тот плыл с ней в ее водах, и потом трижды сражавшуюся с сыном Алкмены под тремя личинами: реки, змеи и быка, оставившего в руках победителя один из своих рогов.
Пройдя ущелья Фессалии, они очутились в сердце древнего мира, у истоков мифов и преданий, на земле, истоптанной гигантскими шагами полубогов и героев. В обширной котловине, куда спустились Аполлоний и Исаак, их поджидала Канидия, чтобы приобщить к ночным мистериям, оставленным античной магией в наследство нашим средневековым колдуньям. Именно там когда-то, как говорили, плескалось гигантское внутреннее море, подобное Каспию, пока Нептун, раздвинув своим трезубцем прежде бывшие единым целым Олимп и Оссу, не дал морю вытечь по пробитой им горной долине, названной Темпе, что значит "проход".
По мере того как море, устремившись по Темпейской долине в Фермейский залив, обнажало земли, богатые плодородным илом, на них поселялись люди с Олимпа, Пинда, Оссы, Пелиона и Офрия. На скалистых высотах остались лишь кентавры, сыновья Иксиона и Облака.
Вот тут-то и начались эпические времена Фессалии. А поскольку они во многом имеют отношение к нашему повествованию, мы вынуждены окинуть их беглым взглядом.
На самом отдаленном горизонте времен, там, где история еще переплетается с преданием, во время брачного пиршества развертывается и первая из известных нам мировых драм. Лапиф Пирифой, сын Иксиона, берет в жены Гипподамию, дочь Адраста, и приглашает на торжество ее родичей кентавров и их царя Эвритиона. Невеста так прекрасна, что сраженный страстью царь посреди брачного пира приближается к ней, сжимает в объятиях и пытается похитить. Вспыхнувшая ссора превращается в драку, где в ход идет все, вплоть до головней из очага. В этом первом сражении кентавры побеждены, Эвритион взят в плен, и Пирифой возвращает дерзкому гостю свободу, в отмщение за нанесенное оскорбление отрезав ему нос и уши.
Это послужило началом войны не на жизнь, а на смерть. Изувеченный царь встал во главе войска, полный решимости уничтожить все племя лапифов. Теми же предводительствовал Кеней, который некогда был женщиной под именем Кениды. (Влюбленный в нее Нептун, добившись взаимности, в благодарность предложил исполнить любое ее желание. Кенида попросила, чтобы ее превратили в мужчину, что и было исполнено, а счастливый Нептун вдобавок одарил ее — вернее, уже его — неуязвимостью.)
Первая схватка была ужасна. Окруженный кентаврами, бессильными лишить его жизни, Кеней сражался как лев. Он не сдавался, и тогда они, стуча своими палицами по нему, как по наковальне, вогнали строптивца глубоко в недра земли. На месте же, где он исчез, победители, не утолив мстительного пыла, повалили целый лес и подожгли его.
Но из пламени выпорхнула птица с золотыми крыльями — это бессмертный Кеней улетел к небесам!
Кентавры устремились к столице страны лапифов, однако те неожиданно обрели союзника.
Тесей, которому не давала покоя слава Пирифоя, отправился из Афин на поединок с ним. Пирифой, сочтя себя достойным такого противника, с оружием в руках вышел ему навстречу. Однако же, когда тот и другой встретились лицом к лицу, они пришли друг от друга в такое восхищение, что сжимающие смертоносное оружие руки сами собой разжались, противники, обнявшись, поклялись в вечной дружбе и возвратились с места несостоявшейся схватки, прижавшись друг к другу, словно Диоскуры.
Тогда-то Пирифой и узнал о вторжении кентавров и о том, что сталось с Кенеем. Тесей и он тотчас вместе отправились на битву, так как, естественно, враги одного стали врагами другого. Война длилась три года. В конце концов кентавры, терпевшие поражения во всех стычках и спасавшиеся лишь благодаря быстроте своих ног, были разгромлены и изгнаны. На Пелионе остался только Хирон: его заслуги как наставника Тесея и громкая слава о добрых делах, чудесных исцелениях и учености обеспечили ему эту привилегию.
За Пирифоем, влюбившимся в Прозерпину и спустившимся за ней в Тартар, где его растерзал трехголовый страж адских врат пес Цербер, пришла очередь аргонавта Ясона.
Ясон родился в Полке. Отца его Эсона только что сверг с иолкского трона Пелий, его брат, дядя Ясона. Страшась за жизнь сына, Эсон пустил слух о его смерти, а едва избежавшая гибели Алкимеда, Эсонова супруга, завернув мальчика в тунику, отнесла его Хирону, взявшемуся сделать из него героя.
Под присмотром кентавра ребенок превратился в прекрасного юношу, и тогда Магнесийский оракул повелел ему взять два метательных копья, облачиться в шкуру леопарда, вернуться в Полк и потребовать себе отцовский трон.
Ясон подчинился оракулу, спустился с гор, предстал перед Пелием, чтобы тот признал в нем своего племянника, и отважился изложить свое требование.
— Да будет так, — отвечал Пелий, — но тебе надо каким-нибудь подвигом, достойным Геракла, доказать мне, что ты действительно происходишь от Эсона.
В то время вся Греция клялась и божилась именем Геракла, только что совершившего двенадцать прославивших его подвигов.
— Приказывай! — отвечал Ясон.
— Так вот, — немного подумав, сказал Пелий, — отправляйся в Колхиду, привези мне золотое руно, и трон Полка твой!
Что же это за золотое руно, которого возжелал Пелий? Его историю мы поведаем здесь.
К слову сказать, за два дня до того наши путники, проходя вдоль Копаидского озера, что в Беотии, присели отдохнуть на ступени храма Аполлона; был тот ранний вечерний час, когда воздух становится совсем прозрачным, и они могли различить на противоположном берегу, у голубоватых отрогов горы Парнас, городок Орхомен. Так вот, некогда Афамант, царь Орхомена, имел от своей первой жены Нефелы сына по имени Фрике и дочь Геллу.
Афаманту вскоре наскучила его супруга, он расстался с ней и вторым браком взял в дом Ино, дочь Кадма. Однако, как водится, мачеха возненавидела приемных детей и решила избавиться от них.
И вот как она стала действовать.
Ей удалось отравить зерно в общественных закромах; посеянное, оно не дало всходов, урожай погиб, и наступил голод.
Пришлось обратиться к Дельфийскому оракулу, чтобы узнать, что надо делать при таком бедствии.
Ино подкупила гонцов Афаманта, и те объявили: чтобы заклясть беду, опустошившую страну, надо принести в жертву богам детей Нефелы. Во всех юных религиях боги всегда отличаются людоедством. Лишь гораздо позже, во времена религиозного возмужания, становится возможным обмануть их склонность к человеческой плоти, заменив ее плотью животных. Даже иудейский бог Яхве требует от Авраама принести в жертву его сына Исаака и принимает заклание дочери Иеффая.
Фрике и его сестра Гелла были уже у подножия жертвенника с увенчанным цветами челом, они уже подставили горло ножу, когда Нефела, с развевающимися волосами, не помня себя от горя, растолкала толпу, вырвала своих детей из рук жрецов и скрылась, не оставив никому времени воспротивиться порыву матери, отнявшей детей у смерти.
Но что же ей делать дальше, как спасти детей от мстительной мачехи? Тут на помощь приходит Меркурий: он дарит Нефеле барана Хрисомалла; тот способен говорить и летать и, к тому же, о чем свидетельствует само его имя, имеет руно из чистого золота.
Баран ожидает Нефелу на берегу Копаидского озера. Испуганная, запыхавшаяся мать быстро сажает ему на спину детей, и он взмывает к облакам, направившись в Колхиду.
Примерно на середине пути у Геллы закружилась голова, она падает с высоты в узкий пролив, что соединяет Эгейское море и Пропонтиду. По имени той, что утонула в его водах, пролив стали именовать Геллеспонтом.
Фрике же весьма благополучно добрался до Колхиды. Там по приказанию Меркурия он принес золотого овна-спасителя в жертву Юпитеру, определившему ему место на небе среди знаков Зодиака. А руно пошло царю Ээту в уплату за его гостеприимство.
Руно это хранили как палладий царства ээтов; оно висело, прикованное цепью к дубу, и сторожил его дракон.
Этот-то талисман и потребовал у Ясона Пелий, посылая племянника на верную смерть.
Но Ясон согласился.
Так началась чудесная история путешествия аргонавтов — тех, кто пустился в плавание на корабле "Арго".
Но прежде всего следовало построить судно, а эта наука еще не была известна обитателям Северной Греции. Лишь по преданиям они знали об отважных кораблях, перенесших в Южную Грецию из Финикии или Египта колонистов под предводительством Кадма, Кекропа, Огигия и Инаха.
Тем не менее, Ясон взялся за дело. Лучшие сосны с горы Пелион пошли на палубы и киль судна, а для его единственной мачты Минерва принесла дубовый ствол из священной дубравы Додоны, где деревья говорят человеческим голосом.
Судно построили в Пагасах под надзором Арга, сына Полиба и Аргии. До того корабли греков были с плоским круглым дном. Apr первый придал своему новому творению удлиненную форму рыбы и, кроме того, предусмотрел, чтобы судно могло идти под парусом и на веслах.
И вот пятьдесят шесть воинов, чьи имена мы знаем, хотя забыли, как звали спутников Колумба, Васко да Гамы и Альбукерке, — пятьдесят шесть воинов отправились с Ясоном в опасный поход.
Почему же имена этих героев дошли до нас и сами аргонавты поплыли в бессмертие через рифы веков по морю времени к некоему затерянному в будущем причалу? Потому что две тысячи лет назад для них нашелся поэт и своим дыханием вызвал к вечной жизни эти негаснущие звезды среди стольких имен героев и воинов, сгоревших, подобно огненным кораблям, на небосклоне античности. Таково безусловное и величественное могущество поэзии, освещающей негасимым светом все вокруг. Пока он пылает, в непроглядный сумрак забвения погружается все, о чем поэты решат умолчать. Зато, подобно божеству, поэзия проливает на дорогие ей головы бальзам бессмертия.
А теперь о тех, кто предводительствовал этими героями.
Сначала их возглавил Геракл, пока не бросил все ради поисков своего любимца Гиласа.
Этому изящному сказанию, пожалуй, стоит уделить несколько слов.
Во время бури, двенадцать дней трепавшей корабль "Арго", Геракл уронил в море свою палицу, лук и стрелы.
Наконец, когда буря стихла, корабль бросил якорь в устье Риндака.
Вокруг громоздились горы, покрытые обширными и сумрачными лесами, и Геракл решил именно там подыскать замену утраченному оружию. Вместе со своим верным другом, спутником, увезенным с Мизии, он вошел в ближайшую рощу, срубил дуб для палицы и ясень для лука, а Гиласа послал нарезать для стрел тростник: он заметил его гибкие верхушки, раскачивавшиеся на ветру.
Прекрасное дитя направилось к источнику, около которого рос тростник. Но вода там была так чиста, что мальчик не мог не поддаться искушению утолить жажду; да и от кого бы ему ожидать опасности? Он встал на колени, склонив лицо к хрустальной глади. Какое искушение для нимф, томимых скукой в этом безлюдье! Никогда еще столь очаровательные уста не касались хрустальной влаги и столь шелковистые золотые локоны не окунались в нее… Нимфы ухватили мальчика за эти локоны и утянули в свое царство. Он хотел закричать, но успел лишь громко вздохнуть.
Услышав этот звук, Геракл поднял голову. Но последний земной вздох своего юного спутника он принял за легкое дуновение ветерка.
Обстругав палицу и сделав лук, он стал звать Гиласа, но подводные пещеры, куда утянули мальчика, хранили молчание.
Геракл кричал все громче и громче. Оставшиеся у корабля аргонавты слышали отчаянные призывы сына Юпитера все утро, день и вечер. Потом голос стал отдаляться к югу, оттуда его глухой отзвук доносился всю ночь, и наконец к утру все смолкло. Решив, что Геракл ушел от них навсегда, аргонавты отплыли.
Итак, во главе этой экспедиции были:
Геракл, командовавший ею в начале путешествия;
Ясон, затем сменивший его;
Тифис, бывший кормчим;
Орфей, воспевавший их деяния;
Эскулап, ставший корабельным врачом;
Линкей, предупреждавший о рифах;
Калаид и Зет, командовавшие гребцами;
и, наконец, Пелей и Теламон, несшие дозор на корме, когда Геракл бодрствовал на носу корабля.
Перед отплытием Ясон взял со всех спутников клятву не возвращаться без золотого руна. Затем, принеся жертву богам, аргонавты подняли парус и отчалили, помогая веслами ветру.
Двенадцать городов, которые возвышались на берегу Пагасейского залива и под которыми, как царь, господствовал Иолк, приветственными криками проводили корабль "Арго", двинувшийся в сторону Эгейского моря и торжественно огибающий мыс Сепию.
Здесь на одном из нависших над морем уступов Пелиона им вослед глядел кентавр Хирон, наставник Ясона и Тесея, и можно было различить плачущего подростка, прислонившегося к его могучему плечу. Тот был огорчен, что юные лета не позволяют ему присоединиться к столь знаменитым путешественникам.
Подростка звали Ахиллом.
"Арго" меж тем удалялся на северо-восток и скрылся в направлении к проливу Геллы.
Покинем на волю превратностей и капризов морской стихии этот корабль, что через шесть лет, победив в схватке с волнами, ветрами, рифами, людьми, чудищами и богами, вернется к месту, где был построен, с завоеванным руном и похищенной Медеей на борту.
Нас сейчас занимает плачущий подросток.
Ахилл! Еще одно из великих имен Фессалии.
Его матери Фетиде, самой прекрасной из нереид, предсказали, что она родит сына, который во всем превзойдет своего отца. Аполлон, Нептун, Юпитер по очереди добивались чести взять ее в жены, но, узнав о предсказании, каждый отрекся от подобного замысла. И не мудрено: это было предсказание оракула Фемиды, а он, как известно, никогда не обманывал. Поэтому Фетиде пришлось искать мужа среди обыкновенных смертных. Но все ж она пожелала, чтобы притязающий на ее руку хоть в чем-то не уступал богам, и объявила, что выйдет замуж за того, кто ее победит. Многие безуспешно пытали счастья, пока Пелей, внук Эака, эгинского царя, последовав советам Хирона, не одолел непокорную богиню. Брачный мир справили на Пелионе, туда созвали всех богов, кроме Эриды, дочери Ночи, сестры Сна и Смерти.
Известно, как кровожадная богиня отомстила за эту оплошность: она подбросила пирующим золотое яблоко, на котором было начертано: "Прекраснейшей!"
Что делал Ахилл, сын Фетиды, внимая Хирону? Готовился к грядущей Троянской войне, что начнется из-за похищения Елены Парисом и где он умрет, чтобы обрести вечную жизнь в стихах Гомера!
А вот еще один фессалиец, Адмет, один из пятидесяти шести спутников Ясона, ради похода расставшийся с обожаемой прекрасной Алкестидой.
Алкестида — дочь Пелия и, соответственно, двоюродная сестра Ясона. Отец объявил, что выдаст ее замуж лишь за героя, который вступит в Иол к на колеснице, куда будут впряжены два свирепых зверя из тех, что враждуют друг с другом на воле. Трудно было выполнить такой наказ. На счастье Адмета, в это время ему встретился Аполлон, сосланный на год на землю из-за того, что он истребил киклопов. Приняв гостеприимное приглашение, он поселился у Адмета, а в благодарность пас его неисчислимые стада и к тому же подарил Адмету на прощание льва и дикого кабана, прирученных им самим. Адмет появился в Иолке на колеснице, влекомой свирепыми, но покорными его воле львом и кабаном, и добился руки Алкестиды. Затем, как уже сказано, он пустился в поход с аргонавтами, но, вернувшись в родные пределы, тотчас смертельно занемог. В отчаяннии Алкестида обратилась к оракулу и узнала, что Адмета можно спасти, если кто-либо другой согласится умереть вместо него. Не колеблясь, супруга прощается с горячо любимыми детьми, обрекает себя в жертву и погибает… Стоило ей испустить последний вздох, как Адмет встал с ложа болезни совершенно здоровым. Но тут же он узнает, какой страшной ценой ему возвращена жизнь. Во время поминального пира появляется Геракл. Узнав причину траура, плача, стенаний и похоронных гимнов, выслушав повесть о страдании безутешного супруга, о его преданности покойной, он входит в склеп, вступает в схватку со смертью, вырывает у нее безжизненную Алкестиду и переносит тело верной жены на супружеское ложе: девять дней она лежит без движения, не произнося ни слова, а затем открывает глаза и возвращается к жизни!..
Такова была волшебная страна, по которой шли Аполлоний и его спутник. Вот какие сказания с мрачной истовостью впитывал в себя Исаак.
Он пытался проникнуть в хитросплетения извечного узла всех мировых драм, в законы борьбы человека со стихиями и божествами.
Почему Кеней не одержал победы, а Ясон добился желаемого? Отчего Ахилл принял смерть, а Геракл бессмертным вознесся на небеса?
Как видно, в его собственной схватке с новым божеством, объявившим себя властителем земным и небесным, он, Исаак Лакедем, лишь продлевает традиции старого мира, к которому все еще принадлежит…
И вопрос за вопросом слетал с его уст, а в его памяти громоздились все эти волшебные сказания, тесня друг друга и сталкиваясь между собой… Так какой-нибудь вассал, готовясь к бунту против сюзерена, копит оружие различных видов и из всевозможных стран, все, какое только мог добыть, и останавливает выбор на самом остром и самом разящем, самом отравляющем, следовательно — самом смертоносном!..
XXVII ПУТЕШЕСТВИЕ (Окончание)
Когда Аполлоний завершал трогательный, поэтичный рассказ об Алкестиде, они со спутником дошли до выхода из ущелий Офрия. Отсюда, как ранее с высоты Киферона, открывался вид на всю Беотию от Парнаса до Эвбеи и, соответственно — на всю Фессалию, заключенную в гигантский треугольник между Олимпом, Пиндом и Оссой.
В голубоватой дали у горизонта они увидели извивающийся, словно серебряная нить, Пеней, воспетый Симонидом, Феокритом и Вергилием.
На его берегу белела в предзакатном сиянии Лариса, родной город Ахилла.
Справа зачарованно гляделся в воды залива Иолк, город Ясона.
Слева же на одном из притоков Пенея стояла Трикка, где родился Пирифой.
А внизу, у их ног, был Фарсал!..
При одном упоминании о нем Исаак вздрогнул. Фарсал напомнил ему о двух именах, соединивших историю Востока и Запада.
В первый раз с тех пор как он вступил на землю Греции, Исаак уловил в душе двойное эхо, отзвук которого ощущался и в его собственной истории, и в истории его племени.
Два имени, какие напомнил ему Фарсал, были Цезарь и Помпей.
Именно Помпей покорил Иудею и сделал Сирию римской провинцией.
А Исаак служил знаменосцем у Августа, племянника Цезаря.
Борьба между этими двумя смертными оказалась не менее жестокой, не менее важной, нежели битвы богов и титанов.
В Фарсале решалось, кому принадлежит власть над миром.
Власть досталась Цезарю.
Что же было особого в этих двух людях, которым удалось заключить только в два слова все общественные битвы и все человеческие сообщества: республика и империя — деспотизм и свобода?
Были ли они оба всем обязаны только себе или же Провидение сделало их орудиями в своих руках?
Ведали ли они, что им выпало на долю, для чего они были рождены, ради чего им суждено было умереть?
Или они шли как величественные слепцы по этой дороге из прошлого в будущее, по которой идут люди, но которая, по сути, есть путь Бога?
Однако этими вопросами античная философия не задавалась.
Но даже с материальной, обыденной точки зрения событие было достаточно важным, чтобы возбудить любопытство Исаака.
— Фарсал, — медленно повторил он вслед за Аполлонием. — Значит, под нашими ногами поле битвы!.. Мне в Александрии показывали место, где убили Помпея. Покажи мне, где он был побежден.
Аполлоний протянул руку, показывая колонну на склоне горы, с вершины которой оба путника обозревали окрестность:
— Вон там стоял лагерем Помпей. А там, где сливаются воды двух ручьев, один из которых зовется Апиданом, а другой не имеет имени, расположился со своим войском Цезарь.
Исаак знаком показал, что внимательно слушает.
— С Помпеем пришли девять легионов римских граждан. Пять из них он привел из Италии; легион ветеранов прибыл с Сицилии, названный сдвоенным, ибо был составлен из двух легионов; еще один дали Македония, что простирается перед нами по ту сторону Олимпа, и Крит, что у нас за спиной, за Кикладами. Наконец, два легиона привел из Азии Лентул. Кроме того, в распоряжении полководца имелись три тысячи лучников из Лакедемона и Понта; тысяча двести пращников с Балеарских островов и из Сирии; шестьсот галлов, приведенных Дейотаром; пятьсот фракийцев, присланных Котисом; столько же каппадокийцев под водительством Ариобарзана; двести македонцев, повинующихся приказам Рескупорида; пятьсот галлов и германцев, призванных из Александрии; восемьсот всадников, набранных из его пастухов и рабов; триста галатов, бессов, дарданцев и фессалийцев — всего двести шестьдесят тысяч человек, не считая всадников, сенаторов и золотой римской молодежи — всех, кого под его знамена привлекло желание разделаться с общими врагами: Цезарем и народом! Цезарь же, кроме знаменитого десятого легиона, не расстававшегося с ним никогда, имел на своей стороне мало римских граждан, но множество тех, кого тогда в Италии звали варварами. Тут была и тяжелая пехота из Белгики, и легкая пехота из Арвернии и Аквитании; вместе с ними пришли галльские и германские всадники, лучники-рутены и испанская гвардия. Впрочем, это воины преданные и грозные: в Массилии один из таких захватил командование кораблем. В Африке, когда Сципион пожелал оставить в живых другого, попавшего в плен, тот ответил: "Воины Цезаря приучены даровать жизнь, а не получать ее в дар!" — и перерезал себе горло.
В Диррахии еще один подобный смельчак получил три раны на теле и насчитал сто тридцать следов от ударов на своем щите!
В лагере Помпея не сомневались в победе, удивлялись только тому, что сам он медлит дать сражение. Домиций спросил у него: "Агамемнон, сколько времени, по-твоему, продлится эта война?"
Цицерон и Фавоний советовали своим друзьям, которые находились под командованием победителя Сертория и Митридата, отказаться в этом году от тускульских фиг. Афраний, продавший Цезарю Испанию, говорил: "Это торговец, умеющий покупать провинции, но не завоевывать их!"
Все, что осталось в Италии, не стоило жалости и заслуживало смерти за предательство.
"Сулла — дитя перед нами, — хвастались соратники Помпея. — Он даже не догадывался, что такое настоящие проскрипции. Наши списки составлены; туда попадут не отдельные головы, но толпы!"
Все оспаривали друг у друга будущие консульства и претуры, посылали в Рим гонцов и через них нанимали дома в лучших местах, чтобы удобнее было добиваться новых должностей.
Самых ярых честолюбцев более всего занимало, кому же выпадет честь стать верховным жрецом: этот титул принадлежал Цезарю. Накануне битвы устроили большое празднество: выставили столы и осыпали шатры цветами и ветвями.
Всеобщего воодушевления не разделяй лишь Секст, младший сын Помпея (старший, Гней, сложил голову на земле Испании). Когда настала ночь, Секст по этой дороге, что перед тобой, в сопровождении одного лишь раба отправился вон в ту рощу на берегу Энипея. Там, как поговаривают, он просил у колдуньи Эрихто раскрыть ему тайны будущего. Из уст покойника, которому Эрихто на миг вернула жизнь, он услышал о грядущем поражении, убийстве своего отца в Африке и собственной смерти в Азии…
Исаак улыбнулся этому рассказу, ласкавшему самые тайные из его ожиданий.
— Как тебе кажется, — спросил он, — обладают ли нынешние колдуньи той же силой, что во времена Помпея?.. По-твоему, Канидия столь же всеведуща, как Эрихто?
— Не беспокойся, — отвечал Аполлоний. — Если Канидия не ответит сообразно твоим желаниям, мы испросим совета у самой Эрихто.
— Но Секст Помпей советовался с ней сто лет назад. За это время она должна бы уже умереть.
— Какая важность! Разве я не говорил тебе, что она вещала Сексту устами возвращенного к жизни мертвеца?.. Живая или мертвая, Эрихто ответит тебе, если Канидия не окажется способной дать нужное толкование.
— Так не будем терять время, — поторопил его Исаак. — Идем туда, где она нас ожидает.
— Тем более, — подхватил его мысль Аполлоний, устремляясь вместе со своим спутником вниз по склону, — что я смогу дорассказать тебе остальное по пути…
… Итак, было решено дать бой. Поутру в лагере Помпея все пришло в движение. И уж пора было: Цезарь собрался отступить в Македонию и отдал даже приказ сложить походные шатры, когда вдруг увидел, как войско Помпея спускается с укрепленных высот на равнину.
"А! — произнес Цезарь. — Кажется, нам навязывают сражение. Тогда никакого отступления: нам выпал случай победить! Воспользуемся им — другого, быть может, не представится".
Помпей обратился к воинам с длинной речью. Цезарь же сказал лишь три слова: "Бить в лицо!"
Он предвидел, что блестящая римская молодежь, щегольски разодетые всадники, красавчики из-под портика Октавии, с Марсова поля и виа Аппиа, предпочтут бесчестие шрамам, обезображивающим лицо…
Войска стали сходиться. Старый центурион, чьи всадники, помещенные в авангарде, должны были начать атаку, бросил полководцу, прогарцевав мимо него со своими воинами: "Цезарь, сегодня ты меня похвалишь — живого или мертвого!"
Из солдат Цезаря сто двадцать принесли обеты божествам ада, обещая предаться им, если их предводитель одержит победу. А бывшие в войске Помпея, помимо фракийской, фессалийской и нумидийской кавалерии, семь сотен римских всадников — вся городская знать — ненавидели Цезаря как патриция и оттого решили быстрым наскоком смять десятый легион. На эту вылазку их подвигнул Лабиен, когда-то помощник Цезаря. Теперь он поклялся сложить оружие не ранее чем одержит победу над своим прежним военачальником. Но Цезарь предугадал этот тактический ход: он усилил десятый легион шестью пешими когортами. В миг атаки эти ратники должны были выдвинуться в первый ряд и не метать копье, а выставить вперед, повторяя приказ: "Бить в лицо!" Этот маневр был осуществлен безукоризненно. После схватки, длившейся менее получаса, всадники поскакали вспять, прикрывая лица руками.
Между тем Цезарь приказал бегом наступать на центр противника, оглашая воздух страшными криками: вопли варваров наводили больший ужас, нежели даже их воинский пыл. К тому же во время этого наступления нахлынули бегущие всадники, преследуемые галльской кавалерией Цезаря.
Помпей рассудил, что этот день принес ему поражение, и, уподобившись Антонию при Акции, не решился даже довести бой до конца. В какой-то миг самые сильные ощущают, что силы им изменяют, а храбрые — что их храбрость угасает; почуяв, что час пробил и боги не расположены к ним, они уже не помышляют ни о чем, кроме бегства, спасая единственное оставшееся им достояние — собственную жизнь. И тут Помпей, наблюдавший за сражением с той скалы, что сейчас перед тобой, вскочил на лошадь, сорвал с себя знаки отличия, чтобы не быть узнанным, поскакал к побережью, взошел на корабль и отплыл в Лесбос, где оставил жену, молодую и прекрасную Корнелию… Ты видел его могилу и знаешь, как он кончил!
Цезарь же, лишь только понял, что победа ему обеспечена, бросился в ряды сражавшихся с криком: "Спасайте римских граждан!"
К нему привели пленных сенаторов и среди них — Брута; он попросил их о дружбе и предложил свою в обмен. А затем объехал поле битвы, с горечью повторяя при виде усеявших землю мертвецов: "Они сами хотели этого! Вот я и стал повелителем мира благодаря преступлению; но, сложи я оружие, они казнили бы меня как разбойника!"
Из всех пленных он повелел казнить лишь троих: молодых всадников, для собственного удовольствия перерезавших его вольноотпущенников, его рабов и его львов…
Исаак помолчал в раздумье и вдруг спросил:
— Считаешь ли ты, что все эти события замышляются, созревают и осуществляются лишь волею случая? Или же Провидение само их готовит, подстраивает и использует для целей, известных лишь богам?
— Не знаю, как это трактует твоя вера, а может, и тебе это неведомо, — отвечал Аполлоний. — Известно ведь, что иудейская религия имеет секреты, открытые лишь ее жрецам; иногда, как говорят, бывает также, что Иегова склоняется к молениям тех, кого он любит. Не то у нас: Юпитер — первый раб того недвижного, глухого к мольбам и бестрепетного божества, что греки называют Имарменом, а латиняне — Фатумом. Оно существовало, когда еще ничего не было на свете. Оно древнее Хаоса, древнее Земли и Эреба, оно родилось раньше Любви! Ты ведь посещал огнепоклонников. Так вот, наш рок похож на Зерван Акарану парсов. Он парит над Ормуздом и всем творением, это — закон-отец, он таит от нас свое истинное лицо, а личины, под которыми он объявляется нам, суть Эрос — любовь, Фемида — законность, Дике — правосудие, Ананке — необходимость, а также Тихе — разноречивость событий, их неравнозначность, странность внешних проявлений, но странность предопределенная, недоступная никаким изменениям… Что же касается самого слова "Провидение", которое ты произнес, оно ново для меня и мне неизвестно.
— Верно, — вздохнул Исаак. — Я забыл, что слышал это слово только от учеников Христа; ты не можешь его знать, да и я не в силах как следует разъяснить тебе его смысл… Но пойдем все же быстрее, Аполлоний. Уже смеркается.
И правда, солнце заходило за Пинд, окрасив в розовый цвет заснеженные вершины горы, посвященной Аполлону, а в это время с востока волнами накатывалась ночная тьма.
Странная была эта ночь. Казалось, не только скудость света рождала темноту, но и сгустившийся душный воздух. В надвигающемся, веющем, как ветер, сумраке ночи Исааку мерещились самые необычные, дикие звуки: птичьи крики, шелест крыл, свист змей и жалобные стоны привидений. Но что ему было за дело! Разве не знал он, что ни одно существо, порожденное землей, водой или воздухом, не имело над ним власти?
Однако, поскольку ему везде виделись знамения, он расспрашивал спутника решительно обо всем.
Обойдя последний отрог горы, они оказались на дороге, рассекающей надвое поле фарсальского сражения.
Равнина была усеяна холмиками, tumuli — могильными курганами. Они делали поле битвы похожим на море с застывшими твердыми сероватыми волнами.
Но в миг, когда последний луч солнца угас на закате, Исааку почудилось, будто земляное море заволновалось, застонало, каждая волна стала колебаться, трава, раздвигаясь, позволяла видеть рыхлую почву, покрывающую свежие могилы.
Потом во мраке, придающем всему зыбкие, неверные очертания, подобные испарениям, витающим над болотами, ему привиделось, что каждая могила вскрылась и извергла бледные тени вооруженных людей. Они медленно выходили, отряхивали землю, струящуюся, как вода, по их волосам и плечам, и, избрав каждый своего противника, бесшумно вступали с ним в бой.
Некоторое время он созерцал эту безмолвную схватку как человек, желающий увериться, что перед ним не обман зрения, и наконец обратился к Аполлонию:
— Я вижу какие-то тени, сражающиеся на равнине. Ты тоже видишь или мне они чудятся? Неужто магия прославленного битвой места так влияет на мое воображение? Или все это происходит наяву?
— Я бы не мог судить с уверенностью, существует ли в действительности то, что ты видишь. Но видимость, по крайней мере, правдоподобна, — отвечал Аполлоний.
— Что же делают здесь все эти привидения и почему мертвые бьются с ожесточением живых?
— Так всегда случается с теми, кто погибает в гражданских войнах, с теми, кто сражался против друзей, соотечественников, родных… Гражданская война вообще — дело святотатственное, и ее участники осуждены расплачиваться за святотатство! Те, кого (или, вернее, чьи тени) ты видишь, во время боя опознали среди противников отца, брата, сына или друга, обрушились именно на него, убили его либо пали от его руки. Наказание им — невозможность обрести могильный покой. Каждую ночь они пробуждаются со все обновляющейся ненавистью в сердце, с незатупляющимся мечом в руке, чтобы вновь и вновь в виде призраков совершать то же самое преступление, что совершили в жизни. Вот почему с приходом ночи никто не решается ступить на эту равнину: она проклята! Никто здесь не сеет, не пасет стад, ни одно животное не ютится, ни одна птица не вьет гнезда. Тут растут лишь зловредные растения, и именно сюда со всех концов Фессалии стекаются колдуньи собирать волшебные травы для своих зелий, с помощью которых они приносят жертвы злобным духам… Но поторопимся же. Нам еще идти и идти!
И оба ускорили шаг. Только Исаак время от времени оборачивался, глядя на безмолвную схватку, на видение всеобщей резни, на взаимную борьбу призраков, отвратительно кишевших в темноте.
Но они шли очень быстро, и каждый шаг отдалял их от проклятого поля.
Постепенно им вновь стали встречаться на пути погонщики волов, гнавшие впереди себя своих длиннорогих подопечных; пастухи, надзиравшие за стадами; всадники, пришпоривавшие своих скакунов; все спешили, ибо чувствовали, что наступающая ночь необычна и сгущающийся сумрак таит в себе нечто роковое.
Вдруг в воздухе разнесся звук, похожий на биение медных крыльев. В тот же миг и так уже темное небо еще более помрачнело. Крылатое облако двигалось с юга, направляясь на север.
— Что это там? — спросил иудей.
— Птицы со Стимфалийского озера. Они летят из Аркадии за добычей. Это чудовища с железными головами, крыльями и когтями. Сам Марс обучил их искусству войны. Они мечут в тех, на кого нападают, свои медные перья, пробивающие доспехи и щиты… Их любимая пища — человечье мясо. По ночам они обрушиваются на поля битвы, усеянные мертвыми телами, и, оставляя трупы волкам, избирают себе раненых, которые еще дышат… Идем! Им по пути с нами.
И путники двинулись далее.
Через четверть часа во тьме послышался новый звук. Это опять был шум крыльев, и он сопровождался зловонием. Что-то летело с востока, оставляя в воздухе голубой светящийся след.
— Это тоже стимфалиды? — спросил Исаак.
— Нет, — откликнулся Аполлоний. — Это гарпии, дочери Нептуна и Моря. Самых известных зовут Аэлла, Окипета и Келено. Ты еще увидишь их: у них лица старух, крючковатый клюв, тело грифа, отвислые груди и бронзовые когтистые лапы. Долго-долго они измывались над слепым Финеем, царем города Салмидесса, что во Фракии, но Калаид и Зет, крылатые сыновья Борея и нимфы Орифии, аргонавты, пустившиеся с Ясоном в Колхиду, погнались за ними и вынудили их укрыться на Строфадах. Именно на этих островах с ними повстречался Эней, и там же Келено пророчит ему жестокий голод, что заставит троянцев пожирать дерево своих столов… Вероятно, Канидии понадобится одно из их перьев, чтобы начертать какие-нибудь магические знаки… Идем! Им с нами по пути.
И они поспешили далее.
Не прошло и четверти часа, как новый шум раздался в вышине. На этот раз к шелесту крыльев примешивались крики, в которых не было ничего земного. Кто-то летел с севера на юг, дополняя стороны чудовищного треугольника, уже намеченного в небе стимфалидами и гарпиями.
— Что это за новые чудовища с женским телом, крыльями грифа и змеиным хвостом? И что за кровавый светоч впереди них? — спросил Исаак. — По какому волшебству одно из них держит в руке свою свежеотрубленную голову, с которой еще каплет кровь?
— Разве ты не узнал трех дочерей Форкия и Кето, отвратительных горгон? — отвечал Аполлоний. — У них на всех трех один глаз, один рог и один зуб. Сокрывшись в недрах земли, они считали себя в безопасности от любого нападения. Да и кого им было бояться? Их единственный глаз обладал зловещей властью обращать в камень всякого, на кого он взглянет. Лишь Персей, получив от Минервы волшебную эгиду, от Меркурия — алмазный серп, от Нептуна — шлем-невидимку, вошел в их пещеру, пока они спали, отсек голову одной из них, Медузы, и унес с собой на землю. Оставаясь на земле, он пользовался этой головой, чтобы побеждать своих врагов. Но перед тем как навсегда вознестись в небеса, Персей вернул Медузе ее голову, однако предварительно он заменил смертоносный глаз его алмазным подобием, освещающим все вокруг. Вот почему Медуза держит в руке эту отрубленную голову, а алмазный глаз, освещающий дорогу трем зловещим сестрам, позволил тебе их разглядеть. Впрочем, если захочешь полюбоваться на них поближе, тебе вскоре представится случай. Идем! Им с нами по пути.
И они поспешили далее.
Примерно через сотню шагов Исаак увидел, как что-то копошится на дороге. Казалось, в пыли пробегают искорки; они то ползут, то поднимаются на ступню или две над дорогой. Приблизившись, он различил двух длинных ужей, сцепившихся в схватке. То, что он принял за искры, были их рубиновые глаза, а огоньки двигались в стороны и вверх, смотря по тому, ползли ужи по земле или взвивались к небу, стоя на хвостах.
Исаак хотел было прогнать рептилий своим посохом, но Аполлоний удержал его, подошел к ореховому кусту, срезал орешину длиной в три ступни и толщиной в большой палец, затем вернулся назад и бросил эту палку между ужами, просвистев нечто похожее на заклинание.
Тотчас ужи перестали драться и обвились вокруг орешины.
Аполлоний поднял этот новый кадуцей и продолжил путь.
С каждым шагом становилось яснее, что они приближались к ужасному месту. Обзор им перекрыл высокий холм; с противоположной стороны его доносились какие-то сдавленные звуки, природу которых нельзя было угадать. В них слышался то ли свист ветра в сухих ветвях, то ли рокот моря, накатывающегося на прибрежную гальку, или водопада, срывающегося с утеса. Шум этот сопровождался сиянием, подобным тому, что реет над отдаленным пожарищем, и сквозь какие-то мутные испарения даже звезды отливали красным.
Воздух во всех направлениях бороздили метеоры; следы их скрещивались, сходились и разбегались.
Дорога же, постепенно сужаясь, привела путников в тесное ущелье.
Вдруг послышался ужасающий свист — и огромный змей, чье тело кольцами перегораживало путь, поднял голову, с угрозой вперил в пришельцев горящие, как уголья, глаза, показав тройное жало и острые тонкие зубы.
Но Аполлоний сделал шаг вперед и поднял кадуцей.
— Разве ты не узнаешь меня, Пифон? — сказал он. — А ведь мы сталкиваемся не впервые… Ну же, дитя тины, ну, воплощение грубой материи, именем Аполлона, бога дневного, уступи место разуму!
Змей, зашипев последний раз, опал и сделался кучкой зловонного ила и грязи среди дороги.
Странники проследовали мимо, стараясь не ступить ногой в эту вязкую жижу, и продолжили свой путь.
Не прошли они и стадия, как в двадцати шагах перед ними разверзлась земля; оттуда выскочил огромный лев со вздыбленной гривой и зарычал, хлеща хвостом по бокам.
Аполлоний пошел прямо на него, держа перед собой кадуцей.
— Немейское чудище, — возгласил он, — ты забыл, что я из Коринфа. Неделю назад я уже побывал в твоей пещере; она пуста. Немейский лев, я видел твою шкуру на плечах Геракла… Иди и постарайся напугать кого-нибудь другого, я-то знаю, что ты лишь призрак. Именем твоего победителя — пропусти нас!
Лев канул в земной провал, оставшийся отверстым там, где он исчез.
Оба путника обогнули новое препятствие и двинулись дальше.
Но чуть ли не в тот же миг новое чудовище появилось на вершине холма и кинулось к ним. У него была львиная голова, тело козы, хвост дракона, а из открытой пасти вырывались клубы пламени.
Огненные языки устрашили Аполлония не больше, чем львиный рык и змеиное шипение. Он двинулся к чудовищу с кадуцеем в руке.
— Ты, дочь Тифона и Ехидны, кошмарная Химера! — начал он с угрозой. — У меня нет ни стрел, ни крылатого коня Беллерофонта, но у меня есть магическое слово, которым я укротил ликийского царя… Химера, дай нам пройти! Развейся!
И Аполлоний произнес всего одно слово, коснувшись Химеры кончиком своего кадуцея, и она тотчас истаяла как дым.
Обернувшись к Исааку, его спутник с улыбкой сказал:
— Идем. Уже ничто нам не помешает.
И оба в несколько минут добрались до вершины холма. Оттуда их взгляд обнял всю равнину.
В это время луна медленно выплыла из-за Пелиона, кровавая, как тот медный щит, на котором матери-спартанке принесли тело убитого в бою сына.
XXVIII КЕНТАВР И СФИНКС
Под ногами у путников текла река, которую они заметили еще с вершины Офрия. Оттуда они видели, как она извивается по равнине. Здесь же, перед ними, она описывала дугу, похожую на лошадиную подкову, а на другом ее берегу собралось адское скопище тех, кого призвала себе в помощь Канидия.
При свете причудливых огней и сполохов, мелькавших на противоположном берегу, река казалась извивами тела огромного змея, впившегося головой в побережье и охватившего хвостом утесы Пинда. Казалось, в эту ночь кто-то отдал всю округу на откуп Канидии и ее устрашающему окружению.
Ни одно из чудищ, известных античной мифологии, не обошло своим вниманием место этой встречи: там были сатиры с козлиными ногами; киклопы с единственным глазом во лбу; аримаспы с Рифейских гор; азиатский сфинкс с крыльями орла, когтями льва, с лицом и грудью женщины; египетские сфинксы с головами, повязанными лентами, как у Анубиса; птицы стимфалиды с железным клювом; горгоны со змеями вместо волос на голове; гарпии с отвратительно пахнущими руками; индийские грифоны — хранители сокровищ; сирены, чьи божественные головки возвышались над водой; эмпузы с ослиными ногами; лернейская многоголовая гидра, у которой на месте одной отсеченной отрастают две новые головы, — все сошлись, сползлись и слетелись на призыв царицы магии.
Каждое из чудищ следовало собственным прихотям, либо повиновалось приказам колдуньи — отсюда тот не поддающийся описанию шум, что походил одновременно на свист ветра и рев моря, отсюда же и свечение, похожее на зарево отдаленного пожара, накрывшее всю эту часть равнины куполом красноватого дыма, в котором, как в родной стихии, плыли летучие мыши с гигантскими крыльями.
У берега не было ни одного суденышка, но едва путников осветили багровые отсветы огня, пламенеющего на вершине холма, как приблизились сирены, простерли к ним руки и тем чарующим голосом, что чуть не погубил Улисса и его спутников, предложили Исааку и Аполлонию довериться им, чтобы перебраться на другую сторону.
Но, не слушая их, Аполлоний возвысил голос и позвал:
— Эй! Старина Хирон! Приди и перенеси нас на другой берег. В награду я принес тебе привет от Ахилла, который явился мне на берегах Троады и передал со мной весточку для тебя.
Не успел Аполлоний произнести последнее слово, как наставник многих героев уже рассекал могучей грудью воды Пенея, направляясь к ним. Нескольких мгновений оказалось достаточно, чтобы он пересек реку, и еще нескольких, чтобы он прискакал к подножию холма, где его ожидали путники.
Внимательно и с любопытством оглядывал Исаак полулошадь-получеловека, это воплощение античной учености, чье имя означало "искусная рука". Рожденный от любви Сатурна и нимфы Филиры, кентавр свободно владел магией, прорицаниями, астрологией, медициной, музыкой. Исаак знал, что на своем долгом пути, целиком посвященном тому, чтобы человечество стало бессмертным, не только перед глазами Хирона, но и через его руки прошли важнейшие герои античности: Кефал, Феникс, Аристей, Геракл, Нестор, Амфиарай, Тесей, Пелей, Ясон, Мелеагр, Ипполит, Кастор и Поллукс, Махаон и Подалирий, Менесфей, Диомед, Аякс, Паламед, Эскулап, Улисс, Антилох, Эней, Протесилай, Ахилл… Все эти смертные люди и бессмертные герои, полубоги, чья ловкость, сила или гений споспешествовали возмужанию человечества: одни — мудрые законодатели, другие — укротители чудовищ, третьи — сокрушители разбойников, а кроме них — основатели царств, прародители народов; все они своей одаренностью и мощью были обязаны божественному кентавру.
Между тем Хирон остановился перед путниками:
— А, это ты, Аполлоний, — произнес он. — Добро пожаловать. Приветствую тебя и того, кто по правую руку от тебя, в нашей старой Фессалии. Я ждал тебя: мне был вещий сон, и я знал, что тебе явилась тень Ахилла. Расскажи, что он тебе сказал, чтобы я знал, чего ему надобно от меня.
— Преславный кентавр, — отвечал Аполлоний, — позволь сначала поведать, как мне была оказана честь видеть твоего божественного ученика. Это произошло после моего возвращения из Индии. Я решился посетить Троаду и совершить, подобно Александру из Македонии, возлияния на могиле сына Фетиды и Пелея. Я знал, что, когда Улисс пожелал вызвать его тень, он разрыл землю над его телом и окропил ее кровью агнцев. Я же не мог поступить подобным образом, ибо являюсь пифагорейцем, а следственно — противником пролития крови. Поэтому я подошел к могиле с полным почтения и священного трепета сердцем, и произнес:
"О божественный Ахилл! Чернь считает, что ты мертв, но не таково убеждение ни моего учителя Пифагора, ни индийских мудрецов, ни ученых мужей Египта, ни мое собственное… Если же ты жив, как я полагаю, благоволи, о божественный Ахилл, явиться предо мной или дать мне советы или указания".
Едва я произнес эти слова, гробница слегка содрогнулась и, хотя я не заметил, чтобы камни разошлись, из склепа вышел прекрасный молодой человек двадцати шести-двадцати восьми лет, ростом выше обычных смертных, с благоухающими волосами, стянутыми на лбу расшитой золотом пурпурной тесьмой. Одет он был в боевые доспехи на фессалийский манер, на поясе у него был меч, в руках он держал два копья с железными позолоченными наконечниками. Гомер живописал его весьма красноречиво, но я нашел его еще прекраснее, нежели в Гомеровом описании… При виде его я отступил на шаг, пораженный восхищением и страхом, но он обратился ко мне с прекрасной, почти женственной улыбкой и произнес:
"Аполлоний, ничего не страшись, ибо ты любим богами. Я с удовольствием лицезрею тебя, так как уже давно предупрежден о твоем приходе. А посему я дожидался тебя, чтобы возвестить через тебя фессалийцам, что сожалею об их небрежении: жертвы мне приносят теперь не они, а те самые троянцы, которые из-за меня недосчитались стольких храбрых мужей. Впрочем, справедливо и то, что во всех концах земли стали меньше ублажать жертвами наших богов, и храмы год от года пустеют. Воистину, молитвы и воскурения все реже обращаются к Олимпу. Может, на небе или на земле готовятся какие-то важные перемены. Но как бы то ни было, прошу, отправляйся в Фессалию и скажи местным жителям: если они не желают пожинать плоды моей ярости, им следует истовее хранить память обо мне!"
"Подчиняюсь, божественный Ахилл! — воскликнул я. — Но, коль скоро я вижу тебя, будет ли мне позволено попросить об особой милости?"
"Слушаю тебя, говори, — сказал он. — Ты желаешь задать мне три вопроса о том, что произошло в граде Приама… Говори, и я отвечу".
"Так вот, мне хотелось бы узнать от тебя самого, действительно ли твои похороны совершились так, как описывают поэты; правда ли, что тебя окунули в Стикс; истинно ли, что Поликсена была принесена в жертву из любви к тебе".
"О моих похоронах говорили разное, — ответил Ахилл. — Но слушай, что скажу я и что ты можешь потом повторить. Мне хорошо в моей могиле, особенно в обществе друга моего Патрокла. Одна урна — золотой драгоценный сосуд — заключает в себе пепел обоих тел, смешавшийся так, словно мы всегда составляли одно. Что касается моей неуязвимости и купания в Стиксе, — это сказки поэтов. А вот правда: тебе известно, что моя мать, Фетида, против своей воли взяла в мужья царя Пелея, которого мой наставник, Хирон, обучил метать стрелы и копья и которому дал совет, как одолеть матушку. Так вот, Фетида, сама богиня, желала сохранить только тех детей, что родятся бессмертными. Для этого она окунала каждого из новорожденных в котел с кипящей водой, висевший над большим пылающим очагом. Естественно, все они погибали. В день, когда она произвела меня на свет, она уже взяла меня за пятку, чтобы поступить со мною так же, как и с прочими. Без всякого сомнения, и я был обречен: ведь божественную природу я обрел лишь впоследствии, после больших свершений и от хвалы, что пели мне поэты… Так вот, я чуть не погиб, но тут мой родитель вбежал, выхватил меня из ее рук в миг, когда я уже завис над роковым котлом, и доверил меня заботам того, кто за тридцать лет до этого был его наставником. Наконец, если вспомнить о Поликсене: греки не убивали ее. Напротив, она по своей воле пришла на мою могилу и, найдя там мое оружие, выхватила из ножен меч — тот самый, что сейчас у меня на боку, — и бросилась на него, убив себя во славу нашей любви".
"А теперь, о божественный сын Фетиды, — сказал я, — позволь задать последний вопрос".
Ахилл улыбнулся и кивнул, давая знать, что готов ответить.
"Речь идет о Паламеде", — продолжал я.
Ахилл вздохнул.
"Говори", — разрешил он.
"Вправду ли Паламед был с вами при осаде Трои и, если это так, почему Гомер умалчивает о нем? Разве мог бы поэт обойти молчанием человека, изобретшего тактику, меры и веса, установившего продолжительность лунного месяца, придумавшего правила шахматной игры и игры в кости и увеличившего греческий алфавит на пять букв: Ф, X, 0, L, Y, без чего он оставался бы неполным? И наконец, как мог Гомер умолчать или забыть о человеке, причисленном в Эвбее к сонму богов, ведь я собственными глазами читал там на пьедестале его статуи: "Богу Паламеду"?
"Сейчас я объясню тебе причину молчания Гомера, — отвечал Алилл. — Паламед не только явился к Трое, но осмелюсь утверждать, что без него не было бы и этой осады. Он стал одним из самых ревностных сторонников этой войны и нашел, как изобличить все уловки и хитрости Улисса, не желавшего покидать Итаку…"
"А что это были за уловки?" — спросил я.
"Улисс прикинулся безумным, никого не узнавал из тех, кем дорожил, и в припадках ложного умопомрачения, пахал песок на морском берегу и сеял гальку. Все поддались обману, и вожди Греции уже решились обойтись без Улисса, когда Паламед взял колыбель с Телемахом и положил ее прямо там, где должна была пройти борозда Улиссова плуга. Дойдя до этого места, Улисс, чтобы не поранить ребенка, был вынужден поднять лемех. И тогда Паламед вскричал: "Его безумие — хитрость: он узнал своего сына!" После этого Улисс был вынужден отправиться вместе со всеми, но затаил в душе великую ненависть к тому, кто заставил его покинуть жену и сына. Паламед заплатил за это жизнью. Отплыв к Трое на тридцати кораблях, добившись признания Агамемнона предводителем, убив собственноручно Деифоба и Сарпедона, придумав множество игр и забав, призванных развлечь воинов во время долгой утомительной осады, Паламед, с которого Улисс не спускал недоброго взгляда, пал жертвой хитрости царя Итаки. Улисс снабдил пленника-фригийца подложными письмами якобы к Паламеду и сделал так, что этот пленник попал в засаду и погиб. В то же время Улисс подбросил кошелек с деньгами в шатер Паламеда. И вот письма, обнаруженные у мертвого гонца, принесли на совет греков. В них говорилось, что Паламед готов продать Приаму греческое войско и уже получил задаток за предательство! Все бегут к шатру Паламеда и обнаруживают указанную в письмах сумму, после чего, даже не выслушав объяснений, его побивают камнями!.. Теперь понимаешь, почему Гомер молчал? Ведь он не желал запятнать память о любимом им герое… О, — продолжал Ахилл со слезами на глазах, — почему меня не предупредили о кознях против тебя, мой дорогой Паламед! Я примчался бы на помощь и спас бы тебя от гибели!.. Но ты, Аполлоний, будь дважды благословен за то, что упомянул имя моего друга. Займись им, а не мною, посети его могилу. Он покоится на острове Лесбос около Мефимны. Подними его статую, если она повержена, и, о друг мудрецов и поэтов, защити память Паламеда от обиды, нанесенной умолчанием Гомера!"
При этих словах неподалеку от могилы запел петух. Его голос раздался из бедной хижины, построенной на фундаменте из камней, осыпавшихся с гробницы Ахилла. Заслышав пение петуха, герой весь засветился, словно падучая звезда, и исчез с глаз.
Вот, блистательный Хирон, все, что я могу тебе рассказать о твоем ученике Ахилле.
— Благодарю, мудрый Аполлоний, — отозвался кентавр. — А теперь располагай мною. Не желаете ли вы оба, ты и твой спутник, чтобы я перевез вас на другой берег?
— Разумеется, — отвечал Исаак, — особенно если ты, преславный кентавр, соблаговолишь ссадить нас перед вон тем сфинксом, у которого мне надобно кое-что узнать… Однако же, если это слишком уведет тебя от цели, пусть на спину тебе сядет один Аполлоний, а я перейду реку сам.
— И не пытайся, чужестранец! — воскликнул кентавр. — Воды Пенея глубоки и быстры, и будь ты столь же умелым пловцом, как Леандр, река вынесет к морю твой труп!
— Хирон, — с грустной улыбкой отозвался Исаак. — Я преодолевал и более быстрые реки, и более глубокие моря. И ни те ни другие не совладали со мной: я бессмертен!
Кентавр поглядел на него с глубоким состраданием.
— Ты человек и бессмертен? Как мне жаль тебя!.. И я тоже был бессмертным, но теперь, к счастью, я только призрак! Геракл случайно ранил меня одной из своих стрел; боль, причиняемая неизлечимой раной, была так сильна, что Юпитер сжалился надо мной и позволил мне умереть… А ты бессмертен! Бессмертен! Как это печально, — повторил он.
Иудей позволил себе нетерпеливый жест.
— Хорошо, хорошо, — промолвил Хирон. — Может, ты еще не устал наслаждаться бессмертием и не вожделеешь к сладкому покою могилы… Ступай своим путем, а когда ты будешь стенать, терзаясь неутешной мукой, как некогда я, желаю, чтобы какой-нибудь бог, столь же сердобольный, как Юпитер, внял твоим мольбам… А теперь я отвезу тебя к сфинксу и прикажу ему отвечать на твои расспросы.
Опустившись на колени, Хирон подставил свой широкий круп обоим путникам и поднялся, откинув голову, чтобы его длинная седая шевелюра послужила им поводьями.
Оба поместились на его спине, и он галопом примчался к реке, проплыл мимо сирен, чьи чудесные голоса не одолели равнодушия Исаака и мудрости Аполлония, и ссадил их на другом берегу Пенея прямо перед сфинксом, который мрачно и неподвижно уставился на них своими гранитными глазами.
Хирон поискал и нашел на берегу какую-то траву, потер ею уста сфинкса, они раскрылись, и дыхание жизни вошло в каменное тело древнего животного.
— Чего желаешь ты, божественный Хирон? — спросил сфинкс.
— Я хочу, чтобы ты ответил этому чужестранцу, которого привел Аполлоний, пришедший ко мне с поручением от моего воспитанника Ахилла.
— Пусть говорит, — произнес сфинкс. — Я отвечу.
Исаак приблизился к сфинксу. По его лицу было видно, что для него весьма важен вопрос, который он собирался задать египетскому чудовищу.
— Не тебя ли я видел р Александрии перед гробницей Клеопатры по возвращении моем из Нубии?
— Да, — ответил сфинкс. — Только скажи, как же ты, следуя по течению Нила и посетив Элефантину, Филы, Луксор, Мемфис, сумел отличить меня от целого стада животных моей породы, которые наблюдали разрушение городов, созданных фараонами, и, молчаливые и недвижные, продолжают созерцать, как катит волны старое божество Нут-Фен, что невежды называют Нилом?
— Я узнал тебя по обломанному когтю, — ответил Исаак. — Некогда я присел на твой постамент и, подумав, что еще придется увидеться с тобой, подобрал и приберег осколок гранита, которого тебе не хватает. Вот он.
Иудей вынул из-за подкладки плаща действительно сохраненный им кончик сфинксова когтя.
Сфинкс поднял правую лапу. Хирон приблизился, взял кусок гранита из Исааковых рук и точно так же, как поступил бы с раной на живом теле, приладил его к обезображенной лапе каменного зверя. Сфинкс медленно опустил лапу на место, затем, подобрав ее к другой, вновь принял свою привычную позу.
— Долго ли ты был на том месте, где я тебя увидел? — спросил Исаак.
— От основания Александрии, то есть уже четыре века. Полторы тысячи лет назад фараон Аменофис, сын Тутмоса, повелел высечь меня из той же глыбы гранита, что и статую Мемнона, и установил на дороге в Луксорский храм, как и двести других похожих на меня сфинксов. Дейнократ, архитектор Александра, переправил нас из Фив — меня и сотню моих братьев, — чтобы мы несли стражу у дверей дворцов, на перекрестках и площадях Александрии. Мне определили место у Озерных ворот, и вот уже четыре сотни лет я несу там службу, ни разу не смежив век.
— Хорошо, — сказал Исаак. — Так ты видел Клеопатру?
— Какую?.. В Египте было несколько цариц с этим именем.
— Дочь Птолемея Авлета, жену Птолемея Тринадцатого, возлюбленную Секста Помпея, Цезаря и Антония.
— Разве ты забыл то, что сам говорил недавно? Я сторожу ее гробницу.
— Есть много пустых гробниц… Усыпальница Клеопатры могла оказаться такой же.
— Клеопатра на своем месте.
— Ты уверен в этом?
— Я видел, как она, вся в слезах, вернулась из Акция; я наблюдал, как она приготовлялась к смерти, испытывая разные яды на своих рабынях; я следил за тем, как она возводила свою гробницу, как сама торопила работников, боясь, что усыпальницу не завершат к часу ее смерти; я видел в день, когда Октавиан вышел из Пелусия в Александрию, как она затворилась в гробнице со своею наперсницей Хармионой и Ирой, ведающей прической царицы. Вскоре на моих глазах принесли раненого Антония: за ним гнались воины Октавиана, и Клеопатра, страшась, что они ворвутся, если железная дверь гробницы будет открыта, с помощью обеих служанок поднимала на веревках раненого к окну, и через это окно втаскивала его внутрь. Спустя час изнутри донеслись рыдания и стоны: Антоний умер!.. На следующий день сам Октавиан явился к гробнице и постучал в дверь; открыла ему Клеопатра. Он вошел, и через четверть часа я мог видеть, как он уходил, грубо велев Клеопатре готовиться к путешествию в Рим, где ей предстояло украсить его триумф, и дверь за ним захлопнулась. Чуть позже Ира, оглядываясь и таясь, выскользнула из приоткрытой двери и в моей тени стала перешептываться с крестьянином, продававшим смоквы на александрийском рынке; видимо, они о чем-то договорились. Ира дала ему несколько золотых монет и вернулась в гробницу; остаток дня оттуда доносились стенания и плач. Вечером крестьянин со всеми предосторожностями пробрался ко мне. В руках он держал корзину, полную смокв, и трижды постучал в дверь гробницы. Та приоткрылась. Белоснежная рука египетской царицы протянулась за корзиной и уронила кошелек, после чего дверца захлопнулась снова. Крестьянин уселся на мой постамент, пересчитал тридцать золотых монет и прошептал, покачивая головой:
— Странная прихоть! Заплатить три тысячи сестерциев за какую-то змею!
А затем, уверившись, что его не обсчитали, он поднялся и удалился в сторону озера. Почти в тот же миг я расслышал легкий крик, донесшийся из гробницы, а потом всю ночь там плакали и стенали… На следующее утро Октавиан сам явился за Клеопатрой. На этот раз, завидев его издали, Хармиона и Ира широко распахнули перед ним двери. Через проем я разглядел Клеопатру, охладевшую, неподвижную, лежавшую в полном царском облачении на могильной плите. Она дала укусить себя аспиду, принесенному в корзине со смоквами, и почти тотчас умерла. Тот слабый крик, что донесся до меня, она испустила, когда змея ужалила ее… С этого дня царица спит вечным сном в гробнице, медные двери которой Октавиан повелел замуровать.
— Спасибо, — откликнулся Исаак. — Вот все, что я хотел узнать… А теперь, если ты еще понадобишься, где мне тебя отыскать?
— Здесь, — ответил сфинкс. — Если только Канидия, вызвавшая меня из Египта и приделавшая мне бронзовые
13*крылья, чтобы я мог перелететь море, не пошлет меня с каким-нибудь поручением.
— Тогда ничего не опасайся, — откликнулся Аполлоний. — Она ждет нас, и все приказы, какие может отдать, будут исходить от меня самого.
И, обернувшись к иудею, он осведомился:
— Теперь ты знаешь о Клеопатре все, что хотел разузнать?
— Да, — подтвердил тот.
— Прекрасно. Тогда не будем терять время. Ибо вон там, в огненном кругу, стоит Канидия. Она ждет, ей уже не терпится побеседовать с нами.
— Идем, — сказал Исаак.
Они удалились в том направлении, которое указал Аполлоний, а сфинкс снова впал в молчаливую неподвижность, к которой он привык за два десятка веков.
XXIX ЗАКЛИНАНИЯ
Оказавшись на левом берегу Пенея, путники окунулись в таинственное магическое действо, где каждое из существ занималось своим делом, не обращая внимания на других.
Все происходило как в сумасшедшем доме, где всякий безумец одержим собственной навязчивой идеей, не заботясь о том, что волнует его соседа, и трудно найти связь или какую бы то ни было близость между любыми двумя действующими лицами или их поступками в этой бессмысленной драме. И здесь сатиры гонялись за нимфами по высокотравью равнины или между росшими вдоль реки олеандрами; аримаспы рылись в земле, разыскивая сокровища; азиатские сфинксы расчесывали свои роскошные женские волосы и, подобно греческим куртизанкам, зазывали всех, кто проходил мимо; египетские сфинксы предлагали загадки, которые никто не собирался разгадывать; птицы со Стимфалийского озера сражались с гарпиями; индийские грифоны защищали золото, которое им доверили охранять; сирены под звуки лиры распевали песни Орфея; эмпузы пытались выдать себя за нимф и обольстить под покровом ночи какого-нибудь любвеобильного сатира; лернейская гидра с ужасным свистом и шипением разыскивала две свои оброненные головы и, наконец, пес Цербер яростно облаивал горгон, которые безуспешно пытались его обездвижить головой Медузы, хотя она после подмены глаза перестала сеять смерть, и угрожали трехглавому зверю своим единственным рогом и единственным зубом.
Можно представить, какой шум, гомон, какая сутолока царила там среди бессмысленного кишения столь несхожих существ, занимавшихся такими разными делами.
Однако благодаря кадуцею Аполлония каждое из чудищ отступало перед путниками, но за их спинами проход смыкался, как вода за кормой корабля.
Аполлоний и Исаак прошли мимо двух волшебниц, товарок Канидии, занятых своим таинственным ремеслом. Одна из них с палочкой в руке быстро кружилась вокруг жаровни с раскаленными углями, и каждый раз, сделав оборот, бросала на нее какой-нибудь из предметов, который она держала в руках.
Сначала она бросила на угли соль, потом веточку лавра, за ней — фигурку из воска, пластинки из полированной меди с таинственными знаками, начертанными на них, затем клочки шерсти козленка, окрашенные в пурпурный цвет, следом за ними — волосы убитого человека, вырванные из черепа, полуобглоданного хищными зверями, и, наконец, пузырек с кровью младенца, убитого матерью через час после родов…
Кружась, она пела на странный мотив:
Сыплю соль в огонь со словами: "Так просыплются дни Поликлета!" Бросаю ветвь лавра в огонь со словами: "Пусть Поликлетово сердце снедает пламя, столь же неугасимое, как то, что, пожирает лавр!" А вот статуэтка из воска. Пусть здоровье Поликлета сгорит на угольях лихорадки, как в жаровне воск!.. Пусть его кости покраснеют и раскалятся, как эти медные пластины, где начертано проклятие, перед которым не устоит никто и ничто!.. Пусть изо лба его хлынет кровь и окрасит волосы в цвет этой пурпурной шерсти!.. Пусть череп его иссохнет, как тот, что я вырвала на свалке трупов из зубов собаки и волка, подравшихся из-за него!.. Пусть его кровь свернется от моего проклятия, как кровь младенца, умерщвленного через час после рождения, убитого матерью сразу, как он появился на свет!.. И пусть он кружит, и кружит, и кружит — без отдыха и срока кружит вокруг дома той, кого он бросил, как я кружу вокруг этих углей!..
Наши странники прошли и не стали слушать дальше, а через два десятка шагов натолкнулись на вторую колдунью. Эта украла с места казни крест с осужденным и пронеслась с ним в руках из Эпира в Фессалию, из Буфротона в Ларису, двигаясь с такой быстротой, что распятый пролетел четыреста стадиев между предпоследним и последним вздохом. Прибыв сюда, она воткнула крест в землю; пока осужденный еще не успел остыть, вцепившись в его ноги, она обрезала волосы левой рукой, зубами вырвала гвозди, которыми он был прибит, и собрала в маленький флакончик с расширявшимся горлышком несколько капель полузастывшей крови, что сочилась из ран.
Но путники прошли мимо и не стали смотреть, что будет дальше.
Еще шагов через двадцать посреди магического круга, с распущенными волосами, обнаженными ногами, облаченная в хитон пепельного цвета, с тростью в руке, их поджидала Канидия, сидя на могильном камне.
Завидев путников, она встала.
— Ну что, — обратилась она к Аполлонию, — ты доволен, повелитель? Все ли я сделала, чего ты желал?
— Да, — ответил тот. — Теперь перейдем к важным вещам. Вот чужестранец, которого послали ко мне мои друзья, индийские мудрецы. У него три вопроса к тебе, на которые еще никто не ответил. Ответишь ли ты?
— Всякая наука имеет пределы, и есть такие вопросы, на которые простым смертным запрещено получать ответы.
— И все же ему нужен ответ. Вот почему я велел тебе не только прийти сюда самой, но и созвать самых сведущих твоих товарок.
— Что же это за три вопроса? Пусть твой друг приблизится и задаст их.
Исаак сделал несколько шагов вперед и, не бледнея, устремил взгляд на отвратительную колдунью.
— Прежде всего, — начал он, — мне надобно знать, в каком месте неба, земли или ада находятся парки; затем — куда нужно подняться или спуститься, чтобы добраться до них; и наконец, с помощью какого заклинания у них можно вырвать из рук нить человека, который уже отжил и которого хотят оживить…
— Несчастный! — завопила Канидия в ужасе. — Так вот, значит, каковы твои намерения?
— Как мне кажется, я здесь не для того, чтобы давать тебе отчет в моих намерениях. Если не ошибаюсь, мне достаточно лишь объявить, что я хочу от тебя, — холодно промолвил Исаак.
— А знаешь ли ты, что никто не имеет власти над этими предвечными божествами? Что сам великий Юпитер признает их верховенство?
— Я сказал тебе, что мне надобно… Ты можешь ответить или нет?
Канидия покачала головой.
— Нам, конечно, дано на мгновение оживить мертвеца, — объяснила она, — но тех, кому мы возвращаем жизнь, смерть сама к нам приводит и сразу же уводит назад.
— И однако трое смертных переплыли назад Ахеронт: Эвридика, Алкестида и Тесей.
— Но Эвридика так и не увидела света!
— Лишь потому, что Орфей нарушил условия, которые поставили перед ним. Но двое других вернулись на землю и прожили долгие годы.
— Пусть будет так! Мы попробуем!
И приложив ладони ко рту, она трижды прокричала по-совиному.
При первом крике обе колдуньи, мимо которых проходили наши странники, подняли головы.
При втором — та, что кружилась вокруг огня, бросила это занятие и прибежала.
Третий крик заставил ту, что истязала умирающего, прыгая у креста, бросить свою жертву и примчаться.
Все три взялись за руки, образовав круг, сблизили отвратительные головы и, казалось, стали советоваться о чем-то.
— Ну что? — чуть подождав, нетерпеливо спросил Исаак.
— А то, — отозвалась Канидия, — что никто из нас не может разрешить твои загадки. Но мы попросим ответить ту, что мудрее нас.
— Так за дело! — воскликнул Исаак.
— Ну же, Сагана, ну же, Микале, — заторопила Канидия. — Ты принеси травы, а ты — черного ягненка.
За плечами колдуний расправились длинные крылья летучих мышей, и обе улетели в разные стороны.
Канидия же приблизилась к могиле, на которой она ранее сидела, с трудом подняла камень, ее накрывавший, поставила его на ребро и откинула в другую сторону.
Затем ногтями она принялась копать открывшуюся могилу.
Путники глядели на нее: Аполлоний — с любопытством, Исаак — с нетерпением. Между тем она невозмутимо продолжала свое дьявольское дело.
Наконец под ногтями Канидии забелели кости скелета. Когда труп был отрыт по грудь, возвратилась Сагана, сжимая в руках пук трав, и Микале, неся на плечах черного ягненка.
Между костями груди, в которую надо было вдохнуть жизнь, Канидия разложила рысьи кишки, сердце гиены, костный мозг оленя, глаза василиска, печень рогатой гадюки и окропила все это слюной бешеной собаки и пеной, падающей с луны, притянутой заклинаниями с небес на землю.
Взяв ягненка у Микале, она зубами вскрыла жилу ему на шее и наполнила кровью высохшие вены трупа.
Затем, приняв травы из рук Саганы, она сложила их кучкой в том месте, где вытекла кровь, и подожгла.
Тут все три колдуньи, взявшись за руки, завертелись вокруг огня, затянув магические песнопения, и кружились до тех пор, пока две из них не рухнули от усталости на землю — сначала Сагана, потом — Микале. Лишь Канидия удержалась на ногах.
Но почти тотчас она встала на колени, уперлась ладонями в землю и, припав к ней ртом, зарычала, завопила, подражая заунывному крику орлана, свисту аспида, рокоту волны, бьющейся о скалы, стенанию леса в грозу, грохоту грома — всем ужасным крикам и звукам творения, от которых может содрогнуться смерть под могильным камнем.
Затем, почти с угрозой уставясь в землю, она поднялась, тыча прутом в сторону последних языков пламени над волшебным очагом, и крикнула:
— Плутон, повелитель ада! Ты, уставший от бессмертия и жалующийся, что никак не можешь умереть! Прозерпина! Ты, возненавидевшая свет дня! Ты, Геката, во всех твоих трех ипостасях, погляди на нас с побледневшего лунного диска! Вы, эвмениды-мстительницы, помогающие мне общаться с манами! Зову и тебя, старый стиксский лодочник, к которому я отправила столько теней! Ко всем вам, мрачным божествам ночи, к вам взываю оскверненным кровью ртом: исполните мое желание и объединитесь, добейтесь, чтобы парки вновь связали на миг нить той, что спит в этой могиле!
После этого она трижды громко возгласила:
— Заклинаю тебя, возвратись к жизни и объявись мне… Поднимись! Поднимись! Поднимись!..
И тут земля содрогнулась, разверзлась и высвободила призрак женщины лет пятидесяти, сохранившей остатки чудовищной и угрожающей красоты, который придал ей долгий могильный сон.
Она была закутана в саван, а под ним угадывалась скованная трупной окоченелостью плоть.
— Кто звал меня? — спросило привидение голосом, в котором не было ничего человеческого.
Аполлоний протянул руку, чтобы подтолкнуть Исаака, но тот уже шагнул вперед и отозвался.
— Я!
— Кто ты? — спросил призрак.
— А кто ты сама?
— Я та, что предсказала Фарсал Помпею, Филиппы — Бруту, Акций — Антонию.
— Так ты — Эрихто, — сказал иудей. — Ну что ж, Эрих-то, я хочу узнать, где обитают парки, как добраться до них и какое заклинание поможет получить у них нить смертного, который уже отжил и которого хотят оживить.
Эрихто покачала головой, на которой могильные черви, как живые слезы, проложили свои дорожки.
— Самому проницательному взгляду, — сказала она, — положен предел, самой обширной премудрости есть преграды… Обрати свои вопросы к другой, я не знаю ответов.
— Кого же я должен спросить?
— Нашу прародительницу, нашу повелительницу и божество, ту, что омолодила старого Эсона, — всемогущую Медею.
— Ну, а ты?
— Я ничего тебе сказать не могу. Позволь мне снова улечься в могилу: смертный сон благотворен для тех, кто жаждет забыть, что некогда жил.
— Что ж, — промолвил иудей, — ложись и спи.
Медленно, как меч в ножны, призрак погрузился в могилу, потом Сагана и Микале уложили камень на место, а сам Исаак обратился к Канидии:
— Ты слышала? Я хочу спросить у Медеи.
Та обернулась к югу.
— О Медея! — прокричала она, — властительная чародейка! Ты, чья премудрость превзошла все таинства жизни и смерти! Самое имя твое напоминает о магической силе, о страсти и красоте, девической грации и жажде крови! Медея, заклинаю братом твоим Абсиртом, разорванным твоими собственными руками! Именем соперницы твоей Главки, отравленной тобою! Твоими сыновьями Мермером и Фером, зарезанными матерью! Явись!
Едва она произнесла последнее слово, как двойной пламенный след прочертил небо и издалека, с юга, невероятно быстро стал приближаться к пределам Фессалии. Вскоре сквозь красноватые испарения, словно бы вырвавшиеся из раскаленной печи, можно было различить женщину, стоявшую на колеснице, запряженной парой крылатых драконов.
А двойная борозда на небе оказалась следом пламени, вырывающегося из их пастей.
Колесница спустилась к тому месту, где стояли три колдуньи, Аполлоний и Исаак.
Женщина, явившаяся с неба, была волшебно-прекрасна; особенно бросалось в глаза царственное, несколько высокомерное благородство черт. Ее чело осенял кипарисовый венец. На ней была длинная белая тога, пурпурный пеплум, а в руке — позолоченная трость в форме жезла.
Единственное, что указывало на ее причастность царству мертвых, а не живых, — это могильная бледность, разлитая по всему лицу.
Так же как, по словам очевидцев, лев узнает из многих охотников того, кто его ранил, и оборачивается против него, Медея, не обманувшись, сразу признала ту, чей голос пробудил ее, и, нахмурив чело, сдвинув брови, вопросила Канидию:
— Чего ты хочешь? Зачем ты вызвала меня из глубины Финикии, где мне так сладко спалось в моей царской усыпальнице?
— Звала тебя она, это правда, — сказал Исаак, — но спрашивать буду я.
Он отделился от остальных и приблизился к волшебнице.
— Говори! — сказала она.
— У меня к тебе три вопроса. На них еще никто не ответил до сих пор. Вот они: где обитают парки, как до них добраться, какое заклинание поможет вытянуть из их рук оборванную нить человека, который уже отжил и которого хотели бы оживить?
Медея покачала головой.
— Незачем было будить меня, уснувшую вечным сном, — сказала она. — Знай я, где обретаются парки, как до них дойти и каким заклинанием добиться того, чего ты желаешь, я бы отыскала их, где бы они ни были, чтобы связать нити жизни моих драгоценных детей, нити, которые я в миг отчаяния, бешенства и безумия разорвала собственными руками!
— А разве не ты смогла в волшебном котле с помощью магических трав, собранных в полнолуние, омолодить старого Эсона, отца твоего возлюбленного?
— Омолодить не значит оживить, — заметила Медея. — Лишь богам иногда удавалось победить смерть, а я не богиня.
— И все-таки однажды я видел человека, который совершал подобные чудеса.
— Ты ошибся: тот, кого ты принимал за человека, был богом…
Исаак яростно топнул ногой.
— Мне надо узнать. От тебя или от кого-то другого, но узнать я должен.
— Послушай, — промолвила волшебница, — у тебя еще есть надежда.
— Какая? Говори же!
— В горах Кавказа прикован к скале человек, вернее, титан, чье преступление в том, что он наделил душой то, что не существовало… Быть может, этот титан смог бы подсказать тебе способ вернуть душу тому, кто уже не дышит.
— Прометей? — прошептал Аполлоний.
— Прометей? — как эхо, повторил Исаак.
— Прометей! — подтвердила волшебница.
— А я думал, что Геракл освободил его, — сказал иудей.
— Геракл только убил стервятника, пожиравшего печень Прометея. Однако ему не удалось разбить алмазные цепи, приковывавшие титана к скале.
— Что ж, — заключил Исаак, — тогда я отправлюсь на Кавказ к Прометею.
— Подожди, — остановила его Медея. — Быть может, ты сначала не обнаружишь его и тогда усомнишься, есть ли он там вообще… Юпитер, столь долго тешащийся местью, что это заставляет усомниться в его правосудии, решил укрыть Прометея от людских глаз, окутав его паром и облаками небесными. Но если ты увидишь подобное, войди в облачную дымку, позови трижды Прометея, и титан откликнется на твой зов.
— Спасибо, — сказал Исаак. — Поскольку вам, мертвецам, так неприятно выходить из-под могильной плиты, возвращайся в свою гробницу и постарайся снова заснуть.
И он жестом показал Медее, что возвращает ей свободу. Колесница взмыла к небесам и исчезла между Пелионом и Офрием.
— А теперь, колдунья, — обратился Исаак к Канидии, — укажи-ка мне самое быстрое средство добраться до Кавказа.
Канидия громко свистнула, как фессалиец, подзывающий своего коня, и в туманной дымке, как мы уже говорили, окутавшей своим куполом всю равнину, появилась стая сфинксов и грифонов.
— Выбирай скакуна, какой тебе приглянется, — предложила ведунья. — И если у тебя, как у Геллы, не закружится голова и ты не сверзишься в какую-нибудь реку, пролив или в пучину морскую, то к утру доберешься до Кавказа.
Исаак узнал своего сфинкса среди ему подобных, подошел к нему, положил руку ему на голову, как всадник на шею своей лошади:
— Что ж, старый знакомец, дитя Египта, ты доставишь меня на место, а после этого я отпущу тебя домой, — проговорил он.
Потом он обернулся к Аполлонию и с поклоном произнес:
— Прощай, мой ученый спутник! Если мое предприятие будет успешным, я не забуду, чем обязан тебе.
— Ах, Исаак, Исаак, — прошептал умудренный жизнью грек. — Боюсь, что, подобно Прометею, с которым тебе предстоит скоро встретиться, ты ополчился против бога более могущественного, нежели полагаешь!
— Что с того! — откликнулся Исаак, вскочив на спину волшебного скакуна. — А может быть, тот, побежденный, кого пришлось приковать к горам медными кольцами и алмазными цепями, сильнее своего победителя!
Стоило ему умолкнуть, сфинкс, словно только этого и ждал, широко взмахнул бронзовыми крылами, взмыл в воздух, направив свой полет меж вершинами Пелиона и Оссы, и с быстротою парфянской стрелы пустился в направлении Понта Эвксинского.
XXX ТИТАН
Путь Исаака по воздуху пролегал над рифами Эгейского моря, утесами Пропонтиды и бурями, бушевавшими в Понте Эвксинском. По воздушному морю наш герой плыл почти тою же дорогой, что аргонавты, чья стезя пролегла внизу среди волн.
Вечный странник, мчась с быстротой орла, проводил глазами Фессалию, затем в темной ночной лазури потонули заснеженные вершины Оссы и Пелиона. Суша вскоре исчезла, и в темной пропасти Эгейского моря, отражавшей свет звезд, словно причудливые неподвижные облака, промелькнули далеко под ним острова Скиафос, Галонесс, Гиера, Лемнос, Имброс и Дардания… Вслед за ними, подобно нескончаемой змее, ползущей по дну ущелья, возник пролив Геллы, за ним — Пропонтида, похожая на широкий македонский щит, и, наконец, появился Понт Эвксинский с возвышающимися у его восточных пределов огромным телом Кавказского хребта, протянувшегося от Фасиса до Палус-Меотиса.
Сфинкс без приказаний опустился на одну из вершин перед главным пиком, по имени которого звалась вся горная цепь; он был окаймлен океаном облаков, словно мрачным движущимся поясом.
Исаак ступил на землю; сфинкс сложил крылья и величественно уселся на скале, нависавшей над пропастью.
Наш путник был убежден, что очутился напротив того места, о котором поведала волшебница Медея. Без сомнения, море облаков скрывало от его взгляда прикованного титана.
Именно этот грандиозный и дикий пейзаж он представлял себе, вспоминая трагедию Эсхила. Главная вершина Кавказа, выступая, как остров, из облачной пучины, блистала при первых лучах солнца, словно двойная алмазная пирамида. У подножия темнел, чернее ночи, бескрайний лес дубов и сосен. Выше деревья карабкались по крутым отрогам, словно полчище храбрых воинов, что бросилось на приступ вражеской крепости и потонуло в дыму сражения. Вокруг пиков медленно кружили гигантские грифы, казавшиеся на такой высоте стайкой небольших ястребов; их клекот почти не долетал до земли.
В глубине одного из ущелий пенился и прыгал по камням горный поток, сбегавший к Понту Эвксинскому.
Исаак собрал все силы и голосом, пробудившим эхо в самых дальних ущельях гор, трижды вскричал:
— Прометей! Прометей! Прометей!
Послышался шум, подобный урагану. Облака заколебались, смешались и раздвинулись от мощного вздоха, позволившего разглядеть лицо титана.
Он склонялся вперед, натягивая цепи и стараясь разглядеть зовущего.
Но, убедившись, что перед ним лишь одно из слабых существ, называемое человеком, вновь откинулся к скале, запрокинул голову и исторгнул вздох, от которого вершины дубов и сосен согнулись словно под порывом западного ветра.
Исааку удалось лишь мельком разглядеть возвышенный лик титана; но этого оказалось достаточно, чтобы он убедился: перед ним тот, кого он искал.
И он снова крикнул:
— Прометей! Прометей! Прометей!
Облачный океан заволновался снова, разорванный вздохом, напоминавшим тот, что исторгают Стронгильские пещеры, когда Эол отпускает четыре ветра на небесные просторы; голова титана, разорвав скрывавшую ее туманную пелену, стала видна целиком.
— Сын земли, кто ты? — спросил Прометей.
Голос, раскатываясь подобно грому небесному, отозвался таким эхом, что Исаак вздрогнул… Встревоженный сфинкс вскочил на ноги, а вспугнутые грифы так мощно взмахнули крыльями, что почти тотчас растворились в лазурных глубинах неба.
— Кто я? — крикнул в ответ Исаак. — Титан, как и ты, подобно тебе, проклятый и, как ты, бессмертный!
— Каким же невероятным благодеянием ты одарил человечество, что Юпитер проклял тебя? — с горечью вопросил титан.
— Меня проклял не Юпитер, а новый бог, чью сверхъестественную сущность я решился отрицать.
И в немногих словах иудей поведал то, о чем уже знает читатель.
С глубоким вниманием выслушал его Прометей. Внезапно лицо его, изборожденное молниями, осветилось и просияло.
— Новый бог! — повторил он вслед за Исааком. — А не говорили ли, что он рожден девственницей, явился из Египта и должен умереть за людей?
— Да, — удивился Исаак. — Говорили именно это.
— И он умер, не правда ли? — спросил титан.
— Он действительно умер, — ответил иудей.
— Ах! — радостно вскричал Прометей, — вот, значит, почему я и сам с некоторых пор чувствую приближение смерти!.. О Юпитер, Юпитер, наконец, я избегну твоей власти!
И скованным, истерзанным кулаком он попытался пригрозить небесам.
— Ты чувствуешь, что умираешь? — повторил его слова удивленный Исаак. — Значит, ты вовсе не бессмертен?
— К счастью, нет! Благоприятный мне оракул возвестил, что я перестану существовать и, следовательно, страдать, когда некий бог, умерший за людей, спустится в преисподнюю и выкупит меня, но не у смерти, а у жизни. Этот бог должен сотворить новый мир из старого, где владычествовали Уран, Хронос и Зевс[17]. И тогда я, современник прежнего мироздания, угасну вместе с ним! Будь же благословен, явившийся ко мне с этой вестью! Взамен можешь просить у меня все, о чем пожелаешь.
Исаак провел рукой по вспотевшему лбу. В третий раз он слышал — впервые от людей, потом от мертвых и теперь из божественных уст, — что жизнь — это мучение, а смерть — благо.
Сам же он был приговорен жить…
Тем не менее, щедрое обещание титана вселило в него надежду.
— Что мне нужно в награду за добрую весть? — переспросил Исаак. — Так слушай: я хочу знать, где обитают парки, как добраться до них и каким заклинанием или магическим предметом я смогу заставить их вновь связать разорванную нить жизни… Ответь, сможешь ли ты мне помочь?
Он ждал ответа с огромным нетерпением.
— Да, — промолвил Прометей, — я могу тебе поведать об этом.
— Ах! — радостно вырвалось у Исаака.
— Но при одном условии, — продолжал титан.
— Каком? — с беспокойством спросил Иудей.
— О, успокойся, его нетрудно исполнить, — уверил его титан. — Нужно избавить мое мертвое тело от мести бога, который четыре тысячи лет мучит и пытает меня.
— Приказывай, — сказал иудей, — я исполню все, что повелишь… Только мне бы хотелось, коль скоро ты уже знаешь, почему я проклят, услышать, из-за чего приговорили тебя.
— Хорошо, — сказал Прометей. — Если тебе суждено дожить до дня разрушения этого мира, стоило бы поведать людям о моих злоключениях. Ведь смертные способны еще долго сохранять верность свергнутым богам, если считают их воплощением справедливости… Так слушай.
Вначале был Хаос. Затем появилась Земля с обширным лоном, матерь всего сущего и несокрушимое основание для всего, что живет. Во чреве ее пропастей — сумрачный Тартар, а по лику ее блуждает Амур, красивейший из бессмертных богов.
Вот каковы четыре изначальные субстанции мира, четыре первоэлемента творения, несотворенные и предшествовавшие всему, даже богам.
Хаос есть пустота, бесконечность, место всех вещей, непроглядная пропасть, туманная, неизмеримая, бездонная, из которой вышел весь видимый и имеющий форму мир.
Потом из глубин Хаоса возникла Земля (вернее, поверхность ее, земной лик) и, будущий центр грядущего мироздания, поплыла в пустоте.
Затем в глубинах Земли образовался Тартар — область мрака и низменных сущностей, противостоящих области возвышенной и озаренной светом. Тартар символизировал склонность возникшей из Хаоса Земли отчасти снова погружаться в тот же Хаос.
И наконец на поверхности Земли воцарился Эрос, или Амур, — верховное начало творения, перводвижитель всякого действия и союза, связи всех живых существ, причина появления поколений богов и людей![18]
Никому, даже умудреннейшему из богов, неведомо, как долго продлилось это состояние, пока из Хаоса — вечного и неразличимого темного истока — не вышли Эреб и Ночь, иными словами, сумрак подземный и наземный, причинный и случайный.
И Эреб стал повелителем бездонного, ненарушимого сумрака, царящего в Тартаре, а Ночь распоряжалась зыбким, преходящим мраком на Земле.
Тут в первый раз Амур махнул своим факелом — вспыхнуло первое пламя творения, и от союза Эреба и Ночи родился День.
С тех пор День чередуется с Ночью в верхних областях Земли, Эреб же остался в одиночестве в ее нижних пределах, где царит вечная тьма.
Амур вторично тряхнул своим факелом — и Земля сама из себя породила Урана, то есть Пространство. Пространство стало звездным небом, прозрачным куполом, охватывающим Землю и противостоящим глубинам Тартара.
Затем Земля сочеталась со своим сыном, и от этого союза земного и небесного родились Океан — река рек, Тефида — праматерь пресных вод, питающих все живое, и еще десять других детей, последним из которых был Хронос — Время.
Итак, первой эрой существования стала эра Урана, то есть Пространства.
Уран узнал, что его свергнет с престола Хронос, то есть царство Времени придет на смену всевластию Пространства. А посему, по мере того как у него рождались все новые дети, Уран погружал их обратно, в лоно их матери — Земли.
Однако Земля встала на сторону сыновей против мужа. Она сама извлекла из своих глубин Хроноса, вооружила острым серпом и поставила на пути своего супруга. И вот, когда великий Уран в ночной тьме явился к ней, Хронос жестоким ударом оскопил родителя, лишив его силы и власти, а из крови, пролитой на Землю, родились фурии, гиганты и нимфы, из той же, что излилась в море, смешавшись с пеной морской, возникла Афродита, дочь неба и воды, богиня красоты.
С этого мгновения Хронос наследовал Урану, Время — Пространству и началась вторая эра истории.
Затем настал черед Хроносу опасаться Зевса, то есть Творения. По примеру Урана он решил избавляться от собственных чад. Не доверяя своих детей их матери Рее (что значит — вечному веянию жизни, источнику всего, что рождается, умирает и производит потомство), он принимал из ее рук младенцев по мере их появления на свет и пожирал их…
Однако никому не дано противиться велениям судьбы. Напрасно Хронос проглотил поочередно Гестию, иначе Весту; Деметру, или Цереру; Геру, иначе Юнону; Аида, или Плутона, и Посейдона — Нептуна… Настал черед Зевса, которого Рея пожелала уберечь, как Земля — Хроноса.
Дабы преуспеть в этом, она родила тайно от мужа, а ему подала камень в форме младенца, и он проглотил его, не заметив подмены.
Тем временем будущий бог богов, вскормленный козой Амалфеей, рос, мужал телом и духом, и через год оказался достаточно сильным, чтобы объявить войну своему отцу.
Схватка длилась десять лет. Зевс — он же Юпитер — привлек на свою сторону титанов. Вместе с Хроносом сражались гиганты, но они не принесли ему победы. Юпитер, вооружившись молнией, выкованной для него киклопами, сверг с небесного трона отца, и мир вступил в третью эру, то есть Творение заступило место Времени, как некогда это последнее овладело царством Пространства.
Я принадлежал к роду титанов и, хотя был сыном Урана и Фемиды, помогал Зевсу своими советами; благодаря им он одержал верх, ибо моя мать, воплощение Закона, наделила меня мудростью.
Как только Зевс стал повелителем мира, ему вздумалось населить землю. Я уже говорил, что его имя значит "Творение". Он породил всех животных от простых до сложных, от полипов до четвероногих и от рыб до птиц; последним, самым совершенным его созданием стал человек — вершина творения, ибо его замыслили по образу и подобию божеств. Но человек остался равным другим животным. Зевс, без сомнения, опасаясь, что люди свергнут его, не наделил смертных разумом и душой… Человек ходил согбенным, им повелевал инстинкт, он жил, но не существовал.
Я не был согласен с этим.
Похитив с небес божественный огонь, я принес его на землю и заронил искру от него в грудь каждого двуногого. И тотчас человек выпрямился, поднял голову к небесам, заговорил, стал думать и действовать: у него появилась душа! Но, получив душу, смертный возжаждал свободы, и у Зевса появился враг.
Зевс не мог испепелить человека: бог творения, он не имел права разрушать сотворенное, и он утолил свою мстительность, выместив злобу на мне.
Однажды Вулкан с помощью Власти и Силы схватил меня, перенес на эту гору и приковал к медным кольцам алмазными цепями.
Пока стоял день, прилетавший гриф терзал мою печень; ночью она восстанавливалась, наутро кровожадная птица вновь находила себе пищу, а я испытывал новые муки… Единственные божества, посещавшие меня, — океаниды. Они оплакивали мою участь. Единственный бог, осмелившийся выразить мне сострадание, — Океан.
Однажды туда, где ты сейчас стоишь, прилетел Меркурий. Он явился от имени Юпитера и предложил мне свободу, если я сообщу, какой бог однажды свергнет его и каким образом можно этого бога одолеть. Но я отвечал:
"Я уже наблюдал падение с небесных высот двух повелителей, дождусь и изгнания третьего… Пусть Зевс остается уверенным в собственной неуязвимости. Пока он полагается на гром, что грохочет по небесным полям, потрясает огненными перунами! Это слабое оснащение для будущей схватки! Он будет безвозвратно низвержен: настолько устрашающим окажется его противник. Его огонь пожрет пламя перунов, раскаты его голоса громче громов, и воля его преломит роковую власть, подъемлющую к небу морские валы и потрясающую землю!"[19]
"Что ж, — отвечал Меркурий. — Но берегись, ибо тогда Зевс лишит тебя бессмертия и ты умрешь с приходом этого нового бога!"
И Меркурий взмыл к небесам.
А мои мучения продолжались еще две тысячи лет!..
По истечении этого срока меня по просьбе океанид, верных моих утешительниц, посетил Геракл. Он устыдился, увидев, какие мучения терплю я по воле тирана, убил грифа, терзавшего мою печень, и попытался разбить мои цепи. Три дня и три ночи он прилагал неимоверные, но безуспешные усилия освободить меня. Алмазные цепи устояли: их выковал сам Вулкан, а Сила и Власть укрепили в скале! Но он бил, бил, и земля вздрагивала при каждом ударе. Я первый посоветовал ему отказаться от этого бесполезного занятия. Геракл удалился, задыхаясь от ярости: в первый раз ему пришлось отступить перед мертвой материей…
С тех самых времен я в помыслах своих призываю бога, который должен повергнуть Зевса в прах и, дав начало новой эре, подарить мне желанную смерть! Ты возвестил мне приход этого бога. Так будь же благословен, титан нового мира! А теперь о том, что остается тебе свершить. Я не желаю, чтобы мой труп, как раньше живое тело, остался прикованным навечно. Однако лишь огонь, испепелив меня, освободит мои кости от алмазных оков. Подожги лес, что растет подо мной. Получится костер, достойный титана. А перед смертью — клянусь Стиксом! — я из пламени возвещу тебе о том, что ты желаешь узнать!
— О Прометей! — грустно прошептал Исаак. — Значит, правда, что умереть — благо?
— Разве ты не слышал, о чем я тебе здесь говорил? — прервал его титан. — Ты уже забыл, что я прожил четыре тысячи лет и из них три — в цепях?.. Поторопись же, мой последний и единственный освободитель! Ведь ты сделаешь для меня больше, чем Геракл. Ты избавишь меня от тягот жизни и довершишь то, чего не смог стервятник!..
Голос Прометея стал слабеть и угасать. Силы титана, что некогда позволяли ему сражаться со сторукими гигантами, силы, что сбросили Пелион с вершины Оссы, иссякали.
Казалось, он ожидал, чтобы впасть в предсмертное беспамятство, лишь той вести, что принес ему иудей.
Исаак же понял: ему нельзя терять время — пора исполнить волю умирающего. Он сбежал с утеса, на который ссадил его сфинкс, нашел хижину угольщика, взял там топор и стал карабкаться по кручам двуглавого исполина. Поднявшись до границы облаков, где кончался лес, он принялся за работу.
Вскоре под всесокрушающим топором дубы, буки и сосны начали рушиться, словно подкошенные серпом колосья. Треск падающих стволов доносился до ущелий Кавказа, грохотали, порождая лавины, огромные куски скал, вывороченные летящими вниз деревьями.
Уже под вечер у ног титана возвышался громадный остов костра.
Спустившись, Исаак стал быстро тереть друг о друга две сухие ветви терпентинного дерева, пока их не охватило пламя. Он положил их под ствол гигантской сосны и перебрался на противостоящий склон. Там ожидал его сфинкс, снова приняв неподвижную позу молчаливого каменного изваяния.
Пожар разгорался.
Слабое, как первые лучи на восходе, предвещающие близость солнечной колесницы, пламя сначала робко лизало ствол и не распространялось далее. Казалось, оно желало ограничиться смолистой корой того ствола, к которому прилепилось. Но постепенно огонь перешел на два соседних ствола, затем на те, что примыкали к ним. Огненная завеса растянулась надо всем гигантским костром, поднимаясь вверх, стала лизать бока горы, а дым навис темным султаном и перемешивался с облаками.
Пламя гнало дым все выше, и в чистом эфире, колеблющемся над огнем, можно было различить гигантское тело титана.
С ужасом глядел на него Исаак! Запястья Прометея были прикованы к двум утесам, отстоявшим друг от друга на тысячу локтей, а тело свисало вниз не менее чем на треть высоты всей горы.
Настала ночь, но высокий костер прогнал тьму и пылал, уподобившись солнцу. Вокруг по-прежнему было светло как днем.
Понт Эвксинский, в котором отражался блеск пламени, превратился во второй Ахеронт, катящий свои огненные валы.
Пожар охватил все вокруг, и титан явился в сияющем величии, обрамленный стеной огня.
Вдруг из водного лона лебедями выпорхнули океаниды, верные подруги Прометея, вот уже три тысячи лет прилетавшие к нему на час или два, чтобы излить на его раны бальзам своих слез. Их было девять, столько же, сколько и муз; звали их: Асия, Калипсо, Климена, Диона, Дорида, Эвдора, Ианира, Плексавра и Фоэ.
Они пролетели над головой иудея в своих прозрачных одеяниях, сотканных из блестящей морской лазури, с венками из водорослей на головах. Медленно плывя в воздухе, они выстроились цепью, возложили руки на плечи одна другой и затянули печальную песнь, гимн смерти Прометея.
Вот что они пели:
Титан, современник старого мира, видевший, как Земля, улыбаясь, выплывала из Хаоса, расцветала первым дневным лучом и впервые погружалась во мрак! О сын Урана и Фемиды, не знавший ни одного существа, кроме Амура, кто был бы рожден раньше тебя, ты, уступающий в старшинстве лишь Любви, несотворенной силе творения! Ты видел рождение Афродиты, матери наслаждений, возникшей из пены морской и крови бога богов! Ты приближаешься, о Прометей, к вечному упокоению, ибо старый мир обречен!
Увы, ты принадлежишь к роду проклятых! Брат твой Атлант осужден держать мир на своих плечах. Менетий, твой брат, низвержен в пропасти Тартара; твой брат Эпиметей взял в жены Пандору, источник всех зол. А ты, зажёгший огонь души в груди человеческой, уже три тысячи лет распят на груди Кавказа! Тебе пора умереть, о Прометей, ибо старый мир обречен!
Но человек, которого ты наделил душой, стал соперником наших богов, и всем, что ни сделал он доброго, великого, благородного — всем он обязан тебе! Героический дух, поэзия, слава, наука и гений, мудрость, доброе имя, любовь к отечеству и совершенство в искусствах — все это стало возможным после того, как ты, божественный похититель, украл небесный огонь для процветания рода людского. Тебе пора умереть, о Прометей, ибо старый мир обречен!
А вот и любимцы твои из числа смертных: Геракл, Ясон, Тесей, Ахилл, Орфей, Эскулап, Гесиод, Гомер, Ликург, Солон, Эсхил, Леонид, Аристотель, Александр, Зевксис, Апеллес, Перикл, Фидий, Пракситель, Вергилий, Гораций… Они все — благодарные твои дети. Все почерпнули славу свою у тебя и тебя ожидают теперь в тиши Елисейских полей, чтобы составить кортеж, какого не удостаивалось ни одно божество! Тебе пора умереть, о Прометей, ибо старый мир обречен!..
В этот миг послышался голос титана, которого уже наполовину пожрал огонь.
Все смолкло — пение океанид, треск пожарища, порывы ветра, ропот моря, и сквозь пелену огня, вставшую меж Исааком и Прометеем, до вечного странника донеслись слова:
— В центре земли… Через Трофониеву пещеру… С помощью золотой ветви!
То были ответы на три ранее заданных вопроса.
А океаниды продолжили прерванную песнь:
Тебе предсказали, что твоим мукам придет конец, когда сын девы явится из Египта. Этот бог свергнет мучителя твоего, он искупит грехи людей, умерев ради них и сойдя в ад. Этот сын девы уже пришел из Египта, погиб за людей и спустился в ад. Твой костер, Прометей, — последний отсвет старого мира — гаснет здесь, на Кавказе, в час, когда над Голгофой загорелась звезда, маяк нового мира! Тебе пора умереть, о Прометей, ибо старый мир обречен!
Легкие, грациозные и прекрасные, океаниды пели и летали вокруг огромного пожара, сделавшего Кавказ подобием Этны, превратившего гору в вулкан, а лес — в его кратер!
Вскоре порыв, подобный дыханию аквилона, отклонил пламя, и оно на миг заколебалось, но затем снова потянулось прямо к небесам, куда тянется любое пламя.
Это титан испустил последний вздох. Жизнь длиной в четыре тысячи лет пришла к своему концу!
Тут океаниды, закутав лица, в последний раз облетели кругом костра, по очереди крикнув: "Прощай!" — и направились к Понту Эвксинскому.
Последняя из них, пролетая над головой Исаака, уронила к его ногам золотую ветвь, которую она укрывала в складках своего одеяния.
Исаак проводил их глазами, следя, как они одна за другой погружались в морскую пучину и исчезали. Затем он подобрал золотую ветвь и, уверясь, что более нет препятствий его замыслу, решил из благодарности к Прометею дождаться, пока погаснет пламя.
Три дня горел огонь. На исходе третьих суток тело титана полностью превратилось в прах, медные кольца были пусты, а алмазные цепи бессильно свисали с раздвоенной вершины.
Смертная оболочка получила свободу, и прах ее смешался с пеплом леса, ставшего для нее костром.
Тогда Исаак вновь оседлал сфинкса и громко произнес, прижимая к груди драгоценную золотую ветвь:
— К Трофониевой пещере!
И прошептал:
— О сын Урана и Фемиды! Ты мертв, Прометей старого мира! Но я чувствую, что с сего дня новый мир обрел своего Прометея!
А между тем сфинкс, стремительно рассекая воздух, мчал своего сурового всадника к западу.
XXXI ТРОФОНИЕВА ПЕЩЕРА
В той части Беотии, что соприкасается с Фокидой и простирается от моря Алкионы до Копаидского озера, у северных отрогов Геликона, около Трахина, между Амбрисом и Орхоменом в живописной долине, орошаемой Ламом, расположился очаровательный городок Лебадея.
Над ним возвышается гора, а с ее вершины низвергается, взвиваясь и крутясь как алмазный водопад, маленькая речка Терцина. Прежде чем достичь Лебадеи, она вбирает в себя воду двух источников, спокойствием и прозрачностью странно контрастирующих с водами этой бурной, стремительной речки.
Впрочем, и сама речка, сжатая на протяжении десяти стадиев тесным глубоким ущельем, вырвавшись на простор, облекает городские стены свежим, блестящим поясом и далее тихо катит свои воды по восхитительной долине, мягко спускаясь к Копаидскому озеру.
А вот два источника, упомянутые нами, обрели в Беотии, несмотря на свой скромный вид, почти такую же славу, как знаменитый Пермесс, где утолял жажду Пегас и где плескались музы. Таинственные и скрытые, как и все, что драгоценно, они именовались ключами Леты и Мнемозины, то есть источниками забвения и памяти.
В нескольких шагах от них, в самом диком уголке ущелья, над которым нависают темные стволы дубовой рощи, высится или, вернее, высился в то время, когда происходили описываемые события, маленький храм, окруженный балюстрадой из белого мрамора, украшенной бронзовыми обелисками.
Храм был посвящен богу Трофонию и славился своими оракулами.
Как Трофоний стал богом? Какое отношение он имел к предсказаниям? Это оставалось туманным для самих лебадийцев, хотя они и проложили красивую широкую дорогу, окаймленную статуями, от городка к храму.
Вот что рассказывали по поводу этого божества, история которого, как и во многих иных случаях, восходит к убийству и воровству.
Известно, как был обнаружен старинный Дельфийский оракул, чьи пророчества предвосхищали основание и разрушение целых царств. Козы, блуждавшие среди утесов Парнаса, вдохнув подземные испарения, выходившие из трещины в камне, вдруг начинали выделывать странные телодвижения. Искавшие их пастухи приблизились к тому же пролому и, вдохнув те испарения, стали вести себя столь же необычно, как их козы, но ко всему прочему произносили какие-то бессвязные слова. Те, кто был рядом, запомнили их речи и рассудили, что это предсказания. Тогда-то царь Гириэй решил выстроить храм Аполлону — богу, которому была посвящена гора. Так возник всем известный Дельфийский храм.
Для постройки его царь Гириэй пригласил самых известных архитекторов того времени — ими были Трофоний и его брат Агамед. Они выстроили великолепный храм, похожий на дворец, от которого теперь не осталось никаких следов, кроме изображения на беотийских монетах и описания, данного в "Ионе" Еврипида.
В подземельях этого дворца Гириэй не забыл устроить особое место для сокровищницы, но строители со своей стороны предусмотрели известный только им лаз в стенах, по которому, как только был выстроен храм, они могли, испытывая нужду в деньгах, наведываться к богу света и поэзии в его сокровищнице и заимствовать толику себе на расходы. Увы, они навещали его так часто и оказались столь невоздержанны, что царь заметил это, хотя и не мог понять, каким образом кто-то ухитряется делать кровопускания денежным мешкам божества. Заключив, что воры достаточно искусны, чтобы не оставлять следов, он разместил несколько ловушек вокруг сосудов со священным золотом.
Вскоре Трофоний и Агамед, по обыкновению испытывая стеснение в деньгах, привычным путем спустились в залу с сокровищами. Но, сделав лишь первый шаг к одному из сосудов, Агамед, шедший первым, издал вопль: он оказался в ловушке.
Западню изготовил механик, не менее опытный в своем искусстве, чем Агамед и Трофоний — в своем; сколько ни старался оставшийся на свободе вызволить брата из ужасных объятий, но так и не сумел. Осталось единственное средство сделать так, чтобы Агамед не выдал своего сообщника. И хотя это средство было чудовищным, Трофоний прибег к нему: он отрезал брату голову и с ней в руках бежал, оставив в ловушке обезглавленное и, следовательно, неузнаваемое тело.
Около Лебадеи помещалась пещера, уходящая в гору и имевшая несколько выходов. Там-то и обосновался Трофоний. Остаток лет он прожил, укрытый от всех глаз, и умер в безвестности, как и жил.
Однако Аполлон, благодарный за блистательный храм, видимо, считал вполне естественным, чтобы строитель пользовался некоторой частью подношений. Он был весьма недоволен тем, как немилостиво обошлись с Трофонием, забыв о нем при жизни и вовсе лишив погребальных почестей после смерти. Подобно всем божествам, Аполлон постоянно имел под рукой какое-нибудь бедствие для наказания людей. Он наслал на беотийцев такую жестокую засуху, что им пришлось обратиться к пифии. Та ответила, что засуха продлится до тех пор, пока они не станут поклоняться Трофонию как оракулу и следовать его советам. Беотийцы ничего не имели против того, чтобы заполучить еще один оракул. Но где искать останки Трофония? Никто не знал, что с ним сталось с тех пор, как он исчез из Дельф.
Честь этой находки выпала акрефийцу по имени Саон. Ему пришла в голову мысль проследить за роем диких пчел, и те привели его к священной пещере. Там нашли мертвое тело, и стоило предать его земле, как засуха прекратилась, после чего никто уже не сомневался, что Трофоний найден.
Еще одним подтверждением догадки оказалось то, что пещера стала местом предсказаний.
С тех пор Дельфийский храм получил двойника, а местная пифия — соперника. Новый оракул оказался сурового нрава: путь к нему пролегал в темных подземных переходах и залах — величественном природном храме, где человек терял способность улыбаться и откуда выходил с нестираемой печатью на челе — бледностью, которая более не сменялась румянцем.
Все знали вход в эту пещеру, куда спускался каждый желающий получить предсказание, но никто не мог предугадать ни времени, какое он проведет в подземных недрах, ни места, откуда пещера явит дневному свету его тело — мертвое или живое.
Большинство ищущих ответа оставались в пещере один, два или три дня и по истечении этого срока возвращались тем же путем, каким вошли.
Другие задерживались на неделю, месяц, три месяца и появлялись из никому не известных пещер, отстоявших от Лебадеи на несколько льё.
А иные, как мы уже говорили, оказывались выброшены мертвыми, возвращаясь из-под земли лишь в виде трупов.
Но случалось и так, что зловещая и ненасытная пещера оставляла у себя даже мертвецов.
Именно это подземелье имел в виду Прометей, когда указывал Исааку прямой путь к паркам.
И, взлетев с кавказского утеса, сфинкс через два часа опустился у подножия статуи Трофония, изваянной Праксителем и представлявшей этого бога схожим чертами с Эскулапом. Памятник высился на рукотворной поляне в центре так называемой Священной рощи.
Исаак соскочил на землю, а сфинкс уселся в привычную позу и замер напротив статуи бога. Иудей не мешкая направился к храму, находящемуся в сотне шагов от пещеры и посвященному Фортуне и Доброму Гению.
Храм этот был чем-то вроде священного постоялого двора, где останавливались путники, собиравшиеся вопросить оракула о чем-либо или просто посетить место, знаменитое во всех концах света.
Храмовые служители подошли к иудею, осведомляясь о цели его путешествия. Если он просто желает обозреть храм и его окрестности, ему дадут проводника. Если же он хочет получить предсказание, надо обосноваться в одной из келий для ожидающих своего дня и часа и подчиниться обычным приготовлениям и церемониям.
Исаак ответил, что желает пройти как можно глубже в пещеру и готов выполнить все обряды при условии, если все сделается так быстро, как только возможно. В ответ он узнал, что на третий день ему будет позволено проникнуть в пещеру.
Уверенный в том, что он достигнет цели, Исаак более не томился лихорадкой нетерпения, ранее ни на миг не оставлявшей его. Поэтому он примирился с трехдневной отсрочкой и предался в руки жрецов.
В течение этих трех дней ему предстояло воздерживаться от вина и питаться мясом животных, приносимых им самим в жертву богам. Вечером третьего дня он заклал тельца; исследовав его внутренности, жрецы объявили, что Трофоний принят жертву и счел ее угодной себе, а поэтому гостю осталось лишь соблюсти некоторые требования ритуала.
Двое детей взяли его за руки и подвели к речке Терцине, где следовало три раза совершить омовение и трижды умастить тело.
Затем одежду ему сменили на длинный льняной балахон и привели его к двум ключам, которые мы уже называли. Один должен был стереть все прошлые воспоминания, а волшебство другого помогало навечно запечатлеть в памяти то, что ему еще предстоит увидеть.
Может быть, оба ключа не обладали в действительности теми свойствами, что им приписывали, либо оказались бессильны перед неукротимой натурой вечного странника: испив из них, он не почувствовал того действия, которое они производили на обыкновенных людей.
На полдороге ко второму источнику, ключу Мнемозины, у входа в пещеру возвышалось нечто вроде маленькой часовни. Исаак остановился там и, вознеся молитвы, не столько движимый верой, сколько подчиняясь советам жрецов, наконец вступил в храм и предстал перед священной пещерой.
Пещера, казалось, была вырублена молотком и резцом. Она была высотой в восемь локтей и шириной в четыре. От входа вниз почти отвесно вели ступени. Они были выдолблены в камне и показывали, каким путем идти. Две первые из них были хорошо различимы, прочие терялись в сумерках провала, напоминавшего колодец.
Исаак подошел прямо к отверстию, без колебаний ступил на лестницу и начал свой спуск в бездну.
Насчитав примерно пятьдесят ступеней, он дошел до ровного места. Далее проход изменился: то был выдолбленный в камне наклонный колодец, в отверстие которого едва проходило человеческое тело. Этот путь озаряло бледное дрожащее пламя светильника — оно внушало подземным путешественникам еще больший мистический ужас.
Там иудея ожидали два жреца. Они сказали, что он волен ограничиться тем, что уже сделал. В таком случае ему лишь следует возвратиться тем же путем, каким он спустился.
Они приблизились к нему. В руках у одного была сложенная повязка, у другого — лепешки из муки и меда.
— Что ты решил? — спросили они.
— Я желаю продолжить мой путь.
— Тогда мы обязаны завязать тебе глаза этой повязкой.
— Поступайте как знаете.
И ему завязали глаза.
— А теперь что мне следует делать? — спросил иудей.
— Возьми по три лепешки в каждую руку.
— Для кого они предназначены?
— Ты дашь их змеям, которые встретятся по дороге. При каждом свисте и шипении, что ты услышишь, выпускай из рук по одной лепешке. За такую плату гениям земли ты, быть может, доберешься до низа и не будешь растерзан.
Исаак пожал плечами:
— Змеи твоего бога не способны причинить мне зла. Но это не важно: поскольку я попал в их владения, несправедливо лишать их положенной дани.
И он взял по три лепешки в каждую руку.
Таким образом, он проделал все необходимое для дальнейшего путешествия.
— Я готов, — сказал он.
Два жреца подвели его к колодцу, зиявшему в темноте. Исаак опустил ноги в провал и заскользил вниз, увлекаемый весом своего тела.
Другой на его месте не сумел бы измерить время, всецело занявшись тем, что происходило вокруг. Лишь только начался головокружительный спуск, как в его ушах раздался шум, похожий на рев водопада или на грохот бурно бьющих по воде лопастей мельничного колеса. На своем лице он ощутил какие-то влажные испарения. Вскоре и звуки, и ощущения изменились: сквозь закрывающую глаза повязку он различил как бы зарево сильного пожара. Если ранее он чувствовал ледяной холод воды, то теперь ощутил обжигающее дыхание огня. Но и это продолжалось недолго. Жар спал, но тотчас раздалось зловещее шипение. Его лицо и руки соприкасались с холодными липкими телами, похожими на змеиные. Тут он выпустил из рук одну за другой все шесть лепешек. Затем он еще некоторое время скользил, но медленнее: видимо, наклон подземного хода уменьшился. Наконец, он замер на месте, очутившись на чем-то мягком, похожем на ковер из густой травы.
Первым движением Исаака было снять повязку с глаз. Действительно, он лежал на траве обширного луга, озаряемого бледным светом, похожим на тот, что проходит через матовое стекло.
Его окружали тринадцать похожих на привидения жрецов с закрытыми лицами.
Исаак поднялся и встал перед ними.
— Кто бы вы ни были, — сказал он, — и каким бы испытаниям ни собирались меня подвергнуть, объявляю вам, что я неуязвим и бессмертен. Я явился сюда по указанию последнего из титанов, умершего на моих глазах, и желаю проникнуть к центру земли, где находятся парки. Вот золотая ветвь, благодаря которой я должен получить у них то, что попрошу. В крайнем случае она послужит мне щитом и мечом против вас.
С этими словами он вынул из-за пазухи золотую ветвь и поднял ее над головой.
Но один из жрецов, приблизившись к нему, объявил остальным:
— Это тот человек, кого мы ожидаем.
А затем снова обернулся к иудею:
— Опасаться нас или угрожать нам не нужно… Исаак, ты среди друзей.
И одной рукой приподнимая что-то вроде савана, закрывавшего лицо, другую он протянул страннику.
— Аполлоний Тианский! — вскричал тот.
— Благодаря заклинаниям Канидии я узнал, что Прометей послал тебя к Трофониевой пещере, и решил дождаться тебя здесь… В моем лице ты видишь одного из посвященных этого подземного обиталища, где я провел год. Раз двадцать я пробовал совершить то путешествие, на какое отваживаешься ты. Увы, всякий раз нехватка воздуха заставляла меня отступить. Сжатый скальной толщей, воздух становится невыносимым для простого смертного… Я провожу тебя до того места, куда смог добраться ранее. Дальше ты пойдешь один, а на обратном пути, если боги не призовут тебя к молчанию, ты нам поведаешь об увиденном.
— Но почему, — удивился Исаак, — зная дорогу к центру земли, ты не сообщил мне о ней без промедления?
— Каждый из нас дает клятву. Страшную клятву! Он обязуется не открывать непосвященным то, что ему стало известно во время приобщения к таинствам… Я должен был держать слово. После испытаний посвященный узнаёт, что в противоположном конце этого луга открывается пещера, по которой можно спуститься к центру земли; если он отваживается идти вниз, ему дают факел и еду и он отправляется дальше, если отказывается — оракул отвечает ему здесь же на его вопросы, и он поднимается назад к свету… Почти все поступают именно так… Лишь очень немногие пытаются продвинуться более или менее далеко в глубь земли. Отсюда понятно, почему они проводят у нас больше или меньше времени. Но кое-кто спускается так глубоко, что им перестает хватать воздуха. Их бесчувственные тела какая-то сила выталкивает туда, где еще можно дышать. Вот отчего большая или меньшая бледность остается на лицах тех, кто посетил эту пещеру. Вот откуда также те трупы, что силой отталкивания выносятся наружу через многочисленные ходы в скалах — к невообразимому ужасу окрестных жителей… А теперь, когда ты знаешь секрет таинственного пути, я пришел, чтобы сказать: "Исаак, я один из тех, кто проник дальше других по темной дороге. Хочешь меня в проводники? Я готов".
Исаак молча протянул Аполлонию руку. Остальные жрецы открыли лица. Было решено, что Исаак освобождается от всех испытаний и в тот же день Аполлоний поведет его страшной дорогой, которую никому еще не удалось пройти до конца.
Через час оба они, взяв с собой факелы, пересекли бледный подземный луг, прошли мимо озера стоячей воды, глубокого и мрачного, и наконец вошли в пещеру, зев которой походил на отверстую пасть гигантской химеры.
XXXII ПАРКИ
Сначала эта таинственная дорога напоминала "facilis descensus Avemi"[20] Вергилия: наклон был невелик, и хотя дорога решительно углублялась в землю, в ней не было ничего ужасающего.
Что за подземные труженики прорыли этот мрачный ход? Никто не мог с уверенностью дать на это ответ. Тем не менее Аполлоний полагал, что первыми, кто прошел по этому пути, были трое страшных сыновей Урана, когда, сброшенные отцом с Олимпа, они пребывали, скованные, в сердцевине мира. Оттуда Зевс извлек этих сторуких великанов, чтобы противопоставить их Хроносу во время знаменитой войны богов. С тех пор дорога осталась свободной, но, как уже было сказано, никто не смог пройти ее до конца.
Как ни торопился наш угрюмый знакомец, следовавший за Аполлонием, добраться до цели своего странствия, он понимал, что, помимо силы и выносливости, в предстоящей схватке будет нужен и арсенал учености.
Поэтому после недолгого молчания он обратился к спутнику:
— Аполлоний, не заметил ли ты, что, углубляясь к центру земли, мы проходим сквозь слои почвы, разной по цвету и составу? Моя религия устами Моисея гласит, что человечество существует немногим более четырех тысяч лет. То же говорил мне Прометей. Но какие животные существовали до человека? Что за гигантские скелеты выступают из земли справа и слева? Без сомнения, они принадлежат каким-то исчезнувшим видам. Ведь я не встречал ничего подобного ни в Индии, ни в Нубии, ни в Египте!
— Послушай, — отвечал Аполлоний, — я посвящу тебя сейчас в секрет сотворения мира. О нем известно пока только нашим посвященным, но когда-нибудь это ляжет в основание всех наук. То, что тебе кажется не поддающимся объяснению, когда вникаешь в тайны всех восточных религий, проясняет эта подземная дорога. Подобно закону Моисея, греческая религия ведет начало мира из Хаоса: иудеи считают творцом дух Божий, что носился над водами, греки — Эроса или Амура, красивейшего из бессмертных, парящего в пустоте. И в том и в другом учении признается творческая сила: здесь — Уран, там — Иегова. Это она отделяет твердое от жидкого, извлекает землю из Хаоса и помещает в центр мироздания… Сколько же времени образовывалась эта земля с тех пор, как Бог замесил своей всевластной рукой раствор из сланца, мрамора и гранита, накладывая послойно материю, пока не расцвел, как цветок, человек — самое совершенное животное, будущий царь творения? Никто не знает. Вероятно, понадобился долгий труд, многотысячелетние родовые муки, но пришел день, и на поверхности земли — когда она уже приобрела тот величественный вид, который мы наблюдаем сегодня, когда плодородие ее почв стало способно прокормить сотни миллионов людей, когда воздух стал настолько чистым, что грудь человека смогла без труда дышать, когда уже могли возникнуть необходимые для его существования животные и растения, — появился человек. И стал повелителем, творцом и укротителем природы… Так как же родился человек? Из каких стихий он создан? Почему это животное, такое слабое при рождении, так медленно развивающее свои физические и умственные способности, обладая инстинктом, уступающим тому, каким наделены самые примитивные звери, и возмещая это превосходством разума, — так вот, почему этому слабому существу удается овладеть способностями, составляющими его обычную физическую и умственную жизнь? Как из эмбриона оно становится ребенком? Из младенца — человеком? Почему человек, сначала одинокий, дикий, замкнутый в узком семейном мирке, стал существом общественным и цивилизованным, изливающим на других людей, как благодатную росу, идеи Платона и Сократа? Вот что, вероятно, еще долго останется загадкой для самого этого человека.
Обращая свой взор к собственному рождению, изучая свои таинственные истоки, он наталкивается на необъяснимую тайну, на неразрешимую загадку… Например, где родился человек? Что за местность объединила в себе все необходимое и, подобно манне небесной, вскормила первочеловека? Какая земля была лучше других подготовлена к тому, чтобы принять человека, находясь в наибольшей гармонии с элементами, из которых он создан? Индия говорит: "Это на моей благотворной земле он впервые возрос. Я укачивала его на ложе из листьев лотоса, вскармливала могучими соками моей природы, пока он был мал; наградила изобилием растительной пищи, когда стал юн; сам воздух мой питал его, а солнце давало ему тепло, словно первую одежду!"
А теперь, — продолжал Аполлоний, — посмотри: вот где тайна находит объяснение, и к загадке предлагается ключ. Ты спрашиваешь, что это за наложенные друг на друга слои разного цвета и состава? Мы уже немало их пересекли, пока двигались в глубь земли. Сейчас я тебе объясню.
Он пальцем ткнул в почву над их головами, в своде подземного прохода, и продолжал:
— Посмотри на слой, залегающий сразу под тем, на котором мы обитаем. Кажется, он весь пропитан морскими водами. Именно здесь погребены животные, обитавшие на земле до появления человека. Они подготовили для него почву и породили тех зверей, что живут сейчас. Этот слой был создан потопом. Приглядись: тут много следов песка, ила и растительности, похожей на водоросли. Вероятно, в то допотопное время мир, в котором еще не было ни обезьяны, ни человека, процветал, как вдруг из-за какой-то катастрофы земные воды переместились, залили низменности, где обитали разные виды этих зверей, покрыли их грязью и илом, глиной и песком, а также галькой, принесенной, наверное, бурными потоками с другого конца света. Вот откуда эти скелеты, что, как видишь, белеют среди желтоватой земли. Здесь кости разлучены друг с другом или переломаны. А вот там, взгляни, они собраны в кучу, и на иных еще остались следы некогда одевавшей их плоти… Может быть, это была пещера, куда спасались животные в страхе от трясущейся под ногами земли, в ужасе от рева надвигающихся водяных валов… Они укрылись тут, и их затопило… Земля, на которой жили эти звери, была уже похожа на нашу. Ее населяли существа столь же совершенной природы, как те, что окружают нас сегодня… Здесь много млекопитающих. Их присутствие указывает на эру спокойной жизни и как следствие этого — всяческих усовершенствований. Вон там, смотри, кости тигров, пантер, волков… Вот и медведи, почти неотличимые от теперешних… Вот четвероногое, похожее на броненосца и на ленивца… Только оно величиной с быка! Смотри-ка: это ящер в восемнадцать локтей длиной! А вот олень размером больше лося, рога у него с длиннейшими ветвями, в пять локтей каждая! Узнаешь? Это скелет гигантского слона: в нем четырнадцать локтей роста, а бивни длиной в восемь! Тогда все достигало невероятных, титанических размеров — и в животном, и в растительном царстве. Вот в этих травах высотой в пятнадцать локтей скрывались и паслись виденные тобою чудовища. Под сводами гигантских лесов они искали пищу и тень. Дубы достигали двухсот локтей, а папоротники вырастали до сорока… Чтобы принять человека и прирученных им животных, несомненно, понадобились богатые туками почвы, более толстый питательный слой. Гигантские дубы высотой в две сотни локтей, папоротники сорока локтей и слоны четырнадцати — все это плоды нашей теперешней земли, колыбели, взрастившей человека.
С удивлением Исаак слушал и смотрел, каждое слово светлым лучом проникало в его мрачный ум и, казалось, укрепляло решимость идти до конца.
— Да, — вымолвил он, — теперь понимаю: дни творения равны целым векам. Моисей отнюдь не ошибался, надо было лишь вникнуть в истинный смысл его слов… Идем дальше.
Оба продолжили путь, но через несколько мгновений Исаак спросил:
— А что это за новый слой? Он светлее предыдущего и полон гальки и раковин… Может, здесь сокрыто лицо иного мира, предшествовавшего нашему?
— Да, — откликнулся Аполлоний. — Здесь обозначен переход от рептилий к млекопитающим. На сей раз море отступило, и на месте его образовались обширные озера пресной воды, по берегам которых жили и умирали животные, скелеты которых можно найти в этих отложениях, ибо их затянуло в ил разливами рек и ручейков. Смотри: в земле много известняка, кремния и ракушек; жизненные силы уже толкают все живущее выйти из воды на сушу и развиваться в более совершенные создания, нежели те, с которыми мы встретимся ниже. Взгляни сюда: вот останки рыб, рептилий и птиц — они приведут нас к менее совершенным млекопитающим, нежели те, с какими мы уже встречались, и вдобавок совсем неизвестным нашей науке. Посмотри: вот новые существа, что явились в мир, предшествующий нашему; они далеко не так велики, как их потомки. Среди них можно разглядеть что-то вроде тапира, находящегося где-то между носорогом и лошадью… А там еще зверь, от которого произойдут гиппопотам и лошадь, и еще один — промежуточное звено в цепи от верблюда к кабану. Рядом — хищные звери, не являющиеся ни тиграми, ни львами, ни пантерами, ни волками, но, меж тем, уже имеющими в себе нечто родственное тем, каких я только что упомянул. А чуть поодаль — пресноводные рыбы и рептилии, почти схожие с теперешними. Обрати внимание на растительность: ее строение также станет более совершенным, ибо в каждом действии великой драмы сотворения мира, которую мы сейчас смотрим от конца к началу, и растения, и животные делают новый шаг к совершенству.
Путники продолжали спускаться, но вскоре Исаак вновь остановился: они пересекли обширный пласт известняка с вкрапленными остатками раковин, показывавших, что здесь долго было морское дно и земля пропиталась солью. Под ней залегали многочисленные слои лигнитов более раннего происхождения, нежели каменный уголь, растительные остатки, обломки пресноводных раковин, скелеты ящериц, крокодилов и черепах.
Исаак застыл перед скелетом какого-то гигантского пресмыкающегося.
— Ну да, — рассеял его недоумение Аполлоний, — вот мы и добрались до слоя, где еще нет ни млекопитающих, ни птиц; в этом третьем из неизвестных нам миров рептилии — самые благородные существа. Кости, которые ты разглядываешь, принадлежат земноводной ящерице с узкой длинной пастью и острыми зубами конической формы. Как видишь, в ней полтора десятка локтей длины; ее тяжелое тело на суше поддерживали четыре короткие толстые ноги, а в воде влекли вперед мощные плавники; воду, свою родную стихию, она рассекала со скоростью пущенной из лука стрелы, а по земле ползла, как теперешние моржи и тюлени. А вот взгляни-ка: еще одна тварь с шеей, столь же длинной, как и все ее тело; то и другое вытянулось в длину на тридцать четыре локтя, причем шея похожа на тело питона, а туловище — на крокодилье; чудовище шествовало по дну озера, а голову высовывало на поверхность, чтобы дышать. А здесь нечто похожее на каймана, но в пять десятков локтей — совсем как библейский Левиафан. Обрати внимание на ту гидру с крыльями летучей мыши. Вот существо, чей вид гораздо более нереален, нежели самые причудливые фантазии наших поэтов! Такие создания родились в особых атмосферных условиях, они ползали по поверхности с едва выступавшими из теплой мутной воды одиночными кочками. Все эти чудовища, чьи скелеты ты видишь, должны были погибнуть в изменившихся условиях, через которые предстояло пройти верхним мирам, и остались здесь; но корни их лежат в нижних мирах.
— Разве они не сотворены при начале времен? — удивился Исаак.
— Природа все создает постепенно, — ответил Аполлоний. — Ты проделал лишь две трети пути по цепочке наделенных жизнью созданий. Подожди, пока мы спустимся ниже этих обширных меловых слоев, но предварительно задержимся на самом нижнем из них. Вот мы и у цели: здесь отстаивался ил спокойного моря, которому были ведомы лишь рыбы и рептилии. Погляди: среди рыбьих остовов ни один не напоминает по форме то, что мы вылавливаем сейчас. Обрати внимание на гигантских черепах; оцени размеры этого панциря: шесть локтей! Как щит великана! А вот ящерицы, похожие на тех, что мы видели в верхнем мире: часто одна эра уходит корнями в другую, предшествующую ей. Только чем ближе мир подходит ко времени человека, тем умнее становятся животные.
— А вот здесь, — заметил иудей, — земля весьма явственно изменила цвет. Неужели мы приближаемся к первейшим слоям?
— В этих зеленоватых, насыщенных железом песках сохранены остатки рептилий, но не следует считать и странные пески, и погибших в ней тварей каким-то особенным миром, отделенным от других. Здесь всего лишь верхняя граница известняков. Приглядись: среди окаменелостей тысячи рыб, крабов, изогнутых раковин моллюсков; удивительны и вон те рептилии, они не имеют подобий себе в иных мирах. А из растений здесь только морские водоросли, плауны и тропические папоротники: мы сейчас прикасаемся к границе существования тварей земных, и ниже, там, где ты замечаешь лишь толстые слои песка, из мира живых есть только растения; правда, там еще можно встретить кое-каких рыб и рептилий, но так просто устроенных, что они почти похожи на механические игрушки. Вот действительно первая ступень сотворения мира, начальное звено в цепи; ниже живых полипов можно различить зоофиты — в них жизнь хотя и существует, но в каком-то двусмысленном обличии, ибо лишена органов чувств. А до того, как можешь убедиться, — лишь инертная материя… Итак, мы пронеслись последовательно сквозь пять миров, куда уходят корни всего, что обитает сегодня на земной поверхности, всего, что одушевлено и наделено чувствами и мыслями, — уходят в гранит изначального основания нашей планеты.
— Да-а, — произнес иудей, совершенно раздавленный величием творения, неспешно осуществленного руками Создателя. — Да, пять миров, то есть пять дней, продолжительностью в тысячу лет каждый, перед тем как появились первые мужчина и женщина… Вот теперь мне открылось и то, как сотворен мир, и истинный смысл слов Моисея!.. Но сколько же тысяч лет понадобилось, чтобы создать эту гранитную первооснову? Вот о чем, о Моисей, ты забыл упомянуть!
— Для него это было бы тем затруднительнее, — подхватил его мысль Аполлоний, — что, по всей вероятности, гранит некогда был расплавленным веществом. Ибо знай, Исаак: сердцевина земли, против которой бессильна самая закаленная сталь, когда-то походила на те потоки лавы, что истекают из кратеров Этны и Везувия; постепенно соприкасаясь с воздухом, лава остыла, а сейчас ты сам убедишься, что по мере нашего нисхождения в земную глубь жара усилится, ибо день ото дня она медленно отступает к центру. Каждый из посвященных, спускающийся сюда, отмечает на стене подземного хода место, до которого смог добраться. Кстати, взгляни: вот отметины, оставленные в эпоху Перикла: всего пять сотен лет назад здесь, где мы стоим, уже было нестерпимо жарко. А вот зарубки современников Александра. Дальше нам встретятся и те, что сделаны в эпоху Эпикура, во дни славы Аристарха, в годы тирании Суллы и правления Августа. Каждый век передвигает тепловую границу, которую невозможно перейти, примерно на двадцать четыре стадия. Если ты действительно бессмертен и тебе суждено присутствовать при гибели нашей земли, ты увидишь, как все на ней погибнет от холода, который достигнет предела: убывание тепла повлечет за собой и угасание жизни.
Исаак испустил глубокий вздох; мысль о собственном бессмертии еще не устрашала его, но уже беспокоила.
Затем оба продолжили путь, но, чем дальше, тем более спертым и густым казался воздух, тем мучительнее была жара. Вернее, иудей не ощущал подобных перемен, они сказывались на самочувствии Аполлония: он начал задыхаться, время от времени останавливался перевести дух; вскоре такие задержки сделались все более и более частыми, пока наконец не убедили философа, что из проводника он стал лишь обузой своему спутнику.
И вот он в последний раз остановился, чтобы распроститься с Исааком, пожелав ему доброго пути.
Впрочем, хотя у него уже не было возможности идти далее, он пожелал задержаться на этой последней границе если не своих стремлений, то возможностей и подождать, пока дорога, продолжающая гигантской спиралью врезаться в земную твердь, не скроет от его глаз Исаака, устремившегося вперед ровной поступью, не ведая ни сомнения, ни усталости, ни боли.
Трижды иудей оборачивался, трижды он подавал факелом прощальные знаки философу из Тианы. Но в четвертый раз он уже не различил его позади и тотчас убыстрил шаг: способность не поддаваться тяготам, преследующим других смертных, позволяла ему продвигаться со скоростью, раза в три превосходящей обычную.
Мы не станем следовать за ним в его блуждании по мрачным и опасным пропастям земным, а подождем у противоположного конца подземелья…
В центре земли, где воздух под давлением всей толщи породы становится плотнее ртути, существует сферическая пещера без входов и выходов, освещенная лишь двумя бледными лучистыми звездами, что зовутся Плутоном и Прозерпиной.
Посреди этой пещеры в неверном сиянии подземных светил можно было разглядеть трех женщин, неподвижно сидящих на бронзовых тронах. Подобные трем мраморным статуям, они заняты своим таинственным и бесконечным делом.
Первая вращает ногой железную прялку, вторая крутит пальцами медное веретено, с которого спадают тысячи нитей. Каждая нить окрашена в свой яркий или тусклый цвет и сплетена из нескольких прожилок более или менее драгоценного свойства. Наконец, третья медленным бесстрастным движением без конца обрезает стальными ножницами то одну, то другую из этих нитей.
Эти три женщины, появившиеся ранее сотворения первого мужчины, три сестры, что, не постарев ни на день, пережили четыре десятка веков (Гомер считал их дочерьми Юпитера и Фемиды, Орфей — детьми Ночи, Гесиод — потомками Эреба, Платон — чадами фатальной Неизбежности), зовутся мойрами у греков и парками у латинян.
Их имена — Лахесис, Клото, Атропос. Лахесис прядет, Клото держит веретено, Атропос обрезает нити.
Все миры подчинены их неодолимой власти. Они повелевают движением небесных сфер и гармонией мировых законов. Судьба всего живого и неживого, начало и конец любого творения, всякого существа предопределяются ими. Они раздают и отнимают богатство, славу, власть, почести — все зависит от более или менее ценных прядей, вплетенных в жизненную нить. Но главное, на что распространяется их владычество: рождение, жизнь и смерть.
Времени для них не существует. Никакое светило не отмеряет им день, ничья тень не заменяет ночи, одни и те же угрюмые блеклые светочи озаряют их постоянно.
С тех пор как первая нить потекла у них меж пальцами, они лишь дважды подняли головы и обратили взгляды к дерзким посетителям, добравшимся до них. Один был Геракл, с палицей в руках явившийся требовать жизни для Алкестиды. Другой — Орфей; оружием ему служила лира, он пришел за Эвридикой.
А в третий раз — незадолго до времени, о котором речь, сильный толчок вдруг потряс всю землю от поверхности до сердцевины, послышался страшный треск, светящаяся молния ударила в подземелье, в широкую трещину хлынул дневной свет, впервые озарив не на шутку испуганных хранительниц нитей жизни.
Тогда Лахесис поднялась и медленной, торжественной поступью статуи подошла к светящейся трещине, прорезавшей земную твердь. Там, в вышине, она разглядела совершенно неизвестного ей мертвеца. Он был распят, и его крест, обрушившись в яму, произвел тот чудовищный толчок, от которого содрогнулся весь мир. Странно, но распятый был первым, для которого три сестры не пряли, не сучили и не обрезали предназначенной ему нити.
Лахесис вернулась на свое место и замогильным голосом поведала Клото и Атропос, что ей удалось увидеть.
Но с этого мига обе звезды, освещавшие подземелье, стали тускнеть, и трем зловещим пряхам начало казаться, что жизнь медленнее заструилась в их холодных жилах.
А еще сестрам, державшим нити всего живого, почудилось, что их бытие словно бы иссякает и недалек день, когда их мраморные глаза закроются, как у простых смертных.
И вдруг раздался звон, напоминающий голос бронзового колокола. Сестры вздрогнули и одновременно медленно обернулись, ибо были одарены на троих единым и нераздельным существованием, наделявшим все три тела одним разумом и душой.
Там, куда они обратили взор, стены пещеры раздвинулись и впустили Исаака Лакедема.
Он вошел уверенным шагом и приблизился к тройному трону, с которого парки вершили суд над жизнями смертных.
Сколь ни было странным это появление, три сестры холодно и бесстрастно ожидали, что он скажет.
В нескольких шагах от них Исаак остановился и произнес:
— Властительные богини, в чьих руках завязываются и обрываются нити человеческой жизни! Я пришел от Прометея, протягиваю вам эту золотую ветвь и говорю: "Мне нужна нить человека, который отжил, но которого я хочу оживить".
И тут Атропос, оставив ножницы раскрытыми и продлевая на несколько мгновений чье-то обреченное существование, вопросила:
— Так ты сошел с небес? Я несколько дней назад обрезала нить титана. Вот зазубрина на ножницах: нить была крепче, чем сталь, из которой они выкованы.
— Я спустился не с небес, а с вершин Кавказа! — отвечал Исаак. — Я там был, когда умер Прометей. Я сам развел костер, превративший его в пепел. В благодарность за эту последнюю неоценимую услугу он указал мне способ добраться до вас и вручил эту золотую ветвь. С ветвью в руках я заклинаю вас исполнить мою просьбу!
— Как ты прошел сквозь кипящие воды, лаву и огонь?
— Я бессмертен.
— Так, значит, ты бог? — спросила Атропос.
— Если бессмертие делает богом, то я бог.
— Назови твое имя.
— Исаак Лакедем.
— Вот нить его жизни, — заметила Лахесис. — Он и вправду бессмертен.
— Как же Юпитер наделил тебя бессмертием, не предупредив нас, распорядительниц жизни и смерти?
— Бессмертием меня наградил отнюдь не Юпитер.
— Кто же?
— Это бог, не имеющий с ним ничего общего и пришедший, напротив, лишить его власти: бог христиан.
— А откуда пришел новый бог? — спросила Клото. — Из Индии или Финикии?
— Из Египта.
— На каком Олимпе он обретается?
— Он умер.
— И как же он умер?
— На кресте.
Сестры переглянулись.
— Если он умер, то почему же это бог? — спросили они все вместе.
— Его ученики утверждают, что он воскрес через три дня после того, как его положили в гробницу.
Парки переглянулись вторично.
— Вот почему, — произнесла Лахесис, — я чувствую, что моя нога немеет.
— Вот отчего мои пальцы утратили ловкость, — откликнулась Клото.
— Так вот из-за чего моя рука дрожит, — проговорила Атропос.
И все три одновременно покачали головами.
— Сестры, сестры! — зашептали они. — Коль скоро без нашего ведома появляются бессмертные, если умирает тот, кому мы даже не сплели его нити, — значит, приближается что-то неведомое. И оно придет нам на смену.
С глубоким ужасом внимал Исаак жалобе мрачных богинь. Значит, длань Христа, согнувшая его, имела власть не только на земле, ее сила ощущалась и здесь, в центре мира?
— Пусть так! — нетерпеливо воскликнул иудей. — Но это ведь не помешает вам вручить мне нить, за которой я пришел?
— Что за нить ты ищешь? — проговорила Атропос, с видимым усилием перерезая ту, что все еще держала в руке.
— Нить Клеопатры, царицы египетской, — отвечал он.
— Сколько раз ты желаешь связывать ее?
— Столько, сколько мне заблагорассудится.
— Мы не можем наделить такой властью человека, — одновременно возразили Лахесис и Клото.
— Какая теперь разница, сестры? — заметила Атропос. — Какое нам дело, что теперь будет происходить у людей, если уже не мы будем повелевать ими? Отыщи оба конца этой нити, Клото. Ты найдешь их сплетенными с нитью Антония. Только у Клеопатры она спрядена из золота, серебра и шелка, а та, что у Антония, — лишь из золота и шерсти.
Клото нагнулась и острием веретена стала перебирать ворох под ногами в поисках блестящих концов когда-то разрезанной нити. Наконец она обнаружила их, хотя и с большим трудом, между многими, принадлежавшими императорам и монархам.
Ведь прошло уже более века с тех пор, как умерла прекрасная властительница Египта, и за это время множество подобных нитей было оборвано.
Клото подала оба конца Исааку.
— Держи, — сказала она. — Когда захочешь, чтобы Клеопатра ожила, свяжешь вместе оба кончика этой нити. И сколько бы раз в будущем судьба ни прерывала ее, столько раз мы разрешаем тебе связать ее вновь.
Исаак с жадностью схватил и сжал в руке бесценный дар.
— Благодарю. И знайте: если проклявший меня бог одержит верх над вашими божествами, то не без сопротивления, какое я намерен ему оказать в этой неравной борьбе!
Атропос в сомнении покачала головой.
— Разве не сам Прометей поведал мне, что, решившись помогать Зевсу, он склонил победу на его сторону? — спросил вечный странник.
— Все так, — вздохнула Атропос. — Но Зевс был вестником нового мира и сражался против мира отжившего… Как раньше времена переменились, обрекая на гибель царствие Хроноса, так и теперь время изменило Зевсу.
Лахесис и Клото повторили вслед за ней:
— Время переменилось, владычеству Зевса настает конец!
И, помолчав, все три сестры воскликнули:
— Горе нам! Горе! Старый мир угасает! Старый мир обречен!
Исааку больше нечего было ждать от тех, к кому он добирался из такого далека: желанную нить он уже держал в руках. Поэтому, не мешая сестрам отдаться скорби, он быстро удалился.
Проход, через который он вошел, закрылся за его спиной. Теперь он опять постучал в стены пещеры золотой ветвью. Послышался тот же густой звон, и плиты снова разошлись, пропуская дерзкого пришельца.
Перед тем как перешагнуть порог, Исаак обернулся, бросив последний взгляд на богинь судьбы.
Под умирающим сиянием двух светил, не угасавших до сей поры, но теперь готовых потухнуть, он увидел странную картину.
Колесо Лахесис остановилось, веретено Клото более не вращалось, и ножницы Атропос выпали из ее рук на колени.
То немногое, что оставалось от жизни, покинуло жриц неотвратимого рока. В противоположность Галатее, ставшей из статуи женщиной, они, застыв на своих бронзовых тронах, превратились в статуи.
Исаак бросился прочь из пещеры, и вход сомкнулся за ним.
XXXIII КЛЕОПАТРА
Выйдя к свету, Исаак не опроверг поговорки "Бледен, словно побывал в Трофониевой пещере".
Аполлоний ожидал со жрецами и посвященными; они уже теряли надежду встретиться с ним вновь.
Иудей рассказал им о своей беседе с парками и описал их предсмертные мгновения.
А затем, поскольку ничто более не удерживало его в Греции, он простился с Аполлонием. По обычаю, его поместили головой вниз в отверстие лаза, где он снова прошел через все испытания — свист и шипение змей, треск огня, рев воды — и очутился перед двумя жрецами у подножия лестницы. Без их помощи, что мало кому удавалось, он выбрался к миру людей и снова увидел солнце.
Сфинкс ожидал его, все такой же угрюмый и сосредоточенный, словно пытался сосчитать тростинки в озере Мареотис или песчинки в пустыне. Исаак подошел к нему, погладил по гранитной шее и сказал:
— Сейчас отправимся, прекрасный сфинкс! Еще один полет, и я отпущу тебя; ты погрузишься в неподвижное созерцание, что так любезно твоему сердцу.
Произнося это, он устроился на его спине.
Сфинкс расправил крылья, медленно взлетел, но, набрав высоту, вновь обрел былую стремительность.
Они направились к югу…
Внизу поочередно проносились и исчезали вдали море Алкионы, Коринфский перешеек, Арголида, Миртосское море, остров Крит; потом они поплыли между голубыми лазурями небосвода и Внутреннего моря. Наконец, впереди показался Египет, разворачивающийся длинной лентой матово-серебристой зелени меж двух пустынь, с нильской дельтой, у которой, подобно двум часовым на подступах к Мемфису, выдвинулись вперед Каноп со своим каналом и Александрия со своим озером.
Сфинкс опустился прямо на свой пустовавший пьедестал, где еще можно было различить след его тела. Сложив крылья, он привычно повернулся спиной к озеру Мареотис, а лицом к гробнице Клеопатры и застыл, указывая поднятой лапой на дверь усыпальницы.
Если измерять время привычным нам способом, было около одиннадцати вечера.
Исаак подошел к гробнице, прикоснулся к двери золотой ветвью, и та распахнулась.
На протяжении целого века человеческие шаги впервые отозвались эхом в царском склепе.
Усыпальница была той же круглой формы, что и подобное сооружение Августа или пантеон Агриппы; отверстие в ее своде пропускало воздух и свет. Луна, повиснув над открытым проемом, словно гигантский светильник, озаряла голубоватым сиянием саркофаг, где спала царица Египта.
Все остальное оставалось в тени. Но через несколько мгновений глаз привыкал к темноте; он различал сорок восемь колонн, поддерживающих свод и похожих на двойной ряд неподвижных призраков. На стенах проступали написанные в одну краску странные силуэты собак с головами человека, людей с головами собак, анубисов, тифонов, осирисов — божественные иероглифы, на которых иступит зубы наука будущих веков.
Но Исаака не заинтересовали ни колонны, ни настенная роспись. Он подошел прямо к саркофагу и поднял мраморную крышку.
Клеопатра покоилась в своем царском облачении, со скипетром, увенчанным ястребиной головой и похожим на магическую трость, и зеркалом из полированной стали, лежавшим подле.
На ее голове виднелось подобие золотого шлема с гребнем в виде изящно изогнутой головки священного ястреба, украшенной сапфирами. Крылья птицы, с россыпью изумрудов и рубинов, прикрывали виски, огибали уши и уходили под шею мумии. На этой шее поблескивало тройное ожерелье из жемчуга, серпентина и алмазов, разделенных пластинками из оправленной в золото эмали в виде птичьих перьев. Платье из тончайшей материи с диагональными полосами золотого и лазурного цвета, перехваченное на талии жемчужной нитью, облегало тело, придавая царице вид спящей живой женщины. Легкие сандалии из золотой парчи жемчужными перепонками охватили ноги выше щиколоток. Руки свободно вытянулись вдоль тела: одна была украшена золотой змейкой чудесной работы, обвившейся по ней от локтя до запястья, другая — шестью золотыми браслетами, три из которых перехватывали руку выше локтя, а три другие — у кисти.
Единственный перстень с лазурным скарабеем поблескивал на пальце левой руки.
Черные как ночь волосы, выбиваясь из-под шлема, спускались ниже колен.
Благодаря усилиям тех, кто бальзамировал мертвую, тело почти не было тронуто тлением. Лишь веки опали в пустых глазницах, с утончившихся рук сползли, не удержавшись на привычных местах, золотые обручи, перстень соскользнул с усохшего пальца, и стянутая кожа на щеках и груди приобрела свинцовый оттенок и сухость пергамента.
Исаак некоторое время разглядывал мумию, склонившись над саркофагом. Затем, пожав плечами, он пробормотал:
— Вот этой горстке праха Антоний пожертвовал властью над миром!
Сомнение посетило его: вернув красоту и жизнь этому слабому созданию, осуществит ли он свой великий замысел? Ведь он собирался бороться с богом!
Но почти тотчас бессмертный странник отбросил все колебания.
— Будь что будет, — пробормотал он, — попытаем судьбу.
И он связал концы нитей, что дали ему парки.
По мертвому телу пробежала дрожь.
Исаак невольно отшатнулся.
И в неверном лунном сиянии, казалось созданном для таких святотатств, произошло чудо.
Сухая, потемневшая кожа мумии потеплела и вновь стала упругой, ее тон изменился: она посветлела и стала прозрачной. Каждый мускул снова обрел утраченную форму, руки округлились, пальцы вернули себе былую гибкость, ступни побелели, и на них проступили розовые прожилки, волосы стали пушистыми и пошли волнами, словно и они ожили, на висках вновь забились жилки, а на шее и груди стала видна сеть голубоватых вен. Наконец губы, неподвижно сжатые вот уже целый век, приоткрылись в чуть слышном вздохе.
Исаак простер над ней руку:
— Живи! Встань и говори! — произнес он.
Женщина медленно, как бы непроизвольно, еще не приходя в сознание, приподнялась; некоторое время она неподвижно сидела на своем каменном ложе, потом открыла глаза, привычным движением нащупала рукой зеркало, поднесла к лицу и со сладостным вздохом прошептала:
— Ах! Хвала Юпитеру! Я все еще хороша.
Затем, оглядевшись, воскликнула:
— Ира, причеши меня! Хармиона, где Антоний?
Но тут, обводя глазами залу, прекрасная царица Египта встретила взгляд Исаака.
Она вскрикнула и спустила ногу, желая выбраться из гробницы.
— Царица Египетская, — промолвил иудей, — незачем звать Иру, Хармиону или Антония: все трое мертвы. Уже более века они покоятся в своих гробах. Посмотри, на каком ложе ты сама спала!
Клеопатра перегнулась, чтобы бросить взгляд вниз, на внешнюю сторону того, что служило ей ложем еще несколько минут назад. Крик ужаса вырвался у царицы: она поняла, что это саркофаг.
Но тут же, обернувшись к Исааку, она спросила:
— Кто ты и зачем разбудил меня? Я так хорошо и глубоко спала!
— Клеопатра, обратись к своим воспоминаниям, — бесстрастно произнес Исаак. — А потом уж я отвечу, кто я и почему пришел разбудить тебя.
Клеопатра подобрала под себя правую ногу, оперлась локтем в колено, уронила голову на руку и стала одно за другим перебирать воспоминания, вглядываясь в неясные тени вековой давности, возвращавшиеся к ней после столь долгого забытья.
— Ах да! — наконец проговорила она. — Все так, и я начинаю что-то припоминать.
Затем, неподвижно уставившись в пространство, словно бы листая день за днем книгу своего прошлого, она промолвила:
— Мы дали сражение при Акции. Не вынеся вида раненых, умирающих и убитых, я бежала, уведя свои галеры… Антоний последовал за мной. Мы возвратились в Египет, надеясь спастись, но армия нам изменила… Тогда, решившись умереть, я испытала на рабах множество ядов, чтобы узнать, какая смерть легче прочих. А тем временем Октавиан высадился, Антоний отправился против него и вернулся смертельно раненным и побежденным. Я затворилась в этой гробнице, но Октавиан решил вырвать меня отсюда и выставить на всеобщее обозрение среди пленных во время собственного триумфа… Тогда какой-то крестьянин по моей просьбе принес мне аспида в корзине со смоквами. Отвратительная змея подняла над корзиной свою плоскую черную голову, я приблизила к ней грудь, она бросилась на меня и ужалила… Я почувствовала сильную боль… вскрикнула… кровавая пелена встала перед глазами. Мне показалось, что небесный свод лег мне на грудь — и я умерла!..
Но тут Клеопатра подняла голову, встрепенулась и вопросила иудея голосом и взглядом одновременно:
— Сколько же лет протекло с тех пор?
— Сто лет, — ответил тот.
— Сто лет! — в смятении вскрикнула царица. — А что сталось с миром за эти сто лет?
— Мир потерял четырех императоров и обрел одного бога.
— Что за императоры, какой бог? — настойчиво добивалась египетская красавица.
— Первый из императоров — Октавиан… Его ты знаешь, и я воздержусь он подробных описаний. Второй — Тиберий, его пасынок, чей гений заключался в непреходящем чувстве страха. Двадцать три года он истреблял римлян медленно и неуклонно: то были самые неторопливые из жерновов, что перетирают в прах целые народы. Третьим стал Калигула, внучатый племянник Тиберия. Этот сумасшедший возвел свою лошадь в консульское достоинство, потребовал, чтобы его дочери, умершей в двухлетнем возрасте, воздавались почести как божеству, и запомнился великолепным изречением: "Хорошо, если бы у римской империи была всего лишь одна голова, чтобы единым махом отсечь ее!" Наконец, четвертый, Клавдий, дядя Калигулы — человек не в себе: ритор, поэт, философ, грамматик, адвокат, судья… — все что угодно, кроме императора. Он умер, поев ядовитых грибов, приготовленных его женой Агриппиной. А что касается бога, — продолжал Исаак, помрачнев, — здесь все гораздо сложнее. Слушай повнимательнее, Клеопатра, ведь я оживил тебя для того, чтобы ты мне помогла сразиться с ним.
— Я слушаю, — заверила его владычица Египта, и ее лицо принято задумчивое выражение, какого еще минуту назад, глядя на нее, невозможно было бы себе представить.
Исаак же продолжал:
— Ты ведь знала богов, существовавших до сего времени, не так ли? Индийских: Браму, Вишну, Шиву. Египетских, ставших и твоими: Осириса, Исиду, Анубиса. Персидских: Аримана и Ормузда. Финикийских: Молоха, Астарту и Ваала. Греческих: Юпитера, Плутона, Нептуна, Аполлона, Марса, Вулкана, Диану, Минерву, Юнону, Цереру, Кибелу и Венеру. Германских: Одина, Тора и Фрейю. Галльского Тевтата. И наконец, бога моего народа — Иегову. Так вот, однажды из маленького городка в Галилее вышел молодой человек, которого мы до того помнили ребенком, играющим на улицах Иерусалима. Он сказал: "Индийцы, египтяне, персы, финикийцы, греки, германцы, галлы и иудеи! То, во что вы верите, чему вы поклонялись сорок веков, надо отринуть — пора перестать приносить жертвы ложным кумирам! До сих пор ваши боги учили вас убийствам, кровопролитию и кровосмешению, братоубийству, воровству и клятвопреступлению, разврату, поклонению роскоши, ненависти и предательству, а нечестивый мир следовал примеру, подаваемому ложными божествами и идолами. Но нет иного бога, кроме Отца моего, который на небесах. Я послан им на землю, чтобы вместо всех этих преступлений, поощряемых вашими кровавыми божествами, учить вас смирению, самоотвержению, воздержанию, милосердию, состраданию, вере и надежде. Я пришел сказать: "То, что люди до сих пор почитали великим — ничтожно, а что мнили ничтожным — велико". Я явился возвестить: "Богатство — общественная несправедливость, деспотизм — политическое преступление, рабство — социальное зло!"" Так он говорил при Тиберии. Этого бога схватили, привели к римскому прокуратору, осудили как богохульника и бунтовщика и приговорили к казни, применяемой к убийцам. Когда же он проходил мимо моего дома, согнувшись под тяжестью креста, и попросил меня подвинуться и дать ему передохнуть на моей скамье, я оттолкнул его. Тогда он меня проклял и приговорил… угадай, на какую муку он меня обрек? На бессмертие! Затем он побрел своей дорогой до места казни и умер на кресте как последний из разбойников. И тогда я сказал себе: "Если ты бессмертен, Исаак, то возьмись за дело, достойное бессмертного. Тебя проклял бог? Сразись с проклявшим тебя. Он бросил проклятие тебе в лицо? Подбери его, сотвори из него свое оружие и обрушь его на новую неокрепшую религию! Бейся с ней, пока она не рухнет, даже если, обрушившись, она погребет и тебя под своими останками, как был погребен Самсон под руинами храма филистимлян!"… Но когда я принял такое решение, мне понадобился помощник, поддержка, опора. Мужчина в одиночку не справится с этим, ему нужно обладать качествами гения. И я спросил себя, не может ли женщина помочь мне и какой она должна быть, чтобы ее красота, любовь к наслаждениям, чувственность сделали ее изначальной противницей новой религии, религии воздержания, умерщвления плоти и забвения себя. И тут я понял: такая женщина есть. Это бывшая возлюбленная Секста Помпея, Цезаря, Антония.
Это царица Египта, Венера Александрийская. Это — Клеопатра! Но она была мертва. И меня обуяла одна мысль и страсть, одна цель: оживить ее. Но как победить смерть, как вырвать труп у могилы, душу из объятий ада? Мне хвалили индийских мудрецов — я добрался до глухих областей Индии; но мудрецы не смогли мне ничего сказать. Мне расхваливали египетских жрецов — я пересек Египет от Элефантины до Мемфиса, но и там ничего не узнал. Я был наслышан о мудрости греческих философов — я перевидал их всех, и лишь один, последний, сказал мне: "Иди со мной, и спросим у фессалийских колдуний". Однако Канидия была бессильна мне помочь, и Эрихто тоже. Лишь Медея послала меня к Прометею. И я видел его. Титан научил меня, каким путем можно добраться до парок. Я стоял лицом к лицу с сестрами-распорядительница-ми судеб — до меня их видели лишь Геракл и Орфей. И вот с помощью этой золотой ветви я вынудил их отдать мне нить твоей жизни. Я могу по своему желанию соединять и рвать ее, убивать тебя и снова оживлять. Навечно отправить тебя в могилу или сделать бессмертной, подобно мне самому. Что скажешь об этом, Клеопатра? Примешь ли мое предложение или откажешься помочь? Отвергнешь ли мою руку или протянешь свою?
— Останусь ли я всегда красивой? Буду ли всегда молода? Сохраню ли царское достоинство? Власть? Смогу ли всегда любить и быть любимой?
— Ты будешь всегда прекрасной, юной, богатой, властительной. Сможешь, если захочешь, любить и быть любимой. Но красоту, юность, богатство, власть, любовь — все это ты превратишь в оружие против бога, призывающего отречься от плотской любви, власти, богатства, юности и красоты!
— О да! — вскричала Клеопатра, — ибо этот бог — мой враг!
— Тогда, — объявил Исаак, — дай мне руку, за дело, о демон чувственности! За дело!
И он увлек Клеопатру из ее гробницы.
Увидев прекрасное звездное небо в алмазах мерцавших звезд, она вскрикнула от счастья.
Перед открытой дверью склепа застыл сфинкс с поднятой лапой. Когда Исаак проходил мимо, сфинкс уронил лапу, слегка задев его плечо. Иудей обернулся.
— Ну что, мрачный сын пустыни, — спросил он, — ты что-то хотел мне сказать?
— Старый мир умирает, — вздохнул сфинкс.
Медленно подобрав обе лапы, он застыл, вонзив когти в гранитное основание.
— Что он говорит? — спросила Клеопатра.
— Ничего важного, — отвечал Исаак. — Идем!
— Куда мы направляемся?
— В Рим.
— Что будем там делать?
— Подавать советы новому императору…
— Что это за новый император?
— Молодой повелитель, подающий надежды, сын Агенобарба и Агриппины, Луций Домиций Клавдий Нерон… Ты станешь его любовницей, а я — его приближенным. Теперь меня зовут Тигеллин, а тебя — Поппея!.. Так идем же!
Александр Дюма Актея
I
В седьмой день месяца мая, который греки называют таргелион, в году пятьдесят седьмом от Рождества Христова и восемьсот десятом от основания Рима юная девушка лет пятнадцати-шестнадцати, высокая, красивая и быстрая в движениях, словно Диана-охотница, вышла из западных ворот Коринфа и направилась на берег моря. Дойдя до лужайки, спускавшейся от опушки оливковой рощи к ручью, затененному померанцами и олеандрами, она остановилась и принялась собирать цветы. Вначале она колебалась, что ей рвать: фиалки и цветы шпажника, растущие под сенью деревьев Минервы, или же нарциссы и кувшинки, видневшиеся по берегам и на поверхности воды? Наконец она выбрала последние и, прыгнув, словно молодая лань, побежала к ручью.
На берегу она остановилась; от быстрого бега расплелись ее длинные волосы; она встала на колени, погляделась в воду и улыбнулась, увидев себя. И в самом деле, это была одна из прекраснейших дев Ахайи, с полными неги черными глазами, ионическим носом и розовыми, будто коралл, губами; ее тело, крепкое, как мрамор, и гибкое, как тростник, напоминало статую Фидия, оживленную Прометеем. Лишь ступни ног, на вид слишком маленькие, чтобы выдержать вес девушки ее роста, казались несоразмерными; это можно было бы счесть недостатком, если бы кто-нибудь вздумал поставить в вину юному созданию подобное несовершенство. И даже нимфа Пирена, предоставившая ей зеркало своих слез, хоть и женщина, а не смогла лишить себя удовольствия воспроизвести этот образ во всей его прелести и чистоте. После минуты немого созерцания девушка разделила волосы на три пряди; те, что росли у висков, заплела в косы, соединила их на макушке и закрепила венком из олеандров и цветов померанца, который уже успела свить, и, оставив волосы сзади распущенными, словно грива на шлеме Паллады, наклонилась, чтобы утолить жажду, ведь за этим и пришла она на край лужайки; и все же, сколь ни велика была жажда, девушка поддалась другому, еще более сильному желанию — стремлению убедиться, что она по-прежнему прекраснейшая из дочерей Коринфа. И вот живое лицо и отражение постепенно сблизились; можно было подумать, будто две сестры, нимфа и наяда, соединяются в нежном объятии: их губы соприкоснулись среди влаги, поверхность воды дрогнула, легкий бриз, пронесшись в воздухе, словно сладострастное дуновение, осыпал ручей розовым душистым дождем лепестков, и течение понесло их к морю.
Встав, девушка взглянула на залив и на мгновение замерла, захваченная открывшимся ей зрелищем: подгоняемая ветром с Делоса, к берегу приближалась галера с двумя рядами весел, с позолоченной кормой и окрашенными в пурпур парусами. Хотя корабль был еще в четверти мили от берега, с него доносились голоса матросов, певших гимн Нептуну. Девушка узнала фригийский лад, на котором сочинялись священные гимны; однако звуки, доносившиеся до нее, были непохожи на резкие голоса калидонских или кефалленийских рыбаков: хотя ветер рассеивал и приглушал их, они казались столь же искусными и так же ласкали слух, как песни жриц Аполлона. Привлеченная этой мелодией, юная коринфянка встала, сорвала несколько цветущих веток померанца и олеандра, чтобы сплести еще один венок и на обратном пути возложить его в храме Флоры, которой был посвящен месяц май; затем неспешной походкой, выдававшей любопытство и в то же время робость, она пошла к берегу моря, на ходу свивая душистые ветви, сорванные у ручья.
Бирема между тем приближалась к берегу, и теперь девушка могла не только слышать голоса, но и видеть лица поющих; песнь представляла собой моление, обращенное к Нептуну: его вначале исполнял корифей, а затем подхватывал хор, и ритм его был таким мягким и таким гармоничным, что оно вторило мерным движениям гребцов, налегавших на весла, и самих весел, ударявших о воду. Тот, кому отвечал хор, и кто, по-видимому, был хозяином судна, стоят на носу и аккомпанировал себе на трехструнной кифаре, вроде той, с которой ваятели изображают Эвтерпу, покровительницу гармонии; у ног его лежал раб в длинном азиатском одеянии, которое могло принадлежать как мужчине, так и женщине, поэтому девушка на берегу не могла понять, кто это. Поющие гребцы стояли возле своих скамей и хлопали в такт: они благодарили Нептуна за попутный ветер, давший им передышку.
Два столетия тому назад это зрелище привлекло бы внимание разве что ребенка, собирающего раковины на песчаном берегу, теперь же оно вызвало крайнее изумление у юной девушки. Теперешний Коринф уже не был, как во времена Суллы, братом и соперником Афин. В году шестьсот восьмом от основания Рима консул Муммий взял город штурмом, граждане его погибли от меча, женщины и дети были проданы в рабство, дома сожжены, стены разрушены, статуи отправлены в Рим, а картины, за одну из которых Аттал некогда предлагал миллион сестерциев, служили подстилками римским солдатам: однажды Полибий застал их играющими в кости на творении Аристида. Восемьдесят лет спустя Юлий Цезарь выстроил город заново, окружил его стенами, основал в нем римскую колонию, и Коринф снова начал возвращаться к жизни, но до прежнего великолепия было еще далеко. С целью как-то поднять значение города римский проконсул объявил о проведении с десятого мая в Коринфе Немейских, Истмийских и Флоралийских игр, на которых он должен был увенчать победителей — самого могучего атлета, самого умелого возницу и самого искусного певца. По этой причине вот уже несколько дней разноплеменная толпа чужестранцев стекалась в столицу Ахайи, привлеченная либо простым любопытством, либо желанием завоевать награды; это обстоятельство на короткое время вернуло обескровленному, ограбленному городу былой блеск и оживление. Одни прибывали на колесницах, другие — верхом, третьи приплывали на нанятых или выстроенных ими судах; но никто из них не входил в гавань на столь богато украшенном судне, как то, что в эту минуту коснулось берега, который некогда оспаривали друг у друга влюбленные в него Аполлон и Нептун.
Как только бирему вытащили на песок, матросы приставили к ее носовой части лесенку из лимонного дерева, выложенную серебром и бронзой, и певец, перекинув кифару за спину, сошел на берег, опираясь на раба, до этого лежавшего у его ног. Первый из них был красивый молодой человек лет двадцати семи — двадцати восьми, белокурый, голубоглазый, с золотистой бородой; одет он был в пурпурную тунику и синюю хламиду, расшитую золотыми звездами; на шее у него был повязан шарф, концы которого свешивались до пояса. Другой казался лет на десять моложе: это был отрок на пороге юности; походка его была медленной, весь облик — болезненным и печальным, и все же свежесть его щек вызвала бы зависть у самой цветущей женщины; его розовая прозрачная кожа тонкостью могла бы поспорить с кожей самых сладострастных дев изнеженных Афин, а его белая пухлая рука по своим очертаниям и своей слабости, казалось, была предназначена скорее крутить веретено или держать иглу, чем носить меч или дротик, как подобает мужчине и воину. Как мы уже сказали, он был в белом одеянии, длиною до колен, расшитом золотыми пальмовыми ветвями; его длинные волосы ниспадали на обнаженные плечи, а на шее висело на золотой цепочке маленькое зеркало в оправе из жемчужин.
В то мгновение, когда он собирался ступить на землю, спутник резко остановил его. Юноша вздрогнул.
— Что случилось, господин? — спросил он тихо и боязливо.
— А то, что ты собирался ступить на берег левой ногой, и эта твоя неосторожность могла свести на нет все мои расчеты, благодаря которым мы прибыли сюда в девятый день нон, а это доброе предзнаменование.
— Ты прав, господин, — ответил юноша, ступив на берег правой ногой; его спутник сделал то же самое.
— Чужестранец, — сказала старшему из путешественников дева (она слышала их слова, произнесенные на ионийском наречии), — земля Греции, какой ногой на нее ни ступишь, благоприятствует всякому, кто прибывает на нее с дружескими намерениями: это земля любви, поэзии и сражений; у нее есть венки для влюбленных, для поэтов и для воинов. Кем бы ты ни был, чужестранец, прими этот венок в ожидании того, другого, за которым ты, как видно, сюда явился.
Молодой человек без колебаний принял и надел венок, что дала ему коринфянка.
— Боги благосклонны к нам! — воскликнул он. — Взгляни, Спор, вот померанец, яблоня Гесперид: его золотые плоды даровали победу Гиппомену, замедлив бег Аталанты, а вот олеандр, дерево, любимое Аполлоном. Как зовут тебя, славная пророчица?
— Меня зовут Актея, — покраснев, ответила девушка.
— Актея! — воскликнул старший из путешественников. — Слышишь, Спор? Вот новое предзнаменование: Актея означает "берег". Значит, земля Коринфа ждала меня, чтобы наградить венком.
— Что же тут удивительного, Луций? Разве это не назначено тебе судьбой? — ответил юноша.
— Насколько я понимаю, — робко вмешалась девушка, — ты прибыл сюда, чтобы оспаривать одну из наград, обещанных победителям римским проконсулом?
— Помимо красоты, боги наделили тебя даром ясновидения, — отозвался Луций.
— Должно быть, у тебя есть родственники в городе?
— Вся моя семья находится в Риме.
— Ну тогда, быть может, какие-нибудь друзья?
— Мой единственный друг стоит перед тобой, и он, как и я, чужой в Коринфе.
— Но есть ли у тебя здесь хотя бы знакомые?
— Никого.
— У нас большой дом, и мой отец любит гостей, — продолжала девушка. — Быть может, Луций удостоит нас своим посещением? Мы будем молить Кастора и Поллукса быть к нему благосклонными…
— А ты, девушка, не их ли сестра, не Елена? — улыбаясь, перебил ее Луций. — Рассказывают, будто она любила купаться в источнике где-то неподалеку отсюда. Как видно, этот источник обладал чудесным свойством — продлевать жизнь и сохранять красоту. Наверно, Венера открыла эту тайну Парису, а Парис доверил ее тебе. Если это так, прекрасная Актея, отведи меня к этому источнику: повстречав тебя однажды, я теперь хочу жить вечно, чтобы видеть тебя всегда.
— Увы! Я не богиня, — отвечала Актея, — и ключ Елены не обладает такой чудесной силой, но, как ты правильно сказал, он недалеко отсюда: гляди, всего в нескольких шагах он низвергается со скалы в море.
— Значит, этот храм возле источника посвящен Нептуну?
— Да, и эта сосновая аллея ведет к стадиону. Говорят, прежде здесь перед каждым деревом стояла статуя. Но Муммий забрал их, и они навсегда покинули мою родину, чтобы отправиться на твою. Пойдем по этой аллее, Луций, — улыбаясь, продолжала девушка, — она ведет к дому моего отца.
— Что ты думаешь об этом предложении, Спор? — спросил молодой человек, перейдя с греческого языка на латинский.
— Что твоя счастливая судьба не давала тебе оснований сомневаться в ее постоянстве.
— Ну что ж, доверимся ей и на этот раз, ведь никогда еще она не являлась в таком влекущем и чарующем облике.
Затем, снова перейдя на ионийское наречие, на котором он говорил необычайно чисто и правильно, Луций сказал:
— Веди нас, девушка, ибо мы готовы следовать за тобой; а ты, Спор, прикажи Либику присматривать за Фебой.
Актея пошла впереди, в то время как юноша, выполняя приказ своего господина, поднимался на корабль. Дойдя до стадиона, она остановилась:
— Взгляни, — сказала она Луцию, — вот гимнасий. Он уже полностью подготовлен, даже пол посыпан песком, ведь игры начнутся послезавтра, и начнутся с состязания борцов. Справа, на том берегу ручья, в конце сосновой аллеи, — ипподром. Как ты знаешь, второй день игр будет посвящен гонкам колесниц. И наконец, вон там, на склоне холма, ближе к крепости, находится театр, где будут состязаться певцы. Какой из трех венков будет оспаривать Луций?
— Все три, Актея.
— Ты честолюбив, чужестранец.
— Число три любезно богам, — заметил Спор, успевший присоединиться к своему спутнику, и путешественники, ведомые прекрасной коринфянкой, продолжали свой путь.
Недалеко от города Луций остановился.
— Что это за источник? — спросил он. — И что это за разбитые барельефы? Мне кажется, они восходят к временам наивысшего расцвета Греции.
— Это источник Пирены, — ответила Актея. — Ее дочь была убита Дианой на этом самом месте, и богиня, видя горе матери, превратила Пирену в источник, когда та оплакивала дочь, упав на ее тело. А создателем этих барельефов был Лисипп, ученик Фидия.
— Взгляни, Спор, — восторженно воскликнул молодой человек с лирой, — взгляни, какой великолепный замысел! Какая выразительность! Это сражение Улисса с искателями руки Пенелопы, не правда ли? Посмотри, как правдиво умирает этот раненый, как он корчится, как страдает. Стрела торчит у него прямо под сердцем; попади она чуть выше — и не было бы этих смертных мук. О, ваятель был большой искусник, он знал свое дело. Я прикажу перевезти этот мрамор в Рим или в Неаполь, пускай стоит в моем атрии. Таких предсмертных мук я не видел даже у живых людей.
— Это один из остатков нашего былого великолепия, — сказала Актея, — город высоко ценит его и гордится им; подобно матери, потерявшей прекраснейших детей, он дорожит теми, что остались. Вряд ли ты, Луций, достаточно богат, чтобы купить этот обломок.
— Купить! — ответил Луций с неизъяснимым пренебрежением. — Зачем мне его покупать, если я могу просто взять его? Если я хочу получить этот мрамор, он будет мой, хоть бы весь Коринф был против! (Спор сжал руку своего господина.) Другое дело, — продолжал он, — если прекрасная Актея скажет мне, что она желает, чтобы этот рельеф остался на ее родине.
— Не понимаю, откуда у тебя такая власть, Луций, и столь же трудно понять, откуда она у меня, но все же я благодарна тебе. Оставь нам наши обломки, римлянин, и не довершай дела своих отцов. Они пришли как победители, а ты приходишь как друг. То, что с их стороны было варварством, с твоей было бы кощунством.
— Успокойся, девушка, — ответил Луций. — Я заметил, что в Коринфе есть нечто куда более ценное, чем рельеф Лисиппа, который, в сущности, не более чем мрамор. Когда Парис прибыл в Спарту, он похитил там не статую Минервы или Дианы, но Елену, прекраснейшую из спартанских женщин.
Под горящим взглядом Луция Актея опустила глаза и, продолжая свой путь, вошла в город; оба римлянина последовали за ней.
В эти дни к Коринфу вернулось его былое оживление. Известие об играх, что должны были там состояться, привлекло соискателей наград не только со всей Греции, но также из Сицилии, из Египта и из Азии. В каждом доме уже было по гостю, и двум римлянам было бы крайне затруднительно найти себе пристанище, если бы Меркурий, покровитель путешественников, не послал им навстречу эту гостеприимную юную деву.
Она провела их по городскому рынку, где в тесноте и беспорядке продавалось все: египетские папирусы, льняные ткани, ливийские изделия из слоновой кости, киренские кожи, ладан и мирра из Сирии, карфагенские ковры, сидонские финики, тирский пурпур, фригийские рабы, кони из Селинунта, мечи кельтиберов, галльские кораллы и карбункулы. Затем, продолжая путь, они миновали площадь, где некогда возвышалась статуя Минервы — дивное творение Фидия, которое из уважения к великому ваятелю так и не решились ничем заменить, — свернули на одну из улиц и еще через несколько шагов остановились перед стариком, стоявшим на пороге своего дома.
— Отец, — сказала Актея, — вот гость, которого посылает нам Юпитер. Я встретила его, когда он сходил с корабля, и предложила ему остановиться у нас.
— Добро пожаловать, златобородый юноша, — сказал в ответ Амикл и, одной рукой отворяя дверь, протянул другую Луцию.
II
На следующий день после того, как дверь Амикла открылась для Луция, молодой римлянин, Актея и ее отец возлежали в триклинии за празднично накрытым столом и готовились бросить жребий, кому быть царем пира. Старик и девушка хотели уступить эту честь гостю; но он, то ли из суеверия, то ли из почтения к ним, отказался от венка, и тогда хозяева велели принести тали. Первым рожок взял старик, у него получился "бросок Геркулеса". Затем бросила кости Актея: у нее получился "бросок колесницы". Наконец настал через молодого римлянина. Он взял рожок с видимым беспокойством, долго встряхивал его, дрожащей рукой опрокинул над столом и вскрикнул от радости — это был "бросок Венеры", лучший из возможных.
— Видишь, Спор, — воскликнул он по-латински, — видишь, боги несомненно благоволят к нам, и Юпитер не забыл, что род наш восходит к нему: бросок Геркулеса, бросок колесницы и бросок Венеры — можно ли вообразить более удачное сочетание для того, кто хочет состязаться в борьбе, гонках и в пении, да и потом — в худшем случае — разве последний бросок не сулит мне двойную победу?
— Ты родился в счастливый день, — ответил юноша, — и солнце коснулось тебя перед тем, как ты коснулся земли: и в этот раз, как и во все предыдущие, ты победишь всех соперников.
— Увы! Было время, — вздохнув, сказал по-латински старик, — было время, когда Греция могла бы предложить противников, достойных оспаривать у тебя победу; но где те дни, когда Милон Кротонский на Пифийских играх был награжден шестью венками, когда афинянин Алкивиад выставил на Олимпийских играх семь колесниц и завоевал четыре награды? Вместе со свободой Греция утратила ловкость и силу, и Рим начиная с Цицерона посылал к нам своих сынов, чтобы отнимать у нас все наши награды; так пусть Юпитер, от которого, как ты похваляешься, пошел твой род, покровительствует тебе, молодой человек! Ибо после чести увидеть, как победа достанется одному из моих сограждан, самое большое удовольствие для меня — увидеть, как ее удостоится мой гость; принеси же венки из цветов, дочь моя, пока у нас нет лавровых.
Актея вышла и вскоре вернулась с венком из мирта и шафрана для Луция, венком из сельдерея и плюща для отца и венком из лилий и роз для себя. Кроме того, один из молодых рабов принес другие венки, побольше, и пирующие надели их себе на шею. Актея разместилась на ложе справа, Луций занят консульское место, а старик, стоя между дочерью и гостем, совершил возлияние и произнес молитву богам, затем в свою очередь возлег на ложе, говоря молодому римлянину:
— Как видишь, сын мой, мы не отступили от установленных правил, ибо число сотрапезников, если верить одному из наших поэтов, должно быть не менее числа граций, но и не должно превосходить число муз. Рабы, подавайте кушанья первой перемены!
Принесли нагруженный блюдами поднос; рабы стали поблизости, готовые повиноваться первому же знаку пирующих. Спор улегся у ног хозяина, чтобы тот мог вытирать руки о его длинные волосы, а сциссор[21] приступил к своим обязанностям.
Когда принесли вторую перемену блюд и аппетит сотрапезников был отчасти утолен, старик остановил взор на госте и со старческим благодушием некоторое время разглядывал прекрасное лицо Луция, кому белокурые волосы и золотистая борода придавали необычайное выражение.
— Ты прибыл из Рима? — спросил он.
— Да, отец мой, — ответил молодой человек.
— Из самого Рима?
— Я сел на корабль в гавани Остии.
— Боги по-прежнему хранят божественного императора и его мать?
— По-прежнему.
— Не готовится ли Цезарь выступить в поход?
— Сейчас нет такого народа, который бы восстал. Цезарь, властитель мира, дал миру покой, при котором расцветут искусства: он затворил врата в храме Януса и взял в руки лиру, чтобы воспеть хвалу богам.
— А он не боится, что, пока он поет, царствовать будут другие?
— А! — нахмурился Луций. — Так, значит, и в Греции поговаривают о том, что император — дитя?
— Нет, но люди боятся, что он еще долго будет медлить со своим превращением в мужчину.
— Я думал, что он надел тогу совершеннолетнего на похоронах Британика.
— Британик давно уже был приговорен к смерти Агриппиной.
— Да, но убил его Цезарь, я могу поручиться за это, верно ведь, Спор?
Юноша поднял голову и улыбнулся.
— Он убил брата! — воскликнула Актея.
— Он воздал смертью сыну за смерть, уготованную матерью ему самому. Если ты об этом не знаешь, девушка, спроси отца, он, как видно, слыхал об этих делах: Мессалина послала солдата убить Нерона в колыбели, и солдат уже хотел нанести удар, как вдруг из постели ребенка выползли две змеи и обратили центуриона в бегство. Нет, нет, высокочтимый, успокойся, Нерон не дурак, как Клавдий, не безумец, как Калигула, не трус, как Тиберий, и не гистрион, как Август.
— Сын мой, — ужаснулся старик, — послушай себя, ты же оскорбляешь богов!
— Клянусь Геркулесом, до чего смешны боги! — воскликнул Луций. — Ну, разве не забавен бог Октавиан, который боялся жары и холода, боялся грома и явился из Аполлонии к старым легионам Цезаря, хромая, точно Вулкан! Вот так бог, чья рука была столь слаба, что порой не могла удержать перо; он прожил свой век, так и не осмелившись хоть раз по-настоящему быть императором, и перед смертью спросил, хорошо ли он сыграл свою роль! Разве не забавен бог Тиберий с его капрейским Олимпом, откуда он не смел высунуться и где сидел точно пират на бросившем якорь корабле, между Фрасиллом, заботившимся о его душе, и Хариклом, управлявшим его телом! Тиберий, кто правил миром и не мог простереть над ним крылья, словно орел, а вместо этого забился в расселину скалы, точно филин! Разве не забавен бог Калигула, кто от выпитого зелья помрачился в уме: он считал себя столь же великим, как Ксеркс, оттого что выстроил мост из Путеол в Байи, и столь же могущественным, как Юпитер, оттого что изображал грозу, катаясь в бронзовой колеснице по медному мосту; он, кто называл себя женихом Луны и кого Херея и Сабин двадцатью ударами меча послали справлять свадьбу на небо! Разве не забавен бог Клавдий, кого однажды искали на троне, а нашли за ковром; раб и игрушка четырех жен, самолично подписавший брачный договор своей супруги Мессалины со своим же вольноотпущенником Силием! Потешный бог, у кого при каждом шаге подгибались колени, при каждом слове шла пена изо рта, у кого запинался язык и тряслась голова! Ай да бог — жил, всеми презираемый, не умея внушать страх, и умер, поев грибов, собранных Галотом, очищенных Агриппиной и приправленных Локустой! О! Что и говорить, замечательные боги, и как же величественно должны они выглядеть на Олимпе рядом с Геркулесом, несущим палицу, рядом с возницей Кастором и кифаредом Аполлоном!
После этой неожиданной и кощунственной выходки Луция на несколько мгновений наступило молчание. Амикл и Актея с удивлением смотрели на гостя, и прерванная беседа еще не успела возобновиться, когда вошел раб и сообщил, что явился посланный от проконсула Гнея Лентула. Старик спросил, к кому прибыл посланный: к хозяину или к его гостю. Раб отвечал, что это ему неизвестно, и ликтора ввели в дом.
Он прибыл к гостю: проконсул узнал, что в гавань вошел корабль, понял, что владелец корабля собирается оспаривать награды, и приказывал ему явиться во дворец префекта, чтобы внести свое имя в список состязателей и заявить, какой из венков он будет оспаривать. Старик и Актея встали, слушая приказы проконсула; Луций же выслушал их, возлежа на пиршественном ложе.
Когда ликтор умолк, Луций вытащил из-за пазухи таблички слоновой кости, покрытые воском, на одной из них нацарапал острием стилета несколько строк, припечатал табличку своим перстнем и отдал ее ликтору, приказав отнести ответ Лентулу. Удивленный ликтор колебался; Луций повелительно взмахнул рукой; солдат поклонился и вышел. Тогда Луций щелкнул пальцами, подзывая раба, протянул свой кубок виночерпию, наполнившему его, выпил часть вина за здоровье хозяина дома и его дочери, а остаток отдал Спору.
— Молодой человек, — сказал старик, первым нарушив молчание, — ты называешь себя римлянином, но мне трудно в это поверить; если бы ты жил в императорской столице, то лучше умел бы выполнять приказы представителей Цезаря: проконсул здесь столь же всевластен и столь же чтим, как Клавдий Нерон в Риме.
— Разве ты забыл, что в начале трапезы боги на время сделали меня равным императору, избрав царем пира? Видел ты когда-нибудь, чтобы царь спускался с трона и повиновался приказам проконсула?
— Так ты отказался повиноваться? — с ужасом спросила Актея.
— Нет, но я написал Лентулу, что, если ему так хочется узнать мое имя, узнать с какой целью я прибыл в Коринф, то он может прийти и сам спросить об этом.
— И ты думаешь, он придет? — воскликнул старик.
— Не сомневаюсь, — ответил Луций.
— Сюда, в мой дом?
— Прислушайся, — сказал Луций.
— А что?
— Вот он стучится в дверь: я узнаю звук фасций. Вели отворить, отец мой, и оставь нас одних.
Старик и его дочь в изумлении встали и сами пошли к двери; Луций остался лежать.
Он не ошибся: это действительно был сам Лентул. Взмокшее от пота лицо свидетельствовало о том, с какой поспешностью он явился на приглашение чужестранца; он торопливо и взволнованно спросил, где благородный Луций, и когда ему указали комнату, снял тогу и вошел в триклиний, закрыв за собой дверь, у которой тут же стали на страже ликторы.
Никто не узнал, что произошло во время этого свидания. Проконсул удалился не ранее чем через четверть часа; Луций вышел в перистиль и присоединился к прогуливающимся там Амиклу и Актее. Его лицо было спокойным и приветливым.
— Отец мой, — сказал он, — вечер сегодня прекрасный, не хочешь ли проводить твоего гостя к крепости, откуда, говорят, открывается великолепный вид? Кроме того, я очень желал бы убедиться, что приказ Цезаря выполнен: ведь он, узнав, что игры будут проводиться в Коринфе, отправил сюда древнюю статую Венеры, дабы она благоприятствовала римлянам, что прибудут сюда состязаться с вами за венки.
— Увы, сын мой, — ответил Амикл, — я уже слишком стар, чтобы служить проводником, но у нас есть Актея, легконогая, словно нимфа, она и проводит тебя.
— Благодарю, отец мой, я не попросил об этом одолжении из страха, что Венера позавидует красоте твоей дочери и в отместку навредит мне; но раз ты сам мне это предлагаешь, то я наберусь духу и соглашусь.
Актея залилась румянцем, улыбнулась и по знаку отца побежала за покрывалом. Вернулась она закутанная столь же тщательно, как добродетельная римская матрона.
— Принесла ли сестра моя обет богам или, быть может, она — о чем я и не догадывался — жрица Минервы, Дианы или Весты? — спросил Луций.
— Нет, сын мой, — сказал старик, взяв его за руку и отведя в сторону. — Но ты, наверно, знаешь, что Коринф — город гетер: в память о том, что их заступничество спасло город от нашествия Ксеркса, мы запечатлели их на картине, подобно тому, как афиняне написали портреты своих полководцев после Марафонской битвы. С тех пор мы так боимся остаться без них, что покупаем их в Византии, на островах Архипелага и даже в Сицилии. Их узнают по открытому лицу и открытой груди. Не беспокойся, Актея вовсе не жрица Минервы, Дианы или Весты; однако она боится, как бы ее не приняли за служительницу Венеры, — и он добавил погромче: — Идите, дети мои; когда взойдете на вершину холма, ты, Актея, покажешь гостю памятные места и расскажешь о славном прошлом Греции, свидетелями которого они были. Единственное благо, какое остается рабу и какое не могут отнять у него хозяева, — это память о временах, когда он был свободен.
Луций и Актея отправились в путь; вскоре они достигли северных городских ворот и пошли по дороге, ведущей к крепости. С птичьего полета крепость казалась близко — едва ли в пятистах шагах от города, однако дорога так петляла, что им понадобилось не менее часа, чтобы ее пройти. В пути Актея останавливалась дважды: первый раз — чтобы показать Луцию могилу детей Медеи; второй раз — чтобы он увидел место, где некогда Беллерофонт получил в дар от Минервы коня Пегаса. Наконец они дошли до крепости, и перед входом в стоящий у крепости храм Луций увидел знакомую ему статую Венеры, всю увешанную блистающим оружием; справа от нее — статую Амура, а слева — статую Солнца, бога, которого первым стали почитать в Коринфе. Луций простерся ниц и вознес молитву.
Почтив богов, Луций и Актея пошли по тропинке, пересекавшей священную рощу и вела на вершину холма. Вечер выдался великолепный, небо было безоблачно, а море спокойно. Коринфянка шла впереди и казалась Венерой, ведущей Энея по дороге в Карфаген; Луций шел позади, вдыхая воздух, напоенный благоуханием ее волос. Время от времени она оборачивалась и, поскольку, выйдя из города, она сдвинула покрывало на плечи, горящий взор римлянина не мог оторваться от прелестного лица, которому ходьба придала живости, и груди, которая высоко вздымалась под легким покровом туники. По мере того как они поднимались, расстилавшийся перед ними вид становился все пространнее. Наконец, добравшись до самой высокой точки холма, Актея остановилась под шелковицей и прислонилась к ее стволу, чтобы перевести дыхание.
— Вот мы и пришли, — сказала она Луцию. — Что ты скажешь об этом виде? Не правда ли, он не уступает тому, что открывается из Неаполя?
Римлянин не ответил; он подошел к ней, обхватил рукой толстую ветвь шелковицы и, вместо того чтобы взглянуть на открывшийся перед ним вид, устремил на Актею глаза, горевшие такой страстью, что девушка, чувствуя, как краснеет, поспешила заговорить, чтобы скрыть волнение.
— Погляди туда, на восток, — продолжала она, — и, хотя уже начинаются сумерки, вон там ты увидишь крепость Афин, похожую на белую точку, и Сунийский мыс, что вырисовывается на лазури волн будто наконечник копья; ближе к нам, в Саронийском заливе, вон тот остров в виде подковы — это Саламин, где сражался Эсхил и где Ксеркс потерпел поражение; там, внизу, ближе к югу в направлении Коринфа и приблизительно в двух сотнях стадиев отсюда, — Немея и лес, где Геракл убил льва, чью шкуру он потом носил в память о своей победе; там, вдали, у подножия горной цепи, замыкающей горизонт — Эпидавр, любезный Эскулапу; за Эпидавром — Аргос, родина царя царей. На западе, в потоках золота от заходящего солнца, за плодородными равнинами Сикиона, за голубой полоской моря, на небосклоне виднеются, словно два завитка дыма, Сама и Итака — видишь их? А теперь повернись спиной к Коринфу и погляди на север: справа от нас — гора Киферон, где бросили на погибель новорожденного Эдипа; налево — Левктры, где Эпаминонд разбил лакедемонян; прямо напротив нас — Платеи, где Аристид и Павсаний победили персов; а там, посредине и на оконечности горной цепи, тянущейся от Аттики до Этолии, — Геликон, заросший соснами, миртами и лаврами, и Парнас с его двумя заснеженными вершинами, а между ними бьет Кастальский ключ, получивший от муз способность наделять поэтическим даром тех, кто пьет его воду.
— Да, — сказал Луций, — твоя страна — край великих воспоминаний; прискорбно, что не все его дети хранят эти воспоминания столь же благоговейно, как ты; но утешься: если Греция уже не царица мира по силе, то она все еще остается ею по красоте, и эта царственная власть — самая кроткая и самая могущественная из всех.
Актея поднесла руку к покрывалу, но Луций удержал ее. Коринфянка вздрогнула, но все же не решилась отнять руку: будто пелена застлала ей глаза, и, чувствуя, что колени у нее слабеют, она оперлась о ствол шелковицы.
Был тот восхитительный час, когда день угас, а ночь еще не наступила; сумерки, разлившиеся по всей восточной части горизонта, объяли Архипелаг и Аттику; а с противоположной стороны пламенеющие волны Ионического моря и золотые облака на небе, казалось, отделяло друг от друга лишь солнце — подобное громадному раскаленному щиту, вышедшему из кузнечного горна, оно погрузило в воду нижний край. Город еще гудел вдалеке словно улей; но на равнине и в горах все звуки постепенно затихали; порой со стороны Киферона доносилась пронзительная песня пастуха или с Саронийского или Крисейского залива долетал крик матроса, тащившего свою лодку на берег. В траве запели ночные насекомые, а тысячи светляков в теплом вечернем воздухе сияли, как искры в невидимом очаге. Чувствовалось, что природа, утомленная дневными трудами, понемногу погружается в сон и что через несколько мгновений все вокруг умолкнет, дабы не нарушать ее сладостного покоя.
Охваченные благоговейным чувством, Луций и Актея хранили молчание, как вдруг со стороны Лехеи раздался звук настолько странный, что девушка вздрогнула. А римлянин живо повернул голову, и взгляд его упал на видневшуюся возле берега бирему, подобную золотой раковине. Ощутив какой-то бессознательный страх, девушка выпрямилась и хотела было направиться к городу, но Луций остановил ее. Она безмолвно повиновалась и, словно побежденная какой-то высшей силой, оперлась о дерево или, точнее, о руку Луция, незаметно обвившуюся вокруг ее талии, запрокинула голову и, полузакрыв глаза, полуоткрыв рот, устремила взгляд на небо. Луций залюбовался прелестной позой девушки, а она, хоть и чувствовала на себе страстный взгляд римлянина, не в силах была уклониться от этого взгляда, как вдруг тот же звук, более близ-15*кий и еще более устрашающий, снова разнесся в теплом и тихом воздухе и пробудил Актею от ее забытья.
— Бежим, Луций! — в ужасе воскликнула она. — Бежим отсюда! По горам бродит какой-то хищный зверь, бежим скорей! Стоит только пройти священную рощу — и мы будем в храме Венеры или в крепости. Идем же, Луций, идем!
Луций улыбнулся.
— Чего боится Актея, если она рядом со мной? — сказал он. — Что до меня, то ради Актеи я готов был бы сразиться со всеми чудовищами, которых победили Тесей, Геркулес и Кадм.
— А знаешь ты, что это за звук? — дрожа, спросила Актея.
— Да, — улыбаясь, ответил Луций, — это ревет тигр.
— О Юпитер! — воскликнула Актея, бросаясь в объятия римлянина. — Юпитер, спаси нас!
В самом деле, рев раздался в третий раз, еще ближе и еще ужаснее, чем прежде. Луций ответил на него почти похожим воплем. И в то же мгновение из священной рощи огромными прыжками выскочила тигрица и остановилась, приподнявшись на задних лапах, будто не зная, куда дальше идти; Луций как-то по особому свистнул — тигрица бросилась вперед, одним прыжком перелетая через кусты мирта, каменного дуба и олеандра, как собака перепрыгивает через вереск, и с радостным ревом приблизилась к нему. Тут Луций ощутил, как юная коринфянка всей тяжестью повисла на его руке: она не держалась на ногах, бесчувственная и полумертвая от страха.
Когда Актея пришла в себя, она покоилась в объятиях Луция, а тигрица лежала у их ног, ласково положив на колени хозяина свою страшную голову со сверкающими как рубины глазами. Девушка было приподнялась, но, увидев это зрелище, снова бросилась в объятия возлюбленного, отчасти от страха, отчасти от стыда: рука ее протянулась к поясу, развязанному и отброшенному на несколько шагов от нее.
Луций заметил этот запоздалый жест целомудрия; он снял с шеи тигрицы массивный золотой ошейник, с которого еще свисало звено от порванной цепи, и застегнул его на тонкой и гибкой талии своей юной подруги; затем подобрал пояс, украдкой развязанный им незадолго до этого, одним его концом обвив шею тигрицы, а другой вложил в дрожащие пальцы Актеи. После этого оба встали и молча направились вниз, к городу; Актея одной рукой опиралась на плечо Луция, а другой вела на поводке тигрицу, недавно внушавшую ей такой страх, а теперь укрощенную и покорную.
У городских ворот они встретили раба-нубийца, которому было велено надзирать за тигрицей Фебой: он отправился вслед за ней и потерял ее из виду в тот миг, когда она почуяла след хозяина и бросилась по направлению к крепости. Завидев Луция, он стал на колени и склонил голову, ожидая заслуженного им, как он думал, наказания. Но в этот миг Луций был слишком счастлив, чтобы обойтись с рабом жестоко, и к тому же Актея смотрела на него, умоляюще сложив руки.
— Встань, Либик, — сказал римлянин. — На этот раз я тебя прощаю; но впредь получше смотри за Фебой: из-за тебя эта прелестная нимфа так испугалась, что подумала, будто умрет от страха. Итак, моя Ариадна, передай тигрицу ее сторожу. Я велю запрячь пару таких зверей в колесницу из золота и слоновой кости и в ней повезу тебя по городу, среди толпы, и та будет поклоняться тебе как богине. Ну хватит, Феба, довольно. Прощай…
Но тигрица не желала уходить просто так: она встала перед хозяином на задние лапы, положила передние ему на плечи и стала лизать его с ласковым ворчанием.
— Да, да, — вполголоса сказал Луций, — ты благородный зверь. Когда мы вернемся в Рим, я отдам тебе на съедение прекрасную рабыню-христианку с двумя детьми. Иди, Феба, иди.
Тигрица повиновалась так, словно поняла это жестокое обещание, и пошла за Либиком, но при этом раз двадцать обернулась вслед хозяину; только когда Луций и бледная, дрожащая Актея исчезли за городскими воротами, она решилась безропотно войти в золоченую клетку, служившую ей жилищем на борту корабля.
В вестибюле дома Амикла Луция ждал раб-кубикуларий, чтобы отвести гостя в его комнату. Молодой римлянин пожал руку Актеи и удалился, предшествуемый рабом со светильником в руках. А юная коринфянка по своей привычке направилась к отцу, чтобы поцеловать его в лоб. Тот, видя, как бледно и взволнованно ее лицо, спросил, что за страх терзает ее душу.
Тогда она рассказала, как напугала ее Феба и как этот страшный зверь повиновался каждому знаку Луция.
На мгновение старик задумался, затем с тревогой спросил:
— Что же это за человек, который играет с тиграми, приказывает проконсулам и хулит богов?
Актея приблизила бледные и похолодевшие губы ко лбу отца, но едва коснулась ими его седых волос. Она удалилась в свою комнату и в полной растерянности, не зная, случилось ли все это во сне или наяву, стала ощупывать себя, дабы убедиться, что она не спит. Тогда она почувствовала под рукой золотой обруч, заменивший ее девичий пояс, и, подойдя к светильнику, прочла на ошейнике слова, так точно отвечавшие ее мыслям: "Я принадлежу Луцию".
III
Всю ночь совершались жертвоприношения; храмы были украшены гирляндами цветов, как во время больших государственных праздников. Сразу по окончании священнодействия толпа, несмотря на ранний час, устремилась к гимнасию — настолько всем не терпелось увидеть игры, напоминавшие о прежних, прекрасных днях Греции.
Амикл был избран одним из восьми судей, и отведенное ему место судьи находилось напротив места римского проконсула, поэтому он явился к самому началу игр. У дверей он встретил Спора; тот пришел к своему хозяину, однако стражи не впустили его: увидев белое лицо, нежные руки и вялую походку, они приняли его за женщину. А согласно древнему закону, недавно введенному снова, всякая женщина, дерзнувшая присутствовать на состязаниях по бегу и борьбе, где атлеты выступали обнаженными, должна была быть сброшена со скалы. Старик поручился за Спора, и после этой заминки юноша пошел искать хозяина.
Гимнасий был похож на улей: не только ступеньки, на которых теснились рано прибывшие зрители, но и все пространство ристалища было заполнено людьми; вомитории, казалось, были загорожены рядами голов как стенами. На крыше стояла шеренга зрителей, поддерживавших друг друга; единственной опорой им служили установленные через каждые десять шагов позолоченные балки; на них был натянут вел арий; и все же великое множество других еще гудело, словно пчелиный рой, перед дверьми громадного здания, вместившего в себя не только все население Коринфа, но еще и посланцев всего мира, прибывших на эти праздники. Что касается женщин, то издали было видно, как они стоят у дверей и на городской стене, ожидая, когда будет объявлено имя победителя.
Как только Амикл занял свое место и судьи, таким образом, оказались в полном составе, проконсул встал и именем Цезаря Нерона, императора Рима и владыки мира, объявил игры открытыми; ответом на его слова были громкие крики и шумные рукоплескания; затем все взоры обратились к портику, где находились борцы. Семь молодых атлетов вышли оттуда и приблизились к трибуне проконсула. Лишь двое из них были родом из Коринфа; среди пяти остальных был один фиванец, один сиракузец, один сибарит и двое римлян.
Коринфские борцы были братья-близнецы; они шли обнявшись, в одинаковых туниках и были настолько схожи ростом, лицом и сложением, что цирк загремел от рукоплесканий при виде этих двух Менехмов. Фиванец был молодой пастух; однажды, когда он пас стада у подножия Киферона, с горы спустился медведь, и безоружный юноша, не испугавшись, схватился врукопашную со страшным противником и в борьбе задушил его. В память об этой победе он накинул на плечи шкуру побежденного зверя; медвежья голова заменяла ему шлем, а оскаленные белые клыки ярче выделяли смуглость его лица, опаленного солнцем.
Сиракузец сумел дать не менее впечатляющее доказательство своей силы. Однажды, в то время как его соотечественники совершали жертвоприношение Юпитеру, недорезанный жертвенный бык, увенчанный цветами и украшенный лентами, бросился в самую гущу толпы и уже успел раздавить нескольких человек, когда сиракузец схватил его за рога, подняв один и нагнув другой, свалил его на бок и подмял под себя, словно побежденного атлета на арене, и держал так, пока какой-то солдат не вонзил в горло быка свой меч.
Что касается молодого сибарита, то он долгое время не подозревал своей собственной силы, пока не узнал о ней благодаря столь же неожиданному случаю. Он и его друзья возлежали на обитых пурпуром ложах за пиршественным столом, когда послышались крики: по улице неслась колесница, влекомая понёсшими конями, и вот-вот могла разбиться об угол дома; в этой колеснице находилась его возлюбленная; он выпрыгнул из окна и схватился за задок колесницы. От внезапной остановки кони стали на дыбы; один из них повалился на землю, а возлюбленная сибарита упала прямо к нему в объятия — бесчувственная, но невредимая.
Из двух же римлян один по своему основному занятию был атлетом, известным громкими победами, другим был Луций.
Судьи положили в урну семь бюллетеней. Два были помечены буквой Л, два — буквой В, еще два — буквой С и последний — буквой D. Таким образом, жребий должен был определить три пары для поединка, а седьмому атлету предстояло помериться силами с победителями. Проконсул собственноручно смешал бюллетени, затем семеро борцов приблизились, каждый взял себе один и вручил председателю игр; тот развернул бюллетени один за другим и сложил попарно. Случаю угодно было, чтобы оба коринфянина получили букву А, буква В досталась фиванцу и сиракузцу, у сибарита и атлета-римлянина оказалась буква С, а букву D получил Луций.
Атлеты, не знавшие еще, в каком порядке им будет назначено бороться, все разделись, кроме Луция: ему надлежало выйти на ристалище последним; он по-прежнему стоял завернувшись в плащ. Проконсул вызвал двух атлетов на букву А; оба брата сразу же выбежали из тени портика и оказались друг перед другом, лицом к лицу, и у обоих вырвался изумленный крик, на который собравшиеся отвечали рокотом удивления; на мгновение братья замерли в нерешительности. Но это длилось не дольше чем вспышка молнии, а затем они кинулись в объятия друг друга; весь амфитеатр загремел единодушными рукоплесканиями, и два красавца-атлета, услышав эту дань уважения братской любви, улыбнулись, отступили в сторону, чтобы дать место другим состязающимся, и, подобные Кастору и Поллуксу, взялись за руки: из актеров, которыми эти коринфяне собирались быть, они превратились в зрителей.
Таким образом, те, что должны были быть вторыми по жребию, оказались первыми; и вот фиванец и сиракузец в свою очередь выступили вперед; победивший медведя и укротивший быка смерили друг друга взглядом и затем ринулись в бой. На какое-то время их сплетенные, слитые воедино тела стали похожи на узловатый, бесформенный древесный ствол, причудливо изогнутый природой; он вдруг покатился по земле, как будто удар молнии отсек его от корней. Несколько секунд ничего нельзя было разглядеть среди тучи поднявшейся пыли; шансы обоих противников казались равны, настолько быстро каждый из них оказывался то наверху, то внизу; наконец фиванцу все же удалось упереть свое колено в грудь сиракузца, и, обхватив горло противника двумя руками, словно железным кольцом, он сжал его так сильно, что тот вынужден был поднять руку в знак того, что признает себя побежденным. Единодушные рукоплескания, приветствовавшие развязку первого поединка, показывали всю любовь греков к этому зрелищу: трижды смолкал и трижды возобновлялся шум аплодисментов, пока победитель шел к ложе проконсула, а его посрамленный противник вернулся под сень портика, откуда сразу же вышла следующая пара борцов: сибарит и атлет-римлянин.
Примечательное зрелище представляли собой эти двое, когда они сбросили одежды и рабы стали натирать их маслом: совершенно различные по своему облику, они представляли два самых прекрасных типа античности — Геркулеса и Антиноя. Первого напоминал атлет с его короткими волосами, смуглыми, мускулистыми руками и ногами; на второго походил сибарит с длинными, волнистыми, завивающимися в кольца волосами и округлыми линиями белого тела. Греки, великие ценители физической красоты, истовые ревнители формы, мастера, умеющие добиться совершенства во всем, не удержались от шепота восхищения, и оба противника подняли голову выше. Их горделивые взоры скрестились, словно две молнии, и, не дождавшись окончания этого предварительного ритуала, оба одновременно вырвались из рук рабов и двинулись навстречу друг другу.
Когда между ними осталось три-четыре шага, они снова внимательно оглядели друг друга, и каждый, по-видимому, понял, что перед ним достойный противник, так как в глазах у одного вспыхнула настороженность, а в глазах другого — хитрость. Наконец они одновременно, одним и тем же движением схватили друг друга за руки у плеча, прижались друг к другу лбами, как два дерущихся быка; каждый хотел показать свою силу, заставив соперника попятиться. Но оба не двинулись с места и стояли неподвижно; их можно было бы принять за две статуи, если бы не постепенное, все более усиливающееся напряжение мышц: казалось, они вот-вот разорвутся. После минуты такой неподвижности оба отпрянули назад, встряхивая влажными от обильного пота головами, шумно дыша, как ныряльщики, поднявшиеся на поверхность воды.
Передышка была недолгой; противники снова продолжили борьбу и на этот раз применили захват. Но сибарит, то ли плохо знакомый с этими приемами, то ли уверенный в своей силе, дал противнику преимущество, позволив обхватить себя под мышками; римлянин сразу же приподнял его и оторвал от земли. Однако при этом он согнулся под тяжестью противника и, пошатываясь, сделал три шага назад; в это время сибариту удалось ногой коснуться земли, силы вернулись к нему, и римлянин, уже терявший равновесие, упал и оказался внизу под противником. Но едва зрители успели увидеть его на земле, как он со сверхъестественной силой и ловкостью сумел встать на ноги, так что сибарит поднялся вторым.
Ни победителя, ни побежденного здесь не было, поэтому соперники продолжили борьбу столь же ожесточенно и в глубокой тишине. Казалось, тридцать тысяч зрителей окаменели и слились с камнем ступенек, на которых они сидели. Только изредка, когда фортуна благоволила к тому или к другому из соперников, из груди зрителей вырывался недолгий приглушенный рокот и по толпе проходило легкое движение, как по рядам колосьев, волнуемых ветром. Наконец соперники во второй раз потеряли равновесие, рухнули и покатились по арене, но теперь сверху оказался римлянин; его преимущество осталось бы незначительным, если бы к силе он не присоединил все ухищрения своего искусства. Благодаря им он сумел удержать сибарита в том невыгодном положении, из которого недавно так быстро освободился сам. Как змея, удавливающая свою добычу и ломающая ей кости перед тем как сожрать ее, он обвил ногами и руками ноги и руки соперника с такой ловкостью, что тот не в состоянии был пошевелиться, и сумел заставить его коснуться земли затылком, что в глазах судей означало признать себя побежденным. Раздались громкие крики, послышались шумные рукоплескания, отчасти заслуженно предназначавшиеся побежденному сибариту. Он был так недалек от победы, что никто бы и не подумал считать его поражение позором, поэтому он медленно удалился под сень портика без краски стыда и без смущения: он лишился венка, только и всего.
Итак, определились два победителя, и Луцию, еще не участвовавшему в состязании, предстояло теперь бороться с обоими. Все взоры обратились к молодому римлянину: все это время он стоял, прислонясь к колонне и завернувшись в свой плащ, спокойно и бесстрастно наблюдая за борьбой. Только сейчас все обратили внимание на его нежное, почти женственное лицо, длинные светлые волосы и узкую золотистую бородку, окаймлявшую щеки и подбородок. И каждый улыбнулся, видя, какой слабый состязатель вознамерился безрассудно оспаривать награду у могучего фиванца и искусного атлета. Луций услышал ропот, пробежавший по рядам, и понял настроение зрителей; нимало не обеспокоенный этим выражением чувств и не намеренный как-то отвечать на него, он сделал несколько шагов вперед и сбросил плащ. Тогда все увидели, что эта голова Аполлона сидит на крепкой шее и могучих плечах и — что еще более странно — все его тело, белизной кожи могущее поспорить с белотелыми девами-черкешенками, было усеяно темными пятнами, подобными тем, что испещряют рыжий мех пантеры. Фиванец беспечно поглядел на своего нового противника; атлет же, явно удивленный, отступил на несколько шагов. На арену вышел Спор и вылил на плечи хозяина флакон благовонного масла, а затем растер по всему телу куском пурпурной ткани.
Первым должен был бороться фиванец; он шагнул навстречу Луцию, выражая нетерпение: приготовления противника затянулись; однако Луций властным движением поднял руку, давая понять, что он еще не готов, и тут все услышали голос проконсула, сказавшего: "Жди". Между тем молодой римлянин растерся маслом, и теперь ему оставалось только броситься на пыльную арену, как обычно делают все; вместо этого он стал на одно колено, и Спор высыпал ему на плечи мешочек песка, который был собран на берегах Хрисорроэса и в котором попадались крупинки золота. Покончив с этим, Луций встал и развел руки в стороны в знак того, что он готов начать борьбу.
Фиванец простодушно двинулся к Луцию, а тот спокойно ожидал его; но едва только шершавые руки противника коснулись плеча Луция, как в глазах у того сверкнули грозные молнии и он издал крик, подобный рычанию зверя. В то же мгновение он опустился на одно колено и своими мощными руками обхватил пастуха пониже ребер и выше бедер; затем, как бы свив руки в узел за спиной противника, притиснул его животом к своей груди и внезапно встал, удерживая гиганта в тисках своих рук. Это было проделано так быстро и с такой ловкостью, что у фиванца не было ни времени, ни сил сопротивляться и он оторвался от земли; голова его возвышалась над головой противника, а руки, которым не за что было ухватиться, били по воздуху. И греки как будто вновь увидели борьбу Геракла с Антеем; фиванец уперся ладонями в плечи Луция и, изо всех сил напрягая руки, попытался разомкнуть ужасное кольцо, задыхаясь в нем, но его усилия были тщетны; напрасно он в свою очередь обвил ногами, словно двумя змеями, бедра противника: на этот раз Лаокоон поборол змея. Чем отчаяннее фиванец пытался высвободиться, тем сильней, казалось, Луций затягивал цепь, которой сдавил его; не трогаясь с места, как будто совершенно неподвижный, приникнув головой к груди противника, словно он прислушивался к его стесненному дыханию, сжимая все крепче, как если бы его мощь должна была перейти пределы человеческих сил, он держался так несколько минут; а в это время у фиванца проявились очевидные и нарастающие признаки агонии. Вначале смертный пот выступил у него на лице и потек на тело, увлажнив покрывавшую его пыль; затем лицо побагровело, из груди вырвался хрип, ноги отделились от тела соперника, руки и голова запрокинулись назад, и наконец из носа и ушей хлынула кровь. Тогда Луций разжал руки, и бесчувственный фиванец грузно упал к его ногам.
Ни единый радостный крик, ни единое рукоплескание не приветствовали эту победу. Подавленная толпа осталась тиха и нема. Однако придраться тут было не к чему: борьба проходила по правилам, удары не наносились, Луций победил в открытом и честном единоборстве. И зрители были захвачены зрелищем, хотя и не выражали этого в приветственных возгласах. Поэтому, как только рабы унесли все еще бесчувственного фиванца, толпа, проводив его взглядом, обратила свое внимание на атлета-римлянина, победившего во второй схватке: его сила и ловкость делали его грозным соперником Луция. Но собравшиеся странным образом обманулись в своих ожиданиях, ибо в то мгновение, когда Луций стал готовиться к борьбе, атлет с почтительным видом приблизился к нему и, преклонив колено, поднял руку в знак того, что признает себя побежденным;
Луций, казалось, отнесся к этому поступку и к знаку почтения без малейшего удивления; в самом деле, не протянув руки атлету, не подумав помочь ему подняться, он обвел взглядом стадион, как бы спрашивая у изумленной толпы, найдется ли в ней кто-нибудь, кто осмелился бы оспаривать у него победу. Но никто не подал знака, никто не вымолвил слова, и в этой глубокой тишине Луций подошел к ложе проконсула, протянувшего ему венок, и только тогда раздались жидкие рукоплескания, но в тех, кто выразил таким образом свое одобрение, нетрудно было узнать матросов с корабля, на котором приплыл Луций.
А между тем чувство, овладевшее толпой, вовсе не было неприязнью к молодому римлянину: зрителей охватил своего рода суеверный страх. Эта сверхъестественная сила в сочетании с нежной молодостью заставляла вспомнить чудесные подвиги героических эпох; у каждого с уст готовы были сорваться имена Тесея и Пирифоя, и, хотя никто не выразил свою мысль вслух, все почти поверили, что видят перед собой полубога. А почтительное поведение римского атлета, заранее признавшего себя побежденным, публичное самоуничижение раба перед хозяином укрепили эту веру. И потому, когда победитель покинул цирк, одной рукой опираясь на руку Амикла, другую уронив на плечо Спора, толпа зрителей шла за ним до самых дверей — тесная, любопытствующая толпа, но в то же время столь тихая и боязливая, что всякому это напомнило бы скорее похороны, чем триумф победителя.
Девушки и женщины, коим не дозволялось присутствовать на состязаниях, с ветвями лавра в руках ожидали победителя у городских ворот. Напрасно взгляд Луция искал Актею: стыдливость ли, страх ли были тут причиной, но ее не было среди подруг. Тогда он ускорил шаг, надеясь, что юная коринфянка ждет его у двери, открытой ею перед ним накануне; он перешел площадь, которую переходил с нею, и свернул на улицу, по которой она вела его вчера; но на гостеприимной двери не было ни венка, ни цветочной гирлянды. Луций, поспешно переступив порог, бросился в вестибюл, опередив старика; вестибул был пуст, но через открытую дверь в сад он увидел Актею, коленопреклоненную перед статуей Дианы, столь же бледную и неподвижную, как мрамор, который она обнимала. Он тихонько подошел к ней сзади и возложил ей на голову свой венок победителя. Актея вскрикнула, живо обернулась к Луцию, и горящий страстью горделивый взор римлянина еще более красноречиво, чем скатившийся к ногам венок, возвестил ей, что ее гость завевал первую из трех наград, которые намеревался оспаривать у Греции.
IV
На следующий день, уже с утра, весь Коринф, казалось, снова облачился в праздничные одежды. Ристания колесниц были хоть и не самым древним, но наиболее торжественным видом состязаний; они проводились в присутствии изображений богов; ночью изображения доставляли в храм Юпитера у Лехейских ворот, то есть в восточной части Коринфа, а днем их надо было нести через весь город в цирк, находившийся на противоположном склоне горы, откуда открывался вид на крисейскую гавань. В десять часов утра, что соответствовало четырем часам дня по римскому отсчету времени, процессия двинулась в путь. Первым ехал на колеснице проконсул Лентул в одеянии триумфатора; за ним следовал отряд юношей четырнадцати и пятнадцати лет — сыновей всадников — на великолепных конях, украшенных алыми с золотом чепраками; далее — возницы, притязавшие на сегодняшнюю награду, а во главе их на колеснице, отделанной золотом и слоновой костью, ехал Луций, вчерашний победитель, в зеленой тунике, с пурпурными вожжами в руках, правивший квадригой великолепных белых коней. Но на голове у него не было венка за победу в борьбе: на ней блистал лучезарный обруч, подобный тому, что живописцы рисуют на челе Солнца, и, чтобы довершить это сходство с божеством, его бороду посыпали золотым порошком. За ним ехал юный грек из Фессалии, одетый в желтую тунику, горделивый и прекрасный, словно Ахилл; в его бронзовую колесницу была впряжена четверка вороных коней. Из двух других состязателей один был афинянин, утверждавший, что он потомок Алки-виада, второй — смуглокожий сириец. Афинянин был одет в синюю тунику, его длинные надушенные черные волосы развевались по ветру; на сирийце было просторное белое одеяние, перехваченное в талии персидским поясом, голова у него, как у сынов Измаила, была повязана белым тюрбаном, сияющим, словно снег на вершине Синая.
Затем, предваряя изваяния богов, шествовали арфисты и флейтисты, одетые сатирами и силенами; среди них шли жрецы низшего ранга, служившие двенадцати великим богам; они несли лари и сосуды, наполненные благовониями, а также золотые и серебряные курильницы, в которых дымились драгоценнейшие ароматы. И замыкали шествие крытые носилки, запряженные великолепными конями и сопровождаемые всадниками и патрициями; в носилках стояли или лежали изваяния богов. Этой процессии предстояло пересечь почти весь город; она двигалась между двумя рядами домов, фасады которых были украшены картинами и статуями или увешаны драпировками. Поравнявшись с домом Амикла, Луций повернул голову, надеясь увидеть Актею, и заметил, как из-под края пурпурного полотнища, вывешенного на фасаде, робко выглядывает зарумянившаяся от смущения девушка; на голове у нее был венок — тот, что накануне он уронил к ее ногам. Захваченная врасплох, Актея опустила драпировку и скрылась от взгляда Луция; но через ткань, скрывавшую ее, она услышала, что молодой римлянин обратился к ней:
— Встречай меня на обратном пути, прекрасная моя хозяйка, и я поменяю твой оливковый венок на золотой!
В полдень процессия достигла цирка. Это было громадное здание, длиной в две тысячи ступней и шириной в восемьсот. Цирк был разделен пополам стеной высотой в шесть ступней, тянувшейся во всю его длину, если не считать двух широких проемов у обоих концов стены, где могли проехать четыре колесницы. Верх стены, называвшейся "спина", на всем протяжении был украшен алтарями, миниатюрными храмами, и пустыми пьедесталами — на них по случаю этого торжества должны были водрузить статуи богов. Вдоль одной стороны цирка располагались карцери, или конюшни, вдоль другой — трибуны для зрителей; у обоих концов спины находились по три столба, расположенные треугольником: их во время скачек нужно было объехать семь раз.
Как можно было увидеть, возницы оделись в цвета различных партий, в то время существовавших в Риме. Поскольку крупные ставки обычно делались заранее, побившиеся об заклад зрители явились одетыми в цвета тех возниц, что вызывали наибольшее расположение своей приветливой наружностью, породистыми конями или прошлыми победами. Поэтому на ступенях цирка было множество зрителей, привлеченных не только общей для всех любовью к ристаниям, но прямо заинтересованных в победе своих фаворитов. Даже многие женщины присоединились к различным партиям: на них были пояса и покрывала тех же цветов, что и одежды четырех возниц. И вот, когда послышался шум приближавшейся процессии, по толпе, словно электрическая искра, пробежала волна необычного возбуждения: человеческое море забурлило, головы вздымались, как живые и шумливые морские валы, и как только двери цирка отворились, на небольшое пространство, до сих пор остававшееся свободным, хлынул поток зрителей, бившийся, словно прибой, о стены каменного колосса. Едва ли четвертой части любопытных, сопровождавших процессию, удалось прорваться внутрь, а вся остальная толпа была оттеснена назад охраной проконсуда. Тогда люди стали забираться на все возвышенности, откуда виден был цирк, влезали на деревья, цеплялись за зубцы крепостных стен, живыми гирляндами повисали на террасах ближайших домов.
Как только все заняли свои места, главная дверь цирка отворилась и появился Лентул; нетерпеливый гомон ожидания сразу же стих, сменившись изумленным молчанием. То ли желая выразить доверие Луцию, уже победившему вчера, то ли желая угодить божественному императору Клавдию Нерону, покровительствовавшему партии "зеленых" в Риме и соизволившему вступить в нее, проконсул вместо пурпурной туники надел зеленую. Он медленно объехал цирк по кругу, а за ним везли изображения богов, все еще предшествуемые музыкантами. Музыка стихла лишь в то мгновение, когда изображения были уложены на пульвинары или водружены на пьедесталы; Лентул дал знак начинать, бросив на середину цирка лоскут белой шерсти. В ту же минуту на арену выехал вестник в одежде Меркурия, на неоседланном коне без узды. Не спешиваясь, он нагнулся и подхватил маппу одним из крыльев своего кадуцея, галопом проскакал вокруг внутренней решетки, размахивая лоскутом словно знаменем; доскакав до карцериев, он перебросил маппу и кадуцей через стену, за которой ожидали возницы. По этому сигналу двери карцериев отворились и на арену выехали четыре состязателя.
Свитки с записанными на них именами возниц были брошены в корзину: жребий должен был определить, кому по какой дорожке скакать, чтобы тот, чья дорожка окажется дальше всех от спины, мог пенять лишь на судьбу, заставляющую его проскакать больший круг, чем остальные. Порядок, в каком имена возниц вынимались из корзины, определял номера дорожек.
Проконсул смешал свитки с именами, вытащил и развернул их один за другим: первым, чье имя он огласил, был сириец в белом тюрбане; тот немедленно отъехал и занял дорожку возле спины так, чтобы ось его колесницы была параллельна черте, проведенной мелом на песке. Вторая дорожка досталась афинянину в синей тунике; он занял место возле своего соперника. Третьим оказался фессалиец в желтом одеянии. И последним был Луций: судьба, словно завидуя его вчерашней победе, назначила ему самое невыгодное место. Фессалиец и Луций немедленно заняли дорожки рядом с остальными. Между колесницами прошли молодые рабы; они вплели в гривы коней ленты тех цветов, что и одежда их возниц, а чтобы укрепить отвагу благородных животных, помахали перед их глазами маленькими флажками. А в это время перед квадригами протянули цепь, закрепленную за два кольца, чтобы поставить их на одной линии.
В ожидании начала скачек толпа зашумела: суммы ставок удваивались, предлагались и принимались новые ставки, голоса спорящих сливались в невнятный гомон. Внезапно запела труба, и в одно мгновение все стихло, вставшие с мест зрители уселись снова, и людское море, еще недавно столь бурное, столь шумливое, успокоилось и стало похоже на цветущий склон, пестреющий всеми красками радуги. С последним звуком трубы цепь упала и четыре колесницы помчались во весь опор.
Упряжки пробежали два круга, и в это время соотношение между соперниками оставалось приблизительно таким же, как вначале. Однако сведущие зрители уже успели оценить достоинства лошадей. Сириец едва сдерживал своих скакунов с крупной головой и тонкими сухощавыми ногами, привычных к скитанию по пустыне; он взял их дикими и благодаря своему терпению и мастерству сумел объездить их и приучить к правильному ходу; чувствовалось, что, дай он им волю, они понеслись бы со скоростью самума, который им нередко случалось обгонять на необозримых песчаных равнинах, простирающихся от гор Иудеи до берегов Асфальтового озера. У афинянина были фракийские кони; однако, изнеженный и гордый, словно герой, происхождением от которого он похвалялся, афинянин поручил заботу о воспитании коней своим рабам, и чувствовалось, что его упряжка, повинуясь руке и голосу незнакомого возницы, в трудную минуту может его подвести. Фессалиец, напротив, казалось, был душой своих элидских скакунов: он своей рукой вскормил и выездил их в той же местности, где воспитывал своих коней Ахилл, — между Пенеем и Энипеем. Что же касается Луция, то ему, конечно же, удалось отыскать коней той породы из Мизии, о которых Вергилий рассказывает, что их матерей оплодотворил ветер; хоть ему и пришлось пройти большее расстояние, чем остальным, он без всякого усилия, не придерживая и не погоняя, пустив лошадей галопом, по-видимому их обычным аллюром, не отставал от других и даже был чуть ближе к ним, чем вначале.
На третьем круге выявились истинные или мнимые преимущества участвующих: афинянин на два копья обошел фессалийца, до этого опередившего остальных. Сириец, изо всех сил сдерживавший своих арабских скакунов, дал себя обойти, уверенный, что потом он добьется преимущества. Луций, спокойный и невозмутимый, словно бог, на изваяние которого он походил, как будто присутствовал при каком-то чужом состязании и исход его был ему безразличен, — настолько безмятежным было его улыбающееся лицо, настолько изящна была его поза, отвечавшая строгим правилам мимического искусства.
На четвертом кругу произошел случай, отвлёкший внимание зрителей от остальных состязателей и привлёкший его к Луцию: из рук его выскользнул хлыст, сделанный из шкуры носорога и инкрустированный золотом; Луций преспокойно остановил свою квадригу, спрыгнул на арену, подобрал упавший хлыст, который до сих пор будто бы был ему ни к чему, и, поднявшись снова на колесницу, оказался приблизительно на тридцать шагов позади своих соперников. Все это длилось лишь мгновение, однако это мгновение нанесло страшный удар интересам и надеждам партии "зеленых"; но их испуг исчез так же быстро, как вспышка молнии. Луций наклонился к своим коням и, не прибегнув к хлысту, даже не коснувшись их рукой, только по-особенному свистнул — и тут же они понеслись так, точно у них были крылья Пегаса. Еще до окончания четвертого круга Луций под одобрительные крики и рукоплескания занял свое прежнее место: снова пошел четвертым, с небольшим отрывом от остальных.
На пятом круге афинянин уже не мог справиться со своими бешено несущимися конями; он оставил соперников далеко позади, но это было мнимое преимущество, что понимали и зрители, и, по-видимому, сам возница, то и дело с тревогой оборачивавшийся назад. Решив извлечь всю возможную выгоду из своего положения, он, вместо того чтобы придержать уже усталых лошадей, еще подстегивал их треххвостым бичом, называл их по именам и надеялся, до того как они выдохнутся, уйти так далеко, что отставшие его не догонят. Впрочем, он вполне понимал, как мало у него власти над этой упряжкой, понимал настолько, что, имея возможность приблизиться к спине и сократить себе путь, боялся разбиться о поворотный столб и держался от нее на том же расстоянии, какое назначил ему жребий вначале.
Колесницам осталось пройти два круга, и по волнению зрителей и состязателей чувствовалось, что близится развязка. Зрители из партии "синих", поддерживавшие афинянина, были явно встревожены его преждевременной победой и кричали ему, чтобы он унял лошадей; но лошади принимали эти крики за понукания и мчались еще быстрее. Пот тек с них ручьями, и было ясно, что силы их вскоре иссякнут.
И в эту самую минуту сириец отпустил вожжи, и сыны пустыни, предоставленные самим себе, начали пожирать пространство. Фессалийца на мгновение озадачил этот стремительный бег; но затем он подбодрил своих верных товарищей громким криком и тоже ринулся вперед, словно уносимый вихрем. Луций же ограничился тем, что свистнул коням, как в прошлый раз. Кони, казалось без особых усилий, прибавили ходу, и колесница опять пошла четвертой, с небольшим отрывом от остальных.
Тем временем афинянин заметил, что два соперника, скакавшие по воле жребия справа и слева от него, нагоняют его с быстротой бури; он понят, что ему конец, если он оставит между собой и спиной свободное пространство шириной в колесницу, и вовремя круто свернул к стене, не дав сирийцу приблизиться к ней вплотную; тогда сириец взял вправо, пытаясь проскочить между афинянином и фессалийцем, однако расстояние между двумя колесницами было слишком маленьким. Бросив быстрый взгляд, он заметил, что колесница фессалийца легче и не так прочна, как его собственная, и, мгновенно приняв решение, направил упряжку по косой, поравнялся с фессалийцем, задел колесом о его колесо, сломал ему ось и опрокинул колесницу и возничего на арену.
Хотя маневр был проделан очень искусно, хотя столкновение и последовавшее за ним падение произошли очень быстро, все же это на краткое время задержало сирийца; но вскоре он восстановил свое преимущество. И афинянин увидел, что два соперника, так долго остававшиеся позади, теперь нагоняют его. Он еще не успел пройти последний отрезок шестого витка, как его настигли и почти сразу же обогнали. Теперь победу оспаривали только двое возниц: белый и зеленый, араб и римлянин.
И все стали свидетелями великолепного зрелища: восемь коней бежали так быстро и так ровно, словно были в одной упряжке; пыль окутывала их грозовой тучей, и как из тучи слышится гром и проблескивает молния, так и здесь раздавался грохот колес, и казалось, что среди вихря сверкает пламя, выдыхаемое горячими конями. Все в цирке поднялись с мест; зрители, поставившие на этих возниц, размахивали зелеными и белыми плащами и покрывалами, и даже поставившие на афинянина и фессалийца и надевшие синее и желтое, забыв о своем проигрыше, подбадривали соперников криками и рукоплесканиями. И вот всем уже представлялось, что побеждает сириец: его кони на целую голову опередили коней противника. Но в то же мгновение Луций, будто он только этого и ждал, взмахнув хлыстом, провел кровавую черту на крупах своей четверки. От изумления и боли благородные животные громко заржали. А затем, в едином порыве, летя, как орел, как стрела, как буря, они обогнали сирийца, покрыли оставшееся расстояние и, опередив соперника на пятьдесят шагов, встали у поворота как вкопанные. Семь витков вокруг арены были завершены.
Цирк взорвался криками, в которых звучал восторг, доходивший до неистовства. Этот неизвестный молодой римлянин, вчера победивший в борьбе, а сегодня в ристании, быть может, был Тесей, Кастор или сам Аполлон, решивший еще раз сойти на землю; но в любом случае это был любимец богов; он, между тем, словно такие триумфы были для него привычны, легко соскочил с колесницы на спину и по нескольким ступенькам поднялся на возвышение, где предстал взорам зрителей. Глашатай возвестил о его победе, а проконсул Лентул, спустившись из своей ложи, вручил ему ветвь идумейской пальмы и возложил на голову венок из золотых и серебряных листьев, перевитых пурпурными лентами. А денежный приз — бронзовую вазу, полную золотых монет, Луций вернул проконсулу, попросив от его имени раздать деньги престарелым бедняками и сиротам.
Затем он сделал знак Спору, и тот подбежал к нему, держа в руках голубку, взятую им утром из птичника Актеи. Луций обвязал шею птицы Венеры пурпурной лентой от венка с двумя золотыми листочками и выпустил голубку. Вестница победы быстро полетела в ту часть города, где стоял дом Амикла.
V
Как мы уже отметили, две победы подряд, одержанные Луцием и сопровождавшиеся необычными обстоятельствами, произвели сильное впечатление на зрителей. Некогда Греция была землей, любимой богами. Аполлон, изгнанный с небес, стал пастухом и пас стада фессалийского царя Адмета. Венера, рожденная в морской пучине и влекомая тритонами к ближнему берегу, вышла на сушу у Гелоса. Она сама выбирала места для своих святилищ, и из всех краев земли предпочла Книд, Пафос, Идалий и Киферу. Наконец, жители Аркадии, оспаривая у критян честь быть соотечественниками царя богов, утверждали, что Юпитер родился на Ликейских горах. Пусть их притязание и было необоснованным, однако не вызывало сомнений, что Юпитер, верный светлым воспоминаниям детства, выбирая себе владения, воздвиг трон на вершине Олимпа. И вот благодаря Луцию все эти легендарные события ожили в поэтическом воображении народа, у которого римляне отняли будущее, но не смогли отобрать прошлое. По этой причине певцы, собиравшиеся оспаривать награду у Луция, увидев злополучие тех, кто хотел победить его в борьбе и в ристаниях, отказались от участия в состязании. Все вспомнили о судьбе Марсия, состязавшегося с Аполлоном, и Пиэрид, бросивших вызов музам. Итак, Луций остался единственным из пяти певцов, притязавших на венок; однако проконсул решил, что праздник все же состоится в назначенный день и час.
Тема выступления, выбранная Луцием, вызвала большой интерес у коринфян: это была поэма о Медее, написанная, по слухам, самим императором Цезарем Нероном. Как известно, эта колдунья, которую Ясон похитил, привез в Коринф и там покинул, привела к подножию алтаря двух своих сыновей, оставив их под защитой богов, а сама в это время сгубила соперницу отравленной туникой, наподобие той, что была пропитана кровью Несса. Но коринфяне, возмущенные преступлением матери, вытащили детей из храма и побили их камнями. Это кощунство не осталось безнаказанным, боги отомстили за свое поруганное величие, и всех детей Коринфа поразила тяжкая болезнь. С тех пор минуло более пятнадцати веков, и потомки убийц отрицали преступление, совершенное их предками. Но праздник, ежегодно отмечавшийся в день убийства двух невинных жертв, обычай, предписывавший одевать детей в черное и обривать им до пятилетнего возраста головы в знак покаяния, были веским доказательством того, что страшная правда превозмогла все отпирательства. Легко себе представить, насколько эта тема усилила любопытство зрителей.
Театр в Коринфе был значительно меньше, чем стадион и ипподром: он был рассчитан только на двадцать тысяч зрителей и не мог вместить несметные толпы, стекшиеся в город на игры. Поэтому самым знатным коринфянам и наиболее уважаемым иностранцам раздали небольшие таблички слоновой кости с номерами, соответствовавшими местам на ступеньках театра. У каждого ряда стоял служитель, чьей обязанностью было рассаживать зрителей и следить, чтобы никто не занял чужого места; таким образом, несмотря на то что снаружи напирала толпа, порядок было соблюден.
Чтобы смягчить жгучие лучи майского солнца, над театром натянули громадный веларий — лазурное шелковое полотнище, усеянное золотыми звездами; посредине его в лучезарном круге был изображен император Нерон в одеянии триумфатора и на колеснице, запряженной четверкой. Несмотря на тень, которой покрывало театр это подобие тента, жара в театре была такой сильной, что многие молодые люди держали большие опахала из павлиньих перьев и обмахивали ими женщин, не сидевших, а скорее возлежавших на пурпурных подушках или персидских коврах, заранее принесенных рабами. Среди этих женщин была и Актея; не осмелившись надеть один из венков, преподнесенных ей победителем, она вплела в волосы два золотых листочка, принесенные голубкой. Но вместо молодых и веселых поклонников, окружавших большинство других женщин в театре, рядом с нею был ее отец. На его величаво-прекрасном лице, суровом и в то же время приветливом, ясно читалось, с каким волнением он следил за успехами гостя, как гордился его триумфами. Это он, веря в удачу Луция, уговорил дочь прийти с ним в театр: он не сомневался, что и на этот раз Луций одержит победу.
Приближалось время начала представления, и все зрители были охвачены любопытством и нетерпением, когда вдруг раздался звук, похожий на раскат грома, и на зрителей пролился дождик, увлажнивший воздух и наполнивший его ароматом. Все присутствующие захлопали в ладоши: этот гром, изобретение Клавдия Пульхра[22], производили за сценой два человека, перекатывая камни в бронзовом сосуде, и он служил сигналом к началу представления. А дождик был не что иное, как душистая роса, приготовленная из настоя киликийского шафрана и разбрызгиваемая из статуй, которые возвышались над театром по всей его окружности. Через мгновение занавес раздвинулся и вышел Луций с лирой в руках. Слева от него шел гистрион Парис: ему надлежало сопровождать жестами пение Луция; сзади — хор, предшествуемый хорегом; пением хора управлял флейтист, а за движениями следил мим.
С первых же нот, взятых молодым римлянином, зрителям стало ясно, что перед ними искусный и опытный певец. Ибо, вместо того чтобы сразу приступить к изложению сюжета, Луций предварил его своего рода гаммой, состоящей из двух октав и одной квинты, то есть показал самый большой звуковой объем человеческого голоса, какой был известен со времен Тимофея. Закончив эту прелюдию столь же легко, сколь и безупречно, он приступил к повествованию.
Как мы уже сказали, это была история Медеи, женщины изумительной красоты, колдуньи, чьи чары были могущественны и опасны. Будучи искусным мастером в драматическом искусстве, император Клавдий Цезарь Нерон начал изложение мифа с того момента, когда Ясон на своем прекрасном корабле "Арго" приплывает к берегам Колхиды и встречает Медею, дочь царя Ээта, собирающую цветы. При первых словах песни Актея вздрогнула, ведь именно так и она повстречалась с Луцием. Ведь и она собирала цветы, когда изукрашенная золотом бирема бросила якорь у коринфского берега. А в вопросах Ясона и ответах Медеи она узнала те самые слова, какими она обменялась с молодым римлянином.
В это мгновение, как если бы для выражения столь нежных чувств требовалась особая гармония, Спор, воспользовавшись паузой, которую заполнил хор, принес другую лиру — одиннадцатиструнную для ионийского лада. Это был инструмент, подобный тому, чьи звуки Тимофей когда-то дал услышать лакедемонянам: эфоры сочли их столь пагубно расслабляющими, что заявили, будто певец оскорбил величие древней музыки и сделал попытку развратить юных спартиатов. Следует помнить, однако, что лакедемоняне осудили Тимофея во времена битвы при Эгоспотамах, сделавшей их властителями Афин.
Четыре столетия минуло с тех пор. Спарта была стерта с лица земли, Афины были в рабстве у Рима, Греция была низведена до уровня провинции. Сбылось пророчество Еврипида. И, вместо того чтобы руками палача срезать во исполнение указа четыре струны у лиры-совратительницы, греки приветствовали Луция горячими рукоплесканиями, близкими к неистовству! Что до Актеи, то она слушала песнь онемев и затаив дыхание: ей казалось, что возлюбленный начал рассказывать ее собственную историю.
И в самом деле, Луций, как и Ясон, прибыл, чтобы завладеть ценнейшей наградой, и две первые, увенчавшиеся успехом попытки явно предвещали, что он, как и Ясон, станет победителем. Однако для прославления победы нужда была другая лира, не та, на которой певец восхвалял любовь. Спев о том, как Ясон повстречал Медею в храме Гекаты, как затем он заручился у своей прекрасной возлюбленной помощью ее чародейства и тремя талисманами, что должны были помочь одолеть грозные преграды на пути к золотому руну, Луций оставил прежнюю лиру и взял лидийскую. На этой лире, звуки которой были то низкими, то пронзительными, он начал рассказ о добывании руна. И тогда Актея вздрогнула всем телом: в ее воображении Ясон уже неотделим от Луция — вслед за героем, умащенным соками волшебных трав, делающими тело неуязвимым, она вступает за первую ограду, где перед ним предстают два громадных быка Вулкана с медными рогами и копытами, с огнедышащей пастью. Но едва Ясон дотронулся до них заколдованным бичом, как они безропотно дали впрячь себя в алмазный плуг, и чудо-пахарь взбороздил четыре арпана целинного поля, посвященного Марсу. Потом он преодолевает вторую стену, и Актея следует за ним; едва он появляется там, как из рощи олив и олеандров поднимает голову прячущийся там громадный змей и с шипением бросается на героя. Тут начинается смертельный бой, но Ясон неуязвим: напрасно змей ломает зубы, пытаясь схватить его, напрасно свивается кольцами. Зато Ясон каждым ударом меча наносит ему глубокие раны; теперь уже чудовище пятится, а Ясон нападает; змей спасается бегством, а человек преследует его. Змей вползает в узкую темную пещеру; Ясон, тоже ползком, пробирается туда за ним и вскоре выходит, неся отрубленную голову своего противника. Он возвращается на вспаханное поле и глубокие борозды, прорытые в земле лемехом его плуга, засевает зубами чудовища. И в то же мгновение из волшебной борозды встают живые существа, вооруженное племя. Воины нападают на Ясона; но ему достаточно бросить в них камень, что дала ему Медея: воины тотчас обращают оружие друг против друга и, увлеченные взаимным истреблением, забывают о Ясоне, а ему удается проникнуть за третью стену. Там посреди поляны стоит дерево с серебряным стволом, изумрудными листьями и рубиновым плодами. На ветвях этого дерева висит золотое руно — шкура золотого барана, принадлежавшего Фриксу. Но у Ясона остается последний противник, более грозный и более могучий, нежели те, с которыми он уже сразился: это гигантский дракон с громадными крыльями. Он покрыт алмазной чешуей, делающей его столь же неуязвимым, как и напавший на него Ясон. Поэтому для победы над этим последним врагом требуется совсем иное оружие: золотая чаша, наполненная молоком. Ясон ставит чашу на землю; чудовище пьет молоко, в которое подмешано сонное зелье, и впадает в глубокий сон, а отважный сын Эсона тем временем похищает золотое руно. В этом месте Луций снова берет ионийскую лиру: Медея ждет победителя, и Ясону нужно найти такие покоряющие слова любви, что убедили бы возлюбленную покинуть отца и отечество и уплыть с ним по волнам. В душе Медеи происходит долгая, мучительная борьба, но в конце концов побеждает любовь: дрожащая, полуодетая девушка покидает спящего родителя, но, дойдя до ворот дворца, она ощущает желание еще один, последний раз повидать того, кто дал ей жизнь. Тихонько ступая, затаив дыхание, она входит в покои старца, наклоняется к нему и на его челе, обрамленном сединами, запечатлевает поцелуй вечной разлуки. Раздается надрывный крик, который спящий принимает за сновидение, и Медея спешит в объятия возлюбленного. Он ждет ее в порту и, бесчувственную, относит на корабль — на чудесный корабль, который на верфях Иолка строила сама Минерва и под килем которого стихают послушные волны. Придя в себя, Медея видит, как тают на горизонте родные берега, и понимает, что покинула Азию ради Европы, отца — ради супруга, прошлое — ради будущего.
Эту вторую часть поэмы Луций спел с такой страстью и таким воодушевлением, что все женщины слушали его в сильном волнении, и особенно Актея. Подобно героине поэмы, охваченная сладостной любовной дрожью, с неподвижным взглядом, не произнося ни звука, почти не дыша, она, казалось ей, слушала, как рассказывают ее собственную историю, видела собственную жизнь, свое прошлое и будущее, которые являла ей какая-то волшебная сила. Поэтому в то мгновение, когда Медея касается губами убеленного сединами чела Ээта и из ее страждущего сердца вырывается последнее рыдание умирающей дочерней любви, побледневшая, смятенная Актея прижалась к Амиклу и положила голову на плечо старца. Что касается Луция, то его триумф был полным: если в перерыве после первой части поэмы его наградили бешеными рукоплесканиями, то сейчас раздались восторженные крики и топот. И только он сам, приступив к третьей части своей драмы, смог заставить умолкнуть эти исступленные вопли.
В этот раз он снова сменил лиру: теперь ему предстояло воспеть не девственную любовь, не восторги сладострастия, не триумф воина и влюбленного, но неблагодарность мужчины и ревнивое исступление женщины. Он должен был петь о любви неистовой, бешеной, близкой к безумию, любви мстительной и кровожадной, и лишь дорийский лад способен был выразить все ее страдания и всю ее ярость.
Медея странствует по свету на волшебном корабле; она находит временное убежище у феаков, высаживается на берег в Полке, чтобы выполнить дочерний долг, возвратив молодость отцу Ясона. Наконец она достигает Коринфа, и там возлюбленный покидает ее, чтобы взять в жены Креусу, дочь царя Эпирского. И тогда верная возлюбленная превращается в фурию, одержимую ревностью. Она пропитывает жгучим ядом тунику и посылает ее невесте, которая доверчиво облекается в нее. Царевна погибает в страшных мучениях на глазах у неверного Ясона. А теряющая рассудок от отчаяния Медея, чтобы материнские чувства не могли воскресить в ней память о любви, своей рукой убивает обоих сыновей и улетает прочь на колеснице, запряженной крылатыми драконами.
Такое изложение событий, когда певец, вслед за Еврипидом, обвинил в убийстве детей их собственную мать, льстило гордости коринфян, и потому в театре раздались не просто рукоплескания, а восторженные крики и топот. Слышалось также щелканье кастаньет — этими инструментами зрители выражали крайнюю степень восхищения. И наградой чудесному певцу стал не только венок, врученный проконсулом, а целый дождь цветов и цветочных гирлянд: женщины срывали их с головы и в исступленном восторге бросали на орхестру. В какое-то мгновение казалось даже, что Луций может задохнуться под всеми этими венками, словно Тарпея под щитами сабинских воинов. Тем более что он, неподвижный и с виду безразличный к этому неслыханному триумфу, искал взглядом среди этих женщин ту, ради кого он жаждал победить. Наконец, он заметил ее: почти без чувств, Акгея упала в объятия отца, и из всех коринфских красавиц у нее одной еще были цветы на голове. И тогда он так нежно взглянул на нее, с такой мольбой протянул к ней руки, что она сняла венок, но у нее недоставало сил добросить его до Луция: она просто уронила его посреди орхестры и со слезами снова бросилась в объятия отца.
На рассвете следующего дня по синим волнам Коринфского залива скользила изукрашенная золотом бирема, невесомая и волшебная, словно корабль "Арго". Подобно "Арго", она уносила вдаль новую Медею, изменившую своему отцу и своей стране — это была Актея. Бледная, опираясь на руку Луция, она стояла на кормовом возвышении и словно сквозь туман смотрела, как постепенно удаляются горы Киферона, у подножия которых раскинулся Коринф. Так она стояла неподвижно, не отводя глаз, полуоткрыв рот, пока можно было различить город на вершине холма и крепость, господствующую над городом. А потом, когда город первым исчез за морскими валами, когда крепость, превратившаяся в белую точку, затерянную в пространстве, еще какое-то время покачалась на гребне волн и пропала, подобно нырнувшему алкиону, из груди Актеи вырвался вздох, исчерпавший все силы души, колени ее подогнулись, и она упала без чувств к ногам Луция.
VI
Когда юная беглянка открыла глаза, она увидела, что находится в каюте корабля: у ее ложа сидел Луций и поддерживал ее голову с разметавшимися волосами. А в углу, мирно и кротко, словно газель, спала тигрица, свернувшись в калачик на пурпурном, шитом золотом ковре. Была ночь, и сквозь отверстие в потолке виднелось прекрасное темно-синее небо Ионии, сплошь усеянное звездами. Бирема легко скользила по волнам; ласковое море покачивало эту огромную колыбель, как кормилица качает люльку с ребенком. В уснувшей природе царили такой покой и такая непорочность, что на мгновение Актее показалось, будто все случившееся только приснилось ей и что она все еще почивает под девственным покровом своих отроческих лет. Однако Луций, следивший за каждым ее движением, заметил, что она проснулась. Он щелкнул пальцами — в комнату вошла прекрасная молодая рабыня с горящей восковой палочкой в руке и зажгла от нее золотой светильник, укрепленный на бронзовом канделябре у изножья кровати. С того мгновения как девушка вошла, Актея не сводила с нее глаз и разглядывала ее со все возраставшим вниманием: она, несомненно, видела эту рабыню впервые, однако та не казалась ей вовсе незнакомой. Более того, ее черты пробуждали в памяти какие-то недавние воспоминания. И все же ей не удавалось подобрать какое-нибудь имя к этому юному и задумчивому лицу. В голове у бедной девушки теснилось такое множество разных мыслей, что она, не в силах вынести их напор, снова уронила голову на подушку. Тогда Луций, подумав, что она хочет спать, знаком велел рабыне оберегать ее сон и вышел из каюты. Оставшись наедине с Актеей, рабыня взглянула на нее с невыразимой грустью, затем улеглась на пурпурный ковер, где спала Феба, и положила голову ей на плечо как на подушку. Потревоженная во сне тигрица приоткрыла свирепо сверкнувший глаз, но, узнав дружеское лицо, вместо того чтобы наказать рабыню за такую дерзость, несколько раз лизнула ее нежную руку кончиком ярко-красного языка, а затем опять лениво растянулась на ковре со вздохом, похожим на рычание.
В это мгновение с палубы корабля донеслась чарующая музыка: это был хор, который Актея уже слышала однажды, когда бирема вошла в гавань Коринфа. Но сейчас, в пустынной тишине ночи, он звучал еще волшебнее и еще таинственнее; вскоре вместо стройного созвучия нескольких голосов послышался голос одного певца. Луций пел гимн Нептуну, и Актея узнала звенящие звуки: это на них вчера в театре отозвались самые сокровенные струны ее сердца; пение было столь звонким и благозвучным, что казалось, будто это сирены Палинурского мыса летят над кораблем нового Улисса. Актея, покоренная необоримым очарованием музыки, открыла утомленные глаза и, глядя на звезды над головой, мало-помалу забыла свои сожаления и горести и вся отдалась мыслям о своей любви. Давно уже умолкли последние аккорды лиры и последние переливы голоса певца — они затихали медленно, словно уносились на крыльях гениев воздуха, — а Актея все еще вслушивалась, покоренная чудесной мелодией. Наконец она опустила глаза, и ее взгляд снова встретился с глазами юной рабыни. Казалось, та, подобно хозяйке, тоже была во власти каких-то чар. Когда взгляды обеих женщин скрестились, Актея убедилась окончательно, что эти печальные глаза не впервые охватывают ее своим быстрым лучистым взором. Актея сделала знак — рабыня встала; некоторое время обе безмолвствовали. Затем Актея первая нарушила молчание.
— Как твое имя, девушка? — спросила она.
— Сабина, — ответила рабыня.
При этом слове Актея вздрогнула: голос девушки, как и лицо, не был ей незнаком. Однако само имя не вызывало никаких воспоминаний.
— Где твоя родина? — продолжала расспрашивать она.
— Я покинула ее так рано, что у меня нет родины.
— Кто твой хозяин?
— Вчера я принадлежала Луцию, сегодня принадлежу Актее.
— И давно ты принадлежишь Луцию?
— С тех пор как себя помню.
— Наверно, ты очень предана ему?
— Как дочь отцу.
— Тогда сядь возле меня, и поговорим о нем.
Сабина повиновалась, но с явной неохотой; Актея подумала, что нерешительность девушки вызвана страхом, и взяла ее за руку, желая успокоить. Рука была холодна как мрамор; но хозяйка тянула рабыню к себе, и та, уступив, не села, а скорее упала в кресло, на которое указала Актея.
— Я тебя видела раньше, так ведь? — продолжала Актея.
— Не думаю, — с запинкой ответила рабыня.
— На стадионе, в цирке, в театре?
— Я не сходила на берег.
— И ты не была на состязаниях, не видела побед Луция?
— Я привыкла к его победам.
После этих вопросов, задаваемых со всё возрастающим любопытством, и ответов, произносимых с заметной неохотой, вновь наступило молчание. Недовольство рабыни было так очевидно, что ошибиться Актея не могла.
— Послушай, Сабина, — сказал она, — я вижу, как тяжело тебе менять хозяина: я скажу Луцию, что ты не хочешь его покидать.
— Нет, нет, не надо! — дрожа, воскликнула рабыня. — Когда Луций приказывает, нужно повиноваться.
— Значит, его гнев опасен? — с улыбкой спросила Актея.
— Еще бы! — ответила рабыня с выражением такого ужаса, что Актея невольно вздрогнула.
— Однако, — продолжала она, — те, кто его окружает, как видно, любят его: вот хотя бы юноша Спор…
— Спор… — прошептала рабыня.
Внезапно слова замерли на устах Актеи: она вспомнила, на кого была похожа Сабина. Сходство это было поразительным, и она, удивленная тем, что не заметила этого сразу, схватила девушку за обе руки и, глядя ей в лицо, спросила:
— Ты знаешь Спора?
— Это мой брат, — пролепетала девушка.
— И где он сейчас?
— Он остался в Коринфе.
В это мгновение дверь отворилась и вошел Луций.
Актея, все еще державшая Сабину за обе руки, ощутила, как по телу рабыни прошла ледяная дрожь. Луций окинул эту странную сцену проницательным взглядом своих голубых глаз и после минутного молчания сказал:
— Возлюбленная Актея, не хочешь ли встретить наступающий рассвет и подышать чистым утренним воздухом?
В этом голосе, таком, казалось бы, мягком и спокойном, ощущалось что-то резкое, и если можно так сказать, металлическое; Актея впервые обратила на это внимание, и смутное чувство, похожее на страх, так глубоко проникло в ее душу, что вопрос показался ей приказом, и, вместо того чтобы ответить, она повиновалась. Но у нее не хватило сил исполнить желаемое, она пошатнулась и упала бы, если бы Луций не бросился к ней и не подхватил ее. Она почувствовала, как возлюбленный уносит ее так легко, как орел нес бы голубку, и, вся дрожа от безотчетного страха, причины которого не могла понять, позволила нести себя — безмолвно, закрыв глаза, словно этот путь вел к пропасти.
Оказавшись на палубе корабля, она почувствовала прилив сил: настолько чистым и благоуханным было дуновение бриза, и к тому же она больше не была на руках у Луция. Собравшись с духом, она открыла глаза и увидела, что находится на кормовом возвышении, лежит в гамаке, сплетенном из золотых нитей и привязанном одним концом к мачте, а другим — к маленькой резной колонке, будто нарочно поставленной для этого. Рядом с нею, прислонившись спиной к мачте, стоял Луций.
Ночью корабль с попутным ветром вышел из Коринфского залива и, обогнув Элидский мыс, прошел между Закинфом и Кефалленией; солнце, казалось, вставало позади этих двух островов, и его первые лучи освещали зубцы гор, разделявших их надвое, в то время как с западной стороны горы еще тонули во мраке. Актея не имела никакого представления, где она находилась, поэтому повернулась к Луцию и спросила:
— Это еще Греция?
— Да, — ответил Луций, — и это благоухание, долетающее до нас как прощальный привет, — аромат розовых садов Самы и померанцевых рощ Закинфа: для этих близнецов не существует зимы, и они раскрываются под солнцем, словно две корзины с цветами. Желает ли моя милая Актея, чтобы я построил ей по дворцу на каждом из этих островов?
— Луций, — ответила Актея, — порой ты пугаешь меня, давая такие обещания, что их смог бы выполнить только бессмертный бог. Кто ты такой и что ты скрываешь от меня? Быть может, ты сам Юпитер Громовержец? Тогда, наверно, ты боишься показаться мне во всем божественном величии, чтобы твоя молния не испепелила меня, как случилось с Семелой.
— Ты заблуждаешься, — с улыбкой ответил Луций, — я всего лишь бедный певец: дядя оставил мне все свое состояние с условием, что я буду носить его имя. Единственное мое могущество, Актея, это сила моей любви; но я чувствую, что ее мне хватило бы на двенадцать подвигов Геркулеса.
— Значит, ты любишь меня? — спросила девушка.
— Да, душа моя! — ответил Луций.
Римлянин произнес эти слова с такой пылкостью и такой искренностью, что его возлюбленная воздела руки к небесам, как бы желая поблагодарить их за свое счастье: в эту минуту она забыла обо всем, сожаления и угрызения совести изгладились в ее душе, подобно тому, как скрылась из глаз ее родина, исчезавшая за горизонтом.
Так они плыли шесть дней по синему морю, под синим небом. На седьмой день показались Локры — город, построенный воинами Аякса. Затем, обогнув мыс Геркулеса, они вошли в Сицилийский пролив; слева от них осталась Мессина, прежде называвшаяся Занкла, с гаванью, изогнутой словно серп, а справа — Регий, у которого тиран Дионисий потребовал себе жену и который предложил ему дочь палача. Затем, бесстрашно проплыв между бурлящей Харибдой и лающей Сциллой, они простились с волнами Ионического моря и вошли в Тирренское, освещаемое вулканом Стронгилы, вечным маяком средиземноморских просторов. Так они плыли еще пять дней, то под парусом, то на веслах, и перед ними вставали сначала Элея: возле нее еще можно было разглядеть развалины гробницы Палинура, затем — Пестум с его тремя храмами, Капрея с ее двенадцатью дворцами. И вот, наконец, они вошли в великолепный залив; в глубине его возвышался Неаполис, прекрасный сын Греции, вольноотпущенник Рима, беспечно расположившийся у подножия дымящегося Везувия: справа от него находились Геркуланум, Помпеи и Стабия — двадцать лет спустя им предстояло исчезнуть в лавовой могиле; слева были Путеолы с их огромным портом, Байи, так страшившие Проперция, и Бавлы — их вскоре должно было сделать знаменитыми матереубийство Нерона.
Как только Луций увидел город, он приказал сменить белые паруса своей биремы на пурпурные и украсить мачту веткой лавра; очевидно, это был условный сигнал, возвещавший о победе, потому что, едва укрепили ветку, на берегу возникло оживленное движение — народ устремился навстречу олимпийскому кораблю, вошедшему в гавань под звуки музыки, пение матросов и рукоплескания толпы. Луция ждала колесница, запряженная четверкой белых коней. В пурпурной тоге, накинутой поверх синей, расшитой золотыми звездами хламиды, он поднялся на колесницу; на голову он надел олимпийский венок из оливковых ветвей, а в руке держал пифийский венок из лавра. В городской стене был сделан пролом, и победитель игр вошел в город как завоеватель.
На всем пути Луция ждали подобные празднества и ему воздавались такие же почести. В городе Фунды жил некий шестидесятипятилетний старик, чей род был древнее самого Рима; после африканской войны он был удостоен овации и трех жреческих званий. Этот человек устроил в честь Луция великолепные игры и сам вышел навстречу объявить, что игры посвящаются ему. Такой поступок со стороны столь видного человека произвел, судя по всему, сильное впечатление на свиту Луция, разраставшуюся с каждым днем. Об этом старике рассказывали странные вещи. Когда один из его прадедов совершал жертвоприношение, на жертвенное животное вдруг бросился орел, вырвал у него внутренности и, держа их в клюве, вместе с ними взлетел на ветвь дуба. И было тогда предсказано, что один из потомков этого человека станет императором. Поговаривали, будто старый Гальба и есть этот самый потомок. Однажды он, еще ребенком, пришел вместе со сверстниками приветствовать Октавиана, и тот, внезапно обретя дар прозрения, погладил мальчика по щеке и воскликнул: "И ты, дитя, отведаешь нашей власти!" Ливия так любила его, что завещала ему пятьдесят миллионов сестерциев; однако, поскольку величина дара была обозначена только цифрами, Тиберий сократил его до пятисот тысяч. Возможно, ненависть старого императора, которому было известно о предсказании оракула, на этом бы не остановилась, если бы Фрасилл, его астролог, не сказал бы ему, что Гальбе суждено царствовать лишь в старости. "Пускай живет! — сказал тогда Тиберий, — мне это безразлично". И действительно, Тиберия уже не было в живых, на троне успели побывать Калигула и Клавдий, а сейчас его занимал Цезарь Нерон. Гальбе было шестьдесят пять лет, и ничто не предвещало, что он достигнет высшей власти. И все же, поскольку преемники Тиберия были ближе ко времени, когда должно было свершиться предсказанное событие, и могли отнестись к предсказанию не столь беспечно, Гальба всегда носил на шее подвешенный на цепочке кинжал и не расставался с ним даже ночью. Покидая дом, он всякий раз брал с собой миллион сестерциев золотом, на случай если пришлось бы бежать от ликторов или подкупать наемных убийц.
Победитель гостил у Гальбы два дня; в его честь устраивались празднества и триумфы. И там Актея стала свидетельницей такой предосторожности, которой Луций не принимал никогда прежде и смысла которой она не поняла: солдаты, вышедшие встречать его и сопровождавшие его во время триумфов, ночами бодрствовали в покоях, окружавших его спальню; а кроме того, у ее возлюбленного появилось странное обыкновение перед сном класть меч себе под изголовье. Актея не осмеливалась задавать вопросы, но инстинктивно чувствовала, что ему угрожает какая-то опасность, поэтому каждое утро настойчиво уговаривала его уехать. Наконец, на третий день, он покинул Фунды и, продолжая свой триумфальный путь по городам, куда он вступал сквозь пролом в стене, сопровождаемый свитой, скорее похожей на войско какого-нибудь сатрапа, чем на свиту простого победителя игр, он достиг горы Альбано. Оказавшись на ее вершине, Актея вскрикнула от изумления и восхищения: в конце Аппиевой дороги перед ней предстал Рим во всей его громадности и во всем его великолепии.
И действительно, вид Рима, открывавшийся в эту минуту юной гречанке, был поразительным. Аппиеву дорогу, как самую живописную и самую значительную, называли царицей дорог: взяв начало у Тирренского моря, она преодолевала Апеннинский хребет, пересекала Калабрию и заканчивалась на берегу Адриатики. От Альбано до Рима она служила местом прогулок, и, по обыкновению древних, видевших в смерти лишь обретение покоя и выбирают их для захоронения своего праха самые живописные и посещаемые места, по обеим сторонам дороги возвышались великолепные усыпальницы; среди них выделялась древностью могила Аскания; почиталась также гробница Горациев из-за связанных с ней героических воспоминаний, а мавзолей Цецилии Метеллы поражал царственным великолепием.
В тот день прославленная дорога была полна любопытных, вышедших встречать Луция: одни ехали в роскошных колесницах, запряженных испанскими мулами в украшенной пурпуром сбруе; другие возлежали в носилках, что несли восемь рабов, одетых в пенулы, а рядом бежали скороходы в высоко подобранных одеждах. Одним предшествовали нумидийские всадники, поднимавшие пыль и сгонявшие толпу с дороги; другие пускали впереди свору молосских псов в ошейниках с серебряными гвоздиками. Как только ехавшие первыми завидели победителя, их приветственные крики, перелетая из уст в уста, достигли стен города. В то же мгновение по приказу всадника, галопом взявшего с места, любопытные разместились по обеим сторонам дороги: при ее ширине в тридцать шесть ступней освободившегося пространства было достаточно, чтобы триумфальная квадрига легко могла продолжать свой путь к городу. Примерно в миле от городских ворот ее ожидал конный отряд; пять сотен всадников поскакали во главе шествия. Они не успели продвинуться на пятьдесят шагов, как Актея заметила, что копыта у лошадей подкованы серебром; плохо закрепленные подковы то и дело отваливались и катились по булыжникам дороги, и люди, стремясь подобрать их, в порыве алчности бросались прямо под копыта коней, рискуя быть раздавленными. Добравшись до городских ворот, победная колесница въехала в город под исступленные приветствия громадной толпы. Актея никак не могла понять причин такого восторга и все же поддалась общему опьянению. Она слышала, как в криках толпы, кроме имени Луция, звучало имя Цезаря. Она проезжала под триумфальными арками, по улицам, усыпанным цветами и окропленным благовониями. На всех перекрестках стояли алтари, где жрецы приносили жертвы Ларам отчизны. Она следовала по красивейшим кварталам города, через Большой цирк, в котором сломали три арки, чтобы пропустить квадригу, через Велабр и Форум. Наконец, въехав на Священную дорогу, шествие стало подниматься на Капитолийский холм и остановилось перед храмом Юпитера.
Тогда Луций сошел с колесницы и поднялся по ступенькам, ведущим к храму. Ожидавшие у дверей фламины повели его к подножию статуи Юпитера. Там он возложил на колени божества трофеи своих побед и на табличке массивного золота, поданной ему верховным жрецом, начертал стилетом следующую надпись:
"Луций Домиций Клавдий Нерон, победитель в борьбе, ристаниях и состязании певцов, посвятил эти три венка Юпитеру Благому Величайшему"
Среди бури приветственных возгласов, поднявшихся со всех сторон, прозвучал крик ужаса: Актея поняла, что бедный певец, чьей возлюбленной она стала и с кем покинула родину, был не кто иной, как Цезарь Нерон.
VII
Среди победного ликования император, однако, не забыл об Актее. Юная гречанка еще не успела опомниться от изумления и испуга, которые испытала, узнав имя и титул своего возлюбленного, как к ней приблизились два либурнийских раба и от имени Нерона почтительно предложили ей следовать за ними. Актея машинально повиновалась, не зная, куда ее ведут, и даже не подумав спросить об этом, настолько она была подавлена страшной мыслью о том, что стала возлюбленной человека, чье имя все упоминали не иначе как с ужасом. У подножия Капитолия, между Табуларием и храмом Конкордии она увидела роскошные носилки; их держали шесть египетских рабов, чья грудь была украшена пластинами из полированного серебра в виде полумесяца, ноги и руки — браслетами из того же металла. Рядом с носилками сидела Сабина; во время триумфа Актея на какое-то время потеряла ее из виду, а теперь нашла опять — словно для того, чтобы прибавить к своим воспоминаниям недостающую частицу. Актея села в носилки, раскинулась на шелковых подушках, и носилки двинулись в сторону Палатина. Рядом шла Сабина и защищала свою госпожу от солнца, держа над ней огромное опахало из павлиньих перьев, на длинной ручке из индийского тростника. На протяжении примерно трехсот шагов носилки следовали по Священной дороге тем же путем, которым проследовала Актея в свите Цезаря; затем, повернув направо, рабы пронесли ее между храмами Фебы и Юпитера Статора и поднялись по нескольким ступенькам на Палатин. Оказавшись на красивейшей площадке, венчающей холм, они обогнули ее с той стороны, что нависает над улицей Субура и Новой дорогой. Наконец носилки 16*остановились напротив источника Ютурны, у дверей небольшого уединенного дома. Тут либурнийцы принесли две подножки, обитые пурпурным ковром, и приставили их к носилкам с обеих сторон, чтобы та, кого император назначил им госпожой, не утруждала себя, знаком показывая, с какой стороны она желает сойти на землю.
Актею здесь ждали: при ее приближении дверь отворилась и, стоило ей переступить порог, закрылась снова, хотя она не успела заметить того, кто исполнял обязанности я н и т о р а. Ее сопровождала одна лишь Сабина; решив, по-видимому, что после долгого и утомительного пути хозяйка прежде всего захочет совершить омовение, она провела ее в аподитерий (этим греческим словом обозначалась комната для раздевания). Однако, оказавшись там, Актея, все еще до глубины души взволнованная и озабоченная странной прихотью судьбы, заставившей ее последовать за властителем мира, села на скамью, тянувшуюся кругом всей комнаты, и сделала Сабине знак подождать. Но едва она погрузилась в свои думы, как вдруг, словно невидимый могущественный господин, которого она себе избрала, побоялся, что эти думы захватят ее целиком, раздалась нежная звучная музыка. Нельзя было понять, откуда исходят эти звуки: музыканты разместились так, что вся комната была охвачена гармонией. Должно быть, Нерон заметил, какое сильное воздействие оказывают эти таинственные звуки на юную гречанку (за время путешествия он наблюдал это не один раз), и заранее приказал таким образом отвлекать ее от воспоминаний, стремясь побороть их власть над нею. Если он действительно рассчитывал на это, то не обманулся в своих ожиданиях: едва девушка услышала звуки музыки, она медленно подняла голову, слезы, лившиеся по щекам, иссякли, а последние слезинки, выкатившиеся из ее глаз, на миг повисли на длинных ресницах, как капли росы на тычинках цветка, и, как роса под лучами солнца, казалось, вскоре высохнут в пламенном сиянии взгляда, что они затуманили. В то же время побледневшие губы девушки снова окрасились пурпуром и приоткрылись как для улыбки или для поцелуя.
Тогда Сабина приблизилась к госпоже, а та, вместо того чтобы сопротивляться, сама помогла рабыне снять с себя одежды; одна за другой они упали к ее ногам, оставив ее обнаженной и зарумянившейся, словно целомудренная Венера. Она предстала в блеске такой совершенной и такой непорочной красоты, что даже рабыня, глядя на нее, замерла от восторга. Когда Актея, желая пройти в следующую залу, оперлась рукой на обнаженное плечо Сабины, она почувствовала, как та содрогнулась всем телом, и увидела, как к ее щекам на мгновение прихлынула кровь, будто их коснулось пламя. Актея отняла руку, испугавшись, что причиняла боль своей юной прислужнице. Но та, поняв причину ее замешательства, тут же схватила руку хозяйки, снова положила ее на свое плечо и вместе с Актеей вошла в тепидарий.
Это было просторное квадратное помещение; посреди него раскинулся бассейн с теплой водой, обширный, как озеро. Юные рабыни в венках из осоки, нарциссов и кувшинок резвились на поверхности водоема, как стайка наяд. Едва завидев Актею, они сразу же подтолкнули к тому краю бассейна, что был ближе к ней, огромную раковину из слоновой кости, выложенную кораллом и перламутром. Волшебные впечатления так быстро следовали друг за другом, что Актея предалась им, словно чарующему сну: она забралась в это хрупкое суденышко и через мгновение оказалась посреди воды, как Венера, окруженная своей морской свитой.
И снова послышалась та же восхитительная музыка, так пленившая ее недавно. Вскоре в музыку вплелись голоса наяд: они пели о том, как Гилас ходил за водой на троадских берегах, и, показывая, как нимфы реки Асканий манили к себе любимца Геркулеса, протягивали руки к Актее и своим пением приглашали ее сойти к ним, в воду. Игры на воде были привычны юной гречанке. В былое время ей с подругами много раз доводилось переплывать Коринфский залив. Поэтому она, не задумываясь, бросилась в волны этого теплого благоухающего моря, где рабыни встретили ее словно свою царицу.
Все они были юные девушки, выбранные из числа самых красивых рабынь. Одни были увезены с Кавказа, другие — из Галлии; те родились в Индии, а эти — в Испании. Но даже среди этих первейших красавиц, избранных для удовольствия, Актея казалась богиней. Скользнув по поверхности воды легко, словно сирена, нырнув с проворством наяды, извиваясь в глубине этого рукотворного озера гибко и грациозно, как змея, она сразу же заметила, что в ее водяной свите не хватает Сабины. Оглянувшись в поисках рабыни, Актея увидела ее: она сидела у края водоема, закутав голову покрывалом. Веселая и ласковая, как ребенок, Актея окликнула ее. Девушка вздрогнула и приподняла край покрывала, закрывавший ей лицо. Тогда с какими-то странными смешками, смысл которых остался непонятен Аетее, шальными, дразнящими голосами все рабыни хором стали звать Сабину, наполовину высунувшись из воды, стали махать ей руками, маня к себе. Какое-то мгновение Сабина, казалось, готова была присоединиться к ним;
в душе у нее творилось что-то странное: глаза загорелись, к лицу прилила кровь, и в то же время из глаз катились слезы и сразу высыхали на щеках. Однако, вместо того чтобы уступить своему очевидному желанию, Сабина бросилась к двери, как будто спеша ускользнуть от власти этих разнеживающих чар. Каким бы быстрым ни было это движение, Актея успела выскочить из воды и под дружный смех рабынь преградила ей дорогу. Тогда показалось, что Сабина вот-вот лишится чувств: колени у нее ослабли, на лбу выступил холодный пот. Рабыня так сильно побледнела, что Актея, испугавшись, как бы та не упала, протянула к ней руки и привлекла к своей обнаженной груди, но тут же оттолкнула, негромко вскрикнув от боли. Охваченная странным возбуждением Сабина наткнулась на ее плечо и впилась в него зубами. Затем, ужаснувшись того, что она сделала, бросилась вон из залы.
На крик Актеи сбежались все рабыни и обступили госпожу. Однако Актея, боясь, как бы Сабину не подвергли наказанию, быстро овладела собой, сумела скрыть боль и, силясь улыбнуться, смахнула скатившиеся на грудь одну-две капли крови, похожие на жидкий коралл. А впрочем, случай этот был слишком ничтожен, чтобы вызвать у Актеи какое-либо чувство, кроме удивления. Поэтому она спокойно направилась к следующей зале терм, которая называлась кальдарий.
Это было небольшое круглое помещение, опоясанное ступенями; по всей его окружности в стенах были устроены узенькие ниши с сиденьями внутри. Середину залы занимал бассейн с кипящей водой. Над ним стоял пар, такой же густой, как тот, что по утрам стелется над поверхностью озера. Но этот пар, мало того что был обжигающий сам по себе, вдобавок еще подогревался жаром печи: раскаленный воздух шел по трубам, обхватывавшим кальдарий своими багровыми руками, и вились по наружным перегородкам, словно плющ по стене.
Как только Актея, не имевшая привычки к горячим баням, — их знали и любили в одном только Риме — вошла в кальдарий и ее обдало волнами раскаленного пара, наползавшими, точно облака, она почувствовала, что ей не хватает воздуха, и протянула вперед руки, желая позвать на помощь, но голос не слушался ее: раздались лишь невнятные крики, а затем рыдания. Она бросилась было к двери, но рабыни удержали ее, и она без сил опустилась на их руки, знаком показав, что задыхается. Тогда одна из девушек дернула цепь — круглый золотой щит посреди потолка отодвинулся подобно клапану, и в кальдарий, где уже почти невозможно было дышать, ворвался свежий воздух, неся с собой жизнь. Актея ощутила, как грудь ее расширяется; ею овладела приятная слабость, сладкая истома. Она дала увлечь себя к одной из ниш и опустилась на сиденье. Ей уже стало легче переносить страшную жару, от которой по жилам, казалось, струилась не кровь, а жидкое пламя. Вскоре пар вновь стал таким густым и таким обжигающим, что пришлось еще раз отодвигать в потолке золотой щит. Вместе со свежим воздухом на купальщиц снизошло ощущение такого блаженства, что юная гречанка начала понимать пристрастие римлянок к такому виду омовения, какой раньше был ей совсем не известен, а только что, при первом знакомстве, показался ужасной пыткой. Спустя недолгое время пар опять наполнил кальдарий, но на этот раз, вместо того чтобы выпустить его наружу, ему дали сгуститься настолько, что Актея опять почувствовала дурноту; тогда две рабыни принесли пурпурное шерстяное покрывало, закутали им с головы до пят полубесчувственную девушку и, взяв ее на руки, отнесли в комнату с умеренно подогретым воздухом и опустили на ложе для отдыха.
Затем Актее пришлось познакомиться с еще одной процедурой римских бань, но уже не столь неожиданной и мучительной, какой оказалось посещение кальдария. Это был массаж — приятный обычай, который обитатели Востока заимствовали у римлян и остаются верны ему и по сей день. Явились две рабыни, искусные в этом деле, и принялись жать и разминать ей тело, пока все ее члены не сделались мягкими и гибкими. Затем они без боли и без нажима заставили хрустнуть один за другим все ее суставы. Потом, взяв маленькие флакончики из носорожьего рога, растерли ей все тело душистым маслом и благовониями. И наконец вытерли насухо — сначала тонкой шерстью, потом нежнейшим египетским муслином, а затем — лебяжьими кожами, с которых были ощипаны все перья и оставлен только пух.
Все время пока длилась эта процедура, завершавшая омовение, Актея лежала с полузакрытыми глазами, погрузившись в блаженное забытье, без слов и без мыслей. Ею овладела странная, сладкая дремота, оставлявшая силы лишь для того, чтобы ощутить неведомую прежде полноту жизни. Не только грудь дышала глубже и свободнее: с каждым вдохом Актее казалось, будто жизнь вливается в нее через все поры. Это чувство физического удовольствия было таким сильным, таким всеобъемлющим, что способно было не только изгладить воспоминания прошлого, но и побороть тревоги дня сегодняшнего; в таком состоянии девушке невозможно было поверить в несчастье и вся жизнь представлялась ей нескончаемой чередой приятных, сладостных впечатлений, не имевших осязаемых форм и терявшихся в волшебной, туманной дали!
Среди этого магнетического полусна, этой бездумной погруженности в мечты Актея услышала, как где-то позади нее отворяется дверь; но, поскольку ей в ее странном состоянии малейшее движение представлялось утомительным, она даже не повернулась на этот шум, думая, что в комнату вошла одна из ее рабынь. Она так и осталась лежать с полузакрытыми глазами, слушая, как к ее ложу приближаются чьи-то медленные, размеренные шаги. Странное дело — по мере того как эти шаги приближались, каждый из них словно бы эхом отдавался в ней самой. Тогда она с усилием повернула голову и, поглядев в сторону, откуда доносились эти звуки, увидела идущую к ней женскую фигуру в обычном одеянии римской матроны, в длинной столе, окутавшей ее с головы до пят. Дойдя до ложа, эта похожая на видение фигура остановилась, и девушка ощутила на себе пристальный, изучающий взгляд, от которого, показалось ей, словно от взгляда провидицы, нельзя утаить ничего. Несколько мгновений незнакомка молча глядела на нее, затем заговорила тихим, но звучным голосом, и каждое ее слово, как леденящий клинок кинжала, проникало в сердце той, к кому оно было обращено:
— Ты и есть та юная коринфянка, которая покинула отечество и отца, чтобы последовать за императором?
Вся жизнь Актеи — ее блаженство и отчаяние, прошедшее и грядущее — уместилась в этих коротких словах. Внезапно на нее нахлынул поток воспоминаний: ее девичьи радости, цветы, что она собирала у источника Пирены; отчаяние старика-отца, когда на следующий день после игр он звал ее и не дозвался; ее прибытие в Рим, где ей открылась страшная тайна, что до этого скрывал от нее царственный возлюбленный. Все это как живое виделось сквозь волшебное прокрывало, приподнятое ледяной рукой неизвестной женщины. Актея вскрикнула, закрыла лицо руками, зарыдала:
— Да, это я! Да, я и есть эта несчастная!..
После того как прозвучал этот вопрос и ответ на него, наступило недолгое молчание. Актея не осмеливалась открыть глаза: она все еще чувствовала на себе тяжелый, властный взгляд этой женщины. Наконец незнакомка отняла ее руку от лица; девушке показалось, что в этом прикосновении, пусть холодном и осторожном, чувствовалось скорее сострадание, чем угроза, и тогда она отважилась поднять набрякшие от слез веки. Незнакомка по-прежнему глядела на нее.
— Послушай, — произнесла она все тем же звучным голосом, но более мягко, — судьба порой загадывает нам удивительные загадки. Случается, она вкладывает в руки ребенка счастье или злополучие целого царства. Быть может, не гнев богов прислал тебя сюда, быть может, тебя избрало их милосердие.
— О! — воскликнула Актея. — Я виновна, но виновна только в том, что люблю! В сердце у меня нет злобы! Мне самой уже не быть счастливой, и все же я хотела бы, чтобы все кругом были счастливы!.. Но я такая одинокая, такая слабая, я ничего не могу. Укажи мне, что я должна сделать, и я это сделаю!..
— Прежде всего скажи мне: знаешь ли ты того, кому доверила свою судьбу?
— Только сегодня утром мне стало известно, что Луций и Нерон — один и тот же человек, что мой возлюбленный — император. Я пленилась красотой, ловкостью, искусным пением — ведь я дочь Греции. Я пошла за победителем игр, но я не знала, что это властитель мира!..
— А теперь, — сказала незнакомка, чей взгляд стал еще более пронзительным, а голос еще более властным, — теперь ты знаешь, что это Нерон. Но знаешь ли ты, что такое Нерон?
— Я привыкла относиться к нему как к богу, — ответила Актея.
— В таком случае, — продолжала незнакомка, усаживаясь на ложе рядом с ней, — я скажу тебе, что он собой представляет, ведь возлюбленная почти ничего не знает о своем возлюбленном, а рабыня — о своем господине.
— И что я сейчас услышу? — прошептала девушка.
— Луций был рожден вдали от трона: он приблизился к нему благодаря брачному союзу и взошел на него в результате преступления.
— Но преступление совершил не он! — воскликнула Актея.
— Однако он обратил его себе на пользу, — холодно ответила незнакомка. — Правда, буря, свалившая дерево, пощадила молодой побег. Но сыну предстояло вскоре последовать за отцом: прах Британика занял место рядом с прахом Клавдия, и на этот раз убийцей был Нерон.
— О! Кто может утверждать такое? — воскликнула Актея. — Кто может предъявить такое страшное обвинение?
— Ты сомневаешься, девушка? — невозмутимо продолжала незнакомка. — Не хочешь ли ты узнать, как все это произошло? Я расскажу тебе. Однажды в покое, соседнем с тем, где находилась свита Агриппины, Нерон играл с мальчиками, среди которых был и Британик. Нерон приказал ему войти в триклиний и спеть возлежащим за трапезой стихи: Нерону хотелось напугать мальчика, хотелось, чтобы придворные осмеяли и ошикали его. Британик выполнил полученный приказ: одевшись в белое, он явился в триклиний и, бледный и печальный, прошел между пирующими. С волнением в голосе, со слезами на глазах он пропел стихи, которые Энний, древний наш поэт, вложил в уста Астианакса:
О мой родитель! О моя родина! О дом Приама, пышный чертог! Храм с дверьми на звонких штырях! Со стенами, сверкающими золотом и слоновой костью! Я видел, как сокрушила вас рука варвара! Я видел, как вы стали добычей пламени!
И внезапно смех умолк, уступив место слезам: сколь ни была разнузданной оргия, она затихла перед этой невинностью и страданием. После этого участь Британика была решена. В одной из римских темниц содержалась знаменитая отравительница, чьи преступления были широко известны. Нерон вызвал к себе Поллиона Юлия и поручил ему надзор за ней, — сам он еще не решался, будучи императором, вступать в переговоры с этой женщиной. На следующий день Поллион Юлий принес ему яд, и воспитатели Британика собственноручно вылили его в кубок мальчика. Но убийцы, то ли из страха, то ли из жалости, не решились на злодеяние: питье не было смертельным. Тогда Нерон, император, — ты только вдумайся! — Нерон, этот бог, как ты его сейчас называла, велел привести отравителей к себе во дворец, в свои покои, где стоит алтарь богов — покровителей домашнего очага, и там, да, там, приказал им готовить яд. Сначала его испытали на козле — он прожил пять часов, и за это время зелье поставили на огонь и уварили, чтобы сделать крепче. Потом его дали кабану — после этого тот не прожил и минуты!.. Тогда Нерон отправился в баню, надушился благовониями, оделся в белое. А затем с улыбкой на устах возлег за стол, рядом с тем, за которым ужинал Британик.
— Но если так, — дрожащим голосом перебила ее Актея, — если Британик действительно был отравлен, почему же раб-отведыватель не испытал на себе действие яда? Говорят, у Британика с детства была падучая болезнь, быть может, у него случился припадок, и…
— Да, да, именно так и утверждает Нерон!.. Именно в этом проявилась его адская предусмотрительность. Да, все напитки, все кушанья, поданные Британику, первым пробовал раб-отведыватель. Но Британику принесли такое горячее питье, что, хотя раб его и попробовал, мальчик пить не смог; тогда в кубок добавили холодной воды, и в этой-то холодной воде содержался яд. О! Этот яд действовал быстро и был приготовлен умело: без единого крика, без единого стона Британик закрыл глаза и упал навзничь. Некоторые сотрапезники необдуманно убежали. Но самые хитрые остались; они побледнели, дрожали, они поняли все. Нерон пел в это время. Он умолк, наклонился над ложем Британика, вгляделся в мальчика и сказал:
— Ничего страшного, сейчас он очнется и снова станет видеть.
И он продолжал петь.
А сам между тем заранее позаботился обо всем необходимом для погребения — на Марсовом поле был сложен костер. И той же ночью туда принесли труп мальчика, весь в лиловых пятнах; но боги, можно подумать, отказались быть сообщниками в братоубийстве: разразился ливень, и он трижды гасил костер! Тогда Нерон приказал обмазать труп смолой и варом, костер зажгли в четвертый раз, и пламя, пожирая труп, взвилось вверх — казалось, на этом огненном столбе возносится в небо разгневанный дух Британика!
— Но Бурр! Но Сенека!.. — воскликнула Актея.
— Бурр, Сенека!.. — с горечью повторила незнакомка. — Им нагрузили руки серебром, заткнули рот золотом, и они промолчали!..
— Увы! Увы! — прошептала Актея.
— С этого дня, — продолжала та, кому, по-видимому, все эти страшные тайны были хорошо известны, — с этого дня Нерон стал настоящим сыном Агенобарбов, достойным потомком этого племени людей с медной бородой, железным лицом и свинцовым сердцем. Он развелся с Октавией, которой был обязан троном, сослал ее в Кампанию, где ее стерегли, не спуская глаз, и, всецело предавшись утехам в обществе цирковых возниц, гистрионов и гетер, начал вести такую разгульную и развратную жизнь, что она уже два года приводит в ужас весь Рим. Ибо тот, кого ты любишь, девушка, твой прекрасный олимпиец-победитель, тот, кого мир называет своим императором, а придворные чтут как бога, с наступлением ночи выходит из дворца в одежде раба, в колпаке вольноотпущенника. Он спешит на Мульвиев мост или в какой-нибудь кабак Субуры, и там, среди распутников и блудниц, среди носильщиков и уличных фигляров, под кимвал жреца Кибелы или под флейту гетеры, божественный Цезарь воспевает свои подвиги на поле брани и на поприще любви. Затем во главе этого сброда, разгоряченного вином и похотью, рыщет по улицам города, оскорбляя женщин, избивая прохожих, грабя дома, так что, когда он возвращается в свой Золотой дворец, на лице у него порой видны позорные следы, оставленные грязной палкой какого-нибудь неизвестного мстителя.
— Не может быть! Не может быть! — воскликнула Актея. — Ты клевещешь на него!
— Ошибаешься, девушка, я говорю правду, и притом еще не всю правду.
— И он не наказывает тебя за то, что ты раскрываешь такие тайны?
— Когда-нибудь это может случиться, и я готова к этому.
— Почему же ты ведешь себя так, словно не боишься его мести?..
— Потому, что я, наверно, единственная, кому нельзя убежать от него.
— Кто же ты в таком случае?
— Я его мать!..
— Агриппина! — воскликнула Актея, вскакивая с ложа и бросаясь на колени. — Агриппина, дочь Германика! Сестра, вдова и мать императоров! Агриппина — и она стоит здесь передо мной, бедной гречанкой! Скажи, чего ты хочешь? Говори, приказывай, я все исполню. Нет, не все: если ты прикажешь не любить его, это будет мне не по силам. Потому что, несмотря на все, что ты мне рассказала, я люблю его по-прежнему. Но в этом случае, раз я не смогу повиноваться тебе, то смогу, по крайней мере, умереть.
— Напротив, дитя мое, — возразила Агриппина, — продолжай любить Цезаря той же преданной, безграничной любовью, какой любишь Луция, ибо на эту любовь вся моя надежда, ведь только непорочность одной женщины может противостоять развращенности другой.
— Другой! — в ужасе вскричала Актея. — Значит, Цезарь любит другую?
— А ты не знала этого, дитя мое?
— Ах! Откуда мне знать?.. Я последовала за Луцием, так зачем мне было спрашивать о Цезаре? Что за дело мне было до императора! Я любила простого певца, я вручила ему мою жизнь, думая, что он может вручить мне свою!.. Но кто же эта женщина?
— Дочь, отрекшаяся от отца, жена, предавшая мужа! Женщина роковой красоты, которой боги дали все, кроме сердца, — Сабина Поппея.
— О да, да! Я слышала, как люди называли это имя. Я слышала, как рассказывают эту историю, когда еще не знала, что сама стану ее участницей. Однажды мой отец, думая, что я вышла из комнаты, тихонько рассказал об этом другому старику, и оба они залились краской! Верно ли, что эта женщина покинула своего мужа Криспина и ушла к любовнику Отону?.. Верно ли, что этот ее любовник во время ужина продал ее Цезарю за должность наместника в Лузитании?
— Верно! Верно! — воскликнула Агриппина.
— И он ее любит! Он ее все еще любит! — горестно прошептала Актея.
— Да, — ответила Агриппина, и в голосе у нее послышалась ненависть, — да, он все еще любит ее, любит по-прежнему, и за этим кроется какая-то тайна, какое-то приворотное зелье, какой-то проклятый гиппоман, вроде того, которым Цезония опоила Калигулу!..
— Праведные боги! — воскликнула Актея. — Как я наказана, как я несчастна!..
— Ты не так несчастна и не так наказана, как я, — заметила Агриппина, — ведь ты вольна была не выбирать его своим возлюбленным, а мне боги дали его в сыновья. Ну, понимаешь ли ты теперь, что тебе надо делать?
— Удалиться от него, никогда больше его не видеть.
— Нет, дитя мое, ни в коем случае. Говорят, он любит тебя.
— Так говорят? Но правда ли это? Ты в это веришь?
— Да.
— О! Будь благословенна!
— Так вот: нужно, чтобы эта любовь обрела волю, обрела цель, обрела результат; нужно удалить от него это адское отродье, что губит его, — и ты спасешь Рим, спасешь императора и, быть может, меня.
— Тебя? Неужели ты думаешь, что Нерон посмел бы…
— Нерон смеет все!..
— Но я не способна осуществить этот план!
— Ты, быть может, единственная женщина, которая достаточно чиста, чтобы осуществить его.
— О нет! Нет! Лучше мне уехать! Лучше никогда больше не видеть его!
— Божественный император зовет к себе Актею, — негромко произнес молодой раб, открыв дверь и став на пороге.
— Спор! — удивленно воскликнула Актея.
— Спор! — пробормотала Агриппина, покрывая голову стол ой.
— Цезарь ждет, — добавил раб после недолгого молчания.
— Что ж, иди! — сказала Агриппина.
— Я иду с тобой, — сказала Актея рабу.
VIII
Взяв покрывало и плащ, Актея пошла за Спором. Покружив какое-то время в закоулках дома, который его новая обитательница еще не успела осмотреть, они очутились у двери. Спор открыл дверь золотым ключом, тут же передав его юной гречанке, чтобы она смогла вернуться одна, и они вышли в сад Золотого дворца.
Актея подумала, что находится за городом — настолько широкий и великолепный вид открылся перед нею. За деревьями она увидела водоем размером с целое озеро. А на другом берегу озера, над густолиственными деревьями, в синей дали, посеребренной лунным светом, виднелась колоннада дворца. Воздух был чистым; ни единое облачко не пятнало ясную синеву неба; озеро казалось огромным зеркалом; последние звуки, поднимавшиеся над засыпающим Римом, гасли в пространстве. Спор и юная гречанка, одетые в белое и молча идущие по этому чудесному саду, казались двумя тенями, блуждающими в Елисейских полях. По берегам озера и по широким лужайкам на опушках рощ, словно в безлюдных просторах Африки, пробегали стада диких газелей; на искусственных руинах, напоминавших им руины их древнего отечества, стояли большие белые птицы с крыльями цвета пламени, важные, неподвижные, словно часовые, и, как настоящие часовые, через равные промежутки времени издавали хриплый монотонный крик. Когда раб и девушка очутились на берегу озера, Спор сел в лодку и дал знак Актее следовать за ним. Он поднял маленький пурпурный парус, и они словно по волшебству заскользили по воде, на поверхности которой посверкивали золотой чешуей самые редкостные рыбы Индийского моря. Это ночное плавание напоминало Актее путешествие по Ионическому морю, и, глядя на Спора, она вновь удивлялась необычайному сходству брата и сестры, как и прежде, когда смотрела на Сабину. Что до юноши, то его робко опущенные глаза как будто избегали взгляда гречанки, не так давно приютившей его в своем доме. Этот молчаливый кормчий правил лодкой, не произнося ни единого слова. Наконец Актея первой нарушила молчание, и сколь ни был мягок ее голос, все же он заставил вздрогнуть того, к кому она обращалась.
— Сабина сказала мне, Спор, что ты остался в Коринфе, — произнесла она. — Значит, Сабина меня обманула?
— Сабина сказала тебе правду, госпожа, — ответил раб. — Однако я не смог долго оставаться вдали от Луция. Я сел на корабль, отправлявшийся в Калабрию; но, поскольку этот корабль, вместо того чтобы пройти Мессинским проливом, бросил якорь прямо в Брундизии, я поехал Аппиевой дорогой и, хотя пустился в путь на два дня позже императора, прибыл в Рим одновременно с ним.
— Наверное, Сабина очень рада была увидеться с тобой, ведь вы должно быть так привязаны друг к другу?
— Да, действительно, — ответил Спор, — ведь мы не просто брат и сестра, но еще и близнецы.
— Ну так вот, скажи Сабине, что я хочу поговорить с ней. Пусть придет ко мне завтра утром.
— Сабины уже нет в Риме, — ответил Спор.
— А почему она уехала?
— Такова была воля божественного Цезаря.
— И где она теперь?
— Не знаю.
Голос раба был полон почтения, и все же в нем слышались какая-то принужденность и смущение, и это заставило Актею прекратить расспросы. К тому же в эту самую минуту лодка коснулась берега, Спор вытащил ее на песок и, видя, что Актея выбралась из нее, зашагал вперед. Гречанка вновь пошла за ним, молча, но невольно ускоряя шаг: она вошла в рощу сосен и смоковниц, а под сенью их густых ветвей ночь казалась непроницаемо темной, и Актея, прекрасно понимая, что от ее провожатого помощи ждать нечего, все же в порыве безотчетного страха приблизилась к нему. Дело в том, что несколькими мгновениями раньше ее слух уловил какие-то жалобные звуки, повторявшиеся с короткими промежутками и доносившиеся, казалось, из самых недр земли. Наконец послышался внятный, несомненно человеческий крик; девушка вздрогнула и в ужасе тронула Спора за плечо.
— Что это? — спросила она.
— Ничего, — ответил раб.
— Но мне показалось, что я слышала… — упорствовала Актея.
— Ты слышала стон. Да, мы проходим мимо темниц.
— А что за узники в этих темницах?
— Христиане, обреченные умереть в цирке.
Актея пошла дальше, но вновь ускорила шаг: проходя мимо тюремной отдушины, она уловила самые жалобные и душераздирающие звуки, какие может издавать человеческий голос. И хотя при ней всегда говорили о христианах не иначе как о членах преступной, нечестивой секты, предающихся всевозможным порокам и злодеяниям, она испытывала невольное сострадание, возникающее обычно при мысли о людях, пусть даже преступных, которым предстоит умереть ужасной смертью. Поэтому она быстро прошла эту мрачную рощу, а выйдя на опушку, увидела ярко освещенный дворец, услышала звуки музыки. Одно впечатление сменилось другим — вместо мрака и стонов здесь царили свет и гармония, и Актея вошла в вестибул дворца более твердым, хотя и менее быстрым шагом.
Войдя, Актея застыла на месте, потрясенная увиденным. Никогда, даже в детских снах, где нет преграды воображению, ей не могло бы присниться такое великолепие. Этот вестибул, весь сверкающий бронзой, слоновой костью и золотом, был так обширен, что его обегали колонны в три ряда, образовывавшие портик длиной в тысячу шагов, и так высок, что посредине его стояла статуя высотой в сто двадцать ступней, изваянная Зенодором и представляющая божественного императора во весь рост и в облике бога. Актею охватила дрожь, когда она проходила мимо этой статуи. Какая же чудовищная власть была у этого человека, если он приказывал запечатлеть себя в изваяниях втрое выше Юпитера Олимпийского, гулял среди садов и прудов, больше похожих на леса и озера, и для своей потехи и развлечения отдавал узников на растерзание тиграм и львам? В этом дворце были извращены все законы человеческой жизни: достаточно было одного движения, одного знака, одного взгляда этого человека, чтобы все было кончено — какой-нибудь несчастный, целая семья, целый народ навеки исчезали с лица земли, и ни единая живая душа не посмела воспротивиться исполнению его воли, и не раздалось ни единой жалобы, кроме воплей умирающих, и ничто не содрогнулось в природе, солнце не померкло, не грянул гром, возвещавший, что над людьми есть небо, а над императорами есть боги!
Эти мысли вызвали у Актеи глубокую, мучительную и все возрастающую тревогу; пока она поднималась по лестнице, ведущей в покои Луция, тревога усилилась настолько, что, оказавшись у двери, которую Спор стал отпирать своим ключом, она остановилась и положила руку ему на плечо, а другую руку прижала к неистово бьющемуся сердцу. Наконец, после минутного колебания, она знаком приказала Спору открыть дверь — раб повиновался; они вошли, и в глубине покоя она увидела Луция, возлежавшего на ложе для отдыха, в простой белой тунике и венке из оливковой ветви. И все печальное мгновенно улетучилось из ее памяти. Ей показалось, что после того, как она узнала, кто этот человек, узнала, что он властитель мира, в чем-то он должен был измениться. Но с первого взгляда она убедилась, что перед ней все тот же Луций, златобородый красавец, которого она привела в дом своего отца; Цезарь исчез — она снова увидела победителя игр. Она хотела броситься к нему, но на полпути силы отказали ей, она упала на одно колено и, простирая руки к возлюбленному, с трудом произнесла:
— Луций… все тот же Луций, правда?
— Да, да, моя коринфская красавица, успокойся! — мягко ответил Цезарь, знаком подзывая ее к себе, — все тот же Луций! Ведь ты узнала и полюбила меня под этим именем, полюбила ради меня самого, а не за мою власть и не за мою корону, как все, кто меня окружает!.. Иди ко мне, Актея! Встань! Пусть мир лежит у моих ног, но ты будешь в моих объятиях!
— О! Я это знала! — воскликнула Актея, бросаясь на шею возлюбленному. — Я знала, это неправда, что мой Луций — злой человек!..
— Злой человек! — повторил Луций. — Кто же успел тебе сказать такое?
— Никто, никто! — спохватилась Актея. — Прости меня! Но люди порою думают, что лев — он благороден и отважен, как ты, он царь над зверьми, как ты император над людьми, — порою люди думают, будто лев жесток: не зная своей силы, он может убить лаской. О мой лев! Пощади свою газель!..
— Ничего не бойся, Актея, — с улыбкой ответил Цезарь, — лев приберегает когти и зубы для тех, кто нападет на него… Видишь, он ложится к твоим ногам, словно ягненок.
— Но я не Луция боюсь. О! Луций для меня — это гость и возлюбленный, он отнял меня у родины и у отца, он должен любовью воздать мне за похищенную у меня чистоту. Нет, тот, кого я боюсь… — она осеклась, Луций сделал ободряющий жест, — это Цезарь, сославший Октавию… это Нерон, будущий муж Поппеи!
— Ты виделась с моей матерью! — крикнул Луций, вскакивая и глядя в лицо Актее. — Ты виделась с моей матерью!
— Да, — прошептала девушка, вся дрожа.
— Да, — с горечью отозвался Нерон, — и это она сказала тебе, что я жесток, не правда ли? Что я могу задушить в объятиях, так? Что у меня только одно свойство Юпитера — губительная молния? Это она рассказала тебе об Октавии, которой она покровительствует и которую я ненавижу; это она против моей воли бросила ее в мои объятия, и мне стоило такого труда ее оттолкнуть! Октавия, от скудости своей любви всегда одарявшая меня лишь холодными, принужденными ласками! О! Глубоко ошибается и плохо рассчитывает тот, кто воображает, будто от меня можно чего-то добиться, докучая мольбами и угрозами! Я пожелал забыть эту женщину, последнее отродье проклятого семейства! Так пусть меня не заставляют о ней вспоминать!..
Едва успев произнести эти слова, Луций умолк, испуганный впечатлением, какое они произвели на Актею. С побледневшими губами, глазами, полными слез, запрокинув голову, она прижалась к изголовью ложа и вся дрожала, впервые наблюдая вспышку гнева своего возлюбленного: в самом деле, его нежный голос, вначале задевший самые потаенные струны ее сердца, внезапно зазвучал мрачно и устрашающе, а глаза, в которых она до сих пор читала одну лишь любовь, метали грозные молнии, перед которыми Рим в ужасе закрывал свое лицо.
— О отец мой! Отец мой! — рыдая, воскликнула Актея. — Отец мой, прости меня!
— Ну, разумеется, ведь Агриппина, должно быть, сказала тебе, что за твою любовь ко мне ты будешь в полной мере наказана моей любовью; она, конечно, поведала тебе, какого дикого зверя довелось тебе полюбить, рассказала о смерти Британика, гибели Юлия Монтана, да мало ли о чем еще! Но при этом, конечно, забыла упомянуть, что один из них хотел лишить меня трона, а другой ударил палкой по лицу. Это и понятно: ведь жизнь моей матери совершенно безупречна…
— Луций! Луций! — воскликнула Актея. — Замолчи, во имя богов, замолчи!
— О! — откликнулся Нерон, — она наполовину посвятила тебя в тайны нашей семьи. Что ж, выслушай теперь остальное. Эта женщина, что ставит мне в вину смерть подростка и смерть негодяя, была изгнана за развратное поведение своим братом Калигулой, а ведь он не отличался большой строгостью нравов! Когда Клавдий взошел на трон и вернул ее из ссылки, она стала женой Криспа Пассиена, патриция из знатнейшего рода, который имел неосторожность завещать ей свои несметные богатства и которого она приказала убить, посчитав, что он зажился на свете. Тогда началась борьба между ней и Мессалиной. Мессалина проиграла. Победным трофеем стал Клавдий. Агриппина обрела власть над своим дядей; вот тогда-то у нее и созрел план — править империей от моего имени. Октавия, дочь императора, была помолвлена с Силаном. Она оторвала Силана от подножия алтаря, нашла лжесвидетелей, обвинивших его в кровосмешении. Силан лишил себя жизни, и Октавия стала вдовой. Она еще оплакивала Силана, когда ее бросили в мои объятия, и мне пришлось принять жену, чье сердце было отдано другому! Но вскоре одна женщина попыталась отбить у племянницы ее безмозглого дядю. Тогда те же свидетели, что обвинили Силана в кровосмешении, выдвинули против Лоллии Павлины обвинение в колдовстве, и Лоллия Павлина, считавшаяся красивейшей женщиной своего времени, — на ней, имея примером Ромула и Августа, женился Калигула и показал ее римлянам в драгоценном уборе, где было изумрудов и жемчуга на сорок миллионов сестерциев, — медленно умерла от пыток. Теперь дорога к трону была свободна. Племянница вышла замуж за дядю. Клавдий усыновил меня, и сенат дал Агриппине титул Августы. Погоди, это еще не все, — продолжал Нерон, схватив за руки Актею: она хотела заткнуть уши, чтобы не слышать обвинений сына против матери. — Однажды Клавдий приговорил к смерти какую-то женщину за супружескую неверность. Этот приговор заставил задрожать Агриппину и Палланта. На следующий день Клавдий ужинал на Капитолии со жрецами. Его отведыватель Галот подал ему грибы, приготовленные Локустой. Но доза яда оказалась недостаточной; император, упав на пиршественное ложе, боролся с агонией, и тогда его врач Ксенофон, якобы желая вызвать рвоту, ввел ему в глотку отравленное перо — и Агриппина овдовела в третий раз. Она обошла молчанием всю эту первую часть своей истории, верно? Она начала рассказ с того дня, когда она посадила меня на трон, думая, что будет править от моего имени, что я стану ее тенью, что она будет явью, а я призраком; и какое-то время действительно так оно и было. Она взяла себе в охрану преторианцев, председательствовала в сенате, издавала указы; она приговорила к смерти вольноотпущенника Нарцисса, приказала отравить проконсула Юния Силана. Насмотревшись на эти зверства, я однажды посетовал, что она ничего не дает мне делать, и услышал в ответ, что для постороннего человека, для усыновленного, я делаю даже слишком много и что, к счастью, она и боги сберегли Британика!.. Клянусь тебе, пока она этого не сказала, я думал о мальчишке не больше, чем сейчас думаю об Октавии, и настоящей причиной его смерти стал не яд, который я ему дал, а эта ее угроза! Мое преступление не в том, что я совершил убийство, а в том, что я захотел стать императором! И вот тогда — терпение, скоро конец! — и тогда, послушай это, ты, девушка чистая и целомудренная даже в опьянении любви, и тогда, потеряв надо мною власть как мать, она попыталась стать моей любовницей.
— О! Замолчи! — вскричала потрясенная Актея.
— А! Ты говорила со мной об Октавии и Поппее, но не подозревала, что у тебя есть еще одна соперница.
— Молчи, молчи!..
— И не среди ночного безмолвия, не в тихом, таинственном полумраке уединенного покоя подступила она ко мне с этим намерением. Нет, это произошло за трапезой, во время буйного пира, в присутствии моих приближенных: Сенека был при этом, и Бурр, и Парис, и Фаон — все они там были. Она подошла ко мне полуобнаженная, в венке из цветов, среди песен и огней. Именно после этого ее враги, напуганные этими планами, боясь ее красоты, — ведь она красива! — ее враги сделали так, что между нею и мной стала Поппея. Вот! Что ты скажешь о моей матери, Актея?
— Позор! Позор! — прошептала девушка, закрывая руками красное от стыда лицо.
— Да, наш род особенный, непохож на другие, верно? И поэтому, не считая нас достойными звания людей, из нас делают богов! Мой дядя задушил своего опекуна подушкой, а тестя убил в бане. Мой отец на Форуме выбил жезлом глаз всаднику. На Аппиевой дороге он раздавил своей колесницей юношу-римлянина, не успевшего посторониться, а во время путешествия на Восток, куда он сопровождал молодого Цезаря, он за трапезой зарезал столовым ножом вольноотпущенника, отказавшегося пить. О делах моей матери я уже говорил: она убила Пассиена, убила Силана, убила Лоллию Павлину, убила Клавдия, а сам я, последний в роду, я, с кем умрет наше имя, если б был не почтительным сыном, а справедливым императором, убил бы мою мать!..
Актея испустила ужасный крик и упала на колени, простирая руки к Цезарю.
— Да что это ты? — сказал Нерон, улыбаясь какой-то странной улыбкой. — Неужели ты приняла всерьез то, что было всего лишь шуткой: несколько стихов, которые остались у меня в голове с тех пор, как я последний раз пел "Ореста", перемешались с прозой моих речей? Ну, успокойся, глупый ребенок, успокойся же. Да, впрочем, для того ли ты пришла, чтобы о чем-то просить и чего-то пугаться? Разве я послал за тобой для того, чтобы ты разбивала себе колени и ломала руки? Давай-ка встанем. Кто сказал, что я Цезарь? Кто сказал, что я Нерон? Кто сказал, что Агриппина — моя мать? Все это тебе приснилось, милая моя коринфянка: я Луций, атлет, цирковой возница, сладкоголосый певец с золотой лирой — вот и все.
— О! — отозвалась Актея, опуская голову на плечо Луция. — В самом деле, бывают минуты, когда я думаю, будто сплю и вот-вот проснусь в родительском доме, — если бы любовь в моем сердце не была явью. О Луций, Луций, не играй со мной так, разве ты не видишь, что я повисла на тонкой нити над бездной ада, сжалься над моей слабостью, не своди меня с ума.
— Откуда эти страхи, эти тревоги? Разве моя прекрасная Елена может пожаловаться на своего Париса? Если дворец, в котором она живет, недостаточно великолепен, мы построим ей другой, где колонны будут серебряные, а капители — золотые. Если рабы, что прислуживают ей, были непочтительны — она вольна распорядиться их жизнью и смертью. Чего она хочет? Чего желает? Пусть просит всего, что может дать человек, что может дать император, что может дать бог, — и она получит это!
— Да, я знаю, ты всемогущ; я верю, что ты меня любишь; я надеюсь получить от тебя все, о чем только ни попрошу, — все, кроме душевного покоя, кроме тайной уверенности в том, что Луций принадлежит мне, также как я принадлежу Луцию. Вышло так, что какая-то часть твоей жизни ускользает от меня, окутывается тенью, тонет во мраке. Рим, империя, весь мир предъявляют на тебя свои права! Мне в тебе принадлежит только то, к чему я прикасаюсь. У тебя есть тайны, которые не могут быть моими. Ты испытываешь к кому-то ненависть, которую я не могу разделить, любовь, о которой я не должна знать. Во время самых нежных излияний, самых сладостных бесед, самых блаженных минут откроется какая-нибудь дверь — как сейчас открывается вон там, — и бесстрастный вольноотпущенник сделает тебе таинственный знак, и я не смогу его понять, да и не должна буду понимать… А вот и начало моего ученичества.
— Чего ты хочешь, Аникет? — спросил Нерон.
— Та, за кем послал божественный Цезарь, здесь, и ожидает его.
— Скажи, что я сейчас приду, — ответил император.
Вольноотпущенник вышел.
— Вот видишь, — сказала Актея, с грустью глядя на него.
— Не понимаю, о чем ты говоришь, — сказал Нерон.
— Сюда привели женщину?
— Нуда!
— Я заметила, как ты вздрогнул, когда доложили о ее приходе.
— Разве вздрагивают только от любви?
— Но эта женщина, Луций!..
— Договаривай, я жду.
— Эта женщина!..
— Эта женщина?..
— Эту женщину зовут Поппея?
— Ошибаешься, — ответил Нерон, — эту женщину зовут Локуста.
IX
Нерон встал и вышел вслед за вольноотпущенником. Пройдя потайными закоулками, доступными только императору и самым доверенным его рабам, они вошли в небольшую комнату без окон, куда свет и воздух проникали сквозь отверстие в потолке. Это отверстие имело и другое назначение: оно служило отдушиной, через которую выходил дым от бронзовых жаровень. Сейчас они не горели, но на каждой был разложен уголь, ожидавший лишь искры и дуновения — этих великих двигателей всякой жизни и всякого света. По всей комнате была расставлена диковинного вида утварь из керамики и стекла: казалось, создавший ее мастер по странной прихоти решил запечатлеть в ней смутные воспоминания о редкостных птицах и невиданных рыбах. Сосуды различных размеров и форм были тщательно закупорены крышками, на которых удивленный взгляд силился прочесть условные письмена, не принадлежащие ни к какому языку. Сосуды стояли на закругленных полках и кольцами охватывали таинственную лабораторию, подобно повязкам, что стягивают туловище мумии. Выше, на золотых гвоздиках, были развешаны высушенные или еще зеленые травы — в зависимости от того, в каком виде их надлежало употреблять: свежими или измельченными в порошок. Большая часть трав была собрана в то время года, что у магов и кудесников считалось наиболее благоприятным для этого занятия, — то есть в недолгую пору самого начала летней жары, когда ни луна, ни солнце не могли подсматривать за колдунами. В сосудах содержались редчайшие бесценные снадобья. В одних были притирания, делавшие человека неуязвимым, — они были составлены с великим трудом и тщанием из головы и хвоста крылатого змея, волосков с головы тигра, мозга из костей льва, пены со взмыленного коня, победившего в ристании. В других сосудах хранилась кровь василиска (ее называли также кровью Сатурна) — могущественный талисман, исполнявший желания. Наконец, были и такие, что ценились дороже алмазов, — в них было запечатано несколько крупиц благовония столь редкого, что, как говорили, один лишь Юлий Цезарь смог раздобыть его для себя, и приготовлялось оно из самородного золота, еще не побывавшего в плавильном тигле. А среди трав были венки из генокризов — цветов, дарующих благоволение и славу; были пучки вербены, вырванные с корнями левой рукой, листья, стебли и корни ее высушили по отдельности и в тени. Вербена служила для радости и наслаждения: стоило разбрызгать в триклинии воду, настоянную на ее листьях — и не было такого угрюмого сотрапезника, такого сурового философа, который бы вскоре не предался самому бесшабашному веселью.
Женщина, сидевшая в ожидании Нерона в этой комнате, была одета в черное. Ее длинное одеяние с одной стороны было приподнято до колена и заколото пряжкой с карбункулом. В левой руке она держала палочку, вырезанную из орешника — дерева, помогающего отыскивать клады. Она была погружена в столь глубокую задумчивость, что не обратила внимания на вошедшего императора. Нерон подошел к ней, и, по мере того как он приближался, в ее взгляде появилось странное выражение страха, гадливости и презрения. По знаку императора Аникет тронул женщину за плечо; она медленно подняла голову и встряхнула ею, чтобы откинуть волосы, не скрепленные ни гребнями, ни повязками и закрывавшие ей лицо словно покрывалом, всякий раз, когда она наклонялась. Теперь можно было разглядеть лицо колдуньи: это было лицо женщины лет тридцати пяти — тридцати семи, когда-то красивой, но прежде времени увядшей от бессонных ночей, от беспутной жизни и, быть может, от угрызений совести.
Она заговорила первой — не встав, даже не шелохнувшись, только разомкнув губы.
— Чего еще ты от меня хочешь? — спросила она.
— Прежде всего, — сказал Нерон, — ответь мне: помнишь ли ты о прошлом?
— Спроси у Тесея, помнит ли он преисподнюю.
— Ты знаешь, где я тебя нашел: в смрадной темнице, где ты лежала в грязи и медленно умирала, а по твоему лицу и рукам ползали змеи и ящерицы.
— Там было так холодно, что я их не чувствовала.
— Ты знаешь, где ты живешь теперь: этот дом я тебе построил и отделал как для своей любовницы. Твое ремесло называли преступлением — я назвал его искусством. Твоих сообщников преследовали — я дал тебе учеников.
— А я за это наделила тебя половиной той власти, которой обладает Юпитер… Смерть, глухое и слепое порождение Сна и Ночи, я сделала твоей служанкой.
— Хорошо, я вижу, ты ничего не забыла. Я посылал за тобой.
— Кто же должен умереть?..
— О! Ты должна сама догадаться об этом, я ничего не могу тебе сказать: этот мой враг настолько могуществен и настолько опасен, что его имя нельзя доверить даже статуе Молчания. Одно тебе скажу: берегись, ибо этот яд не может подействовать слишком медленно, как было с Клавдием, или не подействовать с первого раза, как было с Британиком. Он должен убить мгновенно, так, чтобы жертва не успела сказать ни единого слова, не успела сделать ни малейшего движения. Словом, мне нужен яд вроде того, что мы приготовили в этой комнате и испробовали на кабане.
— Если так, — отвечала Локуста, — если дело только в том, чтобы приготовить такой же или еще более грозный яд, это не составит большого труда. Но, вручая тебе тот яд, о котором ты сейчас сказал, я знала, для кого он готовился — это был доверчивый ребенок, — и поэтому могла отвечать за результат. Однако есть люди, сделавшие себя неуязвимыми для яда, как Митридат: они постепенно приучили свой желудок переваривать самые ядовитые зелья и самые смертоносные порошки. Если бы, по несчастью, мое искусство натолкнулось на сопротивление такого железного нутра, яд не подействовал бы и ты бы сказал, что я тебя обманула.
— И тогда, — подхватил Нерон, — я снова бросил бы тебя в подземелье и снова приставил бы к тебе прежнего тюремщика, Поллиона Юлия, — вот как бы я сделал, так что подумай хорошенько.
— Назови имя жертвы, и я тебе отвечу.
— Еще раз повторяю: я не могу и не хочу его тебе назвать. Разве у тебя нет средств, чтобы узнать неведомое, нет колдовских чар, чтобы вызвать окутанные туманом призраки, которые отвечают на твои вопросы? Думай, ищи, спрашивай: я тебе не скажу ничего, но не помешаю угадывать истину.
— Здесь я ничего не смогу сделать.
— Тебя здесь никто не держит.
— Через два часа я вернусь.
— Я хочу пойти с тобой.
— Даже на Эсквилин?
— Куда угодно.
— И ты пойдешь один?
— Да, если это необходимо.
— Иди.
Нерон знаком велел Аникету удалиться и вместе с Локустой вышел из Золотого дворца, вооруженный (по крайней мере, так казалось) одним лишь мечом. Поговаривали, правда, будто днем и ночью Нерон носил под одеждой гибкий чешуйчатый панцирь, закрывавший грудь и сработанный так искусно, что он повторял все движения тела и, хотя был тонким, выдерживал удары самых закаленных клинков и натиск самых могучих рук.
С ними не было раба, который освещал бы дорогу, и они впотьмах пробирались по римским улицам до Велабра, где находился дом Локусты. Колдунья трижды постучала в дверь. На стук вышла старуха, иногда помогавшая ей в чародействе, и с улыбкой посторонилась, пропуская молодого красавца, пришедшего, должно быть, за приворотным зельем. Локуста отворила дверь своей магической лаборатории и, войдя первой, знаком пригласила Цезаря последовать за ней.
Взору императора представилось странное смешение омерзительных и наводящих ужас предметов. Вдоль стен были расставлены египетские мумии и этрусские скелеты. Под потолком на тончайшей, невидимой проволоке висели крокодилы и диковинные рыбы. На пьедесталах возвышались восковые фигуры различных размеров, изображавшие разных людей с воткнутыми в сердце иголками и стилетами. Среди всех этих странных принадлежностей бесшумно летала вспугнутая сова; садясь, она всякий раз сверкала глазами, похожими на горящие угли, и щелкала клювом в знак ужаса. В углу жалобно блеяла черная овца, словно угадывая ожидавшую ее участь. Вскоре среди этого шума Нерону послышались стоны. Он внимательно огляделся и в самой середине комнаты вровень с землей заметил предмет, очертания которого различил не сразу. Это была человеческая голова — голова без туловища, хотя глаза и казались живыми. Вокруг шеи обвилась змея — ее раздвоенное черное жало то и дело тревожно вытягивалось в сторону императора, а затем снова погружалось в миску с молоком. На некотором расстоянии от головы, словно вокруг Тантала, были расставлены блюда с кушаньями и плодами — это зрелище наводило на мысль об истязании, о кощунстве, об издевательстве. Еще мгновение — и император больше не сомневался: услышанные им стоны издавала эта голова.
Между тем Локуста приступила к своему чародейству: окропив весь дом водой из Авернского озера, она разожгла в очаге огонь ветками смоковницы и кипариса, сорванными на могилах, бросила туда перья совы, вымазанные кровью жабы, и добавила травы, собранные в Иолке и в Иберии. Затем она присела на корточки перед огнем, бормоча невнятные слова. Когда огонь стал гаснуть, она огляделась, как будто искала что-то не сразу попавшееся ей на глаза. Затем свистнула — и змеиная голова приподнялась; спустя мгновение свистнула опять — и змея медленно стала разворачивать свои кольца. Наконец, раздался третий свисток — и змея, нехотя повинуясь, послушно, но боязливо поползла к Локусте. Та схватила ее за шею и поднесла ее голову к пламени; змея мгновенно обвилась вокруг руки колдуньи и зашипела от боли. Но Локуста еще ближе поднесла змею к огню, пока ее пасть не побелела от пены; три или четыре капли этой пены упали на золу, и этого, по-видимому, было достаточно колдунье — она тут же разжала руку, змея стремительно уползла, обвилась, будто плющ, вокруг ноги скелета и затем укрылась в его пустой груди, и какое-то время сквозь ребра, замыкавшие ее, словно в клетке, еще было видно, как она корчится от боли.
Локуста собрала золу и тлеющие угли из очага в асбестовую салфетку, взяла веревку, другим концом завязанную вокруг шеи черной овцы, и закончив, по-видимому, все, что ей надо было сделать дома, обернулась к Нерону, взиравшему на все эти чудеса с бесстрастием статуи, и спросила, по-прежнему ли он намерен сопровождать ее на Эсквилин. Нерон кивнул в знак согласия; Локуста вышла, император последовал за ней. Закрывая за собой дверь, он услышал человеческий голос, моливший о пощаде с такой невыразимой мукой, что он почувствовал жалость и хотел остановить Локусту. Но та ответила, что при малейшем промедлении ее заклинание утратит силу и, если император не последует за ней сию минуту, она будет вынуждена пойти одна или отложить дело на завтра. Нерон закрыл дверь и поспешил за Локустой. Впрочем, будучи посвященным в таинство чернокнижия, он и сам уже догадался, какое чародейство здесь готовилось. Перед ним была голова ребенка, зарытого в землю по шею: Локуста морила его голодом, заставляя смотреть на недосягаемые лакомства, чтобы потом сделать из мозга умершего и из его иссушенного гневом сердца один из тех любовных напитков, приворотных или отворотных зелий, за которые богатые римские распутники или любовницы императоров иногда платили такую цену, что на эти деньги можно было бы купить целую провинцию.
Словно две тени, Нерон и Локуста кружили по извилистым улочкам Велабра. Затем они быстро и неслышно пробрались вдоль стены Большого цирка и оказались у подножия Эсквилина. В это мгновение из-за вершины холма показался молодой месяц и на фоне посеребренной синевы неба стало отчетливо видно множество крестов: на них висели распятые тела воров, убийц и христиан, принявших равную для всех казнь. Вначале император подумал, что отравительница собирается потолковать с одним из этих трупов, но она прошла мимо них не останавливаясь и, знаком велев Нерону ждать ее, опустилась на колени возле какого-то бугорка, затем принялась, словно гиена, ногтями разрывать могильную землю и в вырытую ямку высыпала тлеющую золу, принесенную из дому; от дуновения ветерка в этой кучке вспыхнули искры. Затем она зубами прокусила горло черной овцы и хлынувшей кровью залила горящие угли. В это мгновение месяц исчез за облаком, словно не желая присутствовать при таких нечестивых деяниях, но, несмотря на покрывшую холм темноту, Нерон заметил, как вдруг выросла какая-то тень и Локуста вступила с ней в короткий разговор. Тут он вспомнил, что на этом самом месте была погребена удавленная за свои злодеяния колдунья Канидия, о которой рассказывают Гораций и Овидий. Без сомнения, именно ее проклятую тень вопрошала сейчас Локуста. Мгновение спустя призрак снова опустился под землю, месяц вышел из-за скрывшего его облака, и Нерон увидел, что к нему идет бледная, дрожащая Локуста.
— И что же? — спросил император.
— Все мое искусство будет бессильно, — прошептала Локуста.
— Разве у тебя нет больше смертельных ядов?
— Есть, конечно, но у нее имеются всемогущие противоядия.
— Так, значит, тебе известно, кого я приговорил к смерти?
— Это твоя мать, — ответила Локуста.
— Хорошо, — холодно произнес император, — тогда я найду другое средство.
Спустившись с проклятого холма, они затерялись в темных, безлюдных улицах, ведущих к Велабру и Палатину.
На следующий день Актея получила от возлюбленного письмо: он приглашал ее прибыть в Байи и ждать там приезда императора и Агриппины на праздник Минервы.
X
После сцены, описанной в предыдущей главе, прошла неделя. Было десять часов вечера. Луна, недавно показавшаяся над горизонтом, медленно подымалась за вершиной Везувия, и лучи ее серебрили весь неаполитанский берег. В ярком прозрачном свете блестел Путеоланский залив, перечеркнутый темной линией бесполезного моста: его перебросил от одного его берега к другому третий Цезарь, Гай Калигула, чтобы исполнилось предсказание астролога Фрасилла. По всей окружности залива, очертаниями напоминавшего огромный полумесяц, от оконечности Павсилиппы до Мизенского мыса, один за другим, словно звезды, меркнущие на небе, гасли огни городов, деревень и дворцов, во множестве стоящих на морском берегу и горделиво смотрящихся в эти волны, соперницы лазурных вод Киренаики. Еще какое-то время можно было видеть, как по волнам скользят в тишине запоздалые лодки с фонарем на корме, на двух парах весел или под косым парусом возвращавшиеся в Энарию, Прохиту или Байи. Но вот исчезла последняя из них, и залив стал тихим и безлюдным, лишь несколько судов покачивались на воде у пристани напротив садов Гортензия, между виллой Юлия Цезаря и Бавлийским дворцом.
Так прошел час, и за это время, в отсутствие шумов и дыхания земной жизни, ночь стала еще тише и еще безмятежнее. Ни одна тучка не омрачала неба, чистого, как море, ни одна волна не вздымалась на глади моря, отражавшего в себе небо. Луна, устремившая свой бег по сияющей лазури, казалось, на мгновение замерла над заливом как над зеркалом. В Путеолах погасили последние огни, и только Мизенский маяк пылал на далеко вдающемся в море утесе, подобно факелу в руке гиганта. Была одна из тех ночей, полных неги и сладострастия, когда Неаполь, прекрасное дитя Греции, подставляет свои померанцевые кудри ветру, а свою мраморную грудь — волнам. Порой в воздухе проносился таинственный вздох, какие поднимаются от заснувшей земли к небу, а с восточной стороны над Везувием курился белый дымок, но вокруг царил такой покой, что дым казался алебастровой колонной, гигантским обломком какого-то исчезнувшего Вавилона. Вдруг среди этой тишины и мрака матросы, отдыхавшие в лодках у берега, заметили сквозь деревья, которые наполовину скрывали от них Бавлийский дворец, сверкание пылающих факелов. Они услышали веселые голоса, раздававшиеся все ближе и ближе, и вскоре увидели, как из рощи померанцев и олеандров, окаймлявшей берег, вышла шумная процессия, озаренная светом факелов, и направилась к ним. Тогда один из моряков, по-видимому капитан самого большого корабля (изукрашенной золотом, увешанной цветочными гирляндами триремы), приказал расстелить на сходнях, соединявших корабль с берегом, пурпурный ковер, бросился на берег и замер в почтительной, угодливой позе. Это и понятно: во главе шествия, направлявшегося к кораблям, шел сам Цезарь Нерон. Его сопровождала Агриппина. Удивительно, но на сей раз — а после смерти Британика это бывало нечасто — мать опиралась на руку сына, оба они улыбались, говорили друг другу нежные слова и, казалось, отлично ладили друг с другом. Дойдя до триремы, шествие остановилось, и перед всем двором Нерон со слезами на глазах обнял мать, покрыл поцелуями ее лицо и шею, словно ему тяжело было расставаться с ней. Наконец она чуть ли не вырвалась из его объятий, и тогда, повернувшись к капитану корабля, он сказал:
— Аникет, я поручаю тебе мою мать, ты мне отвечаешь за нее головой!
Агриппина по сходням взошла на корабль. Трирема уже отчаливала и медленно удалилась от берега, взяв курс на Путеолы, а Нерон все еще стоял на том же месте, где расстался с матерью, махал ей рукой, напутствовал нежными словами; Агриппина тем же отвечала ему с корабля. Но вот корабль ушел на такое расстояние, что там уже не могли расслышать голос Нерона, и тогда сын вернулся в Бавлы, а мать спустилась в приготовленную для нее каюту.
Как только она прилегла на обитое пурпуром ложе, одна из драпировок приподнялась и к ее ногам бросилась бледная, дрожащая молодая девушка с криком:
— О матушка! Матушка! Спаси меня!
В первое мгновение Агриппина вздрогнула от неожиданности и от страха, но затем узнала в вошедшей красавицу-гречанку.
— Актея! — удивленно воскликнула она, подавая руку девушке. — Ты здесь, на моем корабле! И просишь у меня защиты… Ты так могущественна, что смогла вернуть мне расположение сына, от чего же я должна тебя спасать?
— О! От него, от меня, от моей любви… От жизни при дворе, что приводит меня в ужас, от всего, что так странно и так ново для меня.
— А ведь правда, — сказала Агриппина, — во время ужина ты вдруг куда-то исчезла. Нерон посылал за тобой, искал тебя. Почему ты это сделала?
— Почему? И ты еще спрашиваешь? Да разве можно было женщине… ах, прости… Разве можно было оставаться там, среди этой оргии, которая заставила бы покраснеть даже наших жриц Венеры? О матушка! Разве ты не слышала этих песен? Разве не видела обнаженных блудниц? А эти фигляры? Каждое их движение было позором — и не столько для них самих, сколько для зрителей! Я не могла вынести этого зрелища и убежала в сад. Но там… там было еще хуже. Эти сады вдруг ожили, как леса в древности: в каждом фонтане притаилась какая-нибудь бесстыдная нимфа, в каждом кусте скрывался какой-нибудь похотливый сатир… Ты не поверишь, матушка, но среди этих мужчин и женщин я узнала матрон и всадников… И тогда я убежала из сада, как перед тем убежала из триклиния… Сквозь открытую калитку я увидела море и бросилась туда. У берега стоял корабль; я узнала трирему Нерона и крикнула, что я из твоей свиты, что мне приказано дожидаться тебя. Тогда мне позволили взойти на корабль, и там, среди матросов, среди воинов, этих грубых, неотесанных людей, я вздохнула свободно, почувствовала себя лучше и спокойнее, чем за столом у Нерона, — а ведь там собрался цвет римской знати.
— Бедное дитя! Чего же ты ждешь от меня?
— Я прошу убежища в твоем доме на Лукринском озере, я хочу стать одной из твоих рабынь, пусть мне дадут плотное покрывало, чтобы скрыть краску стыда на моем лице.
— Значит, ты хочешь навсегда расстаться с императором?
— О матушка!..
— Значит, ты хочешь, чтобы он, словно брошенный корабль, носился по волнам в океане разврата?
— Ах, матушка! Если бы я меньше его любила, то смогла бы остаться с ним. Но посуди сама, могу ли я спокойно видеть, как он дарит другим женщинам ту любовь, что дарил мне, — то есть, я думала, что он мне ее дарит… Нет, это невозможно вынести: нельзя отдать все и получить взамен так мало. Живя среди всех этих пропащих, я пропала бы сама. Рядом с этими женщинами превратилась бы в то, чем давно стали эти женщины. И прятала бы за поясом кинжал и носила бы в перстне яд, чтобы однажды…
— Что случилось, Ацеррония? — перебила ее Агриппина, обращаясь к молодой рабыне, которая в это мгновение вошла в каюту.
— Могу я говорить, госпожа? — спросила та взволнованным голосом.
— Говори.
— Куда, по-твоему, ты направляешься?
— На мою виллу у Лукринского озера, насколько я понимаю.
— Да, вначале мы поплыли в ту сторону, но скоро, совсем скоро корабль изменил курс, и сейчас мы несемся в открытое море.
— В открытое море! — вскричала Агриппина.
— Взгляни, — сказала рабыня, отдергивая занавес, — взгляни в окно: Мизенский маяк справа от нас, а должен был остаться далеко позади. Вместо того чтобы плыть к Путеолам, мы уносимся от них на всех парусах.
— Верно, — воскликнула Агриппина, — что это значит? Галл! Галл!
На пороге показался молодой римлянин-всадник.
— Галл, скажи Аникету, что я желаю говорить с ним.
Галл и Ацеррония вышли.
— Праведные боги! Маяк погас словно по волшебству… Актея, Актея, тут, видно, затевается какая-то гнусность. О!
Меня предупреждали, чтоб я не ездила в Бавлы, но я, безумная, ничего не хотела слышать!.. Ну, что там, Галл?
— Аникет не может явиться по твоему приказанию: он занят, распоряжается спуском шлюпок на воду.
— Хорошо, тогда я сама к нему пойду… Ах! Что это за шум наверху? Клянусь Юпитером! Мы погибли, корабль наскочил на риф!
И правда: едва Агриппина произнесла эти слова и бросилась в объятия Актеи, как потолок над ними обрушился с ужасающим грохотом! Обе женщины подумали, что им пришел конец. Но по странной случайности деревянный навес над ложем Агриппины был так надежно закреплен в переборках, что смог выдержать рухнувший потолок, в то время как молодой римлянин, стоявший у двери, был раздавлен обломками. А Агриппина и Актея остались целы и невредимы в некоем подобии угла, образовавшемся под навесом. В это мгновение на корабле раздались отчаянные крики. Где-то внизу, в чреве корабля, послышался глухой шум, и обе женщины почувствовали, как пол под ними содрогается и уходит из-под ног. От днища судна отошло сразу несколько досок, и вода, заполнившая подводную часть, уже плескалась у двери. Агриппина мгновенно поняла все. Смерть подстерегала ее, затаившись одновременно над головой и под ногами. Она огляделась: потолок рушился, вода подступала все ближе, но окно, сквозь которое она видела, как погас Мизенский маяк, оставалось открытым. Это был единственный путь к спасению. Быстрым, повелительным движением она приложила палец к губам, приказывая Актее молчать, ибо речь шла о жизни и смерти, затем увлекла девушку к окну, и они, не оглядываясь назад, не колеблясь, не мешкая, обнялись и вместе выбросились наружу. И тогда им показалось, что какая-то адская сила затягивает их в бездонные морские глубины. Корабль, погружаясь в воду, стремительно вращался, и обе женщины, захваченные водоворотом, все ниже опускались в образовавшуюся воронку. Так продолжалось несколько секунд, показавшихся им вечностью. Потом увлекавшее их движение стало ослабевать. Они почувствовали, что их уже не тянет вниз, а выталкивает наверх, и наконец, полуживые, они очутились на поверхности воды. И в это мгновение, словно сквозь пелену, они увидели, как возле шлюпок показалась еще чья-то голова. И будто во сне услышали чей-то голос: "Я Агриппина, я мать Цезаря, спасите меня!" Актея тоже хотела было позвать на помощь, но вдруг почувствовала, что Агриппина тащит ее под воду, и голос ее сорвался, издав лишь невнятный звук. Когда они вынырнули, то были уже далеко, и со шлюпок их почти уже не было видно. Но Агриппина, обернувшись и продолжая рассекать воду одной рукой, другой молча показала Актее на весло, которое поднялось и с силой опустилось на голову безрассудной Ацерронии, воображавшей, будто она спасется, если крикнет убийцам Агриппины, что она мать Цезаря.
Беглянки в молчании рассекали воду, направляясь к берегу. А в это время Аникет, считая свою кровавую задачу выполненной, плыл на лодке в Бавлы, где его ждал император. Небо было по-прежнему чистым; на море вновь воцарился покой. Однако расстояние от того места, где Агриппина и Актея бросились в воду, до земли, что они стремились достичь, было весьма велико, и, проплыв больше получаса, они оставались еще в полумиле от берега. В довершение несчастья Агриппина, прыгая с корабля, поранила плечо. Она чувствовала, что правая рука у нее немеет: избежав одной опасности, она подверглась другой, еще более грозной и неотвратимой. Актея вскоре заметила, что Агриппине трудно плыть, и, хотя с уст ее не слетело ни единой жалобы, по ее стесненному дыханию Актея поняла, что она нуждается в помощи. Тогда девушка быстро подплыла к Агриппине с правой стороны, положила ее руку к себе на шею, чтобы та могла на нее опираться, и продолжала плыть, поддерживая изнемогавшую Агриппину, тщетно умолявшую девушку бросить ее и спасаться одной.
Между тем Нерон вернулся в Бавлийский дворец. Он снова занял свое место за столом, покинутым им ненадолго, и призвал новых гетер, велел привести новых фигляров, приказал, чтобы пир продолжался. Принесли лиру, и он стал петь об осаде Трои. Однако время от времени он вздрагивал, словно ледяной ток пробегал у него по жилам, а на лбу выступал холодный пот; ему то казалось, что он слышит предсмертный крик матери, то мерещилось, будто гений смерти, пролетая в нагретом, благоухающем воздухе пиршественного зала, задевает его крылом. Наконец, после двух часов этого лихорадочного бодрствования, в триклиний вошел раб, приблизился к Нерону и сказал ему на ухо какое-то слово, которое никто не мог услышать, но которое заставило его побледнеть. Он уронил лиру, сорвал с головы венок и бросился вон из пиршественного зала, никому не объяснив причины этого внезапного испуга и предоставив пирующим самим решать, продолжать ли им застолье или же разойтись. Однако волнение императора было слишком заметным, а его уход слишком поспешным, чтобы придворные не догадались, что произошло какое-то несчастье. Поэтому каждый поторопился последовать примеру своего господина, и несколько минут спустя этот зал, недавно столь многолюдный, столь шумный и столь оживленный, стал пуст и безмолвен, как разграбленная могила.
Нерон удалился в свои покои и послал за Аникетом. Тот, высадившись на берег, сразу же доложил императору об исполнении приказа, а император, уверенный в преданности этого человека, нисколько не усомнился в правдивости его рассказа. Поэтому Аникет, войдя к Нерону, был весьма удивлен, когда тот бросился на него с криком:
— Что ты мне рассказываешь, будто она умерла? Вон там дожидается посланный, которого она отправила ко мне!
— Ну, значит, этот посланный прибыл из ада, — ответил Аникет, — потому что я своими глазами видел, как обрушился потолок и как корабль пошел ко дну, своими ушами слышал голос, кричавший: "Я Агриппина, я мать Цезаря!" — и видел, как поднялось и опустилось весло, размозжившее голову той, что так неосторожно звала на помощь!..
— Ну так знай: ты ошибся, погибла Ацеррония, а моя мать спаслась.
— Кто утверждает это?
— Вольноотпущенник Агерин.
— Ты виделся с ним?
— Нет еще.
— Что предпримет божественный император?
— Могу я положиться на тебя?
— Моя жизнь принадлежит Цезарю.
— Хорошо, тогда спрячься в соседней комнате. Когда я позову на помощь, ты выбежишь оттуда, арестуешь Агерина и скажешь, что видел, как он поднял на меня оружие.
— Твои желания для меня закон, — с поклоном ответил Аникет и скрылся за дверью.
Оставшись один, Нерон посмотрелся в зеркало и заметил, что лицо его осунулось и побледнело; он воспользовался румянами, чтобы скрыть эту бледность. Затем пригладил свои кудрявые волосы, собрал в складки тогу, словно в театре перед выходом, и возлег на ложе, приняв величественную позу, в ожидании посланного Агриппины.
Посланный прибыл сообщить Нерону, что мать его спаслась. Он рассказал о страшном несчастье, постигшем трирему, и Цезарь выслушал его так, будто ничего не знал об этом. Затем он добавил, что августейшую Агриппину в ту самую минуту, когда она, теряя последние силы, надеялась только на милосердие богов, подобрала рыбацкая лодка… Она доставила ее из Путеоланского залива в Лукринское озеро по каналу, прорытому Клавдием. С берега озера Агриппину на носилках отнесли во дворец, оттуда она, сразу же по прибытии, отправила посланного к сыну, дабы известить его, что боги взяли ее под защиту и что, как бы горячо ни желал он ее видеть, она умоляет его повременить с приездом, ибо сейчас она более всего нуждается в отдыхе. Нерон выслушал рассказ до конца, превосходно разыгрывая в нужных местах ужас, изумление и радость. А затем, узнав то, что ему нужно было знать, то есть где сейчас находится Агриппина, не мешкая привел в исполнение молниеносно задуманный план. Он бросил под ноги Агерину обнаженный меч и стал звать на помощь. В то же мгновение из соседней комнаты выбежал Аникет, схватил посланного Агриппины и, прежде чем тот успел опровергнуть обвинение, подобрал меч, лежавший у его ног, передал его начальнику преторианцев, поспешивших на крик императора. Затем он забегал по переходам дворца, вопя, что Нерона только что хотели убить по приказу его матери.
Так разворачивались события в Бавлах. Что касается Агриппины, то ее, как мы уже сказали, подобрала запоздалая рыбацкая лодка, возвращавшаяся в порт. Но, до того как сесть в эту лодку, она, опасаясь, что разгневанный Нерон станет преследовать ее на вилле у Лукринского озера, и не желая увлекать за собой на погибель молодую девушку, которой была обязана жизнью, спросила у Актеи, хватит ли у той сил доплыть до берега (он уже угадывался вдали по темной линии холмов, словно отрезавшей небо от моря). Актея догадалась, какие мысли тревожили мать императора, и стала уговаривать Агриппину взять ее с собой. Но тогда Агриппина приказала девушке плыть к берегу, пообещав снова призвать ее к себе, если опасности не будет. Актея повиновалась, и только тогда Агриппина отчаянными криками привлекла к себе внимание медлительных рыбаков. Актея же, никем не замеченная, заскользила по поверхности залива, белоснежная, невесомая, похожая на лебедя, окунувшего голову в воду.
По мере того как Агриппина приближалась к берегу, он словно оживал у нее на глазах, наполнялся звуками: она видела какую-то суету, беготню с факелами, а ветер доносил какие-то возгласы, и она, охваченная тревогой, пыталась уловить их смысл. Дело было в том, что Аникет, высадившись в Бавлийской гавани, распустил слух о крушении корабля и гибели матери императора. Тогда ее рабы, клиенты и друзья вышли на берег, надеясь, что ей удастся выплыть или же волны вынесут хотя бы ее труп. Поэтому, как только из мрака вдруг выступил белый парус, вся толпа бросилась к тому месту, где должно было пристать судно, и когда стало известно, что на судне находится Агриппина, горестные причитания сменились криками радости. Мать Цезаря, приговоренная к смерти на одном берегу залива, вступила на другой берег под восторженные возгласы всех тех, кто поздравлял ее с возвращением, и с почестями, напоминавшими триумф. Слуги несли ее на руках до императорской виллы, а следом шел народ, разбуженный среди ночи и взволнованный этим событием. Двери виллы уже закрылись, а народ все не хотел угомониться: прибывало множество любопытных, кто из Путеол, кто из Бай, и все они присоединялись к ликующей толпе, что шла за Агриппиной от самого моря. Снова и снова раздавались радостные возгласы, заверения в любви и преданности, все желали видеть ту, кому сенат по приказу императора дал титул Августы.
А между тем Агриппина укрылась в самом дальнем покое своей виллы. Она вовсе не была расположена отвечать на эти приветствия, наоборот, они только усиливали ее смертельную тревогу, ведь при дворе Нерона считалось преступлением быть любимым народом, в особенности если любимец народа был в немилости у императора. Прибыв на виллу, она прежде всего вызвала вольноотпущенника Агерина, единственного человека, на которого, как ей казалось, она могла положиться, и послала его с поручением к Нерону. (Мы видели, как он его исполнил.) И только после этого она вспомнила о своих ранах. Дав их наскоро перевязать, она отослала служанок и легла, с головой завернувшись в покрывало постели, вся во власти мрачных дум. Она прислушивалась к ликующим крикам у стен виллы, с каждой минутой становившимся все громче. Вдруг эти сотни голосов разом смолкли, крики радости оборвались как по волшебству, огни факелов, дрожавшие в окнах, словно отблеск пожара, внезапно угасли. Ночь снова стала непроницаемой, опять воцарилась тишина во всей ее таинственности. И Агриппина ощутила, как по телу ее пробежала судорога, а на лбу выступил холодный пот: она догадывалась, что не без причины умолкла толпа, не случайно погасли огни. В самом деле, минуту спустя во внешнем дворе послышался звон оружия, затем раздались и неотвратимо стали приближаться тяжелые шаги, все явственнее, все громче отдаваясь в переходах и покоях дворца. Агриппина слушала этот грозный шум и продолжала лежать все в той же позе, подперев голову рукой, еле переводя дух от ужаса, но не двигаясь с места: она знала, что нет никакой надежды спастись бегством, поэтому даже не делала попыток к этому. Наконец дверь ее покоя отворилась. Тогда, собрав все свое мужество, бледная, но полная решимости, она повернулась лицом к двери. На пороге стоял вольноотпущенник Аникет, а позади него триерарх Геркулей и флотский центурион Оларит. Увидев Аникета — она знала, что он был наперсником Нерона, а иногда и палачом у него, — она поняла, что все кончено. Не опускаясь до жалоб и сетований, она произнесла:
— Если ты пришел как вестник, иди к моему сыну и скажи, что силы ко мне вернулись. Если же ты пришел как палач, делай свое дело…
Вместо ответа Аникет выхватил меч из ножен и приблизился к постели. Агриппина же, вместо предсмертной молитвы, с горделивой нескромностью приподняла покрывало и сказала убийце всего два слова: "Feri ventrem!"[23] Убийца повиновался, и мать умерла, не издав ни звука, кроме проклятия собственному чреву за то, что оно выносило такого сына.
Актея, расставшись с Агриппиной, поплыла к берегу. Однако еще издалека она увидела свет факелов, услышала крики. Не зная, что означают эти огни и этот шум, и чувствуя, что у нее хватит сил проплыть еще немного, она решила выйти на берег за Путеолами. Чтобы верно следовать этому направлению и чтобы никто не разглядел ее в лунном свете, она поплыла вдоль моста Калигулы, держась в тени, отбрасываемой мостом на воду. Время от времени она хваталась за опоры моста и отдыхала. Находясь примерно в трехстах шагах от берега, она увидела, как на мосту блеснул шлем часового, и снова поплыла в открытое море, хотя грудь у нее тяжело вздымалась, руки ослабли, — словом, пора было выбираться на берег, и как можно скорее. Наконец, она заметила на берегу подходящее место — пологое, темное и безлюдное, в то время как в Байях все еще горели факелы и слышались радостные крики. Но вот огни стали меркнуть, крики становились все глуше, а берег, который она только что различала так ясно, заволокло густым туманом, и в этом тумане вспыхивали кроваво-красные молнии. В ушах зазвенело, сначала тихо, потом все громче и громче, словно рядом с ней плыли морские чудовища и били по волнам плавниками. Она хотела было закричать, но рот наполнился водой, волна захлестнула голову.
Актея понята, что может спастись только ценой крайнего напряжения всех сил. Судорожно рванувшись вверх, она наполовину высвободилась из враждебной стихии и, делая это движение, успела вздохнуть полной грудью. Берег, недавно мелькнувший перед ней, теперь казался гораздо ближе, и она поплыла к нему. Но вскоре ею овладела странная вялость, руки и ноги стали непослушными, в голове теснились неясные, причудливые образы. В несколько минут она как сквозь пелену увидела все, что было ей дорого, вся прожитая жизнь прошла перед ее глазами. Она как будто видела старика, стоящего на берегу, он протягивал к ней руки и звал ее, но какая-то неведомая сила сковывала ее движения и тянула в морскую бездну. Потом перед глазами появился сверкающий огнями пиршественный зал, в ушах зазвучала веселая музыка. За столом сидел Нерон с лирой в руках; его любимцы рукоплескали непристойным песням; появлялись блудницы, чьи непристойные пляски оскорбляли стыдливость девушки. Тогда она захотела убежать (как сделала в действительности), но не смогла — ноги были связаны цветочными гирляндами. Однако в дальнем конце перехода, ведущего в пиршественный зал, она снова увидела старика, звавшего ее к себе. Вокруг головы у него было нечто вроде сияющего ореола, озарявшего среди тьмы его лицо. Он призывно махал ей рукой, и она понята, что будет спасена, если пойдет на его зов. Но тут все огни погасли, голоса стихли, она вновь почувствовала, что тонет, и закричала. Ей как будто ответил другой крик, но в то же мгновение вода накрыла ее голову, точно саван, и все стало зыбким и неверным, даже ощущение бытия: ей казалось, что ее, сонную, несут куда-то, что она катится вниз по склону горы и у ее подножия наталкивается на камень, — она ощутила тупую боль, как бывает во время обморока. Потом она уже не чувствовала ничего, кроме ощущения ледяного холода, который медленно подбирался к сердцу, а достигнув его, отнял у нее все, даже сознание.
Когда она очнулась, день только занимался. Она лежала на берегу, завернутая в просторный плащ. Возле нее стоял на коленях какой-то человек, поддерживая ее голову с мокрыми разметавшимися волосами. Она подняла глаза и взглянула на своего спасителя. Странное дело: ей показалось, что она узнала в нем старика из своего страшного видения. Это было то же лицо — кроткое, почтенное, умиротворенное, и Актея подумала, что ее сон все еще продолжается.
— Отец мой, — с трудом выговорила она, — ты позвал меня, и вот я пришла. Ты спас мне жизнь, так скажи, как тебя зовут, чтобы я могла благословить твое имя.
— Меня зовут Павел, — ответил старик.
— Кто ты? — спросила Актея.
— Апостол Христа.
— Я не понимаю тебя, — мягко сказала Актея, — но это не имеет значения: я верю тебе как отцу. Веди меня куда захочешь, я готова идти за тобой.
Старик встал и двинулся в путь. Актея следовала за ним.
XI
Остаток ночи Нерон провел без сна и в сильной тревоге: он опасался, что Аникет не застанет Агриппину на вилле у Лукринского озера, поскольку полагал, что она пробудет там совсем недолго, а утверждение, будто она ранена и нуждается в отдыхе — всего лишь уловка, чтобы выиграть время и беспрепятственно уехать в Рим. Он уже видел, как надменная, исполненная решимости Агриппина въезжает в столицу, как она взывает о помощи к народу, вооружает рабов, поднимает мятеж в войсках и врывается в сенат, чтобы потребовать справедливого возмездия за кораблекрушение, за свои раны, за гибель друзей. При малейшем шуме он вздрагивал, словно напроказивший ребенок, ибо, несмотря на его дурное обращение с матерью, он ни на минуту не переставал ее бояться. Он знал, на что она способна; ведь он помнил, что она сделала ради него, и потому хорошо представлял себе, как она может действовать против него. Лишь в семь часов утра в Бавлийский дворец прибыл раб Аникета. Когда его ввели к императору, он преклонил колено и вручил Нерону его собственный перстень, который убийца получил от него в знак чрезвычайных полномочий, а теперь, согласно их кровавому уговору, возвращал в доказательство того, что убийство совершилось. Тогда Нерон вскочил с места, вне себя от радости, он кричал, что только сейчас начал царствовать и что он обязан империей Аникету.
Но теперь было важно опередить молву, придумать какую-нибудь небылицу о смерти Агриппины. Он немедля приказал сочинить и отправить в Рим послание, где говорилось, что в покоях императора был схвачен Агерин, вольноотпущенник и наперсник Агриппины, пробравшийся туда с кинжалом, чтобы убить его, и что Агриппина, узнав о провале покушения и опасаясь возмездия со стороны сената, сама покарала себя за преступный замысел. Он добавил, что у матери с давних пор зрело намерение лишить его власти; она похвалялась, будто после его смерти заставит народ, преторианцев и сенат присягнуть на верность женщине. А еще он утверждал, что ссылка многих выдающихся людей — дело ее рук, и в доказательство приводил имена Валерия Капитона и Лициния Габола, бывших преторов, а также высокородной Кальпурнии и Юнии Кальвины, сестры Силана, бывшего жениха Октавии. А кораблекрушение он объяснял справедливым гневом богов, возводя поклеп на небо и лукавя перед землей. Послание это написал Сенека, у самого Нерона так дрожали руки, что он сумел лишь поставить свою подпись.
Когда первое волнение улеглось, он, как ловкий лицедей, решил разыграть роль скорбящего сына: стер румяна, все еще покрывавшие его щеки, распустил волосы, которые в беспорядке рассыпались по плечам, вместо белой пиршественной туники надел темную одежду и явился к преторианцам, к придворным, даже к рабам в облике человека, сраженного внезапным горем.
Он сказал, что поедет взглянуть на мать в последний раз. Корабль ожидал его в том самом месте, где накануне он так нежно и почтительно простился с Агриппиной. Он пересек залив, в котором пытался ее утопить, высадился на берег, к которому накануне пристала она, израненная и обессиленная. Затем направился к вилле, где разыгралась последняя сцена этой страшной драмы. Немногочисленные придворные, Бурр, Сенека и Спор, в молчании сопровождавшие его, пытались определить по его лицу, какое выражение нужно придать своему собственному. Нерон изобразил безутешную скорбь, и все его приближенные, входя вслед за ним во двор, где воины устроили первый привал, выглядели так, будто каждый из них тоже лишился матери.
Нерон поднялся по лестнице медленным, степенным шагом, как и подобает почтительному сыну, приближающемуся к телу той, что дала ему жизнь. В переходе, что вел к покоям Агриппины, он знаком приказал свите оставаться на месте и взял с собой одного лишь Спора, словно стесняясь предаваться горю в присутствии зрелых мужей. У двери он остановился, прислонился к стене и закрыл лицо плащом, как бы для того, чтобы скрыть слезы, а на самом деле — чтобы вытереть пот, стекавший по лицу. Затем, после недолгого колебания, быстро и решительно отворил дверь и переступил порог.
Агриппина еще была на своем ложе. Судя по всему, убийца постарался скрыть следы агонии: казалось, она не умерла, а спит. На тело было наброшено покрывало, оставлявшее открытым лишь голову, верхнюю часть груди и руки, которым смерть придала холодную, голубоватую бледность мрамора. Нерон стал у изножья кровати. Рядом с ним по-прежнему был Спор, чей взгляд, еще более непроницаемый, чем у его господина, выражал лишь безразличное любопытство, как если бы он созерцал опрокинутую статую. Еще мгновение — и лицо матереубийцы просветлело. Все его сомнения рассеялись, все страхи остались позади: наконец-то императорский трон, весь мир, будущее принадлежали ему одному, он будет властвовать свободно и без помех, ведь Агриппина мертва. Затем выражение радости на его лице сменилось другим, странным выражением: глаза, устремленные на руки, прижимавшие его к сердцу, на грудь, вскормившую его, загорелись тайным желанием. Он протянул руку к наброшенному на тело матери покрывалу и медленно поднял его, полностью открыв обнаженный труп. И тогда, обшарив его бесстыдным взглядом, с гадким, нечестивым сожалением в голосе он сказал:
— А знаешь, Спор, я не думал, что она была так красива.
Между тем занялся день; залив снова зажил своей обычной жизнью, и каждый вернулся к своим привычным занятиям. Разнесся слух о смерти Агриппины, и на всем берегу царило глухое беспокойство, но, несмотря на это, он, как всегда, был полон торговцев, рыбаков и досужих бездельников. Люди громко рассуждали о том, что император чудом избежал страшной опасности, и, когда их могли слышать, благодарили богов за его спасение, а затем проходили, глядя в другую сторону, мимо погребального костра, который вольноотпущенник Мнестер с помощью нескольких рабов складывал у дороги из Мизен, возле виллы диктатора Юлия Цезаря. Но весь этот шум, волнение, пересуды не достигали убежища, куда Павел поместил Актею. Это был уединенный домик, стоявший на краю мыса против острова Низида, а жила в нем семья рыбаков. Не будучи родственником хозяевам дома, старик все же имел над ними какую-то власть; однако в готовности, с какой исполнялись малейшие его желания, не чувствовалось раболепия, а одно лишь почтение: так дети повинуются отцу, верные слуги — патриарху, ученики — апостолу.
Больше всего Актея нуждалась в отдыхе. Всецело доверяя своему покровителю, поняв, что начиная с сегодняшнего дня о ней будут заботиться, уступив его настойчивым уговорам, она легла и уснула. А он сел возле нее, словно отец у постели своего ребенка, и устремив взор к небу, погрузился в глубокое созерцание. Когда девушка открыла глаза, ей не пришлось искать своего спасителя: он был рядом. И хотя при пробуждении в ее сердце ожили невыносимо мучительные воспоминания, она протянула ему руку и печально улыбнулась.
— Тебя терзает боль? — спросил старик.
— Нет, любовь! — ответила девушка.
На мгновение наступило молчание, затем Павел спросил:
— Чего бы ты хотела?
— Найти убежище, где я смогу думать о нем и плакать.
— Хватит ли у тебя сил последовать за мной?
— Идем, — сказала Актея, собираясь встать.
— Нет, дочь моя, сейчас это невозможно: ты беглянка, а меня преследует закон. Мы можем передвигаться только в темноте. Готова ли ты отправиться в путь сегодня вечером?
— Да, отец мой.
— И тебя, такую нежную и хрупкую, не страшит долгий, изнурительный переход?
— В моей стране девушки приучены бегать за козами по самым густым лесам и самым высоким горам.
— Тимофей, — обернувшись, сказал старик, — позови сюда Силу.
Рыбак взял темный плащ Павла, надел его на длинную палку, вышел из хижины и воткнул палку в землю.
Этот сигнал сразу же был замечен: через мгновение с вершины Низиды спустился к морю какой-то человек, сел в небольшую лодку и, оттолкнувшись от берега, пошел на веслах через неширокий пролив, отделяющий остров от скалистого мыса. Это не заняло много времени: примерно через четверть часа он причалил к берегу в ста шагах от дома, где его ждали, и еще через пять минут появился на пороге. Когда он вошел, Актея вздрогнула от неожиданности. Она не видела его приближения: ее взор был прикован к Бавлам.
Вновь прибывший, в котором по его золотисто-смуглому лицу, тюрбану на голове и сухощавому, стройному телу легко было узнать сына Аравии, почтительно приблизился к Павлу и приветствовал его на непонятном языке. Павел сказал ему на том же языке несколько слов, и в его голосе слышались одновременно дружеское расположение и властный приказ. Вместо ответа Сила потуже затянул ремешки сандалий, подпоясался веревкой, взял дорожный посох, преклонил колено перед Павлом, благословившим его, и вышел.
Актея с изумлением глядела на Павла: кто же он был, этот старик, управлявший людьми так мягко и вместе с тем так решительно, кому повиновались словно царю и кого почитали словно отца? За недолгое время, проведенное при дворе Нерона, она часто наблюдала у людей готовность беспрекословно повиноваться; это проявлялось по-разному, но за этим всегда стояло низменное и боязливое чувство, порожденное страхом, а не усердие, порожденное искренней преданностью. Быть может, в мире было два императора, и тот, кто скрывался от преследования, не имея ни сокровищ, ни рабов, ни войска, был могущественнее другого, со всеми его богатствами, ста двадцатью миллионами подданных и двумястами тысячами воинов? Мысли эти пронеслись в голове у Актеи с такой быстротой и так ее поразили, что она обернулась к Павлу и, сложив руки, с той же робостью и почтением, какие при ней все проявляли к этому святому старцу, спросила:
— О господин, кто же ты такой, что люди повинуются тебе, не испытывая страха?
— Я уже говорил тебе, дочь моя, меня зовут Павел, я апостол.
— Но что такое апостол? — сказала Актея. — Это оратор, вроде Демосфена? Или философ, как Сенека? У нас красноречие изображают с выходящими из уст золотыми цепями. Ты связываешь людей словом?
— Слово, которое я несу людям, не связывает, а освобождает, — с улыбкой ответил Павел, — и я не говорю людям, что они рабы, напротив: я пришел возвестить рабам, что они свободны.
— Теперь я тебя не понимаю, хотя ты говоришь на моем языке так, словно ты из Греции.
— Я провел пол года в Афинах и полтора года в Коринфе.
— В Коринфе… — прошептала Актея, закрыв лицо руками. — И как давно это было?
— Пять лет тому назад.
— А чем ты занимался в Коринфе?
— В будни я изготавливал палатки для воинов, матросов и путешественников, потому что не желал быть обузой для великодушного хозяина, у которого жил, а в субботние дни проповедовал в синагоге. Я учил женщин благонравию, мужчин — терпимости, и всех — евангельским добродетелям.
— Да, да, теперь я вспоминаю, я уже слышала о тебе, — сказала Актея. — Ты жил возле иудейской синагоги, в доме почтенного старика Тита Иуста?
— Ты знала его? — с нескрываемой радостью воскликнул Павел.
— Он был другом моего отца, — ответила Актея. — Да, да, теперь я вспомнила: иудеи выдали тебя, они отвели тебя к Галлиону, проконсулу Ахайи и брату Сенеки. Когда ты шел мимо, отец подвел меня к двери и сказал: "Смотри, дочь моя, вот идет праведник".
— Как зовут твоего отца, как твое имя?
— Моего отца зовут Амикл, а меня зовут Актея.
— Теперь я вспомнил, это имя мне не вовсе незнакомо. Но как вышло, что ты оставила отца, покинула родину? Как могло случиться, что я нашел тебя на берегу, одну, умирающую от изнеможения? Расскажи мне, что с тобой произошло, дитя мое, дочь моя, и, если у тебя больше нет родины, я дам тебе родину, если ты лишилась отца, ты обретешь его вновь.
— О нет! Никогда, никогда! Я не смею рассказать тебе об этом!..
— Неужели твои признания настолько ужасны?
— О! Я умру от стыда, не завершив рассказа.
— Что же, для того чтобы ты ставила себя выше, я должен поведать тебе о собственной низости, и скажу тебе, кто я, чтобы ты смогла рассказать о себе. Я откроюсь перед тобой в моих преступлениях, чтобы ты призналась в твоих ошибках.
— В преступлениях?..
— Да, в преступлениях. Благодарение Небу, я искупил их, и Господь, надеюсь, простил меня!.. Слушай же, дитя мое, ибо я поведаю тебе о вещах, о которых ты не имеешь ни малейшего представления, но однажды ты поймешь их и они станут для тебя смыслом жизни.
Я родился в городе Тарсе, в Киликии. За преданность, выказанную моим городом Августу, он даровал его жителям права римских граждан. Таким образом, мои родители, будучи людьми состоятельными, могли вдобавок пользоваться преимуществами, какие подобают этому званию. Там я изучил греческую словесность, процветавшую в нашем городе не меньше, чем в Афинах. Затем мой отец — он был иудей и принадлежал к секте фарисеев — отправил меня учиться в Иерусалим, к Гамалиилу, высокоученому и строгому наставнику в законе Моисеевом. В то время я звался не Павел, а Савл.
Был тогда в Иерусалиме молодой человек, на два года старше меня: звали его Иисус, что значит "Спаситель", и о его рождении рассказывали чудеса. Его будущей матери явился ангел от Господа и возвестил, что она, избранная среди женщин земли, должна произвести на свет Мессию. Через какое-то время девица эта вышла замуж за человека преклонных лет, по имени Иосиф; заметив, что она беременна, и не желая ее позора, он решил тайно отослать ее обратно к родителям. Но когда он собрался выполнить свое намерение, ему также явился ангел Господень, тот же самый, что посетил Марию, и сказал: "Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого". В те дни вышло от Цезаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, записаться с Марией, обрученной ему женою. Когда же они были там, наступило время родить ей; и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: "Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь".
Обратил Господь взор на землю и решил, что времена, предначертанные его мудростью, настали. Весь мир — или, по крайней мере, весь мир, известный науке язычников, — повиновался одной власти. Тир и Сидон рухнули по слову пророка; Карфаген был разрушен и превращен в пыль среди песков, Греция была завоевана, Галлия покорена, Александрия стала добычей пламени. Один человек через своих проконсулов повелевал ста провинциями. И всюду давало себя почувствовать острие меча, рукоять которого сжимали в Риме. Но, несмотря на видимое могущество, здание язычества колебалось на своем фундаменте из глины: какое-то прежде неведомое, повсеместное беспокойство возвещало, что сердце старого мира слабеет, что близок неизбежный перелом и людям явится нечто новое, неведомое. Уже не осталось правосудия, ибо власть стала беспредельной; уже не осталось людей, ибо было слишком много рабов; уже не осталось веры, ибо число богов было чрезмерным. Когда я прибыл в Иерусалим, там, как я сказал тебе, уже появился человек, говоривший людям: начальствующим — "Делайте только то, что вам приказано, и ничего сверх этого"; богатым — "У кого две одежды, тот дай неимущему"; хозяевам — "Нет ни первого, ни последнего, земное царство принадлежит сильным, а царство небесное принадлежит слабым"; всем другим — "Боги, которым вы поклоняетесь — ложные боги, и есть только один всемогущий Бог, создатель неба и земли, и он мой отец, ибо я — Мессия, обещанный вам в Писании".
Но я тогда был слеп и глух и затворил глаза и уши, или, вернее, их затворила мне зависть. Затем пришла ненависть и стала причиной моей погибели. Я расскажу тебе, как я превратился в жестокого преследователя Богочеловека, чьим недостойным, но верным апостолом стал теперь.
Однажды Петр и я ловили рыбу на Генисаретском озере (оно теперь называется Тивериада) и за целый день ничего не смогли поймать. И вот на берег озера вышел Иисус, за ним следовала возбужденная толпа, желавшая услышать его слово. То ли лодка Петра была ближе к берегу, то ли сам Петр был достойнее меня, но Иисус выбрал его лодку, сел в нее и стал проповедовать народу, собравшемуся на берегу. Кончив говорить, он сказал Петру: "Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова". Петр ответил: "Наставник! Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, так неужели сейчас нам посчастливится?" — "Делай, что я сказал", — ответил ему Иисус.
Петр закинул сеть, и улов был такой, что она чуть не лопнула, а когда он вывалил всю рыбу в лодку, лодка так нагрузилась, что едва не пошла ко дну. Тогда Петр, а также Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, бывшие с ним в лодке, бросились на колени, поняв, что здесь совершилось чудо. А Иисус сказал им: "Не тревожьтесь о будущем, вам больше не ловить рыб, теперь вы станете ловцами человеков". Он вышел из лодки на берег озера и увел их за собой.
Оставшись один, я подумал: "Отчего бы и мне не наловить рыбы там, где она ловилась у других?" Я тоже выплыл на середину озера, десять раз закидывал сети в том самом месте, где они закидывали свои, и все десять раз вытаскивал их пустыми. И тут, вместо того чтобы сказать себе: "Этот человек действительно тот, за кого он выдает себя, он послан Богом" — я подумал: "Этот человек, как видно, чернокнижник и умеет колдовать". И сердце мое наполнилось великой завистью к нему.
Но так как в это время он покинул Иерусалим и отправился проповедовать по всей Иудее, моя зависть стала слабеть, а вскоре я забыл того, кто внушил мне это чувство. Но вот однажды, во время торговли в храме, как было принято у нас, мы услышали, что Иисус возвращается и люди прославляют его больше чем когда-либо: он исцелил в пустыне расслабленного, возвратил в Иерихоне зрение слепому, а в Наине воскресил мертвого. Всюду, где он проходил, люди расстилали свои одежды на дороге, а ученики шли за ним исполненные радости, неся в руках пальмовые ветви и громким голосом славя Господа за чудеса, свидетелями которых они стали.
Так, в сопровождении учеников, он вошел в храм. Однако, увидев, что в храме теснилось множество продавцов и покупателей, он стал гнать нас со словами: "Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников". Вначале мы хотели воспротивиться, но потом поняли, что все будет бесполезно: против этого человека нельзя ничего предпринять, ибо народ в самозабвении внимал ему и упивался его словами. Тут во мне снова пробудилась былая вражда к Иисусу, но теперь к ней примешивался гнев. Зависть превратилась в ненависть.
Немного времени спустя я узнал, что в праздничный вечер, когда Иисус возлежал за пасхальной трапезой вместе с учениками, к нему ворвался отряд воинов, ведомый его учеником Иудой, и его схватили по приказу первосвященника. Затем Иисуса отвели к Понтию Пилату, а тот, узнав, что он из Назарета, велел доставить его к Ироду, вершившему суд в Галилее. Но Ирод не нашел за ним никакой вины — кроме разве того, что он называл себя царем Иудейским, — и отослал его обратно к Пилату. А тот, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им: "Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, но ни Ирод, ни я не нашли человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его, и ничего не найдено в нем достойного смерти; итак, наказав его, отпущу".
Но весь народ стал кричать: "Сегодня праздник Пасхи, ты должен отпустить нам одного узника, так пусть этот умрет, а ты отпусти нам Вар-Авву".
И я тоже, — сдавленным голосом произнес старик, — я тоже был тогда среди народа и кричал со всею силой своей ненависти: "Пусть этот умрет, отпусти нам Вар-Авву!"
Пилат снова обратился к толпе, прося сохранить жизнь Иисусу, но толпа ответила: "Распни его, распни его!"
И мой голос, — продолжал старик, ударяя себя в грудь, — и мой голос раздавался в этой толпе, и я изо всех сил кричал: "Распни его, распни его!"
Наконец Пилат приказал, чтобы Вар-Авву выпустили из темницы, а Иисуса передал на волю его палачей.
Увы, увы! — воскликнул старик, простираясь ниц, — увы мне! Господи, прости меня, Господи, я следовал за тобой до Голгофы. Господи, я видел, как пригвоздили тебе руки и ноги, как копьем пронзили тебе ребра, как ты испил желчь. Господи, я видел, как небо покрылось тьмой, как солнце померкло, как завеса в храме разорвалась посередине. Я слышал, как ты испустил громкий крик: "Отче, в руки твои предаю дух мой!" Господи, я слышал, как земля отозвалась на твой крик, содрогнувшись до самых глубин! Нет, неправда, я ничего не видел, ничего не слышал, ведь я сказал, Господи, что был тогда слеп и глух… Господи, Господи, прости меня, я виновен, виновен, виновен бесконечно!
Некоторое время старик лежал, уткнувшись лицом в землю, молясь и стеная едва слышно. Актея безмолвно глядела на него, сложив руки и дивясь такому раскаянию и самоуничижению этого человека, ведь она считала его столь могущественным!..
Наконец он встал и сказал:
— Это еще не все, дочь моя. Ненависть к пророку сменилась ненавистью к его ученикам. Апостолы, целиком посвятившие себя молитве и слову Божьему, избрали из своих учеников семерых, коим надлежало раздавать милостыню нуждающимся. Но народ возмутился против одного из них, по имени Стефан. Его заставили явиться в совет, где лжесвидетели обвинили его в том, что он изрыгал хулу на Бога, на Моисея и на Моисеев закон. Совет осудил Стефана. Тогда враги бросились на него и поволокли его за город, чтобы там побить камнями согласно закону о богохульстве. Я был среди тех, кто требовал казни первого мученика: я не бросал в него камни, но стерег одежды бросавших. Наверное, предсмертная молитва святого относилась и ко мне, когда он сказал эти возвышенные слова, неизвестные до Иисуса Христа: "Господи, Господи, не вмени им греха сего, ибо не ведают, что творят!"
Между тем время моего обращения хотя и не наступило, но неуклонно и быстро приближалось. Первосвященники, видя, с каким ожесточением я преследую новую Церковь, послали меня в Сирию, чтобы я там разыскивал обратившихся в христианство и приводил в Иерусалим. Я ехал вдоль берега Иордана от реки Иахер до Капернаума. Я снова увидел Генисаретское озеро, где был некогда свидетелем чудесной рыбной ловли. Наконец, еще пылая жаждой мести, я достиг горной цепи Ермон. И вот, поднявшись на вершину горы, откуда открывается вид на Дамасскую равнину и двадцать семь рек, которые ее орошают, я увидел свет с неба. Поток света хлынул на меня и опрокинул на землю. Я упал как мертвый и услышал голос, говоривший мне: "Савл! Савл! Что ты гонишь меня?"
"Кто ты, Господи^ — дрожа, ответил я, — и чего ты хочешь от меня?"
"Я Иисус, которого ты гонишь, — продолжал голос, — и я хочу, чтобы ты, прежде пытавшийся заглушить мое слово, отныне проповедовал его повсюду".
"Господи, — сказал я и задрожал еще сильнее, и ужас мой достиг предела. — Господи, что я должен сделать?"
"Встань и иди в город, и там тебе скажут, что ты должен сделать".
Люди, сопровождавшие меня, были напуганы почти так же, как я: в ушах у них раздался могучий голос, но они не видели никого. Наконец голос смолк; я поднялся с земли и открыл глаза. Но тогда мне показалось, что этот ослепительный свет сменился кромешной тьмой. Ничего не видя, я вытянул руки вперед и сказал: "Ведите меня, я ослеп". И один из моих слуг взял меня за руку и привел в Дамаск. Там я три дня ничего не видел, не пил и не ел.
На третий день я ощутил, как ко мне приближается человек, вовсе мне незнакомый, и однако я знал, что его имя Анания. Кто-то возложил на меня руки, и чей-то голос сказал: "Брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа". И тотчас как бы чешуя отпала от глаз моих, и я прозрел. Тогда я упал на колени и попросил о крещении.
И с той поры, столь же усердствуя в вере, сколь прежде упорствовал в ненависти, я обошел всю Иудею от Сидона до Арада, от горы Сеир до речного потока Безор. Я побывал в Азии, Вифинии, Македонии, я видел Афины и Коринф, останавливался на Мальте, причалил в Сиракузах и оттуда, обогнув Сицилию, вошел в Путеоланскую гавань. Я провел здесь две недели в ожидании писем из Рима; вчера я получил их. Это письма от моих братьев, они зовут меня к себе: день торжества близок, и Господь прокладывает нам дорогу, ибо он дарует надежду народу, но в то же время насылает безумие на императоров, чтобы разрушить старый мир и снизу и сверху. Не случай, но Провидение наслало на Тиберия навязчивый страх, на Клавдия — глупость, а на Нерона — безумие. Подобные императоры заставляют усомниться в богах, которым они поклоняются. А потому боги и императоры будут низвергнуты в одно и то же время: одних ожидает презрение, других — проклятие.
— Отец мой, — воскликнула Актея, — не надо, сжальтесь надо мной!..
— О! Но что тебе за дело до этих кровопийц? — удивленно ответил Павел.
— Отец мой, — сказала девушка, закрыв лицо руками, — ты рассказал мне свою жизнь и хочешь узнать о моей. Моя история коротка, на ужасна и преступна. Я — возлюбленная Цезаря!
— Я вижу здесь вину, но не преступление, — сказал Павел, глядя на нее с любопытством и сочувствием.
— Но я люблю его! — воскликнула Актея. — Люблю так, как никогда не полюблю ни человека на земле, ни богов на небе!
— Увы! Увы, — прошептал старик, — вот в чем преступление, — и, преклонив колена в углу хижины, стал молиться.
XII
Когда наступила темнота, Павел препоясался, затянул ремни на сандалиях, взял посох и повернулся к Актее. Она собралась и готова была бежать. Куда? Это ей было безразлично: лишь бы подальше от Нерона. Сейчас ужас и отвращение, испытанные накануне, еще побуждали ее исполнить это намерение. Но она сама сознавала, что стоит промедлить еще день, стоит ей только увидеть человека, имевшего такую власть над ее сердцем, как все будет кончено: мужество ее иссякнет и ее безвестная жизнь затеряется в этой стремительной и бурной жизни, словно ручей в Океане. Странное дело, но ее возлюбленный все еще оставался для нее Луцием, а вовсе не Нероном; победитель игр был одним человеком, император — другим, и собственное существование Актеи как бы имело две стороны: на одной была ее любовь к Луцию, и это было явью; на другой — любовь Нерона к ней, и это казалось ей сном.
Она вышла из хижины, и взгляд ее упал на залив, свидетель страшного кораблекрушения, о котором мы рассказывали: море было спокойно, воздух чист, луна освещала небо, а Мизенский маяк — землю. Поэтому другой берег залива был виден почти так же хорошо, как в лучах заката. Актея разглядела темную массу деревьев, окружавшую дворец в Бавлах, и, подумав, что там остался Луций, остановилась и вздохнула. Павел немного помедлил. Затем подошел к девушке и участливо спросил:
— Так ты идешь, дочь моя?
— Ах, отец мой, — сказала Актея, не осмеливаясь открыть Павлу, какое чувство ее удерживает, — вчера я уехала от Нерона вместе с его матерью Агриппиной; корабль, на котором мы плыли, потерпел крушение, и мы обе спаслись вплавь. Но я разминулась с ней, ее подобрала рыбацкая лодка. Мне не хотелось бы покидать этот берег, не узнав, где она сейчас.
Павел протянул руку в сторону виллы Юлия Цезаря и, показывая Актее яркий свет, видневшийся между виллой и дорогой из Мизен, сказал:
— Видишь это пламя?
— Вижу, — отвечала Актея.
— Так вот, — произнес старик, — это пылает погребальный костер Агриппины.
И, словно поняв, что его скупые слова были исчерпывающим ответом на все мысли, тревожившие Актею, он двинулся в путь. И действительно, Актея сразу же последовала за ним — без единого слова, без единого вздоха.
Сначала они шли берегом залива, потом через Путеолы, наконец вышли на дорогу, ведущую в Неаполь. В полульё от города они оставили его справа и свернули на тропинку, что привела их к капуанской дороге. В первом часу утра они увидели впереди Ателлу. И вскоре на дороге заметили человека, который как будто ждал их. Это был Сила, посланец Павла. Старик обменялся с ним несколькими словами. Затем Сила пошел полем, а Павел и Актея — за ним. Они остановились перед уединенным домиком, где их, как видно, ждали: стоило Силе постучать, как дверь сразу же открылась.
Вся семья, а также слуги собрались в изящно отделанном атрии, явно в ожидании. Стоило старику появиться на пороге, как все преклонили колени. Павел простер над ними руки и благословил. Затем хозяйка дома отвела его в триклиний. Там был накрыт стол для ужина, но прежде хозяйка захотела сама омыть ноги страннику. Актея, чуждая этой новой религии, обуреваемая мрачными думами, попросила, чтобы ей дозволили уединиться. Тогда красивая девушка лет пятнадцати-шестнадцати, окутанная покрывалом, словно весталка, отвела ее в свою комнату, затем вышла и тут же вернулась, неся гостье долю семейной трапезы.
Все удивляло Актею: раньше, в доме отца, о христианах говорили лишь как о секте философствующих безумцев, недавно влившейся в число разнообразных мелких школ, где спорили об идеях Пифагора, о морали Сократа, о философии Эпикура или о теориях Платона. А при дворе Цезаря их называли человеческим отребьем, приверженным самым диким суевериям и предававшимся самым гнусным бесчинствам. Их не жалко было отдать народу, если народ требовал искупительного жертвоприношения, или бросить на растерзание львам, если знать требовала празднества. Один только день провела она с христианами, но этих недолгих часов было достаточно, чтобы развеять предубеждение против них, внушенное ей греческой мудростью и императорской ненавистью. В новой секте ей ближе и понятнее всего была преданность, проявляемая друг к другу членами братства, ведь преданность — почти всегда главнейшая добродетель любящей женщины, какой бы веры она ни придерживалась. И Актея почувствовала, что ее влечет к себе эта религия, учившая сильных покровительствовать слабым, богатых — заботиться о бедных и мучеников — молиться за своих палачей.
Вечером, в тот же час, что и накануне, они отправились в путь. На этот раз переход оказался продолжительнее: путники обогнули Капую, которая из-за оплошности Ганнибала стала не менее знаменита, чем другие города — благодаря славным победам. Затем они вышли к реке Вольтурн. Как только они показались на берегу, из маленькой бухточки по направлению к ним двинулся перевозчик на своей лодке. Когда он приблизился, Павел сделал ему условный знак; незнакомец ответил тем же, и старик с девушкой сели в лодку.
Высадившись на другом берегу, Павел протянул перевозчику монету. Но тот, упав на колени, без слов поцеловал край одежды апостола и долго еще оставался в этой смиренной позе после того, как столь почитаемый им старец удалился. Они снова пошли по дороге и в три часа заметили человека, сидевшего на большом камне: такие камни римляне ставили по обочинам дороги, чтобы путникам было удобнее садиться на коней. При их приближении тот человек встал. Это был все тот же молчаливый, неутомимый гонец: как и накануне, он ждал их, чтобы проводить в приготовленное им убежище. Сегодня это был не богатый дом как накануне, а бедная хижина, не изысканный ужин в блистающем мрамором триклинии, а ломоть хлеба, смоченный слезами: бедняк делился последним куском так же благоговейно, как богач — своей роскошью.
У человека, который встретил их у порога, на лбу было клеймо раба, на шее — железный ошейник, на щиколотках — железные кольца. Он был пастухом на вилле одного богача, пас тысячи овец, принадлежавших скупому и жестокому хозяину, и у него не было даже овечьей шкуры, чтобы набросить на свои плечи. Он приготовил для гостей хлебец и воду в простом керамическом кувшине, но изящной формы. А ложе для них он устроил в углу, бросив туда охапку папоротника и тростника. И, поступив так, человек этот, без сомнения, сделал перед лицом Господа больше, чем сделал бы богач, предложив самое изысканное гостеприимство.
Павел сел за стол, рядом села Актея. А хозяин, позаботившись о них как мог, скрылся в соседней комнате. Вскоре через неплотно закрытую дверь до них донеслись стоны и рыдания. Актея тронула Павла за руку:
— Вы слышите, отец мой?
— Да, дочь моя, — ответил старик, — здесь льются горькие слезы, но тот, кто причиняет боль, может даровать и утешение.
Немного времени спустя хозяин дома вернулся и, не говоря ни слова, уселся в углу, поник головой и закрыл лицо руками.
Видя его печаль и уныние, Актея опустилась на колени рядом с ним:
— Раб, — сказала она едва слышно, — отчего ты не доверишься этому человеку? Быть может, ему под силу ободрить тебя в печали, утешить в горе?
— Благодарю тебя, — ответил раб, — но наша печаль и наше горе не из тех, что врачуют словами.
— Маловерный, — сказал Павел, вставая с места, — отчего ты сомневаешься? Разве не знаешь, какие чудеса творит Христос?
— Но ведь Христос умер, — воскликнул раб, подняв голову, — иудеи пригвоздили ему руки к кресту, и теперь он на небе, одесную отца своего! Да святится имя его!
— Разве ты не знаешь, — продолжал Павел, — что он передал свою власть апостолам?
— Дитя мое, бедное мое дитя! — воскликнул раб, разражаясь рыданиями и не отвечая старику.
Из соседней комнаты раздался глухой стон, словно эхом отозвавшийся на этот крик душевной боли.
— Отец мой, — сказала Актея, обернувшись к Павлу, — если вы можете сделать что-нибудь для этих несчастных, молю вас, сделайте это. Хоть я не знаю причины их горя, но оно надрывает мне душу. Спросите же, что с ним случилось, быть может, вам он ответит.
— Я и так знаю, что с ним случилось: ему недостает веры, — сказал Павел.
— И ты хочешь, чтобы я верил? — воскликнул скорбящий отец. — Хочешь, чтобы я надеялся? Всю свою жизнь, вплоть до сегодняшнего дня я не знал ничего, кроме горя: раб и сын раба, я не испытал ни минуты радости. В детстве я не был свободен даже в объятиях матери. В юности непрестанно трудился, подгоняемый палкой и бичом. Теперь, когда я стал мужем и отцом, у меня ежедневно отнимают половину пропитания, которое необходимо моей жене и ребенку! А до ребенка моего добрались, когда он был еще в утробе матери, ее избили, и он появился на свет проклятым, немым уродцем! Но мы любили его и таким, жертвой гнева небес, мы надеялись даже, что само это несчастье избавит его от рабского удела! Но нет! Нам не дали вкусить и этой радости. Вчера наш хозяин продал его торговцу живым товаром, одному из тех, что наживаются на людских увечьях: они набирают всевозможных уродов и калек и посылают их просить милостыню на улицах Рима. Каждый вечер этим несчастным растравляют язвы или ломают кости. И вот завтра, завтра у нас отнимут наше дитя, чтобы обречь его на муки, и наше бедное, невинное безгласное дитя не сможет даже позвать нас на помощь и проклясть своих мучителей!..
— А что если Бог исцелит твое дитя? — спросил Павел.
— О, тогда бы его оставили нам, — воскликнул отец, — ведь эти изверги продают и покупают его увечье, его злосчастье: искривленные ноги и непослушный язык. Если бы он пошел и заговорил, то стал бы таким, как все дети, и никто не пожелал бы купить его, пока он не вырастет.
— Открой дверь, — сказал Павел.
Раб встал; его пристальный, удивленный взгляд был исполнен сомнения и в то же время надежды. Он подошел к двери и открыл ее, повинуясь приказу старика. И тогда взору Актеи, хоть и затуманенному слезами, открылась соседняя комната. Здесь тоже лежала охапка соломы, служившая постелью; на соломе сидел мальчик лет четырех-пяти, беспечно улыбаясь и играя разбросанными вокруг цветами. А рядом распростерлась на земле женщина: она лежала ничком, неподвижно, будто окаменев, вцепившись руками в волосы, и походила на статую Отчаяния.
При этом зрелище лицо апостола озарилось верой и упованием: его напряженный горящий взор поднялся к небу, словно достигая трона Всевышнего. Вокруг его седой головы заиграл луч света, подобный ореолу, и, не двигаясь с места, он медленно, торжественно простер руки к мальчику со словами:
— Именем Бога живого, Творца неба и земли, — встань и говори!
И мальчик встал и сказал:
— Господи! Господи! Да святится имя твое!
Мать с воплем вскочила на ноги, отец упал ниц: ребенок был спасен.
Павел вышел, затворив за собой дверь, и сказал:
— Вот семья рабов, счастью которой могла бы позавидовать семья императора.
Следующей ночью они снова отправились в путь и достигли города Фунды. Во время этого путешествия в таинственной ночной тишине Актея снова увидела те места, по которым она проезжала с Нероном после его победы на играх. В Фундах им тогда устроил пышный прием Гальба, — тот самый старик, кому оракулы сулили императорскую корону. Поскольку будущий цезарь намеренно жил в уединении и безвестности, Нерон успел забыть предсказание; однако встреча в Фундах освежила его память, и по возвращении в Рим первой его заботой было удалить Гальбу из Италии. И Гальба был назначен наместником в Испанию. Он немедленно собрался и отбыл туда, по-видимому еще более торопясь расстаться с императором, чем император торопился удалить его от трона.
Перед отъездом Гальба дал свободу самым преданным своим рабам; одного из этих вольноотпущенников, принявшего христианскую веру, Сила попросил приютить старика и девушку. Этот раб прежде ухаживал за плодовым садом Гальбы и в день освобождения получил от него в дар домик садовника, где прожил долгие годы; из окна этого убогого жилища Актея в лунном свете увидела великолепную виллу, в которой она останавливалась с Луцием. И то первое путешествие теперь казалось ей сном. Сколько нового и необычного успела она узнать! Сколько иллюзий развеялось при первом же прикосновении к ним! Сколько горестей, о самом существовании которых она прежде не подозревала, вошло с тех пор в ее жизнь! Как все изменилось для нее! Цветущие сады, где она мысленно все еще гуляла, увяли и облетели, и в ее безрадостной одинокой жизни уцелела одна только любовь, вечно новая, вечно та же, нерушимая, незыблемая, словно пирамида посреди пустыни.
Они шли еще три дня или, вернее, три ночи. Едва светало, они прятались, а с наступлением темноты продолжали путь, все время предшествуемые Силой, останавливаясь каждый раз у неофитов (за последнее время в христианство обратились очень многие, особенно среди рабов и простого народа). Наконец на третий день, вечером, они вышли из Велитр, древней столицы вольсков, где погиб Кориолан и родился Август. Когда из-за горизонта показалась луна, они уже были на вершине горы Альбано. На этот раз Сила шел вместе с ними, опережая их всего шагов на триста. У гробницы Аскания он остановился, подождал, пока они подойдут, и, указав рукой на море огней внизу, откуда доносился глухой рокот, произнес одно лишь слово, возвещавшее старику и девушке, что их путешествие окончено:
— Рим!..
Павел упал на колени и возблагодарил Господа за то, что после стольких опасностей он благополучно завершил путь и достиг желанной цели. Актее же пришлось опереться о стену гробницы, чтобы не упасть: слишком много сладких и мучительных воспоминаний было связано с названием этого города и с этим самым местом, откуда она увидела его в первый раз.
— Отец мой, — сказала она, — я пошла за тобой, не спросив, куда мы направляемся, но если бы я знала, что надо идти в Рим… Ах! Наверно, мне бы не хватило мужества.
— А мы не идем в Рим, — ответил старик, подымаясь с колен. Внезапно Сила увидел, что по Аппиевой дороге скачет конный отряд. Всадники приближались; тогда он свернул с дороги направо, а Павел и Актея пошли за ним.
Они пробирались среди полей между Латинской дорогой и Аппиевой, избегая отходящих от первой из них двух дорог: той, что ведет к Марине у Альбанского озера, и той, что ведет к храму Нептуна близ Анция. Так они шли два часа, затем, миновав храм Фортуны — покровительницы женщин, оставшийся справа от них, и храм Меркурия, стоявший слева, оказались в долине Эгерии. Некоторое время они шли вдоль речки Альмон, а потом свернули вправо, прошли по склону горы, что был усеян обломками скал, вероятно осыпавшимися с горы во время землетрясения, и внезапно перед ними открылся вход в пещеру.
Сила вошел первым и тихим голосом предложил путникам следовать за ним. Но Актея невольно вздрогнула при виде неожиданно возникшего черного отверстия: оно походило на пасть чудовища, готового ее поглотить. Павел почувствовал, как она касается его руки, словно желая удержать, и понял, что она испугалась.
— Не бойся, дочь моя, — сказал он, — Господь не оставит нас.
Актея вздохнула, бросила последний взгляд на усеянное звездами небо перед тем, как оно исчезло из виду, и вместе с Павлом вошла под своды пещеры.
Пройдя несколько шагов в полной темноте — проводником им служил только голос Силы, — Павел остановился у одного из широких столбов, поддерживавших своды. Он взял два камня, ударил одним о другой, и от вспыхнувшей искры зажег тряпицу, пропитанную серой, затем достал из углубления в скале факел.
— Сейчас мы вне опасности, — сказал он, — пусть хоть все воины Нерона гонятся за нами — им нас не найти.
Актея огляделась и вначале ничего не увидела: пламя факела едва не погасло от сильного сквозного ветра, проникавшего в пещеру; оно бросало слабые дрожащие отблески, похожие на бледные молнии и лишь на мгновение выхватывало из тьмы какие-то предметы, не давая разглядеть их очертания и цвет. Постепенно ее глаза привыкли к этому неверному свету, пламя факела сделалось ровнее, а круг света — значительно шире. И тогда путникам стал виден уходящий в высоту темный свод пещеры; сквозняк прекратился, и факел ярко осветил им путь. Они то пробирались сквозь узкую расселину, то выбирались на каменистые площадки, то спускались в глубокие впадины, где факел едва не гас, освещая замирающим светом углы столбов, белых и неподвижных, будто призраки. В этом ночном шествии, при шуме шагов, хоть и легком, но мрачно и гулко отдававшемся под сводами, при нехватке воздуха, от непривычки сдавившей грудь, было что-то печальное и гнетущее, и сердце у Актеи сжалось как от горя. Внезапно она остановилась, вздрогнула, тронула Павла за руку, а другой рукой показала на линию гробов, заполнявших одну из стен пещеры. В это же время в темных переходах показались вереницы женщин, одетых в белое и похожих на привидения; все они несли факелы и двигались в одном направлении. Следуя дальше, Павел и Актея вскоре услышали нежные звуки, словно запел хор ангелов, и это дивная мелодия свободно лилась под гулкими сводами. На столбах появились светильники, указывавшие дорогу. Гробы стали попадаться все чаще, мелькающих теней в переходах стало больше, пение слышалось громче и явственнее: все ближе был подземный город, и в его окрестностях обнаруживалось все больше обитателей, мертвых и живых. Иногда под ногами лежали рассыпанные васильки и дикие розы, упавшие с чьих-то венков и печально увядавшие здесь вдали от воздуха и солнца. Актея стала подбирать бедные цветы — ведь они, как и она сама, дети простора и света, были угнетены тем, что похоронены здесь заживо, — и сделала из них бледный, лишенный аромата букет, подобно тому, как из остатков былого счастья пытаются создать надежду на будущее. И вот, наконец, за поворотом одного из бесчисленных закоулков этого лабиринта им открылось обширное пространство, вытесанное в камне, нечто вроде подземной базилики, освещенной висячими лампами и факелами. Казалось, здесь собрались все здешние жители: мужчины, женщины, дети. Под сводами звучал гимн, который Актея уже слышала издали; его пел хор девушек в длинных белых покрывалах. Сквозь коленопреклоненную толпу шел священнослужитель: он готовился совершить таинство, однако, не дойдя до алтаря, вдруг остановился, к удивлению своих духовных чад.
— Среди нас, — воскликнул он с благочестивым воодушевлением, — находится тот, кто более меня достоин нести вам слово Божье, ибо слышал его из уст сына Божьего. Приблизься, Павел, и благослови братьев твоих.
И народ, давно ждавший посещения апостола, опустился на колени. И язычница Актея поступила как все. А будущий мученик поднялся по ступеням к алтарю.
Они были в катакомбах!..
XIII
Это был целый город, образовавшийся под Римом.
В судьбах земли, народов и людей есть нечто сходное: у земли бывают катаклизмы, у народов — революции, у людей — болезни. Все они переживают детство, зрелость и старость. Вот только возраст у них исчисляется по-разному: у земли — тысячелетиями, у народов — веками, у людей — днями жизни.
Всем им отмерено свое время, в течение которого они переживают переходные моменты. И тогда происходят небывалые события, порожденные прошлым и в то же время подготавливающие будущее. Ученые исследуют такие события и приходят к выводу, что они суть игра природы, случайность. А верующему сразу становится ясно, что все это — воля Провидения. Рим, вступивший в одну из этих необъяснимых эпох, уже ощущал странные содрогания, сопровождающие рождение и падение империй: он чувствовал, как в его гигантской утробе шевелится неведомое детище, которое он должен произвести на свет. Рим был поражен смертельным недугом и, как в горячечном бреду, не зная ни сна, ни отдыха, проживал последние годы язычества, и припадки неистовства чередовались у него с приступами уныния. Ибо, как мы уже сказали, под покровом внешней, видимой цивилизации, суетившейся на поверхности земли, зародилось новое начало, глубинное, скрытое от глаз, и оно несло с собой разрушение и возрождение, смерть и жизнь, мрак и свет. Где-то рядом, вокруг, то и дело происходили события, которые Рим в своем ослеплении не мог понять и о которых его поэты рассказывают как о чудесах. Из-под земли доносились странные звуки: считалось, что их издают божества преисподней. Мужчины, женщины, целые семьи внезапно исчезали неизвестно куда. Ате, кого считали умершими, вдруг являлись из царства теней, угрожали, пророчествовали. Подземный огонь нагревал этот гигантский тигель; в нем, наподобие золота и свинца, кипели добрые и дурные страсти: но золото оседало на дно, а свинец оставался на поверхности. Катакомбы были таинственным сосудом, где по капле собиралось богатство грядущего.
Как нам теперь известно, это были обширные и заброшенные каменные карьеры; весь Рим с его домами, дворцами, театрами, банями, цирками, акведуками — весь Рим, камень за камнем, вышел оттуда. Это было лоно, породившее город Ромула и Сципиона. Однако, с тех пор как при Октавиане на смену камню пришел мрамор, в этих просторных галереях уже не отдавались гулким эхом шаги каменотесов. Травертин стал слишком простым и заурядным, и императоры приказывали доставлять порфир из Вавилона, гранит — из Фив, бронзу — из Коринфа. Огромные пещеры, вырытые под Римом, стояли заброшенные, пустые, забытые, пока зарождающееся христианство мало-помалу не заселило их снова: сначала они были храмом, затем — убежищем и наконец — городом.
В то время, когда Актея и старец спустились в катакомбы, те были еще только убежищем: каждый, кто страдал в неволе, каждый, кто был несчастен, каждый, кого преследовал закон, мог быть уверен, что найдет там приют, слово утешения и могилу. Люди укрывались во тьме катакомб целыми семьями; новая вера уже насчитывала тысячи сторонников; но среди громадного скопища людей, живших на поверхности Рима, ни один не заметил этого проникновения под землю: исчезавших было все же не так много, чтобы их отсутствие всем бросалось в глаза, да и численность населения города почти не снизилась.
Не следует думать, однако, будто вся жизнь первых христиан сводилась к тому, чтобы скрываться от гонений, тогда как раз начавшихся. Чувство духовного единения, благочестие и мужество побуждали их действовать всякий раз, когда их братьям, которых какая-нибудь необходимость еще удерживала в стенах языческого города, угрожала опасность. Бывало, что в грозную минуту неофит из верхнего города неожиданно получал помощь снизу: у него под ногами открывался невидимый люк и затем закрывался над его головой. Или дверь темницы непостижимым образом поворачивалась на штырях, и тюремщик убегал вместе с узником. А если гнев гонителей поражал мгновенно, как молния, если неофит превращался в мученика, то, будь он удавлен в Туллиевой темнице, или обезглавлен на городской площади, или сброшен вниз с Тарпейской скалы, или же, наконец, распят на вершине Эсквилина, — ночной порой осторожные старики, отважные юноши, а иногда и робкие женщины окольными тропинками взбирались на проклятую гору, куда трупы казненных выбрасывали на съедение диким зверям и хищным птицам, подбирали истерзанные тела и благоговейно относили в катакомбы. И там эти жертвы из предмета ненависти и омерзения для своих гонителей, превращались в предмет поклонения и почитания для своих братьев, призывавших друг друга жить и умереть так же, как жил и умер на земле праведник, прежде их вознесшийся на небо.
А нередко смерть, устав разить при свете дня, выбирала себе жертву в катакомбах. В этом случае не мать теряла дочь, не сын терял отца, не супруга лишалась супруга, но вся семья, собравшись вместе, оплакивала свое чадо. Его одевали в саван; если это была девушка, ее увенчивали розами; если усопший был зрелый муж или старец, ему вкладывали в руку пальмовую ветвь; священник произносил над ним заупокойную молитву, а затем его бережно опускали в могилу, заранее выдолбленную в камне, где ему предстояло покоиться в ожидании воскресения и вечной жизни. Эти гробы и видела Актея, когда впервые входила под неведомые своды. Тогда они внушили ей безмерный ужас, но вскоре стали вызывать светлую печаль. По сути своей язычница, но в душе уже христианка, девушка нередко останавливалась и часами простаивала перед этими гробовыми камнями, на которых безутешная мать, супруг а или дочь острием ножа нацарапали имя незабвенного усопшего, какой-нибудь религиозный символ или слова из Писания, что выражают боль или надежду. Почти на всех могилах был изображен крест, символ смирения, говоривший людям о страданиях Бога; а еще семисвечник, горевший в храме Иерусалимском; или голубка, вылетающая из ковчега, кроткая вестница милосердия, несущая на землю оливковую ветвь из райских кущей.
Но бывали и другие минуты, когда в сердце Актеи вдруг властно оживали воспоминания о счастье. И она ловила лучи солнечного света, прислушивалась к шумам и шорохам земли. Одинокая, нелюдимая, она садилась, прислонившись к столбу; так она сидела, склонив голову на колени, скрестив руки, окутанная длинным покрывалом, и проходящие мимо могли бы принять ее за надгробную статую, если бы не вздох, время от времени вылетавший из ее уст, если бы не судорога боли, время от времени пробегавшая по ее телу. В такие минуты Павел — единственный, кто знал, что происходит в этой душе, — Павел, видевший, как Христос простил Магдалину, надеялся, что время и Бог исцелят эту рану; видя Актею такой безмолвной и неподвижной, он говорил самым непорочным из девушек:
— Молите Господа за эту женщину, чтобы он простил ее, чтобы она однажды стала одной из вас и молилась вместе с вами.
Девушки повиновались, и, оттого ли, что их молитвы доходили до неба, оттого ли, что слезы смягчают боль, юная гречанка, с увлажненными глазами и улыбкой на устах, вскоре вновь присоединялась к подругам.
Между тем, в то время как укрывшиеся в катакомбах христиане проводили жизнь в делах милосердия, ревностном служении Богу и ожидании, над головой у них происходили бурные события: весь языческий мир шатался как пьяный, а Нерон, повелитель пиров и царь разврата, упивался наслаждениями, вином и кровью. Смерть Агриппины оборвала последнюю узду, которая еще сдерживала его, — детский страх юноши перед матерью. Когда погас погребальный костер, вместе с ним, похоже, в Нероне угасли всякий стыд, всякая совесть, всякое раскаяние. Он пожелал на какое-то время остаться в Бавлах. На смену исчезнувшим благородным чувствам пришла трусость: при всем его презрении к людям, при всем его хвастливом пренебрежении к богам Нерону не могло не прийти в голову, что подобное преступление обрушит на него ненависть одних и гнев других. Поэтому он остался вдали от Неаполя и от Рима, ожидая новостей от своих посланных. Однако он напрасно сомневался в низости сената: вскоре к нему явились представители патрициев и всадников, чтобы поздравить его с избавлением от непредвиденной опасности и сообщить, что не только Рим, но и все города империи посылают в храмы множество гонцов для совершения благодарственных жертвоприношений. Что касается богов, то, если верить Тациту (который, впрочем, мог наделить их известной долей собственной прямолинейной суровости), они оказались не столь уступчивы и наслали на нераскаявшегося преступника бессонницу. Лежа без сна, он слышал трубные звуки на вершинах ближних холмов, а с той стороны, где была могила матери, доносились непонятные и необъяснимые жалобные крики… Кончилось тем, что он уехал в Неаполь.
Там он снова встретил Поппею, и от этой встречи в нем с новой силой вспыхнула ненависть к Октавии, злополучной сестре Британика. Несчастная в девичестве, она, любившая Силана чистой любовью, была отторгнута от него: Агриппина бросила ее в объятия Нерона. Несчастная в браке, она, чей траур начался в день свадьбы, вошла в дом мужа лишь затем, чтобы увидеть, как умрут от яда ее отец и брат, вошла лишь затем, чтобы вести тщетную борьбу с более могущественной соперницей. Двадцати лет от роду она была сослана на остров Пандатарию, вдали от Рима, и предчувствие близкой смерти уже отделяло ее от живых. Весь ее двор, если можно так назвать эту ужасную свиту, составляли центурионы и легионеры, чьи взоры были прикованы к Риму: один приказ оттуда, одно движение, один знак — и каждый льстец превратился бы в палача. Но даже такая ее жизнь — в ссылке, в горе, в безвестности — не давала покоя Поппее, живущей в роскоши и обладающей безграничной властью. Дело в том, что красота, молодость и несчастья Октавии сделали ее популярной. Римляне безотчетно жалели ее, потому что людям свойственно испытывать бессознательную жалость при виде страданий слабого, беззащитного существа. Однако эта жалость могла разве что погубить ее, но уж никак не спасти: такое же искреннее, но бессильное сострадание испытывают, глядя на раненую газель или сломанный цветок.
По этой же причине Нерон, несмотря на свое безразличие к Октавии и настойчивые просьбы Поппеи, не решался расправиться с женой. Бывают преступления столь бессмысленные, что даже самый жестокий из людей не решается их совершить: коронованный преступник страшится не угрызений совести, а отсутствия предлога для них. Развратная женщина поняла, почему император не исполняет ее желания. Зная, что ни любовь, ни жалость не могут его остановить, она стала доискиваться до истинной причины и вскоре угадала ее. И вот однажды в Риме произошел бунт. Бунтовщики требовали возвращения Октавии, выкрикивали ее имя; они сбросили с пьедесталов статуи Поппеи и проволокли их по грязи. Затем явился отряд блюстителей порядка с бичами; они разогнали мятежников и снова водрузили статуи Поппеи на место. Эти волнения продолжались час и обошлись в миллион сестерциев: не слишком дорогая плата за голову соперницы.
Поппее же только этого и нужно было. Она поспешно покинула Рим и явилась в Неаполь к Нерону: по ее словам, она спасалась от убийц, подосланных Октавией. Став от испуга еще очаровательнее, она бросилась к ногам Нерона с мольбой о защите. И тогда Нерон с посланным отправил к Октавии приказ покончить жизнь самоубийством.
Напрасно несчастная изгнанница предлагала лишить ее всех титулов и оставить ей лишь звание вдовы и сестры, напрасно взывала к памяти Германиков, их общих предков, к памяти Агриппины, охранявшей ей жизнь, пока сама была жива. Все было бесполезно. Но Октавия медлила выполнить приказ, не решалась нанести себе смертельный удар. И тогда ей связали руки и вскрыли все четыре вены. Однако кровь не вытекала из скованного ужасом тела. Были перерезаны и артерии, но кровь все не шла, и Октавию отвели в кальдарий, где она задохнулась от раскаленного пара. А чтобы не было сомнений в совершенном убийстве, чтобы нельзя было подумать, будто вместо императрицы убили какую-нибудь простую женщину, голову Октавии отделили от тела и доставили Поппее. Та положила ее себе на колени, подняла ей веки и, должно быть, прочтя какую-то угрозу в безжизненном, застывшем взгляде, достала из волос две золотые булавки и вонзила их в мертвые глаза.
После этого Нерон вернулся в Рим, и его безумие, его распущенность перешли всякие границы: он устроил игры, во время которых сенаторы сражались на арене вместо гладиаторов; состязания певцов, на которых казнили смертью тех, кто не рукоплескал ему. Затем случился пожар, полгорода выгорело дотла, а Нерон смотрел на это страшное бедствие, хлопал в ладоши и пел под свою лиру. И Поппея поняла наконец, что ей пора сдержать любовника, которого она так долго распаляла, что столь чудовищные, невиданные наслаждения подрывают ее власть, на наслаждениях полностью и основанную. Однажды, когда Нерон должен был петь в театре, она отказалась пойти туда, сославшись на свою беременность. В оскорбленном артисте заговорил император, но Поппея, уверенная в своей власти фаворитка, упорствовала, и потерявший терпение Нерон убил ее ударом ноги.
Нерон с трибуны сказал о ней похвальную речь: не имея возможности хвалить Поппею за добродетели, он превозносил ее красоту. Он самолично распоряжался погребением: пожелал, чтобы тело не сжигали, согласно обычаю, а набальзамировали, подобно тому, как на Востоке бальзамируют царей. Естествоиспытатель Плиний утверждает, что вся Аравия за целый год не производит столько ладана и мирры, сколько потратил император на похороны божественной возлюбленной, которая при жизни подковывала золотом своих мулов и ежедневно купалась в молоке пятисот ослиц.
Слезы дурных правителей падают на их народы кровавым дождем. Нерон обвинил в собственных преступлениях христиан, и начались новые гонения, страшнее всех прежних.
Но чем грознее была опасность, тем ревностнее новообращенные христиане выполняли свой долг: каждый день приходилось утешать все больше вдов и сирот, каждый день приходилось отнимать у диких зверей и хищных птиц все больше мертвых тел. В конце концов Нерон заметил, что у него похищают трупы. Он поставил стражу вокруг Эсквилина, и однажды ночью, когда христиане во главе с Павлом, как обычно, пришли исполнить святое дело, небольшой отряд выскочил из засады в расселине холма и схватил всех, кроме Силы.
Сила бросился в катакомбы и явился туда, когда братья и сестры собирались вместе для молитвы. Он сообщил им страшную весть, и все упали на колени, моля Господа о помощи. Одна лишь Актея осталась стоять: бог христиан еще не был ее богом. Раздались голоса, обвинявшие ее в нечестивости и неблагодарности. Но Актея протянула руку, призывая толпу к молчанию и, когда настала тишина, сказала:
— Завтра я пойду в Рим и постараюсь спасти его.
— А я, — сказал Сила, — вернусь туда сегодня вечером и, если это тебе не удастся, умру вместе с тобой.
XIV
На следующее утро Актея, как обещала, вышла из катакомб и направилась в Рим. Она шла одна, в длинной столе, ниспадавшей с плеч до самых пят, и под покрывалом, скрывавшим лицо. В поясе у нее был спрятан короткий острый кинжал: она боялась, как бы ее не оскорбил какой-нибудь пьяный всадник или невежа-воин. Но не только для этого она взята с собой кинжал: если бы ее замысел не удался, если бы она не смогла добиться помилования Павла, то попросила бы о свидании с ним, и там, в темнице, передала бы ему кинжал, чтобы он мог лишить себя жизни и таким образом избежать мучительной, позорной казни. Как видим, Актея все еще оставалась дочерью Ахайи, рожденной для жреческого служения Диане и Минерве, воспитанной в понятиях язычества и в подобных случаях вспоминавшей известные ей примеры: Ганнибала, выпивающего яд; Катона, бросающегося на свой меч; Брута, вонзающего в себя кинжал. Она еще не поняла следующее: новая религия запрещает самоубийство и прославляет мученичество, и то, что в глазах идолопоклонников было позором, в глазах христиан было апофеозом.
Актея шла долиной Эгерии, тянувшейся от входа в катакомбы до самого Рима и продолжавшейся уже в его стенах. За несколько шагов до Метронийских ворот она почувствовала слабость в ногах, а сердце забилось так сильно, что ей пришлось опереться о ствол дерева, чтобы не упасть. Она подумала о близкой встрече с тем, кого она не видела с праздника Минервы, с того ужасного вечера. Кого же ей предстоит увидеть сегодня — Луция или Нерона, победителя Олимпийских игр или императора, возлюбленного или судью? Сама она смутно понимала, что оцепенение сердца, которое она испытывала за долгое время, проведенное в катакомбах, было связано с холодом, тишиной и мраком этой обители и что под ярким светом, на вольном воздухе ее сердце может ожить и снова открыться для любви, как цветок распускается на солнце.
К тому же, как мы уже говорили, все происходившее наверху эхом отзывалось в катакомбах, хоть это и было мимолетное, далекое, неверное эхо. Актея узнала об убийстве Октавии, о смерти Поппеи. Но все ужасные подробности, что сообщают нам историки, в то время были известны лишь узкому, замкнутому кружку палачей и приближенных Нерона. За пределы этого кружка просачивались только неясные слухи и обрывочные рассказы. Одна лишь смерть властителей срывает завесу, скрывающую их жизнь, и только когда Бог оставит от их величия один бессильный труп, только тогда правда, изгнанная из их дворцов, вернется и воссядет на их гробнице. Актея знала лишь то, что у императора нет больше ни супруги, ни любовницы, и у нее затеплилась надежда, что он, быть может, в каком-то уголке сердца еще сохранил воспоминание о любви, которая для нее была смыслом жизни.
Вскоре она овладела собой и вошла в городские ворота. Стояло ясное жаркое утро пятнадцатого дня перед июльскими календами — этот день считался счастливым. И время — два часа утра, что соответствует нашим семи часам, — также считалось счастливым. Возможно, столь удачное сочетание побудило многих безотлагательно заняться делами или отдаться наслаждениям, или же толпа стремилась на какой-то обещанный ей праздник, или, быть может, неожиданное событие оторвало людей от привычных утренних занятий — во всяком случае, на улицах было много прохожих и почти все направлялись в сторону Форума.
Актея пошла за ними: эта дорога вела к Палатину, а на Палатине она рассчитывала встретить Нерона. Поглощенная мыслями о предстоящей встрече, она шла, ничего не видя и не слыша, по длинной улице, пролегавшей между Целием и Авентином; улица была усыпана цветами, дома украшены драпировками из дорогих тканей, как делалось по большим праздникам. Дойдя до угла Палатина, она увидела богов отчизны, облаченных в праздничные одеяния, в венках из трав, из дубовых и лавровых веток. Затем она свернула направо и оказалась на Священной дороге: по ней она проехала в свите триумфатора, когда впервые прибыла в Рим. А толпа становилась все гуще, напирала все сильнее: люди торопились на Капитолий, где, видно, готовилось какое-то торжество. Но Актее не было никакого дела до того, что происходило на Капитолии, ведь она искала Луция, а Луций жил в Золотом дворце. Она поднялась вместе со всеми к храму Ромула и Рема, а затем свернула влево, быстро миновала храмы Фебы и Юпитера Статора, поднялась по лестнице, ведущей на Палатин, и вскоре вошла в вестибул Золотого дворца.
И там ее ожидала первая странность из тех, что ей предстояло увидеть за этот день: напротив двери в атрий стояло великолепное ложе; оно было покрыто тирским пурпуром, затканным золотом, покоилось на основании, выложенном слоновой костью и черепахой; полог из атталийских тканей закрывал его со всех сторон как палатку. Актея вздрогнула всем телом, на лбу ее выступил холодный пот, глаза на мгновение будто застлала пелена: это было выставленное на всеобщее обозрение брачное ложе. Но она отказывалась этому верить. Приблизясь к одному из рабов, она спросила его, что это за ложе. Раб ответил, что это брачное ложе Нерона, чье бракосочетание сейчас совершается в храме Юпитера Капитолийского.
И тогда в душе девушки внезапно и страшно вспыхнуло пламя былой безумной страсти, которая ее погубила. Она забыла все: катакомбы, где она нашла прибежище, христиан, возлагавших на нее все надежды, Павла, который спас ее и которого теперь хотела спасти она. Девушка коснулась рукояти кинжала, взятого для защиты от посягательств на ее целомудрие или для спасения от позорной смерти: сердцем ее завладела ревность. Она бегом спустилась по лестнице и бросилась на Капитолий, чтобы увидеть соперницу, что отнимала у нее сердце возлюбленного в то самое время, когда она, быть может, могла бы вернуть его себе. На подступах к Капитолию клубилась громадная толпа, но Актею вела та одержимость, какую порождает истинная страсть, и люди расступались перед ней: хотя лицо ее было закрыто рикой, чувствовалось, что эта женщина с быстрым твердым шагом идет к важной цели и не даст себя остановить. Она прошла по Священной дороге до развилки под аркой Сципиона и, выбрав самую короткую дорогу — ту, что проходила между государственной темницей и храмом Конкордии, через несколько мгновений смело вошла в храм Юпитера Капитолийского. У подножия статуи бога, как требовал закон, находились десять свидетелей, избранных среди знатнейших патрициев и восседавших на сидениях, покрытых руном жертвенных овец. А посредине стояли новобрачные. На голове у невесты было покрывало, и Актея вначале не могла разглядеть эту женщину. Но в то же мгновение великий понтифик с помощью фламина Юпитера совершил жертвенное возлияние молока и вина с медом, а затем приблизился к императору и произнес:
— Луций Домиций Клавдий Нерон, даю тебе в жены Сабину. Будь ей мужем, другом, покровителем и отцом. Я вручаю тебе все ее достояние и вверяю его твоей совести.
С этими словами он вложил руку женщины в руку ее супруга и приподнял ей покрывало, чтобы каждый мог приветствовать новую императрицу. И тогда Актея, не поверившая своим ушам, когда жрец произнес имя супруги Нерона, увидела ее лицо и больше не сомневалась. Эта была та девушка, с которой она встречалась на корабле, а затем в бане, это была Сабина, сестра Спора. Перед богами и людьми император сочетался браком с рабыней!..
И в эту минуту Актея смогла объяснить себе странное чувство, что она всегда испытывала к этому загадочному созданию: то было тяжелое предчувствие, безотчетная неприязнь, какую испытывает женщина к той, кто однажды станет ей соперницей. Нерон взял в жены эту девушку — а ведь прежде он отдал ее Актее, и она служила Актее, была ее рабыней. Быть может, уже тогда она отнимала у нее возлюбленного — и Актея, имевшая полную власть над ее жизнью и смертью, не задушила своими руками эту змею, которой предстояло пожрать ее сердце! Но нет, этого не может быть; полная сомнения, она снова взглянула в лицо женщине. Жрец не ошибся. Да, это была Сабина, Сабина в наряде новобрачной — белоснежной тунике, украшенной лентами, с поясом из овечьей шерсти: этот пояс должен был разорвать ее супруг. В волосах у нее сверкала длинная золотая булавка в виде дротика — в память о похищении сабинянок, а на плечи был наброшен фламмеум — покрывало цвета пламени. Такое украшение невеста могла надеть только в день свадьбы, и во все времена носить его считалось благоприятным предзнаменованием, ибо это покрывало обычно служило украшением супруге фламина, которой законы запрещали развод.
Церемония закончилась; новобрачные вышли из храма. У дверей их ожидали представители римских всадников с изображениями четырех богов-покровителей брака, а также четыре женщины, принадлежавшие к высшей римской знати, каждая с сосновым факелом в руке. На пороге их ждал Тигеллин с приданым новобрачной. Нерон принял приданое, возложил на голову Сабины венец, надел ей на плечи мантию императрицы. Затем вместе с ней сел в великолепно украшенные открытые носилки и поцеловал ее на глазах у всех. Раздались рукоплескания, приветственные крики, и среди этого шума выделялись угодливые голоса греков: на своем языке, созданном для лести, они бесстыдно желали плодородия этому странному брачному союзу.
Актея пошла за ними, думая, что они направляются в Золотой дворец. Но от подножия Капитолия они свернули на Тусскую улицу, пересекли Велабр, достигли Аргилета и вышли на Марсово поле через триумфальные ворота. Словно в праздник сигиллариев, Нерон хотел показать народу новую императрицу: он отправился с нею на Зеленной рынок, в театр Помпея, к портику Октавии. Актея, не теряя их из виду ни на мгновение, следовала за ними повсюду: на рынки, в храмы, на прогулки. На Садовом холме был дан великолепный обед. Она оперлась о дерево и так стояла, пока обед не кончился. Новобрачные со свитой поехали обратно через форум Цезаря, где их ожидал сенат с приветственными речами. Она выслушала все эти славословия, прислонившись к статуе диктатора. Так продолжалось целый день, и только к вечеру новобрачные вернулись во дворец. И весь этот день Актея провела на ногах, без еды, забыв об усталости и голоде: ее поддерживал огонь ревности, пылавший в сердце и бежавший по жилам. Наконец царственные супруги и их свита вступили в Золотой дворец. Актея вошла вслед за ними. Это было нетрудно сделать, ведь все двери были распахнуты. В противоположность Тиберию, Нерон не боялся народа. Более того, его расточительность, игры и представления, что он устраивал, даже его жестокость, возмущавшая лишь возвышенные умы и противников языческих верований, завоевали ему любовь толпы. И сегодня в Риме он, быть может, остается самым известным из императоров.
Актея прежде ходила с Луцием по дворцу и знала расположение его помещений. По белой одежде и белому покрывалу ее легко было принять за одну из девушек в свите Сабины. Никто не обратил на нее внимания, и, в то время как император и императрица пошли в триклиний ужинать, она пробралась в брачную комнату, куда перенесли ложе, и спряталась за пологом.
Она простояла там два часа, неподвижно, как безгласное изваяние, и даже легкая ткань полога не колыхнулась от ее дыхания. Она сама не знала, зачем пришла. Но за эти два часа ни разу не отняла руки от рукоятки кинжала. Наконец, раздался какой-то шум, в переходе послышались женские шаги. Открылась дверь, и в брачную комнату вошла Сабина, в сопровождении матроны из знатнейшего и древнейшего рода, Кальвии Криспинеллы, исполнявшей во время свадебного обряда роль матери невесты, как Тигеллин исполнял роль отца. В наряде новобрачной не хватало пояса: за ужином Нерон разорвал его, чтобы Кальвия могла раздеть императрицу. Сначала она отвязала накладные косы, уложенные на макушке Сабины в виде башни, и волосы девушки рассыпались по плечам. Затем сняла с нее фламмеум, и настала очередь столы. Наконец девушка осталась в одной тунике, и, странное дело, по мере того как с нее снимали различные украшения, на глазах у Актеи происходило невиданное превращение — Сабина исчезала, уступая место Спору. Да, тому самому юноше, которого Актея видела на корабле, затем на дороге рядом в Луцием, в длинной просторной тунике, с обнаженными руками, волосами до плеч. Сон это или явь? Не были ли брат и сестра одним и тем же человеком? А быть может, у Актеи помутился рассудок?
Наконец Кальвия выполнила свои почетные обязанности и поклонилась загадочной императрице. Странное существо, не то девушка, не то юноша, поблагодарило Кальвию, и Актея узнала голос Спора и в то же время голос Сабины. Но вот Кальвия удалилась. Новобрачная осталась одна, огляделась и, думая, что ее никто не видит и не слышит, уронила руки с видом глубокого уныния, испустила тяжелый вздох, и по щекам ее скатились две слезы. Затем, с выражением безмерной гадливости, она приблизилась к брачному ложу. Но едва поставив ногу на первую ступеньку, вскрикнула и отшатнулась: в складках пурпурных занавесей перед нею мелькнуло бледное лицо коринфянки. Видя, что ее обнаружили, чувствуя, что соперница вот-вот ускользнет от нее, Актея прыгнула на свою добычу как тигрица. Но существо, которое она преследовала, было слишком слабым, чтобы бежать или обороняться. Существо это упало на колени, простерло к ней руки и дрожало всем телом, глядя на кинжал, сверкавший в ее руке. Вдруг его глаза засветились надеждой:
— Это ты, Актея? Это ты?
— Да! Да, это я, — ответила девушка. — Это я, Актея. Но ты кто такой? Ты Сабина или Спор, мужчина ты или женщина? Отвечай! Говори же, говори!
— Увы! Увы! — воскликнул евнух. — Увы! Ни то ни другое.
И он без чувств упал к ногам Актеи.
Изумленная Актея выронила кинжал.
В это мгновение дверь распахнулась и в комнату стремительно вошли несколько человек. Это были рабы: они принесли статуи богов — покровителей брака, чтобы расставить их вокруг ложа. Они увидели бесчувственного Спора, увидели склонившуюся над ним женщину — бледную, с растрепанными волосами и диким взглядом, заметили валявшийся на полу кинжал и поняли все. Они схватили Актею и отвели ее в подземную темницу — ту самую, мимо которой она проходила чудесной ночью, когда Луций послал за ней, ту самую, откуда она слышала такие жалобные стоны.
Там она встретила Павла и Силу.
— Я ждал тебя, — сказал Павел Актее.
— Ах, отец мой! — воскликнула коринфянка. — Я пришла в Рим, чтобы спасти тебя.
— И теперь, не сумев меня спасти, хочешь умереть со мной.
— О нет, нет, — ответила девушка, чувствуя стыд. — Я забыла о тебе, я недостойна того, чтобы ты называл меня своей дочерью. Я несчастное, безумное создание и не заслуживаю ни жалости, ни прощения.
— Значит, ты все еще любишь его?
— Нет, отец мой, я его больше не люблю, это было бы уже невозможно, просто, как я тебе сказала, я лишилась разума. Ах! Кто исцелит меня от безумия? Нет такого человека на земле, нет такого бога на небе, кому это по силам.
— Вспомни сына раба: тот, кто исцеляет тело, властен исцелить и душу.
— Да, но у сына раба, хоть и не было веры, зато была невинность. А я еще не обрела веры и уже утратила невинность.
— И однако, не все еще потеряно, — сказал апостол, — ведь тебе еще остается раскаяние.
— Увы! Увы! — прошептала Актея: она не решалась этому поверить.
— Что ж! Подойди ко мне, — сказал Павел, усаживаясь в углу, — иди сюда, я хочу поговорить с тобой о твоем отце.
Актея подошла к нему, упала на колени, положила голову ему на плечо, и всю ночь апостол увещевал ее. В ответ слышались только рыдания, но утром она была готова к принятию крещения.
Почти все узники, находившиеся в темнице с Павлом и Силой, были христиане из катакомб. За те два года, что Актея провела среди них, они успели оценить добродетели девушки, а ее проступки были им неизвестны. И всю ночь к небу возносились молитвы о том, чтобы луч веры коснулся несчастной язычницы. И наконец голос апостола торжественно возвестил, что у Господа стало одной служанкой больше.
Павел не скрыл от Актеи, каких огромных жертв потребует от нее новое положение: во-первых, ей надлежало пожертвовать своей любовью, во-вторых, быть может, и жизнью: каждый день в темницу являлась стража и забирала нескольких жертв для обрядов искупления или для праздников. Многие христиане, спешившие удостоиться мученического венца, сами отдавались в руки палачей. А те уводили людей без разбора, не глядя: им нужна была лишь страждущая человеческая плоть, лишь зрелище человеческих страданий на кресте или на арене амфитеатра. При таких обстоятельствах обращение в христианство было не просто религиозным обрядом, оно означало готовность умереть за веру.
И Актея думала, что перед лицом грозной опасности ей простится скудость познаний в новой вере. Она имела достаточное представление об обеих религиях, чтобы проклясть одну и благословить другую: все известные ей злодеяния были совершены язычниками, а все проявления добродетели она видела у христиан. Но самое главное — уверенность в том, что она не сможет жить с Нероном, заставила ее желать смерти вместе с Павлом.
И вот, полная усердия, — в глазах Господа оно несомненно зачлось ей за веру — она вступила в круг коленопреклоненных узников и сама опустилась на колени под лучом света, проникавшим в темницу через отдушину, сквозь толстые прутья которой ей было видно небо. За спиной у нее стоял Павел, воздев руки и молясь, а Сила склонился над ней, держа сосуд со святой водой, где плавала веточка букса. В то мгновение, когда Актея заканчивала молитву апостолов, эти древние слова, что и до наших дней неизменно остаются символом веры, дверь с грохотом распахнулась. В темницу вошли воины под водительством Аникета. Изумленный странным зрелищем — все остались коленопреклоненными и продолжали молиться, — Аникет замер на пороге и не произнес ни слова.
— Чего ты хочешь? — спросил Павел: он первый обратился к этому человеку, что приходил сюда либо как судья, либо как палач.
— Мне нужна эта девушка, — ответил Аникет, указывая на Актею.
— Она не пойдет с тобой, — ответил Павел, — у тебя нет никаких прав на нее.
— Эта девушка принадлежит Цезарю! — воскликнул Аникет.
— Ошибаешься, — возразил Павел, — эта девушка принадлежит Богу!..
И в то же мгновение он произнес слова обряда и окропил голову новообращенной святой водой.
Актея громко вскрикнула и лишилась чувств: она поняла, что Павел сказал правду, и произнесенные им слова навеки разлучили ее с Нероном.
— Если так, то вместо нее я отведу к Цезарю тебя, — сказал Аникет, и по его знаку стража схватила Павла.
— Делай что хочешь, — сказал апостол, — я готов следовать за тобой. Я знаю, пришло то время, когда я должен дать отчет на небе о том, что совершил на земле.
Павел предстал перед судом Цезаря и был приговорен к распятию. Однако он обжаловал этот приговор, заявив, что является римским гражданином, поскольку родился в Тарсе Киликийском. Его права были признаны, и в тот же день он был обезглавлен на Форуме.
На казни присутствовал Цезарь и, так как народ, рассчитывавший увидеть долгие смертные муки, стал роптать, обещал на мартовские иды порадовать его сражениями гладиаторов.
Празднества были приурочены к годовщине смерти диктатора Юлия Цезаря.
XV
Нерон рассчитал верно: это обещание сразу же успокоило недовольных. Среди всех зрелищ, которыми, не скупясь, угощали римский народ его эдилы, преторы и цезари, больше всего ценились травля диких зверей и гладиаторские бои. Когда-то это были два разных зрелища, но однажды Помпею пришло в голову объединить их: в его второе консульство, в день праздника по случаю освящения храма Венеры Победительницы на арене цирка вооруженные дротиками гетулы сражались с двадцатью дикими слонами. Впрочем, если верить Титу Ливию, задолго до этого был случай, когда в цирке в один день убили сто сорок два слона. Но эти слоны, которых захватили в битве с карфагенянами и которых Рим, тогда еще бедный и предусмотрительный, не желал ни содержать, ни отдавать союзникам, пали под градом дротиков и стрел, пущенных зрителями с мест. Восемьдесят лет спустя, в пятьсот двадцать третьем году от основания Рима, Сципион Назика и Публий Лентул выпустили на арену шестьдесят три африканские пантеры. Все думали, что римский народ уже пресытился такого рода празднествами, но вот Сергий, решив перенести знакомое зрелище в иную стихию, наполнил арену амфитеатра водой, и в это рукотворное море были выпущены пятнадцать гиппопотамов и двадцать три крокодила. Сулла, будучи претором, устроил травлю сотни львов-самцов, Помпей Великий выпустил триста пятнадцать, Юлий Цезарь — четыреста. И наконец, божественный Август, сохранявший воспоминания о кровопролитиях тех времен, когда он был еще Октавием, от своего имени и от имени внука устраивал празднества, на которых было убито около трех тысяч пятисот львов, тигров и пантер. Затем травли прекратились, пока некий П.Сервилий — и это единственное, что известно о его жизни — не устроил праздника: на арену было выпущено триста медведей и столько же пантер и львов, пойманных в пустынях Африки. Впоследствии страсть римлян к этой разорительной забаве не знала меры: император Тит за одну травлю приказал убить пять тысяч разных диких зверей.
Но из всех властителей самые роскошные и разнообразные празднества устраивал Нерон: помимо денежного налога, взимаемого с покоренных провинций, он обложил податью Нил и пустыню. Воды реки и пески пустыни платили ему десятину, отдавая своих львов, тигров, пантер и крокодилов. Что касается гладиаторов, то их успешно заменили более дешевые бойцы — пленные и христиане. Им, правда, не хватало ловкости, которая дается лишь долгим изучением боевого искусства, но зато их отвага и воодушевление перед близкой смертью были для зрителей внове и придавали всему зрелищу нечто возвышенное. Этого было достаточно, чтобы разжечь всеобщее любопытство.
В этот день в цирк устремился весь Рим. Сегодняшнее зрелище едва не опустошило африканскую пустыню и римские темницы: обреченных зверей и людей было столько, что праздник мог продолжаться целый день и всю ночь.
Да к тому же еще император обещал ночью осветить цирк каким-то новым, особенным способом. Зрители встретили его единодушными горячими приветствиями. В этот раз он явился в одеянии Аполлона и, подобно пифийскому богу, вооружился луком и стрелами: в перерывах между боями он должен был показать свою меткость. Для этой цели в Альбанском лесу вырыли с корнями несколько деревьев, привезли их в Рим и вновь посадили на цирковой арене. На ветвях этих деревьев блистали лазурным и золотым оперением ручные павлины и фазаны: они должны были служить мишенью для императора. Бывало и так, что Цезарь вдруг проникался жалостью к раненому бестиарию, или злобой к зверю, плохо справлявшемуся с ремеслом палача, тогда он брал лук или дротик и со своего места, со своего трона вершил казнь на другом конце цирка, словно Юпитер Громовержец.
Едва император сел на свое место, как на арену выехали на колесницах гладиаторы. По обычаю, те, кому предстояло сражаться первыми, были выкуплены у хозяев. Но праздник был так значителен, что среди гладиаторов решились выступать и молодые патриции, желавшие угодить императору. Говорили даже, будто двое из них, известные всем как промотавшиеся распутники, нанялись за деньги — один за двести пятьдесят тысяч сестерциев, другой за триста.
Перед прибытием Нерона гладиаторы упражнялись друг с другом в ожидании сигнала к началу представления, словно предстоящий вскоре бой должен был быть простой состязательной игрой. Но едва в цирке раздалось: "Император! Император!", едва Цезарь — Аполлон воссел на трон напротив ложи весталок, как на арену вышли распорядители игр, неся отточенные мечи. Они вручили их гладиаторам взамен затупленных, служивших им для упражнений. Затем гладиаторы прошли перед Нероном, подняв мечи, чтобы показать ему, как остро те отточены. Он мог убедиться в этом, стоило лишь ему чуть наклониться: его ложа возвышалась над ареной всего на девять-десять ступней.
Цезарю представили список гладиаторов, чтобы он сам указал, в каком порядке им выступать. Он решил, что первыми будут сражаться ретиарий и мирмиллон, после них на арену выйдут димахарии, затем андабаты. А потом, в завершение первой части представления, которая должна была кончиться к полудню, двое христиан — мужчина и женщина — будут отданы на растерзание диким зверям. Народ, по-видимому, остался доволен таким порядком первой части и под возгласы "Да здравствует Нерон! Слава Цезарю! Удачи тебе, император!" из двух дверей на противоположных концах арены вышли первые два гладиатора и двинулись навстречу друг другу.
Согласно желанию Цезаря, это были мирмиллон и ретиарий. Первый (его называли также "преследователь", потому что ему приходилось чаще наступать, чем обороняться) был одет в светло-зеленую тунику с поперечными серебряными полосами, перехваченную чеканным медным поясом с инкрустациями из коралла. Левую ногу его закрывал бронзовый наголенник; на голове был шлем с прорезями для глаз — вроде тех, что носили рыцари в XIV веке, — увенчанный нашлемником в виде головы зубра с длинными рогами и полностью закрывавший лицо. На левой руке он нес большой круглый щит, а в правой держал дротик и дубинку, налитую свинцом, — это были доспехи и оружие галлов.
У ретиария в правой руке была сеть (ей он и был обязан своим наименованием) наподобие той, что в наши дни у рыбаков называется накидной; в левой руке, прикрытой маленьким щитом (под названием "парма"), он держал длинный трезубец с рукоятью из кленового дерева и стальным острием. Он был одет в тунику из синего сукна, синие кожаные котурны, позолоченный бронзовый наголенник. В отличие от своего противника, он выступал с открытым лицом, а на голове у него вместо шлема был лишь длинный синий шерстяной колпак, покрытый золотой сеткой.
Противники начали сближаться, но шли друг к другу не прямо, а по окружности: ретиарий держал наготове сеть, мирмиллон нацелил свой дротик. Как только ретиарию показалось, что противник досягаем, он прыгнул вперед, одновременно развернув и бросив сеть. Но мирмиллон, следивший за каждым его движением, успел отскочить назад, и сеть упала у его ног. В то же мгновение, чтобы не дать противнику времени прикрыться щитом, он метнул дротик. Однако ретиарий заметил это и наклонился, впрочем, недостаточно быстро, чтобы оружие, нацеленное ему в грудь, не успело сорвать с него изящный головной убор.
Тут ретиарий стал стремительно отступать, волоча за собой сеть, хотя его грозный трезубец был при нем: чтобы применить это оружие, надо было сначала поймать противника в сеть. Мирмиллон устремился за ним, но его движения замедляла тяжелая дубинка, и узкие прорези в шлеме ограничивали поле зрения, поэтому ретиарий успел снова развернуть сеть и приготовиться к бою. Затем он вернулся в исходное положение, а мирмиллон приготовился к защите.
Преследуя противника, мирмиллон подобрал свой дротик, а также синий колпак ретиария, заткнув его себе за пояс как трофей. Таким образом, оба гладиатора снова были при оружии. На этот раз первым начал мирмиллон: дротик, брошенный со всей силой его могучей рукой, попал в середину щита ретиария, пробил покрывавшую его бронзовую пластину, семь полос кожи, натянутых крест-накрест, и оцарапал грудь. Зрители подумали, что ретиарий смертельно ранен, и со всех сторон послышалось: "Задет! Задет!"
Но ретиарий отвел в сторону щит с торчащим в нем дротиком, и все увидели, как незначительна его рана. Раздались радостные возгласы: зрители больше всего не любили, когда бой завершался слишком быстро. Поэтому на гладиатора, поражавшего противника в голову, всегда смотрели с презрением, хотя такие удары и не были запрещены.
Теперь мирмиллон в свою очередь пустился бежать: его дубинка была грозным оружием, пока он преследовал бегущего ретиария, но, если у того сеть была наготове, становилась бесполезной. Ведь для того чтобы нанести удар, ему пришлось бы слишком близко подойти к противнику и тому ничего не стоило бы накинуть свою смертоносную сеть. Мирмиллон убегал по всем правилам, ибо бегство от противника тоже было искусством. Однако и в этом маневре ему мешал тяжелый галльский шлем. Вскоре ретиарий приблизился настолько, что раздались возгласы зрителей, предупреждавших галла об опасности. Гладиатор понял, что неминуемо погибнет, если тут же не избавится от своего бесполезного шлема. Не останавливаясь, он расстегнул железную пряжку и отбросил шлем подальше. И изумленные зрители узнали в нем молодого человека, принадлежавшего к одному из знатнейших родов Рима; имя его было Фест, и этот шлем он надел не столько для того, чтобы защитить лицо, сколько для того, чтобы остаться неузнанным. Это открытие удвоило внимание зрителей к поединку.
С этой минуты молодой патриций получил преимущество, а в невыгодном положении оказался уже ретиарий: ему мешал торчавший из щита дротик, который он не вырвал и не отбросил, боясь возвращать оружие врагу. Возбужденный криками зрителей и непрерывным отступлением противника, ретиарий решился наконец отбросить щит вместе с дротиком, и теперь ничто не стесняло его движений. Но тут мирмиллон, то ли усмотрев в его поступке оплошность, уравнивающую силы обоих противников, то ли не желая больше отступать, вдруг остановился и стал вращать над головой свою тяжелую дубинку. Ретиарий также приготовился к бою, но не успел приблизиться к противнику: тяжелая дубинка просвистела в воздухе, словно бревно, пущенное из катапульты, и угодила ему прямо в грудь. Он покачнулся и рухнул на арену, увлекаемый тяжестью собственной сети, накрывшей его своими ячейками. Тогда Фест бросился к щиту, вырвал из него свой дротик, затем одним прыжком очутился возле поверженного врага, приставил острие к его горлу и обратился к народу с вопросом — убить его или же сохранить ему жизнь? В ответ взметнулось множество рук: одни — с поднятым вверх большим пальцем, другие — с опущенным. В этом людском море невозможно было определить мнение большинства, и тогда раздался крик: "Весталки, весталки!" В подобных случаях всегда обращались к ним за окончательным решением. Фест повернулся к подиуму. Двенадцать весталок поднялись с мест, у восьми из них большой палец был опущен. Итак, большинство требовало смерти гладиатора; видя это, он сам приставил острие дротика к своему горлу, в последний раз воскликнул: "Цезарь — бог!" — и не издал ни единого стона, когда оружие Феста пробило ему шейную артерию и пронзило грудь.
Народ разразился рукоплесканиями, предназначавшимися и победителю и побежденному: один умело нанес смертельный удар, другой сумел достойно умереть. Фест обошел арену амфитеатра, чтобы зрители могли его приветствовать, и удалился, а тело его противника тем временем унесли в другую дверь.
Затем на арену вышел раб с граблями, разровнял песок, уничтожив следы крови, и на ристалище вышли гладиаторы для следующего поединка: это были димахарии.
Димахарии были особой, изысканной частью гладиаторов в эпоху Нерона. Они сражались без шлема, без панциря, без щита, без окреи[24], держа в обеих руках по мечу, подобно нашим дуэлянтам времен Фронды, выходившим на поединок с дагой и кинжалом. Сражения димахариев считались вершиной боевого искусства, и в них нередко участвовали те, кто обучал бойцов в гладиаторских школах. В этот раз на арену вышел учитель и ученик. Молодой гладиатор намеревался воспользоваться полученными уроками и обратить против учителя его же собственные коварные приемы. Своим жестоким обращением тот давно уже пробудил в сердце юноши жгучую ненависть (однако ему удавалось скрывать ее от всех). Надеясь когда-нибудь отомстить за себя, он не прекращал ежедневных занятий, пока наконец не перенял у наставника все тайны его искусства.
Искушенным зрителям любопытно было увидеть, как эти двое впервые встретятся не в надуманной игре, а в настоящем поединке и сразятся не тупыми мечами, а отточенным смертоносным оружием. Их появление на арене вызвало троекратный залп рукоплесканий, сразу прекратившихся, когда распорядитель по знаку императора приказал начать бой. Наступила глубокая тишина.
Противники двинулись навстречу друг другу, воодушевленные той взаимной ненавистью, какую порождает любое соперничество. Но именно пылавшая в их глазах взаимная ненависть заставляла бойцов проявлять особую осмотрительность и в нападении и в обороне, ибо здесь речь шла не только о жизни, но и о славном имени, которое один приобрел много лет назад, а другой завоевал совсем недавно.
Наконец их клинки соприкоснулись; легче было проследить за движением двух играющих змей, двух скрестившихся молний, чем за стремительным сверканием мечей, которые противники держали в правой руке. Теми, что были в левой, они отражали удары как щитом. Несколько раз, и притом с удивительной точностью, они меняли тактику, переходя от нападения к обороне; сначала ученик заставил учителя отступить к самому подножию императорского трона, затем учитель оттеснил ученика к подиуму, где сидели весталки; а потом оба снова оказались в середине арены, целые и невредимые, хотя острия обоих мечей раз двадцать были так близко от груди противника, что едва не разрывали ткань туники, нашаривая под ней сердце. Но вот младший гладиатор отскочил назад, и зрители вскричали: "Задет!" Однако, несмотря на то что по подолу его туники и по ноге потекла струйка крови, он снова ринулся в бой, еще неистовее прежнего. И после двух выпадов невольное движение учителя, неприметное для глаз, менее искушенных, чем те, которые сейчас были устремлены на него, показало, что холод стали проник в его плоть. Но на этот раз зрители воздержались от привычного возгласа: крайнее любопытство безмолвно. И когда тот или другой противник ловко наносил или отражал удар, по цирку проносился лишь приглушенный гул, по которому актер сразу понимает, что, если зрители не рукоплещут ему, они поступают так не от недовольства, а напротив, не осмеливаясь прерывать его игру. И чувствуя это, гладиаторы сражались еще упорнее, клинки сверкали в воздухе все с той же быстротой, и зрители уже стали опасаться, что необыкновенный поединок кончится лишь полным истощением сил обоих противников, как вдруг учитель, отступая под натиском ученика, поскользнулся на влажном от крови песке и упал. Пользуясь этим неожиданным преимуществом, ученик бросился на него. Однако, к изумлению зрителей, с земли не поднялся ни тот ни другой. Весь амфитеатр встал, все воздели руки, восклицая: "Жизнь! Свободу!", но ни один из гладиаторов не отозвался. Распорядитель игр вышел на арену, чтобы вручить им от имени императора две пальмовые ветви и два жезла, дарующие свободу. Но он опоздал. Оба бойца уже успели если не завоевать победу, то во всяком случае, стать свободными: они вонзили друг в друга мечи и умерли в то же мгновение.
Как мы уже говорили, за боем димахариев следовало сражение андабатов. Такой порядок выступлений, очевидно, был выбран для того, чтобы порадовать зрителей разнообразием: этим гладиаторам искусство и ловкость были совершенно ни к чему. Их головы были полностью закрыты шлемом, в котором имелась лишь прорезь для рта, чтобы можно было дышать, и отверстия возле ушей, чтобы можно было слышать. Таким образом, они сражались вслепую. Зрителям доставляла большое удовольствие эта страшная игра в жмурки, где каждый удар достигал цели, так как у противников не было ни щитов, ни доспехов, чтобы отразить его или смягчить.
В то самое мгновение, когда обе жертвы — ибо эти несчастные не заслуживали названия бойцов — под общий смех были выведены на арену, к императору приблизился Аникет и вручил ему какие-то письма. Нерон с видимой тревогой погрузился в чтение, а дойдя до последнего письма, вдруг сильно изменился в лице. Минуту он размышлял, затем встал и стремительно вышел из цирка, знаком приказав, чтобы в его отсутствие игры продолжались. В этом не было ничего необычного: бывало, и нередко, что неотложные дела, призывая Цезаря на форум, в сенат или на Палатин, заставляли его покидать праздник. И это не портило удовольствия зрителям, напротив, они чувствовали себя свободнее: не скованный присутствием императора, народ поистине становился царем. Поэтому приказ Нерона был исполнен, игры продолжались, хотя Цезарь уже не возвышал их своим присутствием.
И вот гладиаторы двинулись навстречу друг другу, пересекая арену в ширину. По мере того как они сближались, зрители стали замечать, что они пытаются заменить отсутствующее зрение слухом, пытаются вслушаться в невидимую опасность. Однако каждому ясно, насколько неверное представление можно было получить таким способом; противники были еще далеко друг от друга, но уже взмахивали мечами, рассекая лишь воздух. Наконец под ободряющие возгласы зрителей: "Вперед, вперед! Вправо! Влево!" — они пошли увереннее, но разминулись и, все так же угрожая друг другу, продолжали двигаться в разные стороны. Но в это мгновение в цирке раздался такой взрыв хохота и такое шиканье, что гладиаторы поняли свою ошибку. Одновременно обернувшись, они оказались лицом друг к другу и на расстоянии удара мечом. Оба клинка одновременно взлетели вверх и опустились, поразив обоих гладиаторов, но по-разному: одному острием меча задело правую ногу, другому — левую руку. И тот и другой вздрогнули и отступили назад. Теперь они снова разъединились, снова надо было искать друг друга. Тогда один из них лег на арену, чтобы прислушаться к шагам противника и захватить его врасплох. И когда тот приблизился, лежащий гладиатор, подобно притаившейся змее, молниеносно выпускающей жало, поразил противника во второй раз. Тот почувствовал, что опасно ранен, быстро шагнул вперед, споткнулся о противника и упал на расстоянии двух-трех ладоней от него. Но он тут же вскочил на ноги и с такой силой и стремительностью описал в воздухе справа налево дугу своим мечом, что клинок, угодив в шею противника под краем шлема, снес ему голову с плеч, причем так ловко, как не всегда удается умелому палачу. Какое-то мгновение обезглавленное туловище стояло неподвижно, в то время как голова в своей железной коробке откатилась довольно далеко от него, затем странно, нелепо шагнуло раз, другой, словно искало свою пропажу, и рухнуло на песок арены, залив его потоком крови. По восторженным крикам зрителей победивший гладиатор догадался, что удар, который он нанес, оказался смертельным. Однако он продолжал стоять в оборонительной позиции, опасаясь меча умирающего противника. Наконец один из распорядителей игр вышел на арену и снял с него шлем, воскликнув: "Ты свободен, ты победил!" И победитель вышел в дверь, называвшуюся sana vivaria[25], потому что через нее покидали цирк уцелевшие в бою гладиаторы, а побежденных уносили в сполиарий — подвал, расположенный под ступенями амфитеатра, где врачи осматривали раненых и где прогуливались еще два человека: один был одет Меркурием, а другой Плутоном. Меркурию надлежало проверять, осталась ли искра жизни в бесчувственных на вид телах, и с этой целью он прикасался к ним докрасна раскаленным кадуцеем. А у Плутона в руке был небольшой молот, которым он добивал тех раненых, кого врачи считали безнадежными.
Когда андабаты покинули цирк, среди зрителей поднялось сильное волнение: после гладиаторов должны были выступать бестиарии, и сегодня это были христиане; таким образом, в предстоящих поединках сочувствие всех зрителей было отдано зверям, а всеобщая неприязнь предназначалась людям. Но как бы ни было велико нетерпение толпы, ей пришлось подождать, пока рабы разровняют граблями песок на арене. Те поспешили закончить свою работу, подгоняемые злобными окриками, несущимися со всех концов амфитеатра, и наконец удалились. Какое-то мгновение арена оставалась пустой, а толпа пребывала в лихорадочном ожидании. И вот отворилась дверь, и все взгляды обратились к новым жертвам, выходившим на арену.
Первой появилась женщина в белом одеянии и под белым покрывалом. Ее подвели к деревьям, вкопанным на арене, и привязали к одному из них за середину туловища. Затем раб сорвал с нее покрывало, и зрители смогли увидеть лицо, поражавшее совершенной красотой, бледное, но исполненное смирения, и по рядам прокатился долгий ропот. Хотя она и была христианка, девушка с первой минуты тронула сердце толпы, такой впечатлительной и такой переменчивой. Все взоры были устремлены на нее; между тем отворилась дверь рядом с первой и на арену вышел молодой человек. Обычно зверям отдавали двоих: христианина и христианку, при этом мужчина получал оружие, чтобы желание оттянуть не только собственную смерть, но и гибель женщины — как правило, сестры, возлюбленной или матери обреченного — прибавило отваги сыну, возлюбленному или брату и заставило принять бой, ибо христиане почти всегда отказывались сражаться, предпочитая мученическую смерть, хотя им и было известно, что, если они одержат победу над первыми тремя животными, которых на них выпустят, им сохранят жизнь.
В самом деле, хотя вышедший на арену человек несомненно отличался силой и гибкостью, хотя за ним следовали два раба — один нес меч и два дротика, другой вел в поводу нумидийского скакуна, — он, как видно, не собирался развлекать народ, предвкушавший жестокую схватку. Он медленно прошел на середину цирка, обвел все вокруг спокойным, бестрепетным взглядом. Затем, знаком показав, что конь и оружие ему не понадобятся, поднял глаза к небу, упал на колени и стал молиться. Народ, обманутый в своих ожиданиях, разразился угрожающим ревом: все пришли смотреть на схватку человека с хищными зверями, а не на кончину мученика. Послышались крики: "На крест! На крест!" Если в цирке должна была состояться всего лишь казнь, то народ желал видеть самую долгую и мучительную. Тогда в глазах обреченного сверкнула невыразимая радость и он воздел руки к небу, благодаря его за милость: он был счастлив умереть той смертью, которую Спаситель превратил в вершину славы. В это мгновение он услышал позади себя глубокий вздох и невольно обернулся.
— Сила!.. Сила!.. — едва слышно проговорила девушка.
— Актея! — воскликнул он, подымаясь с колен и бросаясь к ней.
— Сила, сжалься надо мной, — сказала Актея. — Когда я узнала тебя, во мне ожила надежда… Ты такой могучий, такой отважный, тебе не раз приходилось вступать в единоборство с лесными зверями и с владыками пустыни. Если бы ты принял бой, то, быть может, спас бы нас обоих…
— А мученичество? — перебил Сила, указывая на небо.
— А страдания?! — ответила Актея, и голова ее поникла на грудь. — Увы! Брат мой, я ведь не родилась в святом граде, как ты, я не слышала животворящего слова из уст того, ради кого мы умрем сегодня. Я родом из Коринфа и воспитана в верованиях моих предков. Лишь недавно я стала жить по христианскому закону, по христианской вере и слово "мученичество" знаю со вчерашнего дня. Быть может, мне еще хватило бы мужества умереть самой, но если придется увидеть, как ты погибаешь здесь передо мной медленной, жуткой смертью, я не вынесу этого…
— Пусть так, я приму бой, — ответил Сила. — Ибо я знаю: радость, что ты отнимаешь у меня сегодня, я смогу обрести позже.
Повелительным жестом он подозвал рабов.
— Коня, меч и дротики! — громко произнес он, и в его голосе и движениях было царственное величие.
В цирке раздались рукоплескания: по этому голосу и жесту зрители сразу поняли, что им предстоит увидеть одно из тех геркулесовских единоборств, какие только и могли взбудоражить их чувства, пресыщенные созерцанием обычных поединков.
Прежде всего Сила приблизился к коню. Это был, как и он сам, уроженец Аравии, и два сына одного отечества признали друг друга. Человек сказал коню несколько слов на чужеземном наречии, и благородное животное, будто поняв их, ответило громким ржанием. Тогда Сила сорвал с коня седло и узду, надетые римлянами в знак рабства, и освобожденный сын пустыни принялся радостно скакать вокруг того, кто вернул ему свободу.
А Сила в свою очередь снял ту часть одежды, что стесняла его движения и, обмотав своим красным плащом левую руку, остался в одной тунике и тюрбане. Затем он опоясался мечом, взял дротики и подозвал коня. Конь повиновался, покорный словно газель; Сила вспрыгнул к нему на спину, пригнулся к его шее и, направляя его лишь голосом и движением колен, трижды обскакал вокруг дерева, к которому была привязана Актея, словно Персей, готовый защищать Андромеду: гордость араба возобладала над смирением христианина.
Минуту спустя распахнулась двустворчатая дверь под подиумом и на арену с ревом вырвался кордубский бык, подстрекаемый рабами. Но не успел он продвинуться на десять шагов вперед, как, испугавшись яркого дневного света, толпы зрителей и многоголосого крика, согнул передние ноги, наклонил голову к самой земле, уставился на Силу своим тупым, свирепым взглядом и стал подгребать под себя песок передними копытами, вскидывать его рогами; из ноздрей у него шел пар. Тут один из распорядителей бросил ему набитую соломой куклу, похожую на человека. Бык сразу ринулся на нее и раздавил копытами; но в то мгновение, когда он топтал ее особенно яростно, в воздухе просвистел дротик, пущенный рукой Силы, и впился ему в плечо. Бык взревел от боли и тут же, бросив мнимого врага ради настоящего, стал надвигаться на Силу. Голова его была опущена, а по песку за ним бежала кровавая бороздка, однако невозмутимый сириец дал ему подойти довольно близко. Лишь когда быку оставалось до него несколько шагов, он сжал коленями бока своего резвого скакуна, что-то крикнул — и увернулся в сторону. И в то время как бык проносился мимо, увлеченный бегом, второй дротик вонзил ему в бок все свои шесть дюймов железа. Бык остановился, зашатался и, казалось, он вот-вот упадет; затем, стремительно развернувшись, он бросился на коня с всадником, но те пустились в бегство, будто уносимые вихрем.
Трижды они обскакали вокруг арены амфитеатра, и с каждым кругом бык все слабел, все больше отставал от коня и всадника. Наконец он упал на колени, но почти сразу же выпрямился, грозно взревел и, словно уже не надеясь догнать Силу, огляделся вокруг в поисках другой жертвы, что могла бы утолить его ярость, и заметил Актею. Сначала он как будто сомневался, живое ли это существо: девушка была так недвижна и бледна, что ее можно было принять за статую. Но затем он вытянул шею, раздул ноздри, вдохнув запах жертвы. И тут, собрав последние силы, бык ринулся прямо на Актею. Девушка увидела это и испустила вопль ужаса. Но Сила оберегал ее: на этот раз он погнался за быком, а тот попытался спастись бегством. Однако верный нумидийский скакун в три прыжка догнал его. Тогда Сила спрыгнул с коня на спину быка и отвернул ему голову, схватив его левой рукой за рог, а правой вонзив в горло меч по самую рукоять. Издыхающий бык рухнул на арену на расстоянии полукопья от Актеи. Но Актея закрыла глаза, готовясь к смерти, и только по рукоплесканиям зрителей узнала о первой победе Силы.
На арену вышли три раба. Двое из них привели лошадей и стали привязывать к ним убитого быка, чтобы вытащить его с арены. Третий раб нес кубок и амфору. Наполнив кубок, он поднес его молодому сирийцу. Тот едва омочил в нем губы и потребовал себе другое оружие. Ему принесли лук, стрелы и рогатину, после чего рабы поспешили покинуть арену, потому что под основанием трона, остававшегося пустым после ухода императора, поднялась опускная решетка, и из клетки на простор арены величественно вышел атласский лев.
Поистине, то был царь зверей; от рычания, которым он приветствовал яркий свет, зрители все до единого вздрогнули, и даже арабский конь, впервые усомнившись в спасительной резвости своих ног, заржал от ужаса. Один лишь Сила, не раз слышавший этот могучий голос в пустыне, простирающейся от Асфальтового озера до источников Моисея, приготовился к обороне или же к нападению. Он спрятался за деревом, стоящим ближе всего к тому дереву, к которому была привязана Актея, и наложил на тетиву лука самую крепкую и острую из своих стрел. Между тем его благородный и могучий противник, не зная, чего от него ждут, неторопливо и беспечно шел по арене, морщил свой громадный лоб, взметал хвостом песок. Чтобы раздразнить его, распорядители игр стали пускать в него тупые стрелы, обвязанные разноцветными ленточками. Но лев невозмутимо и важно шествовал вперед, не обращая внимания на эту суету, как вдруг среди безобидных жердинок молниеносно просвистела заостренная стрела и вонзилась ему в плечо. Лев остановился, скорее от удивления, чем от боли, словно не понимая, как это у человеческого существа достало отваги напасть на него. Не сразу он понял, что ему нанесли рану; но вот глаза его налились кровью, он раскрыл пасть, и из глубины его груди, словно из пещеры, вырвалось долгое, глухое рычание, похожее на раскат грома. Он вцепился зубами в стрелу, торчавшую из раны, и перекусил ее. Затем, окинув амфитеатр взглядом, от которого подались назад даже зрители, несмотря на то что их отделяла от арены железная решетка, он стал искать, на кого бы обрушить свой царственный гнев, и заметил коня, дрожавшего так, будто он только что вышел из ледяной воды, хотя весь был в поту и в мыле. Тогда рычание прекратилось и прозвучал краткий пронзительный рев, повторенный снова и снова, а затем лев взлетел в прыжке, приблизившем его на двадцать шагов к первой избранной им жертве.
И снова началась погоня, еще удивительнее первой, ибо на сей раз премудрость человека не искажала природного инстинкта животных: здесь вступили в единоборство сила и быстрота во всей их первозданной мощи. И взоры двухсот тысяч зрителей на время отвлеклись от двух христиан, чтобы следить за этой необычайной охотой, совершенно неожиданной, а потому особенно увлекательной для толпы. После второго прыжка лев оказался совсем близко от коня. Конь, оттесненный к краю арены, не осмеливаясь броситься ни вправо, ни влево, перескочил через своего противника, а тот погнался за ним неровными скачками, вздыбив гриву и время от времени издавая грозное рычание, на что преследуемый отзывался испуганным ржанием. Три раза пронесся вокруг арены резвый нумидиец, словно тень, словно призрак, словно конь преисподней, вырвавшийся из упряжки Плутона, и с каждым разом лев без видимого усилия понемногу приближался к нему, постепенно сужая круг, и наконец поравнялся с ним. Конь увидел, что ему уже не спастись, и, став на дыбы боком к решетке, судорожно забил в воздухе передними копытами. Алев направился к нему не спеша, как подобает победителю, уверенному в своем триумфе, останавливаясь, чтобы зарычать и взрыть песок то одной, то другой лапой. Злополучный конь, словно зачарованный его взглядом, как лань или газель при виде змеи, рухнул на арену и стал кататься по песку, корчась от предсмертного ужаса. В это мгновение Сила выпустил вторую стрелу, и она прошла между ребрами льва, глубоко вонзившись в его тело: человек пришел на помощь коню, отвлек на себя ярость хищника, после того как позволил ему гоняться за конем.
Лев обернулся: он понял, что в цирке у него есть враг пострашнее коня, которого можно было сразить одним лишь взглядом. И только тогда он заметил Силу, доставшего из-за пояса третью стрелу и наложившего ее на тетиву. На минуту лев остановился, и один царь творения смерил взглядом другого. Этой минуты Силе было достаточно, чтобы выпустить третью стрелу: она пронзила морщинистую кожу на морде зверя и глубоко впилась ему в шею. Случившееся произошло так быстро, что походило на сон. Лев бросился на человека, тот поддел его на рогатину, затем оба упали и покатились по песку. Полетели клочья растерзанной человеческой плоти, и зрителей, сидевших ближе к арене, обдало дождем кровавых брызг. Раздался вопль Актеи: она прощалась со своим братом. У нее больше не было защитника, но не было и врага: льву хватило сил только на то, чтобы расправиться с человеком, и за агонией жертвы последовала агония палача. Что касается коня, то он уже был мертв, хотя лев не успел к нему прикоснуться.
Снова на арену вышли рабы; под крики и неистовые рукоплескания толпы они вынесли трупы человека и животных.
И тогда все взоры обратились на Актею, после гибели Силы оставшуюся без защиты. Пока ее брат был жив, она надеялась выжить и сама. Но, увидев его гибель, она поняла, что для нее все кончено. Она хотела помолиться за него, уже умершего, и за себя, стоящую на пороге смерти, однако с бледных, непослушных уст вместо слов молитвы слетали лишь невнятные звуки. Следует заметить, что многие зрители амфитеатра, против обыкновения, прониклись сочувствием к Актее: вначале они принимали ее за иудейку, но затем, разглядев ее черты, поняли, что перед ними гречанка. Женщины, и особенно юноши, среди которых поднялся ропот, а также другие зрители встали с мест, чтобы попросить сохранить ей жизнь, но тут с верхних ступеней раздались крики: "Садитесь! Садитесь!" Опускная решетка поднялась, и на арену неслышными мягкими шагами вышла тигрица.
Она сразу легла на песок и огляделась. Взгляд ее был свирепым, но в нем не было ни тревоги, ни удивления. Затем она втянула ноздрями воздух и, как змея, поползла к тому месту, где конь пал бездыханным. Там она встала на задние лапы у края арены, как прежде конь, обнюхивая и покусывая прутья решетки, которых он касался. Затем негромко зарычала, словно допрашивая железо, песок и воздух об исчезнувшей добыче. Тут она учуяла запах еще не остывшей крови, еще трепещущей плоти; на этот раз рабы не потрудились разровнять песок граблями. Она направилась прямо к дереву, возле которого Сила бился со львом, и поворачивала голову лишь для того, чтобы подобрать кровавые клочья, разбросанные по арене благородным зверем. Дойдя до лужи крови, еще не впитавшейся в песок, тигрица принялась лакать из нее, словно страдающая от жажды собака, рыча и все больше распаляясь. Напившись, она снова повела вокруг сверкающими глазами и наконец заметила Актею: прижавшись к дереву, закрыв глаза, девушка ждала смерти, не смея взглянуть ей в лицо.
Тигрица легла на брюхо и стала подползать к Актее — не прямо, а как бы сбоку, не теряя, однако, ее из виду. Шагах в десяти от дерева она поднялась, вытянула шею, раздула ноздри и вдохнула запах жертвы. И тут, одним прыжком преодолев расстояние, отделявшее ее от юной христианки, она очутилась у ее ног. Весь амфитеатр, ожидавший, что девушка сейчас будет разорвана в клочья, издал вопль ужаса — в этом крике выразилось живое сочувствие, что девушка внушила зрителям, а ведь они пришли рукоплескать ее гибели. Но тигрица улеглась на песок, кроткая и ласковая словно газель, и с довольным ворчанием принялась лизать ноги своей бывшей хозяйки. Удивленная Актея открыла глаза, ощутив эту нежданную ласку, и узнала Фебу, любимицу Нерона.
"Жизнь! Жизнь!" — пронеслось со всех сторон: то, что тигрица и Актея узнали друг друга, зрители приняли за чудо. Кроме того, Актея выдержала положенные три испытания и осталась невредима, а значит, ее следовало отпустить на свободу. Как нередко бывает у толпы, легко переходящей от одной крайности к другой, безмерная жестокость зрителей сменилась безмерным милосердием. Молодые всадники бросали на арену золотые цепочки, женщины бросали венки из цветов. Все встали с мест и звали рабов, чтобы те поспешили развязать девушку. На их зов явился Либик, чернокожий страж Фебы, и кинжалом разрезал веревку; Актея сразу же рухнула на колени — сломленная ужасом, она не могла держаться на ногах и давно бы упала, если бы не веревка. Либик помог ей встать, затем, поддерживая, повел ее к двери, называвшейся sana vivaria, через которую, как мы уже говорили, покидали арену оставшиеся в живых гладиаторы, бестиарии и приговоренные к смерти узники. Их сопровождала Феба, она шла за Актеей как верный пес. За дверью Актею ожидала огромная толпа: вышедшие на арену глашатаи только что объявили перерыв, и игры должны были вновь начаться лишь в пять часов вечера. При появлении Актеи толпа разразилась рукоплесканиями и хотела торжественно вынести девушку из цирка. Но Актея умоляюще сложила руки, и народ расступился, дав ей дорогу. Она пошла к храму Дианы, уселась у подножия одной из колонн целлы и там дала волю слезам и отчаянию. Теперь она уже сожалела, что не погибла, ведь она осталась одна на свете, у нее не было ни отца, ни возлюбленного, ни покровителя, ни друга: отец для нее был потерян, возлюбленный забыл ее, а Павел и Сила приняли мученическую кончину.
Когда настала ночь, она вспомнила, что семья у нее все же есть, и одна, в молчании, направилась к катакомбам.
Вечером, в назначенный час, двери амфитеатра вновь распахнулись, император вновь занял трон, остававшийся пустым почти полдня, и празднества начались опять. С наступлением сумерек Нерон вспомнил о данном народу обещании — устроить травлю при свете факелов: двенадцать христиан, обмазанных смолой и серой, привязали к железным столбам и подожгли. А на арену вышли новые звери и новые гладиаторы.
На следующий день в Риме распространился слух, будто в письмах, которые передали Цезарю в цирке и которые, как всем показалось, так его поразили, сообщалось о восстании испанских и галльских легионов под предводительством Гальбы и Виндекса.
XVI
Через три месяца после описанных нами событий, вечером дождливого дня и перед наступлением ненастной ночи, из Номентанских ворот выехали пятеро всадников и поскакали по дороге, носящей то же имя. Человек, находившийся впереди и, очевидно, возглавлявший этот маленький отряд, был бос, одет в синюю тунику; поверх туники на нем был широкий темный плащ. Толи желая защитить лицо от хлещущих струй дождя, то ли стремясь скрыть его от любопытных взглядов, он окутал голову платком. Несмотря на то что ночь, как мы сказали, была ужасна, молнии прорезали тьму и беспрерывно гремел гром, земля настолько была занята собственными неурядицами, что не замечала потрясений на небе. В самом деле, из императорской столицы доносились крики разгоряченной толпы, похожие на рев океана в бурю. На дороге каждые сто шагов попадались либо одинокие всадники, либо отряды вроде того, что мы описали. По обеим сторонам Соляной и Номентанской дорог поднялось множество палаток: это были преторианцы, покинувшие свои римские лагеря и нашедшие себе вне городских стен более привольное пристанище, где к тому же их труднее было бы захватить врасплох. Итак, была одна из тех ужасных ночей, когда все в природе обретает голос, чтобы излить свои жалобы, а люди отверзают уста для богохульства. Человек, возглавлявший кавалькаду, к которой мы привлекли внимание читателей, был во власти такого страха, что можно было подумать, будто именно он стал причиной великого гнева богов и людей. В самом деле, когда он выезжал из города, в воздухе пронеслось странное дуновение, от него затрепетали деревья, и в тот же миг земля содрогнулась, кони забились и заржали, а разбросанные среди полей дома заметно зашатались на своих основаниях. Землетрясение продолжалось всего несколько секунд, но распространилось от южной оконечности Апеннин до подножия Альп, поразив всю Италию. А немного спустя, проезжая по мосту через Тибр, один из всадников обратил внимание спутников на то, что река, вместо того чтобы катить свои воды к морю, бурлит и стремится вспять: такое видали только один раз, в день убийства Юлия Цезаря. И наконец, когда всадники поднялись на вершину холма, откуда был виден весь Рим и где возвышался величественный, бережно охраняемый кипарис, ровесник города, раздался страшный удар грома, словно расколовший небо пополам, и молния, обдав всадников запахом серы, расщепила надвое вековое дерево, — а ведь до этой ночи его щадило время и не задевали бедствия.
При каждом из этих мрачных предзнаменований человек с закрытым лицом издавал глухой стон, и каждый раз, несмотря на увещевания одного из своих спутников, пускал коня все более скорым аллюром, так что теперь маленький отряд рысью скакал по середине дороги. Отъехав от города примерно на полульё, они встретили крестьян: несмотря на ненастье, они весело шли в Рим. На них были праздничные одежды, а на головах — колпаки вольноотпущенников, в знак того, что с этого дня народ свободен. Человек с закрытым лицом хотел было съехать с мощеной дороги и повернуть в поле, но другой всадник схватил его коня за повод и заставил его продолжать путь. Они поравнялись с крестьянами; один из них поднял посох, делая знак остановиться. Всадники повиновались.
— Вы едете из Рима? — спросил крестьянин.
— Да, — ответил ближайший спутник человека с закрытым лицом.
— Что слышно об Агенобарбе?
Человек с закрытым лицом вздрогнул.
— Говорят, он бежал, — ответил один из всадников.
— В какую сторону?
— В сторону Неаполя: его как будто видели на Аппиевой дороге.
— Спасибо, — ответили крестьяне и с криками "Да здравствует Гальба! Смерть Нерону!" продолжали путь в Рим.
В ответ на эти крики из лагерей, разбитых по сторонам дороги, словно эхо, донеслись голоса преторианцев, осыпавших Цезаря ужасными проклятиями.
Всадники двинулись дальше, и через четверть льё встретились с отрядом гастатов.
— Кто такие? — спросил один из них, преграждая дорогу копьем.
— Сторонники Гальбы, а ищем Нерона, — ответил один из всадников.
— Надеюсь, вам посчастливится больше, чем нам, — сказал декурион. — Мы его упустили.
— В самом деле?
— Да, нам сказали, что он проедет по этой дороге; мы увидели человека, скакавшего во весь опор, и подумали, что это он…
— И что?.. — дрогнувшим голосом спросил человек с закрытым лицом.
— И мы убили его, — ответил декурион. — Только потом, разглядев тело, мы поняли, что обознались. Пусть вам повезет больше, чем нам, и да хранит вас Юпитер!
Человек с закрытым лицом снова хотел погнать лошадь галопом, но спутники удержали его. Он поехал дальше, однако шагов через пятьсот его конь споткнулся о лежавшее на дороге мертвое тело и так сильно шарахнулся в сторону, что платок, скрывавший лицо всадника, сбился набок. В это мгновение мимо проезжал преторианец, возвращавшийся из отпуска.
— Привет тебе, Цезарь! — воскликнул он.
При вспышке молнии он узнал Нерона.
Да, это был Нерон собственной персоной; Нерон, который наткнулся на труп человека, убитого по ошибке вместо него; Нерон, у которого в этот час все на свете, даже приветствие старого служаки, вызывало безумный ужас. Упав с вершины власти, по удивительной прихоти судьбы (впрочем, история той эпохи знает немало подобных примеров) он сам теперь стал изгнанником, жертвой преследователей, и спасался от смерти, ибо ему не хватало мужества ускорить ее самому или принять от других.
Бросим теперь взгляд в прошлое и посмотрим, какие события, следуя друг за другом, довели властителя мира до такой крайности.
В то самое время, когда император входил в цирк и навстречу ему неслись возгласы: "Да здравствует Нерон Олимпиец! Да здравствует Нерон Геркулес! Да здравствует Нерон Аполлон! Да здравствует Август, победивший всех соперников! Слава божественному голосу и сколь счастливы те, кому довелось услышать его небесные звуки!" — в это самое время в Рим из Галлии прибыл гонец. На взмыленном коне он стрелой влетел во Фламиниевы ворота, пересек Марсово поле, проскакал под аркой Клавдия, обогнул Капитолий, въехал в цирк и вручил преторианцу, охранявшему ложу императора, письма, доставленные из таких дальних краев и с такой спешкой. Именно эти письма, как мы уже сказали, заставили Цезаря покинуть цирк; в самом деле, важность их была столь велика, что вполне оправдывала поведение Нерона.
В них сообщалось о восстании в Галлии.
Бывают в истории человечества эпохи, когда империя, казалось бы объятая мертвым сном, вдруг встрепенется, словно дух свободы впервые слетел с небес и расцветил ее сонные грезы. И какой бы громадной ни была империя, искра, заставившая ее содрогнуться, проникнет с севера на юг, с востока на запад, легко пробежит немыслимые расстояния, чтобы пробудить народы, не имеющие никакого сообщения друг с другом, но доведенные до одинаковой степени порабощения и испытывающие одинаковую потребность освободиться. И тогда, словно молния разнесла во все концы пароль бури, из двадцати противоположных мест слышатся одни и те же призывы. На разных языках все требуют одного и того же: чтобы все стало иначе. Будет ли грядущее лучше настоящего? Этого никто не знает, да и не хочет знать: настоящее настолько ужасно, что прежде всего нужно покончить с ним, а затем уж вступать в сделку с будущим.
Римская империя, вся, вплоть до самых отдаленных окраин, переживала такой период. Фонтей Капитон в Нижней Германии, Виндекс в Галлии, Гальба в Испании, Отон в Лузитании, Клавдий Макр в Африке, Веспасиан в Сирии — все они с вверенными им легионами соединились в грозное полукружие, ожидающее лишь условного знака, чтобы сжаться вокруг столицы. Один только Вергиний, пропретор Верхней Германии, решил хранить верность — но не Нерону, а отечеству. Итак, чтобы пожар вспыхнул, нужна была только искра. И высек эту искру Юлий Виндекс.
Пропретор Гай Юлий Виндекс, уроженец Аквитании, потомок царей, человек большого ума и сердца, понял, что наступил час, когда род Цезарей должен будет угаснуть. Поскольку сам он был чужд властолюбия, то стал оглядываться вокруг в поисках человека, как бы заранее избранного на трон всеобщей любовью. На западе, по другую сторону Пиренеев, жил Сульпиций Гальба, пользовавшийся большим влиянием и в народе, и в войске благодаря своим победам в Африке и в Германии. Сульпиций Гальба ненавидел императора, ведь тот из страха перед ним заставил его покинуть виллу в Фундах и отправил в Испанию — скорее как изгнанника, чем как пропретора. И народная молва, и божественные оракулы давно уже указывали на Гальбу как на человека, которому суждено надеть императорский венец. Словом, именно такого вождя и следовало поставить во главе мятежа. Виндекс тайно отправил к нему письма: в них содержался план всего предприятия, а на случай если легионы его не поддержат, было обещано содействие ста тысяч жителей Галлии. А еще Виндекс умолял Гальбу, чтобы тот, если не желает способствовать падению Нерона, по крайней мере, не отказывался от верховной власти, которой не добивался, но которая сама плыла к нему в руки.
Что касается Гальбы, то его недоверчивый и нерешительный характер проявился и в этом случае: получив письма, он сжег их, чтобы не осталось никаких следов, но зато от слова до слова сохранил в своей памяти.
Виндекс понял: Гальба ждет, чтобы его подтолкнули. Правда, Гальба не дал согласия вступить в союз, но не предал того, кто ему этот союз предлагал — его молчание можно было считать знаком согласия.
Виндекс воспользовался благоприятным моментом: начиналось собрание представителей всех галльских племен в Клермоне, которое бывало раз в полгода, и он решил выступить там с речью.
Окруженный роскошью утонченного и развращенного Рима, Виндекс все же остался истинным галлом: он обладал холодной и обдуманной решимостью людей севера, но слово его было смелым и живым, как у людей юга.
— Вы обсуждаете здесь дела Галлии, — сказал он, — вы ищете причину наших бед где-то рядом, но причина всех бед в Риме, и виновник их — Агенобарб. Это он постепенно отнял у нас все права, он довел до нищеты наши самые богатые провинции, он облачил в одежды скорби представителей самых знатных наших родов. А теперь, оставшись последним в роде, единственным потомком Цезарей, он не боится ни соперничества, ни мести, он дал свободу своим порокам, как ослабляют поводья скакунам, и несется, увлекаемый страстями, а Рим — голова Империи, и провинции — ее члены, гибнут, раздавленные его колесницей. Я видел, — продолжал Виндекс, — да, я своими глазами видел, как этот царственный атлет и коронованный певец упивался недостойной его славой гладиатора и гистриона. Так зачем чтить его титулами Цезаря, государя и Августа, титулами, которые божественный Август заслужил своими подвигами, божественный Тиберий — своими дарованиями, божественный Клавдий — добрыми делами? Нет, этого мерзостного Агенобарба следует наречь Эдипом и Орестом, ибо он гордится своим званием кровосмесителя и матереубийцы. Когда-то наши предки, ведомые лишь потребностью перемен и жаждой обогащения, приступом взяли Рим. Теперь нас поведет по следам предков более достойное и благородное побуждение: теперь мы бросим на чашу весов не меч нашего стародавнего Бренна, а свободу для всего мира, теперь мы принесем побежденным не горе, а благоденствие.
Виндекс был отважен, и люди знали, что, когда он высказывается, это отнюдь не пустые слова. Его речь встретили громкими возгласами, шумными рукоплесканиями, бурными приветствиями. Галльские вожди обнажили мечи, и каждый поклялся, что через месяц возвратится в Клермон с соответствующим его достатку и положению отрядом воинов. Теперь маска была сорвана и ножны отброшены далеко от меча. Виндекс написал Гальбе еще одно послание.
С первого дня службы в Испании Гальба тщательно и упорно завоевывал себе сторонников. Он никогда не шел навстречу прокураторам, требовавшим жестоких мер, и, хотя не мог помешать их лихоимству, открыто выражал сочувствие их жертвам. Он никогда не порицал Нерона, но не препятствовал хождению насмешливых стихов и оскорбительных эпиграмм, направленных против императора. Все окружающие догадывались о его намерениях, но сам он ни разу не доверился ни одному человеку. В день, когда прибыл гонец от Виндекса, он позвал друзей на роскошный обед, и вечером, сообщив им о восстании в Галлии, прочел послание вслух безо всяких пояснений, тем самым дав им возможность одобрить или осудить предложение, сделанное ему Виндексом. После чтения письма некоторое время все сидели молча и в растерянности; но вот один из гостей, по имени Т.Виний, что был решительнее других, повернулся и взглянул хозяину дома прямо в лицо.
— О Гальба, — сказал он, — к чему раздумывать, останемся мы верны Нерону или нет, ведь такие раздумья уже сами по себе — нарушение верности. Надо либо вступить в союз с Виндексом, как если бы Нерон уже был нашим врагом, либо сейчас же обвинить Виндекса в предательстве и выступить против него, — но ради чего? Он ведь хочет только одного: чтобы императором в Риме был ты, а не тиран Нерон.
— Если вам угодно, — ответил Гальба, словно и не слышавший этих слов, — в пятый день будущего месяца мы встретимся в Новом Карфагене, чтобы отпустить на волю нескольких рабов.
Друзья Гальбы согласились прибыть на эту встречу. На всякий случай они распустили слух, будто на собрании в Новом Карфагене будут решаться судьбы Империи.
В назначенный день там собрались виднейшие граждане Испании, как местные уроженцы, так и выходцы из других земель. У всех была одна цель, одно заветное желание, одна неутолимая жажда мести. Гальба поднялся на возвышение, где стояло его кресло судьи, и в тот же миг все присутствующие в едином порыве провозгласили его императором.
XVII
Вот о чем сообщалось в письмах, доставленных Нерону, вот какие новости он узнал. Кроме того, ему доложили, что Виндекс распространяет воззвания и несколько их уже достигли Рима. Вскоре одно воззвание попало в руки Нерона. Он прочел эти строки, где его клеймили кровосмесителем, матереубийцей и тираном. Но вовсе не это разгневало и уязвило Нерона, а то, что в воззвании его называли Агенобарбом и объявляли никудышным певцом. Он решил, что сенат должен отомстить за все эти оскорбления, и написал ему об этом послание. Чтобы отвести от себя упрек, будто он неискусен в пении, и чтобы защитить родовое имя, он обещал миллион сестерциев тому, кто убьет Виндекса, а затем впал в прежнюю беспечность и равнодушие.
Тем временем восстание набирало силу и в Испании и в Галлии. Гальба набрал себе охрану из сословия всадников и даже создал сенат из местных граждан. Что же касается Виндекса, то человеку, сообщившему, что голова его оценена, он ответил, что охотно даст отрубить ее тому, кто принесет ему голову Нерона.
Но среди всех военачальников, префектов, преторов, поверивших в счастливую звезду Гальбы, один остался верен императору. И не из любви к Нерону — причина была в другом. Этот полководец (его звали Вергиний), видя в Виндексе чужеземца, зная Гальбу как человека слабого духом и нерешительного, опасался, что Рим, сколь бы тяжелым ни было его теперешнее положение, от переворота пострадает еще больше. И он выступил со своими легионами против мятежной Галлии, чтобы спасти Империю от позора, не дать ей покориться народу, который уже победил ее однажды.
Галльские вожди сдержали клятву. Три крупнейшие народности, населявшие Галлию — секваны, эдуи и арверны, — перешли на сторону Виндекса. Вскоре к ним примкнули и аллоброги, но не из любви к отчизне или стремления к свободе: их подвигла на это извечная ненависть к лутдунцам, сохранившим верность Нерону. А под командованием Вергиния шли германские легионы, вспомогательные отряды белгов и батавская конница. Два войска двигались навстречу друг другу. Вергиний подошел к городу Везанцию, поддержавшему Гальбу, и решил начать осаду. Но едва его люди успели расположиться лагерем на подступах к городу, как на горизонте показалось другое войско: это были галлы под водительством Виндекса.
Римляне приготовились к бою, а галльские воины, приблизившись к ним на расстояние трех полетов стрелы, остановились и стали строиться в боевой порядок. Но в это мгновение из их рядов вышел вестник, посланный Виндексом к Вергинию. Четверть часа спустя охрана обоих полководцев выдвинулась вперед и разделила два войска. Воины раскинули палатку, а затем каждый вернулся к своим. В палатку вошли Виндекс и Вергиний.
Никто не знает, что было сказано на этой встрече, проходившей без свидетелей; по предположению историков, Виндекс объяснил Вергинию, в чем цель его политики, и сумел доказать, что добивался власти не для себя, а для Гальбы. Вергиний поверил Виндексу, увидел в грядущем перевороте благо для отечества и решил вступить в союз с тем, против кого предпринял поход. Два военачальника собирались распрощаться, но лишь для того, чтобы вскоре объединиться и вместе пойти на Рим, как вдруг на правом фланге римского войска послышались громкие крики. А случилось вот что. Из Везанция вышла центурия, чтобы вступить в переговоры с галльским войском, и некоторые галльские воины двинулись ей навстречу. Воины Вергиния подумали, будто галлы их окружают, и без долгих размышлений, в воинственном порыве сами ринулись в бой: их крики и услышали оба полководца. Каждый бросился к своим воинам, умоляя их остановиться. Но голоса военачальников потонули в оглушительных воплях, которые издавали галлы, приставив щит к губам; начальники подавали отчаянные знаки воинам, но те истолковали это как призыв к бою. И всем этим людским скопищем овладело непостижимое ослепление, какое порой может захватить целое войско словно одного человека. Зрелище было поистине ужасающее: без приказа начальника, без выбора поля битвы, одержимые инстинктом убийства и вдохновленные застарелой ненавистью побежденных к победителям, народа-завоевателя к порабощенному народу, воины бросились друг на друга, перемешались в рукопашной схватке, как со львами и тиграми в цирке. За два часа сражения галлы потеряли двадцать тысяч человек убитыми, а германские и батавские легионы — шестнадцать тысяч: за меньшее время нельзя уничтожить столько людей. Наконец галлы отступили. Правда, после захода солнца оба войска остались стоять одно в виду другого. Но первое поражение убавило отваги восставшим: воспользовавшись ночной темнотой, они снялись с лагеря и бежали. Когда на следующее утро германские легионы собрались ударить по противнику, на месте расположения галлов осталась одна лишь палатка, и в этой палатке лежал мертвый Виндекс. В отчаянии от того, что нелепая случайность отняла у свободы такие лучезарные надежды, он бросился на свой меч, ставший отныне для него бесполезным, и пронзил себе сердце. Ворвавшиеся в его палатку германцы принялись рубить труп, а впоследствии заявили, будто это они убили Виндекса. Но когда между ними стали делить награду, назначенную им всем Вергинием, один из них, недовольный своей долей, открыл, как все было на самом деле. Так правда вышла наружу.
В то же время в Испании события развивались не менее благоприятно для императора. Воины одной из восставших когорт пожалели о том, что изменили присяге, и захотели отложиться от Гальбы. Лишь с большим трудом их удалось вернуть под его начало. К тому же, в тот день, когда Виндекс покончил с собой, Гальба сам едва избежал смерти: по дороге в баню, на узкой улочке его чуть не убили рабы, когда-то полученные им в дар от некоего вольноотпущенника императора. И вот, еще взволнованный двумя этими грозными событиями, он получил известие о поражении галлов и гибели Виндекса. Он решил, что все пропало, и, вместо того чтобы положиться на волю дерзновенной фортуны, поступил в соответствии со своим робким характером и удалился в Клунию, хорошо укрепленный город, но, тем не менее, сразу же приказал тщательно готовиться к обороне. Однако благоприятные предсказания и знамения, в чьей сути нельзя было ошибиться, вскоре вернули ему отвагу. Когда по его приказу вокруг города стали возводить новый защитный вал, при первом же ударе заступа воин обнаружил в земле кольцо старинной и искусной работы: на камне была вырезана богиня Победы с трофеем. Эта первая улыбка судьбы привела к тому, что Гальба заснул таким спокойным сном, на какой уже и не надеялся, и ему приснилась маленькая, высотой в локоть, статуя Фортуны, особенно почитаемой им богини: ей он на своей вилле в Фундах раз в месяц приносил жертву и раз в год посвящал ночное бдение. Богиня заглянула к нему в дверь и сказала, что устала ждать на пороге и, если он не примет ее сейчас же, уйдет к другому. Когда утром он встал, взволнованный этими счастливыми предзнаменованиями, ему доложили, что в городе Дертоза на реке Эбро обнаружен корабль с грузом оружия, но без матросов, без рулевых, без пассажиров. И с этой минуты Гальба уверился, что дело его правое и оно восторжествует, раз боги так явно благоволят к нему.
Но вернемся к Нерону. Вначале все эти новости нисколько не встревожили его, а напротив, даже обрадовали, так как давали ему возможность, пользуясь правом войны, ввести новый налог. Поэтому он, как мы говорили, ограничился тем, что отправил в сенат воззвания Виндекса и потребовал суда над человеком, назвавшим его плохим кифаредом. А вечером он созвал к себе виднейших римских граждан. Те поспешили явиться во дворец, полагая, что их зовут на совет. Однако Нерон стал им показывать гидравлические музыкальные инструменты новейшего устройства, объясняя, каковы возможности каждого из них и как им пользоваться. Затем он сказал, что прикажет отнести все эти инструменты в театр, "если только Виндекс не помешает". Вот и все, что он сказал о галльском мятеже.
На следующий день прибыли новые донесения; в них сообщалось, что число восставших галлов достигло ста тысяч. И Нерон подумал, что пора начать готовиться к войне. Но приготовления, начавшиеся по его приказу, были странными и безрассудными. К театру и ко дворцу пригнали множество повозок, но их нагрузили не оружием, а музыкальными инструментами. Затем он пожелал, чтобы римские трибы собрали для него ополчение; однако, видя, что люди, способные носить оружие, не желают давать воинскую присягу, он приказал пожертвовать ему определенное количество рабов и сам отправился по домам — выбирать рабов покрепче и посильнее, причем не делал исключения даже для хозяйских писцов и домоправителей. И наконец на его зов явились четыреста гетер. Он приказал коротко остричь им волосы, вооружить их боевыми топорами и щитами, какие носили амазонки, и велел им занять возле своей особы место цезарианской гвардии. После обеда он вышел из триклиния, опираясь на Спора и Фаона; его встретили встревоженные придворные, ожидавшие приема. Он стал их успокаивать, говоря, что, если он ступит на землю Галлии и безоружный предстанет перед ее жителями, ему достаточно будет пролить несколько слезинок — и мятежники склонятся на его сторону. А завтра начнется веселый пир, во время которого он радостно споет победный гимн, сочиненный им к этому случаю.
Через несколько дней из Галлии прибыл новый гонец. На этот раз вести были утешительные: о встрече римских и галльских легионов, о разгроме мятежников и гибели Виндекса. Нерон громко кричал от радости, бегал как помешанный по комнатам и садам Золотого дворца, приказал устроить пиры и празднества. Он объявил, что вечером будет петь в театре, и пригласил к себе на следующий день знатнейших людей Рима на торжественный ужин.
Вечером Нерон действительно отправился в гимнасий. Но в Риме началось какое-то странное брожение. Проезжая мимо одной из своих статуй, он увидел, что на нее набросили мешок. Это был намек на казнь, какая полагалась отцеубийцам: их зашивали в мешок вместе с кошкой, обезьяной и гадюкой, а затем бросали в Тибр. Нерон поехал дальше и заметил надпись, появившуюся на основании колонны: "Нерон так долго пел, что разбудил петухов"[26]. Далее по пути императору попался богатый патриций, который так громко ссорился — или делал вид, будто ссорится, — со своими рабами, что Нерон велел узнать, в чем дело. Ему доложили, что рабы этого человека провинились и он призывает на них Мстителя[27].
Представление в театре началось с ателланы, в которой играл актер Эат. Его роль начиналась словами: "Привет тебе, отец. Привет тебе, мать!" Произнося это, он повернулся к Нерону, и при словах "Привет тебе, отец!" сделал вид, будто пьет, а при словах "Привет тебе, мать!" стал разводить руками, как пловец. Эту выходку зрители вознаградили дружными рукоплесканиями: все уловили в ней намек на гибель Клавдия и Агриппины. Нерон рассмеялся и захлопал, как остальные: быть может, потому, что ему был вовсе неведом стыд, или же испугавшись, как бы проявление гнева не вызвало новых насмешек или не настроило зрителей против него.
Когда пришел его черед петь, он покинул свою ложу и спустился в помещения для актеров. Пока он переодевался, в театре разнеслась странная новость и зрители стали оживленно обсуждать ее: лавровые деревья Ливии засохли, а ее священные куры погибли.
Вот как выросли эти лавры и как стали священными эти куры.
В ту пору, когда Ливия Друзилла, после брака с Октавианом получившая имя Августы, еще была невестой, как-то она сидела в саду своей виллы в Вейях, и вдруг летевший в поднебесье орел уронил ей на колени белую курицу. Та нисколько не пострадала и даже словно бы не испугалась. Разглядывая и лаская ее, удивленная Ливия заметила, что птица держит в клюве веточку лавра. Она обратилась за разъяснениями к гаруспикам, а те велели ей посадить лавровую веточку в землю, чтобы она дала побеги, и выкармливать курицу, чтобы от нее пошло потомство. Ливия так и сделала. Местом исполнения прорицания был выбран императорский загородный дом на Фламиниевой дороге, у Тибра, в девяти милях от Рима. Успех превзошел все ожидания. Вывелось столько цыплят, что поместье это стали называть "Ad Gallinas"[28], а лавр дал столько отростков, что вокруг него вырос целый лес. И вот этот лес внезапно весь высох, от верхушек и до корней, а цыплята все до единого погибли.
Итак, император появился перед зрителями. По своему обыкновению, он смиренно вышел на орхестру и обратился к публике с почтительной речью, говоря, что сделает все возможное, но успех его выступления зависит от фортуны; однако в театре не раздалось ни одного ободряющего рукоплескания. Тем не менее, он начал петь, но в голосе его чувствовались робость и смятение. Зрители выслушали его в глубокой тишине и не выразили никакой поддержки. Наконец он пропел последний стих, гласивший:
Жена, мать, отец — все требуют смерти моей!
И тут, наконец, раздались рукоплескания и крики, но такие крики уже никого не могли ввести в заблуждение. Нерон понял их истинный смысл и без промедления покинул орхестру. Но спускаясь по лестнице, он наступил на край своего слишком длинного одеяния, упал и расшиб лицо. Когда его подняли, он был без чувств.
Нерона отнесли в Палатинский дворец. Придя в себя, он заперся в уединенном покое, терзаемый страхом и злобой. Он взял таблички и стал записывать на них странные мысли, которым не хватало только подписи, чтобы превратиться в чудовищные приказы. Он намеревался отдать всю Галлию на разграбление легионам, пригласить к себе на пир всех сенаторов и отравить, поджечь Рим и одновременно выпустить на волю всех хищных зверей, чтобы неблагодарный народ, своими рукоплесканиями призывавший на него смерть, не смог бороться с всепожирающим пламенем. Написав это, он уверился, что может еще совершить много зла, а следовательно, не лишился власти. Это его успокоило; он бросился на постель, и боги, которым было угодно послать ему новые знамения, позволили ему заснуть.
Нерону, никогда прежде не видевшему снов, приснилось, что он на корабле в страшную бурю несется по волнам бушующего моря и кто-то вырывает руль у него из рук. Затем, как это бывает во сне, безо всякой связи с предыдущим он оказался вдруг перед театром Помпея; четырнадцать статуй, воздвигнутые Копонием и изображавшие четырнадцать народов, спустились с пьедесталов. Та, что была перед ним, преградила ему путь, остальные стали полукругом и начали медленно приближаться, пока он не оказался в кольце их мраморных рук. С трудом ускользнул он от этих каменных призраков и, бледный, задыхающийся, безгласный, бросился на Марсово поле. Но когда он проходил мимо мавзолея Августа, двери гробницы отворились сами собой и оттуда послышался голос, трижды позвавший Нерона. Это последнее видение прервало сон, и он пробудился, весь дрожа, в поту, со вставшими дыбом волосами. Он позвал рабов, приказал привести Спора, и юноша оставался в его спальне до утра.
При свете дня леденящие ночные ужасы рассеялись. Но после них осталась какая-то смутная тревога, заставлявшая Нерона поминутно вздрагивать. Тогда он велел привести к нему гонца, что доставил донесение о гибели Виндекса. Это был батавский всадник, вышедший из Германии с войском Вергиния и участвовавший в сражении. Нерон заставил его несколько раз рассказать о битве, и особенно подробно о смерти Виндекса. Он не успокоился, пока воин не поклялся ему Юпитером, что своими глазами видел изрубленное тело, которое оставалось лишь положить в могилу. Тогда Нерон приказал отсчитать гонцу сто тысяч сестерциев и подарил собственный золотой перстень.
Настало время ужина, и в Палатинском дворце собрались гости императора. Перед трапезой Нерон, как обычно, предложил им баню. Когда они вышли оттуда, рабы облачили их в белоснежные тоги и надели на них венки из цветов. В триклинии их ожидал Нерон, также одетый в белое и увенчанный цветами, и все возлегли на пиршественные ложа под звуки чарующей музыки.
Этот ужин был устроен не только со всей изысканностью, но и со всей роскошью, какой отличалась трапеза римлян. У ног каждого сотрапезника лежал раб, готовый исполнить все его желания, а за отдельным столиком ел парасит, отданный в жертву — гость мог глумиться над ним как хотел. В глубине триклиния было устроено нечто вроде театра: там блистали красотой гадитанские танцовщицы, чья легкость и изящество движений делали их похожими на весенние божества, которые в мае сопровождают Флору и Зефира, посещающих свои владения.
По мере того как длился ужин, а возбуждение сотрапезников росло, танец постепенно изменялся: из сладострастного он стал похотливым. Наконец танцовщиц сменили канатоходцы, и тут начались невообразимые игры (говорят, они были заново открыты во времена Регентства), придуманные когда-то для того, чтобы разбудить засыпающие чувства старого Тиберия. А Нерон взят кифару и запел язвительные стихи о Виндексе. Эту песнь он сопровождал шутовскими телодвижениями. Пирующие неистово рукоплескали его пению и жестам, когда вошел гонец с последними донесениями из Испании. В письмах сообщалось о начале восстания и о том, что Гальба провозглашен императором.
Нерон перечитал донесения по нескольку раз и с каждым разом все больше бледнел. Закончив чтение, он схватил две свои любимые вазы, которые он называл "гомерическими", потому что они были расписаны сценами из "Илиады", и разбил их вдребезги как обычную посуду. Затем он рухнул на пол, разодрал на себе одежды и стал биться головой о пиршественные ложа, крича, что ему довелось претерпеть неслыханное, никем до него не испытанное несчастье — еще при жизни лишиться императорской власти. На крики прибежала его кормилица Эклога, обняла его словно ребенка и стала утешать. А он, как ребенок, от ее утешений загоревал еще сильнее. Однако горе быстро сменилось гневом. Он приказал принести ему заостренную тростниковую палочку и папирус, чтобы написать начальнику преторианцев. Подписав приказ, он хотел было запечатать папирус своим перстнем, который, как мы уже говорили, он утром подарил батавскому всаднику. Тогда он попросил перстень у Спора, взял его не глядя и прижал к теплому воску. И только отняв перстень, заметил, что оттиснутая им печать изображает нисхождение Прозерпины в подземное царство. Это знамение, да еще явленное в такую минуту, показалось ему самым грозным из всех. То ли он подумал, будто Спор нарочно дал ему этот перстень, то ли в охватывающем его безумии он уже не узнавал самых близких друзей, но, когда Спор подошел спросить, в чем причина его внезапного отчаяния, он сильно ударил юношу кулаком в лицо. Окровавленный Спор, лишившись чувств, упал на разбросанные по полу объедки.
Не простившись с пирующими, император стремительно покинул триклиний, удалился в свои покои и послал за Локустой.
На сей раз император хотел воспользоваться искусством старой подруги для самого себя. Он уединился с ней на всю ночь, и в его присутствии она приготовила тончайший яд, который составила три дня назад и испытала накануне. Нерон вылил яд в золотой флакон и спрятал его в шкафчике, подаренном Спором, в тайнике, известном лишь евнуху и ему самому.
Между тем слух о восстании Гальбы распространялся с ужасающей быстротой. Теперь уже речь шла не об отдаленной угрозе, не об отчаянной попытке мятежа, предпринятой Виндексом. Это было открытое и грозное наступление могущественного противника, патриция из славного и знатного рода, издавна почитаемого в Риме, человека, на статуях которого всегда было написано, что он правнук Квинта Катула Капитолина, самого бесстрашного и честного магистрата своего времени.
Давнее расположение народа к Гальбе еще более усилилось от новых обид, причиненных Нероном: всецело занятый играми, скачками и пением, он пренебрегал своими обязанностями префекта анноны. Корабли, посланные на Сицилию и в Александрию за пшеницей, подняли якорь лишь тогда, когда им уже следовало бы возвратиться назад. Это привело к тому, что всего за несколько дней цены на зерно стали головокружительными. А затем начался голод, и страждущие римляне, все как один, неотрывно глядели на юг, толпами сбегались на берег Тибра к каждому кораблю, приплывшему из порта Остии. На следующий день после пира, когда Нерон получил известие о восстании Гальбы, после ночи, проведенной им в обществе Локусты, голодный и ропщущий римский народ утром собрался на Форуме и кто-то вдруг крикнул, что вверх по Тибру плывет корабль. Все бросились в элийский порт, решив, что это передовое судно спасительного флота, груженного зерном, и с радостными криками стали взбираться на борт. Но когда выяснилось, что корабль привез из Александрии песок для арены придворного гимнасия, народ разразился громкими криками недовольства и проклятиями.
Среди недовольных особенно выделялся один человек: это был вольноотпущенник Гальбы, по имени Икел. Накануне вечером он был взят под стражу, однако ночью в темницу ворвались около сотни вооруженных людей и освободили его. Теперь он снова появился в толпе; всем стало известно о его недолгом заключении, и, пользуясь этим преимуществом, он призвал всех к открытому восстанию.
Однако римляне все еще колебались: их удерживала привязанность к существующему порядку, в которой люди обычно не отдают себе отчета, но которую так трудно разорвать посредственным умам. Но тут вдруг к Икелу приблизился какой-то молодой человек, чье лицо было закрыто паллиумом, и подал ему табличку слоновой кости, покрытую воском.
Икел взглянул на табличку и с радостью увидел, что случай пришел к нему на помощь, предоставив свидетельство против Нерона. Это была одна из табличек, где Нерон записывал свои мстительные замыслы в ту ночь, которую он провел со Спором. Эти строки выражали намерение еще раз поджечь Рим, уставший рукоплескать пению императора, и во время пожара выпустить из клеток диких зверей, чтобы не дать людям тушить огонь. Икел прочел надпись на табличке вслух, но люди не решались верить: такая месть казалась им полным безумием. Некоторые стали кричать, что прочитанный Икелом приказ подложный. Но тут Нимфидий Сабин взял у вольноотпущенника табличку и заявил, что узнает не только почерк императора, но и его манеру стирать, вымарывать и вписывать. На это возразить было нечего: Нимфидий Сабин был префектом претория и ему часто приходилось читать собственноручные письма Нерона.
В эту минуту на Форуме появились сенаторы, без плащей и в большом волнении; они направлялись на Капитолий по призыву главы сената, этим же утром получившего от кого-то табличку вроде той, какую незнакомец вручил Икелу. На ней подробно описывалось, как, пригласив сенаторов на торжественный обед, можно отравить всех разом. Толпа последовала за сенаторами, затем вернулась и заполнила Форум, несметная и необозримая, как морские валы, подобная приливу, заливающему порт. В ожидании решения сената народ набросился на статуи Нерона, пока еще не решаясь взяться за него самого. Император в это время стоял на террасе Палатинского дворца и сверху видел, каким надругательствам подверглись его изображения. Он оделся в черное, чтобы спуститься к народу и растрогать его своими мольбами. Но в тот самый миг, когда он хотел выйти, крики толпы зазвучали так угрожающе и так яростно, что он поспешил вернуться, приказал открыть заднюю дверь дворца и скрылся в садах Сервилия. Только самому узкому кругу приближенных было известно, что он находится в этом убежище; чувствуя себя в относительной безопасности, он послал Фаона к начальнику преторианцев.
Но здесь посланец Гальбы опередил посланца Цезаря.
Нимфидий Сабин уже успел пообещать от имени нового императора каждому преторианцу по семь с половиной тысяч драхм, а каждому воину из легионов, стоявших в провинциях, — тысячу двести пятьдесят драхм. И потому префект претория ответил Фаону, что теперь может сделать только одно: за такую же сумму отдать предпочтение Нерону. Фаон передал его ответ императору. Требуемая сумма в наших деньгах составила бы около двухсот восьмидесяти пяти миллионов ста шестидесяти двух тысяч трехсот франков, а государственная казна давно была опустошена огромными бессмысленными расходами, и у императора не было даже двадцатой части этих денег. Однако Нерон не терял надежды: приближалась ночь, а в темноте он мог незаметно отправиться к старым друзьям, взмолиться о помощи, и, быть может, ему удалось бы набрать нужную сумму.
Ночь опустилась на город, полный смятения и мерцающего света: на каждом форуме, каждой площади, каждом перекрестке собрались люди с факелами. Среди этой толпы, обуреваемой различными чувствами, распространялись самые странные и самые противоречивые сообщения, словно орел стряхивал их со своих крыльев, и все они принимались на веру, сколь бы нелепы и несообразны они ни были. Над городом поднималось свечение, а на улицах слышался глухой гул: издалека могло показаться, будто там извергается вулкан и ревут хищные звери. Среди общей суматохи преторианцы покинули свои помещения и стали лагерями вне городских стен. Повсюду, где они проходили, снова наступала тишина, так как народу еще не было известно, на чьей они стороне. Но как только они скрывались из виду, толпа снова принималась вопить и размахивать факелами, разъяренная и разнузданная.
Несмотря на волнения в городе, Нерон, переодетый простолюдином, вышел из садов Сервилия, где, как мы говорили, он скрывался весь день. На этот отчаянный поступок его побудила надежда найти дружеское участие если не в объятиях, то, по крайней мере, в кошельке его старых товарищей по разврату. Напрасно, однако, он переходил от дома к дому, с мольбой преклоняя колена перед каждой дверью, выпрашивал, словно нищий, эту милостыню, ибо она одна только и могла спасти ему жизнь. Ничье сердце не отозвалось на его вопли и стоны, никто не открыл ему дверей. А между тем толпа, устав ждать решений сената, начала роптать. Нерон понял, что нельзя терять ни минуты. Вместо того чтобы вернуться в сады Сервилия, он отправился на Палатин — взять из дворца золото и несколько бесценных украшений. Поднявшись к источнику Юпитера, он пробрался за храм Весты и очутился в тени, отбрасываемой стенами дворца Тиберия и Калигулы. Он открыл дверь, распахнувшуюся перед ним в день прибытия из Коринфа, прошел через великолепный сад, который ему предстояло покинуть и сменить на пустынный берег изгнания, затем вернулся в Золотой дворец и темными потайными закоулками добрался до своих покоев. Но едва он вошел, как у него вырвался крик изумления.
Пока он отсутствовал, охрана Палатинского дворца разбежалась, унеся с собой все, что попадалось под руку: одеяла из атталийских тканей, серебряные вазы, драгоценную мебель. Нерон бросился к шкафчику, где был спрятан яд Локусты, и открыл тайник. Но золотой флакон исчез, и с ним исчезла последняя возможность избежать принародной позорной смерти. И тогда, чувствуя свое бессилие перед грозящей опасностью, покинутый и преданный всеми, он, кто еще вчера был властителем мира, бросился лицом на пол и забился в судорогах, пронзительными криками призывая на помощь. На эти крики прибежали три человека: Спор, императорский писец Эпафродит и вольноотпущенник Фаон. Заметив вошедших, Нерон приподнялся на одно колено и устремил на них взор, полный мучительной тревоги; затем, поняв по их печальному и удрученному виду, что надежды больше нет, он приказал Эпафродиту сходить за гладиатором Спикулом или кем-нибудь другим, кто мог бы убить его. Оставшимся с ним Спору и Фаону он приказал затянуть причитания, какие поют наемные плакальщицы на похоронах. Они еще не успели допеть, как возвратился Эпафродит. Он не смог уговорить ни Спикула, ни кого-либо другого. Нерон, собравший все свое мужество, чтобы принять легкую и скорую смерть, увидел гибель и этой свой надежды. Бессильно уронив руки, он вскричал: "Увы! Увы! Так, значит, нет у меня ни друга, ни недруга!" Он хотел выбежать из дворца и броситься в Тибр. Но Фаон остановил его, предложив ему убежище в своем загородном доме, находившемся в четырех милях от Рима, между Соляной и Номентанской дорогами. Нерон соглашается, ухватившись как за соломинку за эту последнюю возможность спастись. Во дворе его ждут пять оседланных скакунов; он садится в седло, закрыв лицо платком; Фаон остается на Палатине, чтобы извещать императора о событиях. Нерон скачет через весь город, за ним неотступно, как тень, следует Спор; миновав Номентанские ворота, они выезжают на дорогу, где их уже видел наш читатель в то мгновение, когда приветствие преторианца повергло Нерона в бездну ужаса.
Маленький отряд приближался к вилле Фаона, находившейся там, где сейчас стоит городок Серпентара. Это поместье, надежно укрытое за Священной горой, вполне могло послужить для Нерона временным убежищем, достаточно уединенным для того, чтобы он, если не будет никакой надежды спастись, успел, по крайней мере, приготовиться к смерти. Эпафродит, знавший дорогу, выехал вперед, затем свернул налево, на узкую тропинку. За ним ехал Нерон, а два вольноотпущенника и Спор замыкали кавалькаду. Проехав полпути, они услышали какой-то шум на дороге, но в темноте не могли разглядеть тех, кто шумел. Однако темнота пошла беглецам на пользу. Нерон и Эпафродит скрылись в поле, а Спор и оба вольноотпущенника продолжали путь, огибая Священную гору. Шум, который они слышали, производил ночной дозор, высланный на поиски императора и возглавляемый центурионом. Дозор остановил трех всадников; однако, видя, что Нерона среди них нет, центурион позволил им продолжать путь после того, как обменялся несколькими словами со Спором.
Между тем императору и Эпафродиту пришлось спешиться, так как равнина, каменистая сама по себе, была вдобавок покрыта обломками после землетрясения, которое случилось при выезде Нерона и его маленького отряда из Рима. Они стали пробираться сквозь тростниковые заросли и терновник. Колючки в кровь расцарапали босые ноги Нерона и разодрали его плащ. Наконец они различили в темноте что-то темное, массивное. Они стали пробираться вдоль стены с наружной стороны, а с внутренней за ними с громким лаем бежал сторожевой пес. Но вот перед ними открылся вход в песчаный карьер, находившийся рядом с виллой Фаона. Вход в карьер был низким и тесным. Нерон, гонимый страхом, лег ничком и заполз внутрь. Оставшийся снаружи Эпафродит сказал ему, что обойдет ограду, проникнет в дом и разведает, можно ли императору следовать туда за ним. Но стоило Эпафродиту отойти на несколько шагов, как Нерон, оставшись один в карьере, ощутил леденящий ужас: ему показалось, что он похоронен заживо и дверь склепа сейчас закроется за ним. Он поспешил выбраться из ямы, чтобы вновь увидеть небо и вдохнуть свежий воздух. Наверху, у края карьера, он заметил большую лужу. Его терзала такая жажда, что он решил напиться этой стоячей воды. И вот, подстелив плащ, чтобы не пораниться о камни и колючки, он подполз к луже и зачерпнул пригоршню воды. Потом, взглянув на небо, он с горечью произнес:
— Так вот каков последний напиток Нерона!
Возле этой лужи он просидел некоторое время в мрачной задумчивости, выдергивая из плаща шипы и колючки, и вдруг услышал, что его зовут. Этот голос, нарушивший ночную тишину, заставил Нерона вздрогнуть, хотя и звучал дружелюбно: он обернулся и у входа в карьер увидел Эпафродита с факелом в руке. Писец сдержал слово. Он вошел в ограду виллы через главные ворота и указал вольноотпущенникам, в каком месте за оградой их ожидает император; затем они втроем пробили старую стену и проделали отверстие, через которое Нерон мог пробраться из карьера на виллу. Нерон так поспешно последовал за своим вожатым, что забыл плащ возле лужи. Он забрался в дыру, пробитую в стене, и из нее попал в хижину раба, где вместо мебели на земле валялся матрац и старое одеяло. Освещал эту зловещую и зловонную конуру скверный глиняный светильник, от которого было больше дыма, чем света.
Нерон сел на матрац и прислонился спиной к стене. Он был голоден, чувствовал жажду. Он попросил еды и питья; ему принесли деревенского хлеба и кувшин воды. Но, отведав хлеба, он отшвырнул его подальше, а воду попросил подогреть; оставшись в одиночестве, он уронил голову на колени и несколько мгновений сидел немой и неподвижный, словно статуя Скорби. Тут отворилась дверь. Нерон подумал, что ему несут подогретую воду и поднял голову: перед ним стоял Спор с письмом в руке.
На бледном лице евнуха, обычно унылом и печальном, сейчас было столь необычное выражение жестокой радости, что Нерон пристально взглянул на него, не узнавая в этом молодом человеке раба, покорно исполнявшего его прихоти. Остановившись в двух шагах от постели, Спор протянул ему свиток пергамента. Не поняв странной улыбки Спора, Нерон все же заподозрил, что в этом письме какая-то дурная новость.
— От кого письмо? — спросил он, даже не поднимая руки, чтобы взять свиток.
— От Фаона, — ответил Спор.
— О чем он пишет? — снова спросил Нерон, и краска сбежала с его лица.
— О том, что сенат объявил тебя врагом государства и тебя разыскивают, чтобы предать казни.
— Предать казни! — воскликнул Нерон, привстав на одно колено. — Казнить меня, Клавдия Цезаря!..
— Ты больше не Клавдий Цезарь, — холодно ответил евнух. — Ты просто Домиций Агенобарб, обвиняемый в измене отечеству и приговоренный к смерти!..
— А как казнят предателей отечества? — спросил Нерон.
— Их раздевают догола, надевают им на шею колодки, и в таком виде водят по форумам, рынкам и Марсову полю, а потом засекают розгами насмерть!..
— О! — воскликнул Нерон, вскакивая на ноги, — еще не поздно бежать, я успею добраться до Ларицийского леса и Минтурнских болот, потом меня подберет какой-нибудь корабль, и я найду убежище на Сицилии или в Египте.
— Бежать! — сказал Спор, по-прежнему бледный и холодный, словно мраморный истукан. — Бежать! Но как?
— Вот как, — сказал Нерон, распахнув дверь каморки и бросаясь к отверстию в стене, ведущему в карьер. — Если я сумел войти сюда, то сумею и выйти.
— Да, но после того как ты вошел, отверстие заложили опять, — сказал Спор. — И каким бы могучим атлетом ты ни был, сомневаюсь, что тебе под силу в одиночку сдвинуть закрывающий его камень.
— Клянусь Юпитером, это правда! — воскликнул Нерон, напрягая все силы в тщетной попытке приподнять камень. — Но кто же прикатил сюда этот камень и закрыл отверстие?
— Я и оба вольноотпущенника, — ответил Спор.
— Но почему вы это сделали? Почему заточили меня здесь, словно Кака в его пещере?
— Чтобы ты умер здесь, как он, — произнес Спор с такой лютой ненавистью, какая, казалось бы, и не могла звучать в его нежном голосе.
— Умереть! Умереть! — сказал Нерон. Он стал биться головой об стену, словно пойманный зверь в поисках выхода. — Умереть! Так, значит, все хотят моей смерти? Значит, все меня покинули?
— Да, — ответил Спор, — все хотят твоей смерти, но не все тебя покинули: я здесь, и я умру с тобой.
— Да, да… — пробормотал Нерон, снова опускаясь на матрац. — Да, ты верен мне.
— Ошибаешься, Цезарь, — сказал Спор, скрестив на груди руки и глядя, как Нерон кусает подушки, — ты ошибаешься, это не верность, а нечто более прекрасное — это месть.
— Месть? — живо обернувшись, вскричал Нерон, — Месть? Но что я тебе сделал, Спор?
— О Юпитер! И он еще спрашивает! — сказал евнух, воздевая руки к небу. — Что ты мне сделал?..
— Ах да, да… — в ужасе прошептал Нерон, прижимаясь к стене.
— Что ты мне сделал? — повторил Спор и, шагнув к Нерону, бессильно уронил руки. — Ребенка, который родился на свет, чтобы стать мужчиной, чтобы получить свою долю земных утех и небесных радостей, ты превратил в жалкое, никчемное существо, лишенное всех прав, утратившее всякую веру. Моя жизнь прошла в созерцании чужих радостей и наслаждений: так Тантал смотрит на воду и плоды, но не может до них дотянуться, — ведь я был пленником своего изъяна и своей ничтожности. Но это еще не все. Если бы я мог предаваться скорби и слезам в траурных одеждах, в тишине и одиночестве, я, быть может, простил бы тебя. А мне пришлось носить пурпур, как сильные мира; улыбаться, как баловни счастья; жить на виду, как те, кто живет по-настоящему! Мне — жалкому привидению, жалкому призраку, жалкой тени!
— Но чего тебе не хватало? — сказал Нерон, весь дрожа. — Я делил с тобой мое золото, мои наслаждения, мою власть. Ты бывал на всех моих празднествах, у тебя, как и у меня, были придворные, были льстецы. Наконец, не зная, что еще тебе дать, я дал тебе мое имя.
— Вот за это я и ненавижу тебя, Цезарь. Если бы ты отравил меня, как Британика, зарезал, как Агриппину, заставил вскрыть себе вены, как Сенеку, я смог бы в мой смертный час простить тебя. Но я не был для тебя ни мужчиной, ни женщиной, а лишь забавной игрушкой, с которой ты волен был делать все что ни вздумается, как с мраморной статуей — слепой, безгласной и бесчувственной. Эти твои милости были унижениями, прикрытыми золотом, только и всего: чем больше ты бесчестил меня — тем выше поднимал над людьми, и каждый мог измерить степень моего позора. Но и это еще не все. Позавчера я дал тебе тот перстень, и ты мог бы ответить мне ударом кинжала — тогда, по крайней мере, все присутствующие мужчины и женщины подумали бы, что я достоин быть убитым, — а вместо этого ты ударил меня кулаком как парасита, как раба, как собаку!..
— Да, да, — отвечал Нерон, — да, так не следовало делать. — Прости меня, милый Спор!..
— А между тем, — продолжал Спор, будто не расслышав, — между тем это существо, безымянное, бесполое, всеми отринутое, бесчувственное, не имея сил творить добро, могло, по крайней мере, совершить зло: войти ночью в твои покои, украсть у тебя таблички, приговаривавшие к смерти сенат и народ, а затем, будто по воле грозового ветра, разметать их на Форуме и на Капитолии, чтобы народ и сенат стали к тебе беспощадны, а затем украсть флакон с ядом Локусты, чтобы отдать тебя, всеми оставленного, беззащитного, безоружного, в руки тех, кто готовит тебе позорную казнь.
— Неправда! — вскричал Нерон, вынимая из-под подушки кинжал. — Неправда! У меня еще остался этот клинок.
— Верно, — ответил Спор, — но ты не осмелишься обратить его ни против других, ни против себя самого. И благодаря стараниям евнуха мир узрит нечто доселе невиданное: императора, умирающего под розгами и бичом, после прогулки по форумам и рынкам нагим и с колодкой на шее!
— Нет, здесь я в надежном укрытии, они меня не найдут, — возразил Нерон.
— Да, верно, ты бы мог еще от них ускользнуть, если бы я не встретил на дороге центуриона и не сказал ему, где ты. В этот час, Цезарь, он стучится в ворота виллы, он приближается, он здесь…
— О! Я не стану дожидаться, — сказал Нерон, приставив острие кинжала к сердцу. — Я сам нанесу удар… я убью себя.
— Не осмелишься, — возразил Спор.
— А все же, — прошептал Нерон по-гречески, водя по телу острием кинжала, но все еще не нанося удар, — а все же это недостойно Нерона — не суметь умереть… Да… да… Я позорно жил и умираю с позором. О вселенная, вселенная, какого великого артиста ты сейчас теряешь…
Внезапно он умолк и, вытянув шею, стал прислушиваться. Волосы у него встали дыбом, на лбу выступил пот. Он прочитал стих Гомера:
Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает…[29]
В этот миг Эпафродит вбежал в каморку. Нерон не ошибся: во дворе застучали копыта — это прибыли дозорные, преследовавшие его и по указаниям Спора быстро нашедшие виллу. Нельзя было терять ни мгновения, если император не хотел попасть в руки палачей. И Нерон, казалось, решился: он отозвал Эпафродита в сторону и заставил поклясться Стиксом, что его голова не достанется никому и что тело его будет сожжено целиком и как можно скорее. Затем, вытащив кинжал из-за пояса, куда только что засунул его, прижал острие к горлу. Тут снова, уже гораздо ближе, послышался шум, раздались повелительные голоса. Эпафродит понял, что час настал: он схватил руку Нерона и вонзил клинок ему в горло по самую рукоять. После этого он вместе со Спором бросился к подземному входу в карьер.
Нерон издал ужасающий крик, вырвал из раны и отбросил далеко от себя смертельное оружие; взор его остановился, грудь тяжко вздымалась; он пошатнулся, упал на одно колено, затем на оба, потом оперся еще на руку, а другой рукой попытался зажать рану, из которой хлестала кровь. Он в последний раз огляделся вокруг с выражением смертельной тоски, увидел, что остался один, и со стоном опустился на землю. В это самое мгновение дверь каморки открылась и вошел центурион. Видя императора на земле и без движения, он бросился к нему и хотел зажать рану своим плащом, но Нерон, собрав последние силы, оттолкнул его и с упреком сказал: "Разве в этом верность присяге?" Затем он испустил последний вздох; но, странное дело — глаза его остались открытыми и смотрели недвижным взором.
Все было кончено. Дозорные вошли в каморку вслед за центурионом, убедились, что императора больше нет в живых, и возвратились в Рим, чтобы доложить о его смерти. И труп того, кто еще накануне был властителем мира, остался лежать в пустой каморке, в кровавой грязи, и не было при нем даже раба, который отдал бы ему последний долг.
Так он лежал весь следующий день; а вечером в каморку вошла женщина, бледная, скорбная, строгая. Икел, тот самый вольноотпущенник Гальбы, что подстрекал народ, а вскоре стал первым человеком в Риме, где ожидали его хозяина, позволил ей отдать последний долг Нерону. Она раздела его, смыла кровь, завернула тело в белый расшитый золотом плащ (этот плащ был на нем во время их последней встречи, и он подарил его ей). Затем в крытой повозке, доставившей ее сюда, она отвезла тело в Рим. Там свершился скромный погребальный обряд, не пышнее, чем у простого гражданина, а похоронила она его в гробнице Домициев на Садовом холме, которую видно со стороны Марсова поля. Там Нерон заранее приготовил себе порфировое надгробие, увенчанное алтарем из лунского мрамора и окруженное оградой из фасосского.
Когда все окончилось, она целый день провела в молитвах у этой могилы, коленопреклоненная, неподвижная и немая, как статуя Скорби.
С наступлением сумерек она медленно спустилась с Садового холма, не оглядываясь, вышла на дорогу к долине Эгерии, а потом в последний раз вошла под своды катакомб.
А Спора и Эпафродита нашли мертвыми в карьере: они лежали рядом, а между ними стоял золотой флакон, содержимое которого они разделили по-братски. Яда, приготовленного для Нерона, хватило на двоих.
* * *
Так умер Нерон на тридцать втором году жизни, в тот самый день, в который некогда приказал убить Октавию. Но странные и неясные обстоятельства его смерти, погребение, совершенное какой-то женщиной, без выставления тела для прощания, как требовал обычай, заронили немалые сомнения в римском народе, самом суеверном из всех народов. Нашлось много таких, кто утверждал, будто император бежал в Остию, а оттуда на корабле отправился в Сирию, и его возвращения следует ждать со дня на день. И в то время как чья-то неизвестная рука еще пятнадцать лет весной и летом благоговейно украшала цветами его могилу, другие то приносили к трибунам изображения Нерона в претексте, то оглашали воззвания, в которых говорилось, что Нерон жив, что он скоро вернется, могучий и грозный, на горе своим врагам. И еще через двадцать лет юный Светоний (впоследствии поведавший об этом) слышал о каком-то загадочном человеке, выдававшем себя за Нерона. Человек этот появился у парфян и долго жил среди этого народа, особенно чтившего память последнего Цезаря. Более того: такое убеждение было распространено не только у язычников, но и у христиан. Опираясь на слова не кого-нибудь, а святого Павла, святой Иероним объявил Нерона Антихристом или, во всяком случае, его предтечей. Сульпиций Север в своих диалогах устами святого Мартина утверждает, что перед концом света на землю явятся Нерон и Антихрист. Первый будет царить на Западе и восстановит там поклонение идолам. Второй придет на Восток и восстановит былую мощь Иерусалима и величие его храма, чтобы сделать там столицу своей империи. Затем Антихрист будет признан Мессией, объявит войну Нерону и уничтожит его. Наконец, святой Августин в своем "Граде Божием" утверждает, что в его время (то есть в начале V века) еще многие не желали верить в смерть Нерона, а напротив, заверяли, будто он полон жизни, полон злобы, скрывается в недоступном месте и копит силу и свирепость для того, что бы однажды явиться и снова занять императоре кий трон.
И даже в наши дни из всей длинной череды императоров, один за другим добавлявших к гробницам Рима еще и свою гробницу, самым известным остается Нерон. Существуют еще дом Нерона, термы Нерона, башня Нерона. В Бавлах один местный виноградарь без колебаний указал мне, где стояла вилла Нерона. На середине Байского залива мои матросы остановили судно точно на том месте, где по умыслу Нерона затонула трирема Агриппины, а когда я вернулся в Рим, один крестьянин по той самой Номентанской дороге, которую избрал для спасения Нерон, привел меня прямо в Серпентару, показав мне какие-то развалины посреди великолепной римской равнины, сплошь усеянной руинами, и непререкаемо заявил, что именно здесь была вилла, где император лишил себя жизни. И даже возница, нанятый мной во Флоренции, в своем невежестве чтя память последнего Цезаря, показал какие-то обломки справа от виа Сторта в Риме и заявил: "Вот могила Нерона".
Пусть тот, кто может, объяснит теперь, отчего в том же краю канули в забвение имена Тита и Марка Аврелия.
КОММЕНТАРИИ
"Исаак Лакедем"
В основу романа Дюма "Исаак Лакедем" ("Isaac Laquedem") положена средневековая легенда о Вечном жиде. В ней соединились представления христиан о евреях как о людях, лишенных родины и обреченных на скитания; отзвуки ветхозаветных повествований о Каине, приговоренном к бессмертию; предания о свидетелях первого пришествия Христа, кому Бог предназначил дожить до второго его пришествия; сказания о вечных странниках. В некоторых версиях легенды утверждалась мысль, что Вечный жид должен искупить свою вину, в конце времен снова встретиться с Христом и получить прощение.
Первое упоминание о Вечном жиде содержится в хронике середины XIII в.; согласно ей, Вечный жид, носящий имя Картафил (что, видимо, значит "страж", или "привратник"), жив, раскаялся, крестился, приняв имя Иосиф, и ведет благочестивую жизнь аскета и молчальника. В XV в. герой легенды получает имя Эспера-Диос ("Надейся-на-Бога") или Бутадеус ("Ударивший Бога"). Пик популярности легенды приходится на XVII в. В 1602 г. в свет выходит немецкая народная книга "Краткое описание и рассказ о неком еврее по имени Агасфер", где Вечный жид впервые получает это наиболее известное с тех пор имя, заимствованное из библейской Книги Есфири (в еврейском тексте именно так называется персидский царь Артаксеркс).
В середине XVII в. в одном голландском тексте Вечный жид именуется Исаак Лакедем.
Позднее легенда об Агасфере уходит в деревенский фольклор и одновременно становится предметом философского осмысления — от неоконченной поэмы "Вечный жид" (1774) молодого Гёте до драмы "Агасфер" (1833) французского историка, философа и поэта Эдгара Кине (1803–1875), а также сюжетом авантюрных романов, например "Агасфер" (1844–1845) французского писателя Эжена Сю (1804–1857).
Кроме средневековых легенд, Дюма использовал в своем романе и евангелия, как канонические, так и апокрифические, т. е. не признанные церковью: "Евангелия детства" (одно из них приписывалось апостолу Фоме), "Первоевангелие Иакова-старшего" (другое название — "Книга о рождестве Марии").
Впервые роман был опубликован в газете "Конституционалист" ("Le Constitutionnel") с 10.12.1852 по 11.03.1853.
Первое отдельное издание: "Librairie Theatrale", Paris, 1853, 5 v., 8vo. С этого издания и сделан перевод, опубликованный в 1994 г. (Москва, "Светоч") и сверенный с оригиналом для настоящего Собрания сочинений Г.Адлером.
7 Виа Annua — Аппиева дорога; одна из древнейших римских дорог; построена в 312 г. до н. э. цензором Аппием Клавдием Цеком (т. е. "Слепым"; ум. в 295 г. до н. э.); соединяла Рим и лежащую к юго-востоку от него Капую; в 244 г. до н. э. доведена до Брундизия; в III в. н. э. было проложено ее ответвление — виа Геркулиа (Геркулесова дорога), получившее в средние века название Новая Аппиева дорога (виа Аппиа Нуова).
… к подножию Альбанских гор… — Альбанские горы (соврем. Колли Альбани) — небольшой горный кряж в 20 км к юго-востоку от Рима. Льё — старинная французская мера длины (4,444 км), употреблявшаяся только при измерении пути.
Ворота Сан-Джованни ди Латерано — находились в городской стене Рима на виа Аппиа Нуова; первоначально назывались Ослиными воротами; нынешнее наименование получили по церкви святого Иоанна Латеранского — второй по древности (после собора святого Петра) церкви в Риме (IV в.). Название этот храм обрел по Латеранскому дворцу, некогда принадлежавшему старинному роду Плавтов Латеранов и подаренному императором Константином Равноапостольным (см. примеч. ниже) римскому епископу. Ворота были перестроены в 1574 г.
… утро Великого четверга… — т. е. четверга Страстной недели. Людовик XI (1423–1483) — французский король с 1461 г.; проводил политику централизации Франции и укрепления королевской власти, не брезгуя никакими средствами для достижения своей цели — клятвопреступлением, подкупом, обманом, жестокостью, тайными убийствами и т. п.
Хуан 7/(1397–1479) — король Наварры с 1425 г., Арагона и Сицилии с 1458 г.
Фердинанд I (1423–1494) — внебрачный сын Альфонса V Великодушного (ок. 1391–1458), короля Арагона и Сицилии с 1416 г., Наварры в 1416–1425 гг. В 1443 г. Альфонс завоевал Неаполь и передал его в управление Фердинанду. После смерти Альфонса его арагонские и сицилийские владения отошли к брату — Хуану 11 (см. пред, примеч.), а королем Неаполя стал Фердинанд. Фердинанд I правил весьма сурово, но ему удалось отстоять свое государство от посягательств французских монархов, претендовавших на Неаполь.
Фридрих III Габсбург (1415–1493) — император Священной Римской империи (государства, включавшего Германию и — формально — Северную Италию) с 1440 г., эрцгерцог Австрийский с 1452 г. Иван (Иоанн) III Васильевич (1440–1505) — великий князь Московский с 1462 г.; при нем в значительной мере сложилось государственное единство Руси; носил титул "государь и великий князь Московский и всея Руси"; положил конец зависимости от Казанского ханства, присоединил Новгород и другие земли.
… сын Василия Васильевича… — Василий II Васильевич Темный (1415–1462), великий князь Московский с 1425 г.; в борьбе с дядей и двоюродным братом за великое княжение был взят в плен и ослеплен (1446), но в конечном счете одержал над ними победу; добился ограничения самостоятельности Новгорода и Пскова.
Кристофоро Моро (ум. в 1471 г.) — дож (пожизненно избираемый глава государства) Венецианской республики с 1462 г.; сторонник активной борьбы с Турцией и торговой соперницей Венеции — Генуей.
Павел II (в миру — Пьетро Барбо; 1417–1471) — папа римский с 1464 г.
… владыка мирской и церковный… — Римский папа являлся не только главой католической церкви, но и светским правителем т. н. Папской области, или Папского государства в Средней Италии (подробнее см. примем, к с. 17), просуществовавшего до 1870 г. Государство Ватикан, расположенное в одном из кварталов современного Рима, является наследником Папской области.
Тиара — тройная корона папы римского; в ее основе епископская митра, на которую как бы надеты три короны, символизирующие тройственность папы — судьи, законодателя и священнослужителя; в таком виде существует с XIV в.
Кардиналы — первоначально, с V по XI вв., духовные лица, занимавшие постоянные должности при приходских храмах. К XI в. должности кардиналов исчезли повсюду, кроме Рима, где они, наоборот, становятся высшими должностными лицами главного органа управления католической церковью — папской курии. Должность эта имеет три категории — кардиналы-епископы, кардиналы-пресвитеры и кардиналы-диаконы. С 1059 г. к ним переходит исключительное право выборов папы; с XIII в. независимо от сана (архииерейского, иерейского или диаконского) они становятся выше всех епископов и получают как отличительный знак красную шляпу, означающую, что они до последней капли крови будут бороться "за величие Святой веры, мир и покой христианского народа, возвышение и укрепление Святой Римской Церкви"; с XIV в. приравнены к князьям.
… уже обреченной древней базилики Константина (на ее месте Браманте и Микеланджело вскоре возведут новый собор)… — Базиликой (от гр. basilike — "царская") первоначально назывался особый тип административного здания в Риме — длинное прямоугольное в плане строение, разделенное внутри на несколько частей продольными рядами колонн. Подобным же образом строились первые христианские церкви на Западе; постепенно слово "базилика" стало означать "храм".
Древнейшая церковь в Риме была воздвигнута в начале IV в. в честь апостола Петра по повелению императора Константина I Великого, или Равноапостольного (ок. 285–337; правил с 306 г.), провозгласившего полную веротерпимость и покровительствовавшего христианству (полное его имя: Цезарь Гай Флавий Валерий Константин Август).
Этот храм, именовавшийся обычно базиликой Константина, пришел со временем в ветхость, и в 1482 г. было принято решение о его перестройке. На строительство постоянно не хватало денег, и новый храм был заложен лишь в 1506 г. План нового собора, крестообразного в плане, с центральным куполом, был создан итальянским архитектором Донато Браманте (1444–1514), который руководил строительством с момента закладки до своей смерти.
Позднее, с 1546 г., главным архитектором собора, спроектировавшим и воздвигнувшим его купол, стал великий итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт Микеланджело Буонарроти (1475–1564).
Собор святого Петра был достроен лишь в 1590 г., а освящен только в 1626 г.
… во имя святых апостолов Петра и Павла благословит Рим и вселенную… — Апостол Петр был первым епископом Рима, и папы считаются его преемниками; Петр и "апостол язычников" святой Павел являются небесными покровителями Рима еще и потому, что оба они приняли в этом городе мученическую смерть (65 г.) во время гонений на христиан в 64–65 гг.
Urbi et orbi (лат. "Граду и миру") — зачин посланий папы римского, обозначающий адресат этих посланий: город Рим, епископом которого являлся папа, и весь католический мир, духовным главой которого считался римский первосвященник, а в пределе — вообще весь мир. Это обращение восходит к картине восприятия мира древним римлянином, для кого центром вселенной был Город (город как имя собственное — т. е. Рим), а вся обитаемая земля ("ойкумена") лишь его окрестностями.
… из Браччано, Тиволи, Палестрины, Фраскати… — Упоминаются небольшие города, лежащие в радиусе 15–30 км вокруг Рима: Браччано (древн. Сабата) — к северо-западу, Тиволи (древн. Тибур) — к северо-востоку, Палестрина (древн. Пренесте) — к востоку, Фраскати (древн. Тускул) — к юго-востоку.
… вскоре римские колокольни умолкнут и это погрузит в траур весь христианский мир. — Подразумевается запрет на колокольный звон в Страстную субботу — на промежуток времени от смерти Христа до его воскресения.
Чепрак — суконная или ковровая подстилка под седло лошади.
8… похожие на ожившие статуи фивейской Исиды или элевсинской
Цереры. — Исида — древнеегипетская богиня плодородия, воды и ветра, символ женственности, семейной верности, покровительница мореплавания; супруга бога растительности и повелителя загробного царства Осириса; когда тот был убит злым братом Сетом, Исида с плачем искала и собирала расчлененные части тела мужа; смогла зачать от мертвого и родить сына-мстителя Гора. Культ Исиды получил широкое распространение в греко-римском мире после македонского завоевания Египта в IV в. до н. э. и римского в I в. до н. э. (впрочем, храмы Исиде воздвигались в Италии еще во II в. до н. э.). Фивы — данное, видимо, по аналогии с городом Фивы в Беотии (Средняя Греция) греческое название города Уаси, или Уасет ("Южный город"), в верховьях Нила (рядом с соврем, городом Луксор), столицы Египта с рубежа III и II тыс. до н. э. Но Фивы были центром почитания Амона, средоточием же культа Исиды был в последние столетия до н. э. остров Филы на Ниле.
Церера — исконная италийская богиня производительных сил земли, произрастания и созревания злаков, повелительница загробного мира, а также покровительница материнства и браков; с III в. до н. э. сближалась с греческой богиней Деметрой; особо почиталась римским простонародьем, противопоставлявшим ее богам знати.
Элевсин — приморский город на северо-западе Аттики (в 22 км к западу от Афин) с храмом Деметры; центр культа этой богини, где в течение 9 дней месяца боэдромиона (сентябрь) ежегодно происходили мистерии (тайные обряды) в честь Деметры и ее дочери Персефоны; считалось, что участие в элевсинских мистериях приобщает к тайнам жизни и смерти.
… крестьянки из Дженцано и Веллетри… — Город Дженцано лежит в 25 км, а Веллетри (древн. Велитры) — в 35 км к юго-востоку от Рима.
… пастухи с Понтийских болот… — Понтийские (в древности — Помптинские) болота — заболоченное побережье между приморскими городами Чирчео (древн. Цирцеи) и Террачина (древн. Таррацина), приблизительно в 100 км к юго-востоку от Рима.
… дамы из Неттуно и Мондрагоны… — Город Неттуно лежит в 60 км, а Мондрагона — в 160 км к юго-востоку от Рима, оба на побережье Тирренского моря.
Тускульская дорога (виа Туе кулана) — ответвление Латинской дороги (см. примеч. ниже), проходящее через город Тускул и снова соединяющееся с ней.
Элизиум (иначе — Елисейские поля) — упоминаемое еще у Гомера и вошедшее в римскую мифологию в I в. до н. э. место в загробном мире (Аиде), где души умерших наслаждаются блаженством; другая часть Аида, Тартар, есть обитель мучений.
… в Риме эпохи цезарей… — Имеется в виду эпоха Империи, ибо имя Гая Юлия Цезаря (102/100—44 до н. э.), единоличного правителя Римской республики с 49 г. до н. э., постепенно превратилось в титул, доживший в разных странах почти до наших дней (ср. "кайзер", "царь").
… вдоль других дорог — Латинской, Фламиниевой… — Латинская дорога (виа Латина), построенная на рубеже III и II в. до н. э., вела по Лацию из Рима на юго-восток в Кампанию; Фламиниева (виа Фламиниа), построенная в 220 г. до н. э. римским государственным деятелем Гаем Фламинием (ум. в 217 г. до н. э.), вела из Рима на север в стоявший на реке Рубикон город Аримин (соврем. Римини).
… Интерес и уважение к смерти в Древнем Риме были столь же велики, как в нынешней Англии. — Подобное сближение вряд ли правомерно. В древнеримской религии большое место уделялось погребальным обрядам (культ мертвых, насколько известно, был во многом заимствован у этрусков, доримского населения Италии); соответствующее погребение и уход за могилами должны были обеспечить пристойное загробное существование покойнику, а также благополучие рода погребенного.
В Англии XIX в., как показывают современные исследования, распространились представления об ином мире не столько как обители райского блаженства либо адских мучений, сколько о месте встречи с близкими, умершими ранее; возникает страх не только собственной смерти, но и смерти любимого существа, появляются обычаи длительного ношения траура, выражения постоянной скорби по ушедшим, посещения родных могил, усложняются погребальные ритуалы и т. п.
… В годы правления Тиберия, Калигулы и Нерона, когда мания самоубийств превратилась в подлинную эпидемию… — В античных представлениях самоубийство было не грехом, а актом приобщения к богам, иногда — в раннем Риме — принесением себя в жертву на пользу отечества. Самоубийство в эпоху поздней Республики (II–I вв. до н. э.) и ранней Империи (I–II вв. н. э.) считалось высокодостойным поступком: лучше наложить на себя руки, нежели жить в условиях несвободы; самоубийство — мужественное деяние свободного и благородного гражданина Рима.
Во времена ранней Империи принцепсы (букв, "первые"; первоначально — председательствующие в сенате, затем должность принцепса слилась с императорской и слово "принцепс" стало официальным названием главы Римского государства) вели активную борьбу с сенатской аристократией, мечтавшей о возвращении таких порядков, когда именно сенат правил Римом.
Установивший режим Империи Цезарь Август стремился сохранять с сенатом хорошие отношения, но большинство его преемников действовали иначе.
Тиберий Клавдий Нерон (42 до н. э. — 37 н. э.) — пасынок Августа, усыновленный им в 4 г. н. э. под именем Тиберий Юлий Цезарь и унаследовавший его власть в 14 г. н. э. под именем Тиберий Цезарь Август, возобновил старинный закон об оскорблении величия римского народа, причем "величие" было перенесено на особу императора, и по этому закону преследовались любые формы оппозиции; закон породил мощную волну доносительства, тем более что из отходившего в казну имущества осужденного четверть получал доносчик.
Калигула — Гай Юлий Цезарь (12–41), более известный под прозвищем Калигула (т. е. "Сапожок"; имеется в виду военный сапог, ибо юный Гай с детства жил в лагерях со своим отцом, знаменитым полководцем Германиком (Нерон Клавдий Друз Германик; 15 до н. э. — 19 н. э.), племянником Тиберия); после смерти Тиберия (или, возможно, его убийства, в котором сам Гай был замешан) в 37 г. взошел на престол под именем Гай Цезарь Август Германик; по всей видимости, Калигула был психически больным человеком, одержимым к тому же манией убийств; он демонстрировал явное презрение к сенату и возвел в сенаторское достоинство собственного коня.
Нерон — Луций Домиций Агенобарб (37–68), приемный сын императора Клавдия (Тиберий Клавдий Нерон Друз Германик; 10 до н. э. — 54 н. э.; правил с 41 г.), получивший при усыновлении имя Тиберий Клавдий Нерон Друз Германик (т. е. то же, что и его приемный отец) и ставший императором в 54 г.; активно преследовал всех действительных и вымышленных врагов; эти преследования и демонстративно неримский стиль поведения (он выступал в качестве актера, а с римской точки зрения, в отличие от греческой, актер — подлая профессия) привели к тому, что Нерон был свергнут и покончил с собой (см. роман Дюма "Актея").
Во время правления вышеназванных принцепсов многие, из опасения, что они вызвали гнев императора, кончали жизнь самоубийством; в ряде случаев особо заслуженным противникам государей повелевалось (или разрешалось) самим наложить на себя руки, дабы не подвергаться позорной публичной казни.
9… Подобное право сохранили за собой лишь роды Публикол, Тубертов и Фабрициев… — Имя римского гражданина состояло из трех частей: преномена (личного имени, например Гай), номена (родового имени, например Юлий) и когномена (фамильного имени, например Цезарь; последнее имя возникло из прозвищ, дававшихся при разделении рода на отдельные линии, например были Юлии Цезари и Юлии Юлы). Те или иные фамилии могли получать особые привилегии, например почетные места в цирке или театре, за заслуги одного из своих членов.
Валерии Публиколы обрели почетные отличия за деятельность Публия Валерия Попликолы (архаическая форма лат. слова publi-cola — "друг народа"; ум. в 502 г. до н. э.), одного из инициаторов свержения царей и установления республики в Риме в 509 г. до н. э., четырежды консула (консул — высшее должностное лицо в республиканском Риме, ежегодно избиралось по два консула; в эпоху Империи — почетный титул).
Публий Постумий Туберт (от лат. tuber — "горб", "шишка") — консул 505 и 503 гг. до н. э.; известен победами над соседними с римлянами племенами сабинян.
Гай Фабриций Лусцин (т. е. "Кривой"; ум. в 275 г. до н. э.) — консул 282 г. до н. э.; прославился справедливостью и бескорыстием: занимая высшие посты в Республике, был настолько беден, что после его смерти государство назначило приданое его дочери.
… победоносный военачальник, скончавшийся во время своего триумфа. — Триумф — в Древнем Риме специальный государственный ритуал, совершавшийся победоносным полководцем и включавший торжественную процессию войск с трофеями и пленными; триумфатор как бы воплощался на время триумфа в Юпитера и ехал в священной колеснице в особом одеянии. Поэтому умерший во время триумфа — живой Юпитер! — сразу становился богом и был, естественно, достоин особого погребения.
… верованию, не вовсе исчезнувшему даже ко времени Цицерона… — Марк Туллий Цицерон (102—43 до н. э.) — римский политический деятель, знаменитый оратор, писатель и философ (язык Цицерона на протяжении веков считался нормативным образцом латинской прозы), весьма скептически относившийся к народным верованиям. В его эпоху религия интеллектуальной элиты ориентировалась на философскую картину мира, на идеи мирового закона, мирового разума и резко отличалась от магической по сути религии народных низов… душа человека, лишенного погребения, осуждена сотню лет блуждать по берегам Стикса. — Здесь имеются в виду широко распространенные и дожившие до наших дней представления о непогребенных мертвецах, особенно убитых, или об умерших злодеях — все они после смерти бродят по ночам и насылают на людей безумие; в римской мифологии их называли ларвами, или лемурами. Стикс (гр. stix — "ненавистный") — в греческой мифологии божество одноименной реки в царстве мертвых и сама река. Представления о Стиксе проникли в римские верования не позднее рубежа н. э., причем Стикс смешивали с заимствованной из греческой же мифологии другой рекой подземного царства — Ахеронтом, который должны были пересекать души умерших, после чего они обретали успокоение.
… принесением в жертву Церере свиньи. — По римским верованиям, свинья — сакральное животное, посвященное подземным богам.
… века Августа… — Имеется в виду Гай Октавий Фурин (63 до н. э. -14 н. э.), внучатый племянник и приемный сын Юлия Цезаря, принявший в 44 г. до н. э. по акту усыновления имя Гай Юлий Цезарь Октавиан, единолично правивший Римом с 31 г. до н. э. и с 27 г. до н. э. именовавшийся императором Цезарем Августом. Присвоенное ему сенатом имя-титул Август произведено от лат. augere — "увеличивать".
Время правления Августа — "век Августа" — считалось (и это активно насаждалось официальной пропагандой) "золотым веком", временем умиротворения и отдохновения страны после кровопролитных гражданских войн, периодом расцвета искусств.
… в прекрасном обличье дочери Сна и Ночи… — Античность не знала особой поэтизации образа смерти; римляне вообще не персонифицировали смерть. В греческой мифологии, перешедшей на римскую почву в III–II вв. до н. э., смерть воплощалась в виде бога Танатоса (это имя и означает "смерть"), сына Ночи и брата Гипноса (Сна).
… душа приобщится к манам… — В римских верованиях души умерших сливались с манами — богами загробного мира — и являлись покровителями рода.
… люди с бесхитростными буколическими устремлениями… — Буколические устремления в широком смысле — жажда простой сельской жизни; слово произведено от названия цикла стихотворений Вергилия (см. примеч. к с. 15) "Буколики" (гр. "Пастушеские"), где весьма идиллически воспевается жизнь пастухов.
… услаждать себя соседством с нимфами, фавнами и дриадами… — Нимфы (гр. nymphai — "девы") — в древнегреческой мифологии божества живительных и плодоносящих сил дикой природы; различались нимфы морские (нереиды), рек, источников и ручьев (наяды), озер и болот (лимнады), гор (орестиды), деревьев (дриады) и др.; представлялись в виде обнаженных или полуобнаженных девушек.
Фавны — в римской мифологии божества (иногда одно божество — Фавн) полей, лесов, пастбищ, животных; покровители скотоводства и сельской жизни; название произведено от лат. favere — "помогать".
Цензор — один из двух крупных магистратов Древнего Рима; в его обязанности входило: проведение цензовой переписи, наблюдение за правильным поступлением налогов, сдача на откуп государственных доходов и надзор за благонравием населения; избирался сначала на пять лет, а с 434 г. до н. э. — на полтора года.
Неаполь — город на берегу Неаполитанского залива Тирренского моря; первоначально греческая колония Партенопея, позднее называвшаяся Неаполис; его значение значительно возросло после уничтожения извержением Везувия 79 г. н. э. близлежащей к нему местности.
Брундизий (соврем. Бриндизи) — портовый город в античной Калабрии на адриатическом побережье Италии, связанный с Римом Аппиевой дорогой; отсюда отправлялись в плавание к берегам Греции.
11… в любой сенатской декурии… — Чиновники римского сената подразделялись на декурии, группы из десяти человек.
Сестерций — основная римская денежная единица; первоначально серебряная монета, к III в. до н. э. содержавшая ок. 40 г серебра; позже бронзовая монета; при Августе — латунная (27,3 г).
… Здесь покоятся кости поэта Марка Пакувия. — Марк Пакувий (ок. 219 — 132 до н. э.) — римский драматург, автор 13 трагедий, от которых до нас дошли только названия; славился своими познаниями и носил прозвище "Ученый старец".
12… Виа Annua — это Лоншан античности. — Лоншан — старинное аббатство близ Парижа, в Булонском лесу; в XIX в. поле близ Лоншана было местом скачек.
Тирренское море — часть Средиземного моря между Апеннинским полуостровом и островами Сицилией, Сардинией и Корсикой; название дано по другому наименованию племени этрусков — тиррены. Каменный дуб — вечнозеленое дерево Средиземноморья.
… высится храм Юпитера Латиариса… — Согласно римской легендарной традиции, родоначальником латинов (племен, населявших область Лаций; среди этих племен были и римляне) был царь Латин. После смерти Латин был обожествлен под именем Юпитера (верховный бог италийских народов, позднее верховный бог римлян; отождествлялся с верховным богом греков Зевсом) Латиариса, общего бога-покровителя латинских племен. Его святилище было воздвигнуто на горе Альбано (соврем. Монте Альбано; высота 949 м), вершине Альбанских гор.
Аппиевы ворота — расположенные на Аппиевой дороге юго-восточные городские ворота в Адриановой (III в.) стене.
… троссулы, "троянские юнцы"… — В эпоху Августа слово "троссул" означало "хлыщ", "фат", "франт", но произошло оно, по мнению современных филологов, не от города Троя (лат. Tros), а от этрусского города Троссул, взятого с бою конницей из молодых римских патрициев; отсюда и прозвище молодых аристократов, имевшее первоначально положительный смысл.
Атрий (атриум) — крытый внутренний двор в середине римского дома; в этот дворик выходили все внутренние помещения, в центре его — бассейн (имплювий), над ним — крыша с отверстием для стока дождевой воды (комплювий); был основным местом домашнего времяпрепровождения состоятельных римлян.
… парижане, вытягивающиеся двумя живыми изгородями вдоль Елисейских полей, или флорентийцы, бегущие по Каскино, или жители Вены, спешащие на Пратер, или неаполитанцы, теснящиеся на улице Толедо либо Кьяйе… — Здесь названы излюбленные места гуляний (Пратер — это парк, остальные — улицы) в европейских столицах (напомним, что "Исаак Лакедем" вышел в свет в 1853 г., когда Флоренция была столицей независимого Великого герцогства Тосканского, Неаполь — столицей Королевства обеих Сицилий).
… всадники на нумидийских скакунах… — В Древнем Риме особо славились кони из Нумидии, области в Северо-Западной Африке (восточные районы нынешнего Алжира), завоеванной Римом в 46 г. до н. э.
13… пустив впереди лошади великолепных молосских псов… —
Молосские псы — порода крупных, считавшихся особо свирепыми собак из земель, населенных народом молоссов в Западной Греции. Патриций — здесь: аристократ. Первоначально римское общество делилось на две категории: полноправных римских граждан — патрициев (от лат. pater — "отец", т. е. "имеющих отцов") и свободных, но лишенных политических прав плебеев (от лат. plenus — "многий"); в V–IV вв. до н. э. плебеи боролись за равноправие и в итоге добились его: за патрицианскими родами остались лишь некоторые знаки внешнего отличия. В литературе нового времени патрициями неточно называли членов сложившегося в IV–III вв. до н. э. сенаторского сословия, т. е. тех — независимо от того, патриции это или плебеи, — кто по происхождению, имущественному положению и занимаемым должностям имел право быть членом высшего распорядительного органа Римского государства — сената.
… завезли в Рим вместе с плененным Югуртой… — Югурта (ок. 160–104 до н. э.) — царь Нумидии со 118 г. до н. э. (до 112 г. до н. э. — в соправительстве с двоюродными братьями; затем расправился с ними); во время Нумидийской войны 115–105 гг. до н. э. потерпел поражение от Рима, был взят в плен, привезен в Рим и казнен.
… цизии, похожие на нынешние тильбюри… — Здесь и ниже перечисляются древние и современные Дюма колесные экипажи: цизий — легкая двуколка;
тильбюри — открытая двуколка, распространенная в XIX в.; каррука — четырехколесная крытая повозка, служившая в Римской империи специальным транспортом для государственных чиновников;
корриколо — бытовавшая в Южной Италии со средних веков четырехколесная телега с высокими бортами; рэда — заимствованный у галлов четырехколесный экипаж; ковиннус — в данном случае дорожная повозка без козел, открытая спереди (другое значение — боевая колесница с торчащими из оси остриями);
карпентум — двуколка.
… раб-нубиец в живописном одеянии его родной страны. — Нубия — в древности страна, расположенная по обеим сторонам Нила к югу от египетского города Сиена (соврем. Асуан); поставляла рабов, золото, слоновую кость, эбеновое дерево.
Матрона — здесь: почтенная замужняя женщина в Древнем Риме. Стола — женская одежда в виде длинной и узкой рубахи-туники (с рукавами и без), подпоясанной дважды: под грудью и ниже талии; носилась поверх короткой туники; считалась одеждой исключительно полноправных замужних женщин — девушкам, рабыням и гетерам ношение столы было строжайше запрещено.
Палла — женский плащ, большой несшитый кусок ткани, которым римлянки должны были окутывать все тело, а край набрасывать на голову: благочестивая и добронравная римлянка могла оставлять незакутанными лишь лицо, кисти рук и пальцы ног.
… в которых имели право ездить лишь патрицианки. — Здесь слово "патрицианка" употреблено в буквальном смысле: женщины, по рождению или браку принадлежащие к патрицианскому роду.
Косский газ — т. е. газ (очень тонкая и легкая ткань со сложным плетением — из шелка, льна или шерсти), изготавливавшийся на острове Кос в группе Спорадских островов (между островом Родос и Малой Азией).
Пенула — плащ с капюшоном.
… поверенная в любовных делах, ночная Ирида… — В греческой мифологии Ирида — крылатая вестница богов; ее семицветный шарф уподобляли радуге.
… раб из Либурнии… — Либурния — область на побережье Адриатического моря между полуостровом Истрия и Далмацией, северная часть побережья нынешней Хорватии; в эпоху поздней Республики и Империи рабы из Либурнии ценились как носильщики, а слово libumus означало и "либурниец", и "грузчик", "носильщик".
14 Марсово поле — первоначально долина между Тибром, холмами Капитолий и Квиринал и Садовым холмом; до I в. н. э. находилось вне границы Рима; было названо в честь бога Марса — покровителя римской общины и в этом качестве одновременно бога плодородия, дарующего изобилие, и бога войны, приносящего победу (с III в. до н. э. происходит, впрочем, более в литературе, нежели в массовом сознании, сближение Марса с греческим богом войны Аресом). На Марсовом поле в VI–I вв. до н. э. происходили центуриатные комиции — один из видов римского народного собрания, где избирались высшие должностные лица; эти комиции вели свое начало от войсковой сходки и потому должны были проводиться вне городской черты, ибо в Городе предписывалось хранить вечный мир и не собираться с оружием.
Капенские ворота — находились в старой (до I в. н. э.) стене Рима, через которые вела Аппиева дорога; названы по лежащему к югу от Рима этрусскому городу Капена.
… вопроса, некогда разрешенного Цезарем, но вновь поставленного под сомнение новыми поколениями, а именно: надо ли предпочесть длинную тунику короткой и свободную — плотно облегающей тело. — Первоначальной одеждой римских граждан была тога — несшитый кусок ткани, набрасывавшийся на голое тело, прикрытое лишь набедренной повязкой. Туника — короткая свободная рубаха без рукавов, надевавшаяся под тогу, — хотя и носилась повсеместно, рассматривалась как уступка естественной человеческой слабости. С первой четверти II в. до н. э. начала распространяться длинная, сшитая по фигуре туника с длинными рукавами, иногда украшенная лентами. Такая туника считалась иноземным, греческим одеянием, одеждой изнеженных щеголей, не приличествующей суровому воину, каким должен был быть каждый римский гражданин, который не боится холода, брезгует украшениями и одевается так, чтобы одежда не стесняла движений в бою.
Перемены в одежде во времена Цезаря и Августа не были простыми причудами моды, но имели культурный и даже политический смысл. Гай Юлий Цезарь, став в 49 г. до н. э. правителем Рима, "вечным диктатором", в большей или меньшей мере сознавал, что единоличная власть совершенно противоречит римским традициям, где она, вызывая воспоминания о царском периоде истории, однозначно оценивалась как тираническая. Потому он культивировал
достаточно широко распространившиеся в Римском государстве со II в. до н. э., со времени завоевания Греции, эллинистические представления, т. е. представления, присущие смешанной, греко-восточной цивилизации, сложившейся после походов Александра Македонского. В эллинистических традициях высшей инстанцией в государстве был священный царь, потомок богов или сам живой бог, а не совокупность свободных граждан, как в Риме. Ввиду этого Цезарь то довольно робко высказывал желание принять царский венец и тут же отказывался от этого, то выражал весьма неопределенное пожелание перенести столицу в Трою, постоянно подчеркивал происхождение рода Юлиев от богини Венеры и носил одежды, полагающиеся скорее греку, нежели римлянину.
Напротив, его наследник Август, в пропагандистских целях демонстрировавший приверженность истинно римским ценностям, заявлял, что его власть (на деле не менее, если не более абсолютная, чем у Цезаря) базируется лишь на личном авторитете, а не на освящении свыше, и настаивал на ношении простой римской одежды, в том числе обязательно — вне дома — тоги и короткой свободной туники без рукавов.
Мирт — кустарник и дерево Средиземноморья; его пахучие продолговатые листья содержат дубильные вещества и используемые в парфюмерии эфирные масла, а плоды используются как пряность.
Мастиковое дерево — небольшое вечнозеленое дерево семейства сумаховых (к сумаховым, например, относится фисташковое дерево), распространенное в Средиземноморье; дает ароматическую смолу (мастике), использующуюся в парфюмерии и медицине.
Амбра — воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалота; используется в парфюмерии как закрепитель аромата духов.
… под эбеновыми бровями… — Эбеновый цвет — угольно-черный (эбеновое дерево обладает древесиной черного цвета).
… пришедшему из Галлии средству… — Галлия — в древнем мире регион, заселенный племенами галлов; делился на Галлию Цизальпийскую (лат. cis — "по эту сторону"), к югу от Альп до известного Рубикона, и имеющуюся здесь в виду Трансальпийскую (она иногда называлась просто Галлией), ограниченную Альпами, Средиземным морем, Пиренеями, Атлантическим океаном, Рейном. Цизальпийская Галлия была завоевана римлянами к 220 г. до н. э.; Трансальпийская окончательно покорена Гаем Юлием Цезарем в 56–51 гг. до н. э. В V в. н. э. на территорию римской Галлии вторглись германцы-франки, и именно на галльских землях стала складываться современная Франция.
… у портика Минуция… — Портики в Риме представляли собой обширные скверы, обнесенные крытой колоннадой, с аллеями для прогулок, купами деревьев, фонтанами; в портиках римляне собирались в общественных целях в плохую погоду, там устраивались торговые ряды и т. п.
Самый старый из известных нам портиков — портик Минуция, построенный для раздачи хлеба на Марсовом поле по приказу консула 110 г. до н. э. Марка Минуция; такие раздачи неимущим гражданам производились при Республике по случаю военных побед. До наших дней этот портик не сохранился.
… напротив храма Геркулеса Мусагета… — Знаменитый герой греческой мифологии Геракл, полубог, сын верховного бога Зевса (рим. Юпитера) и земной женщины Алкмены, после смерти взятый богами в свой сонм, был весьма рано, может быть, еще до основания Рима (традиционная дата — 753 г. до н. э.) известен в Италии, особенно среди этрусков. Считалось, что во время свершения одного из своих двенадцати подвигов он посетил Апеннинский полуостров. Одно из самых древних святилищ Рима — жертвенник и храм Геркулеса (так именовался у латинов Геракл) на Скотном рынке. В Риме Геркулес особо почитался как податель удачи в бою и в торговых делах. Его культ широко распространился по всему греко-римскому миру: Геракл считался покровителем тружеников, на него переносились функции многих богов, как местных, так и общих; например, он перенял от Аполлона прозвище Мусагет, т. е. "Водитель муз".
Музы — в греческой мифологии дочери Зевса и богини памяти Мнемозины, девять сестер-богинь искусств и наук, каждая из которых связана с особым видом деятельности: Эрато — муза лирической поэзии, Эвтерпа — пения, Каллиопа — эпической поэзии, Клио — истории, Мельпомена — трагедии, Полигймния — гимнической поэзии, Терпсихора — танца, Талия — комедии, Урания — астрономии.
Храм Геркулеса Мусагета был воздвигнут в Риме во II в. до н. э. на Марсовом поле, вне священной границы Города, т. к. по римскому сакральному праву святилища иноземных богов могли располагаться только вне собственно городской территории.
Талант — крупная весовая и денежная единица в древнем мире, здесь: римская золотая монета в 1000 сестерциев.
… полуголый плебей… — Здесь слово "плебей" употреблено в широко распространенном переносном смысле — "простолюдин".
15 …из Кадиса либо Александрии… — Кадис — город, основанный финикийцами ок. 1100 до н. э. на юге Испании на побережье Атлантического океана (финикийский Гадир); с IX в. до н. э. был в составе Карфагенской державы; в 206 г. до н. э. захвачен римлянами (римское название — Гадес).
Александрия — город в Египте, основанный в 332–331 гг. до н. э. Александром Македонским; в 305-30 гг. до н. э. столица Египта, населенная в основном греками; центр эллинистической культуры; с 30 г. до н. э. находился под властью римлян.
… говорят всякий вздор на языке Вергилия… — То есть на латыни.
О Вергилии см. примеч. ниже.
… перебрасываясь каламбурами по-гречески в подражание Демосфену… — Начиная с рубежа III и II вв. до н. э. греческий язык все более распространяется в Римском государстве и к I в. до н. э. становится языком культуры, наподобие французского в русском обществе XVIII–XIX вв.
Демосфен (384–322 до н. э.) — афинский оратор и государственный деятель. Его речи считались непревзойденным образцом греческого политического и судебного красноречия.
… сказать своему любовнику на языке Тайс или Лспасии… — То есть по-гречески.
Тайс (годы жизни неизв.) — афинская гетера, любовница Александра Македонского, сопровождавшая его в походе на Восток, позднее — жена его полководца Птолемея Лага, ставшего еще при ее жизни царем Египта.
Аспасия (475/465 — после 429) — возлюбленная афинского государственного деятеля и фактического правителя Афин Перикла (ок. 490 — 429; время правления 444–429, кроме 430 до н. э.; т. н. "век Перикла", считается эпохой наивысшего расцвета Афин), мать его сына; родом из Милета, с которым у Афин не было эпигамии — договора о признании законными брачных союзов между гражданами разных государств; поэтому союз Перикла и Аспасии считался простым сожительством. Насколько можно судить, Аспасия была высокообразованной и обаятельной женщиной; слухи о том, что она занималась ремеслом гетеры, распространяли политические противники Перикла.
… лже-Квинтилиан на своем опыте убедится, что значит не уметь говорить по-гречески! — См. с. 40 настоящего тома.
Лупанар (от лат. lupa — "волчица", прозвище публичной женщины) — публичный дом.
… Вергилий, сладостный мантуанский лебедь, поэт-христианин по сердечной склонности… — Вергилий — великий римский поэт Публий Вергилий Марон (70–19 до н. э.). Поэтические творения Вергилия "Буколики" (иначе — "Эклоги"), "Георгики" (т. е. "Земледельческие") и особенно незавершенная эпическая поэма "Энеида" принесли ему славу еще при жизни, а язык его поэзии считается образцовым в веках. "Энеиду", которую в латинском мире приравнивали "Илиаде" и "Одиссее" Гомера и почитали почти как священную книгу, Вергилий запретил обнародовать и завещал сжечь; этому воспротивился Август. Причины такого отношения автора к своему творению неясны: то ли он счел его художественно несовершенным, то ли решил, что эта поэма, посвященная началу римской истории и писавшаяся с мыслью о завершении ее в веке Августа, ложна по замыслу, ибо правление Октавиана оказалось не таким уж идеальным. В "Буколиках" есть одна эклога (4-я), где речь идет о появлении Девы, рождении божественного младенца (некоторые филологи считают, что, по мысли Вергилия, Дева — это вернувшаяся на землю после прекращения Августом гражданских войн богиня справедливости, мальчик — внук принцепса) и наступлении золотого века. Христиане связали это пророчество с Богородицей и рождением Христа; много позднее возникла легенда о том, что апостол Павел плакал на могиле Вергилия в родном городе поэта — Мантуе, жалея, что не застал его при жизни и потому не смог обратить к Богу.
Гомер — великий древнегреческий поэт, от которого до нас дошли поэмы "Илиада" и "Одиссея"; явился родоначальником героического эпоса, сведя воедино и художественно обработав существовавшие до него героические предания; жил, видимо, в середине — второй половине VIII в. до н. э.
… Гораций, забросив подальше щит, бежит при Филиппах. — Гораций Флакк, Квинт (65—8 до н. э.) — римский поэт, считающийся одним из трех величайших поэтов эпохи Августа наряду с Вергилием и Овидием. Первая половина жизни Горация была весьма бурной. Сын вольноотпущенника, он был пламенным республиканцем и после убийства Цезаря принял участие в гражданской войне, находясь в войске его убийцы — Марка Юния Брута. Республиканцы потерпели сокрушительное поражение в 42 г. до н. э. в битве при Филиппах, городе в Македонии; Брут покончил с собой, Гораций бежал с поля боя и, воспользовавшись амнистией, вернулся в Италию. Там он познакомился с Меценатом (см. примеч. к с. 16), и тот представил его Августу. Гораций вполне искренне перешел на сторону императора, которому был благодарен за прекращение гражданских смут. В стихах, написанных после возвращения на родину, Гораций прославлял спокойную мирную жизнь; именно он сделал крылатой фразой известное выражение "золотая середина". Форум — имеется в виду римский Форум, расположенный на восточной стороне Капитолийского и северной стороне Палатинского холмов: центральная площадь, центр общественной, политической, судебной и деловой жизни города.
… доводя до совершенства то, что потом назовет своими безделицами: "Оды", "Сатиры", "Науку поэзии". — Перу Горация принадлежат поэтические сборники "Оды", "Сатиры", "Эподы", "Послания"; за одной из частей "Посланий" — "Послания к Пизонам", где Гораций осмысляет суть и принципы поэтического творчества, закрепилось название "Наука поэзии" (или "Искусство поэзии").
16… вольнодумец Овидий, вот уже пять лет как изгнанный во Фракию,
где он искупает мимолетное… удовольствие прослыть возлюбленным императорской дочери или, быть может, гибельную случайность, приоткрывшую ему секрет рождения юного Агриппы. — Овидий Назон, Публий (43 до н. э. — 18 н. э.) — знаменитый римский поэт, автор любовных элегий, любовных посланий, дидактических поэм ("Наука любви", "Лекарство от любви"), монументальных поэм мифологического характера ("Метаморфозы", "Фасты"); в 8 г. н. э. был сослан Августом во Фракию (область на юго-востоке Балканского полуострова), в город Томы (соврем. Констанца в Румынии); там он написал "Скорбные элегии" и "Послания с Понта" (Понт — гр. "море"; подразумевается Понт Эвксинский, т. е. Черное море), в которых безуспешно молил Августа и его преемника Тиберия о своем возвращении. Причины ссылки не ясны до сих пор. Сам Овидий говорил, что его погубили "стихи и проступок". Относительно стихов можно с уверенностью считать, что это были "Наука любви" и "Лекарство от любви". Август, сам не чуждавшийся любовных утех, проводил политику пропаганды истинных римских ценностей, укрепления семьи, утверждения добрых нравов и т. п., ввиду чего ввел закон о наказании за прелюбодеяния. Однако достойные нравы не привились в его собственной семье.
Его единственный ребенок, дочь от второго брака, Юлия Старшая (39 до н. э. — 14 н. э.), бывшая последовательно замужем за Марцеллом (см. примеч. к с. 17) и Агриппой (см. примеч. ниже), соратни-. ками Августа, и его пасынком Тиберием, а также внучка Августа, дочь Юлии Старшей от Агриппы, Юлия Младшая (17/12 до н. э. — 28 н. э.), славились вызывающе публичным развратным поведением, так что Август по закону о прелюбодеянии сослал дочь во 2 г.
на остров Пандатарию в Тирренском море (в 7 г. он перевел ее в Регий — соврем. Реджо — у Мессинского пролива), а внучку в 8 г., в году ссылки Овидия, — на острова Тример (соврем. Тремити) в Адриатическом море. Причиной их распущенного поведения Август объявил дурное влияние легкомысленной поэзии, в т. ч. стихов Овидия, который входил в кружок Юлии Младшей.
Что же касается "проступка", то он неизвестен. Ученые выдвинули две гипотезы — романтическую и политическую. Согласно первой, Овидий случайно узнал, что младший сын Юлии Старшей, Агриппа Постум ("Посмертный", т. е. родившийся после смерти отца; 12 до н. э. — 14 н. э.) был не от мужа. Впрочем, слухи об этом были весьма распространены, и, даже если Овидий имел самые точные сведения, это обстоятельство вряд ли могло послужить причиной ссылки. Политическая версия объясняет всё борьбой за власть. Не имевший детей мужского пола, Август усыновил своего внука Агриппу Постума и пасынка Тиберия, сына третьей жены Августа, Ливии Друзиллы (57 до н. э. — 29 н. э.). Подстрекаемый Ливией, император сослал в 7 г. своего внука в Соррент (соврем. Сорренто) официально за "жестокий и буйный нрав и помрачение рассудка". Римское общество, недолюбливавшее Ливию и Тиберия, сочувствовало Юлии Старшей и ее сыну. В 8 г. в окружении Юлии Младшей возник заговор с целью освобождения Юлии Старшей и Постума и, возможно, государственного переворота в их пользу. К этому заговору мог быть причастен и Овидий, и тогда одновременная ссылка поэта и внучки императора находят объяснение не в разврате и его наказании, а в политических интригах. Юлия Старшая и Агриппа Постум умерли вскоре после кончины Августа, и молва упорно утверждала, что они были убиты по приказу Ливии и Тиберия… единым всевидящим взглядом окинет роскошные сады Саллюстия… — Гай Саллюстий Крисп (ум. в 20 г.) — племянник и приемный сын известного политического деятеля, сторонника Цезаря и знаменитого историка Гая Саллюстия Криспа (86–34 до н. э.); друг Августа и Тиберия, прославленный своим богатством и щедростью; разбил к северу от холма Квиринал на окраине Рима роскошные сады, предназначенные для общественного пользования… бедные домишки Субуры… — Субура — район в Риме в низине между холмами Эсквилин, Квиринал и Виминал, с улицей того же названия, тесно застроенной, весьма людной и оживленной, с большим количеством притонов, место поселения бедноты и разного рода сомнительных личностей.
… полноводный Тибр, где в битве против Кассия едва не утонул Цезарь… — Неясно, что имеет в виду Дюма. Гай Кассий Лонгин (ум. в 42 г. до н. э.) в 49 г. до н. э. выступил на стороне противников Цезаря, пытался собрать вооруженный отряд, чтобы воспрепятствовать движению войск будущего диктатора на Рим, но никакой битвы не давал, а бежал в Грецию, где собирали свои силы республиканцы; Цезарь же занял Рим без боя. После победы Цезаря Кассий получил помилование, вернулся в Рим и даже занял место среди приближенных победителя, но вместе с Брутом принял активное участие в заговоре против Цезаря и был одним из его убийц; принимал участие в битве при Филиппах и после поражения покончил с собой.
… тинистый ручеек Велабр… — Велабр — ручей, стекавший по одноименной долине между холмами: Капитолием с одной стороны и Палатином и Эсквилином — с другой.
… Рому л и Рем приникали к сосцам волчицы. — Согласно римской легендарной традиции, Нумитора, царя города Альба Лонги, сверг его брат Амулий; дабы пресечь род брата, он насильно отдал дочь Нумитора Рею Сильвию в весталки (жрицы богини домашнего очага Весты, которые должны были хранить целомудрие в течение 30 лет). Рея Сильвия все же родила близнецов — Ромула и Рема — от бога Марса. Амулий приказал бросить новорожденных в Тибр в корзине; корзину вынесло на берег, где несколько дней младенцев кормила своим молоком волчица. Затем их подобрали и вырастили пастух и его жена. Возмужав и узнав о своем происхождении, братья собрали отряд, убили Амулия, вернули власть в Альба Лонге деду, а сами решили основать новый город. При его закладке братья поссорились (о причинах ссоры существуют разные версии) и Ромул убил Рема. Ромул определил устройство основанного города и дал ему свое имя (Romulus — Roma), став первым его царем. В конце жизни Ромул вознесся на небо и стал богом — покровителем Рима Квирином. Культ Ромула активно пропагандировался Августом, желавшим, чтобы в нем самом видели нового Ромула, второго основателя Рима.
… Меценат, потомок царей Этрурии… — Меценат, Гай Цильний (74/64 до н. э. — 8 н. э.) — потомок знатного этрусского рода (впрочем, к его времени этруски уже полностью ассимилировались римлянами), богач, близкий друг Августа; постоянно отказываясь от государственных должностей, жил частной жизнью, широко покровительствовал поэтам, в частности Вергилию и Горацию, рекомендовал их императору и нередко подсказывал им темы произведений, которые должны были понравиться Августу. Имя Мецената стало нарицательным, обозначая тех, кто покровительствует искусствам.
Этрурия — историческая область на северо-западе Апеннинского полуострова, примерно совпадающая с современной Тосканой; населявшие ее племена этрусков создали развитую цивилизацию, предшествовавшую римской; в V–III вв. до н. э. была покорена Римом… оплачивая… гримасы мима Пилада и прыжки танцора Батилла! — Названы наиболее известные актеры в эпоху Августа (точные даты их жизни неизв.). Пилад, по мнению современников, привлекал зрителей забавностью своих выступлений; Август выслал его из Италии за непристойное поведение на сцене: актер оскорбил освиставшего его римского гражданина, тогда как сам был всего лишь греком из Киликии и представителем подлой профессии.
Батилл, уроженец Александрии, вольноотпущенник Мецената, внес в искусство пантомимы (считалось, что именно он впервые познакомил римлян с этим жанром) возвышенность и страстность… Бальб открывает театр, Филипп возводит музей, Поллион строит храмы. — Бальб Младший, Луций Корнелий (годы жизни неизв.) — римский военачальник, сторонник Цезаря и Августа; в 13 г. до н. э. построил роскошный каменный театр на 7–8 тыс. зрителей, к которому примыкал крытый портик Крипта Бальба; театр сгорел в 83 г. Филипп, Луций Марций (ок. 102 — после 43 до н. э.) — римский государственный деятель; названные его именем здания в Риме, в т. ч. перестроенный храм Геркулеса Мусагета, где должны были храниться и выставляться военные трофеи (но это все же не был музей в современном смысле), были воздвигнуты после его смерти пасынком — Октавианом Августом.
Поллион, Гай Азиний (76 до н. э. — 4 н. э.) — римский государственный деятель, оратор, писатель, друг и сподвижник Цезаря; к Августу относился холодно, чтобы не сказать враждебно, но тот ценил его как непревзойденного литературного критика. Поллион основал в Риме храм Либертас (Свободы), где размещалась первая в Риме публичная библиотека.
… Агриппа бесплатно раздает им лотерейные билеты… — Агриппа, Марк Випсаний (64/63—12 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель, близкий друг Августа (что не мешало ему, по словам некоторых древних историков, быть противником единоличной власти), его верный соратник; одержал немало побед в гражданской войне, в т. ч. в решающей для Октавиана морской битве при мысе Акций в Греции в 31 г. до н. э. над флотом Антония и Клеопатры. Невзирая на антимонархизм Агриппы, Август выдал за него сначала свою племянницу (30 г. до н. э.), а потом и дочь (21 г. до н. э.), одно время видел в нем своего возможного преемника и благосклонно относился к его строительной деятельности, весьма престижной и приносившей большую популярность в Риме; на средства Агриппы были построены весьма роскошные термы (бесплатные общественные бани) и проведена ветка водопровода (из нее доныне снабжается знаменитый римский фонтан Треви). Агриппа устраивал пышные игры, давал обильные бесплатные угощения для римских граждан и т. п.
… расшитые серебром и золотом ткани, вывезенные с Понта Эвксинского… — Понт Эвксинский ("Гостеприимное море") — древнегреческое название Черного моря, вероятно, эвфемизм от "Негостеприимного моря".
… чтобы превратить их кирпичный город в мраморный… — В сочиненной Августом обширной самоэпитафии "Деяния Божественного Августа" он ставил себе в заслугу обширные строительные работы. По словам римского историка Гая Светония Транквилла (ок. 70 — ок. 140), Август "по праву гордился тем, что принял Рим кирпичным, а оставил мраморным" ("Божественный Август", 28, 3). Эта фраза стала крылатой, и на похоронах Петра I его соратник Феофан Прокопович (1681–1736), сравнивая Петра с Августом явно в пользу первого, говорил о своем покойном государе: "Деревянную он обрете Россию, а сотвори златую".
… сохранив для себя от богатств Птолемеев лишь один драгоценный мурринский сосуд… — Птолемеи — династия царей эллинистического Египта, родоначальником которой был Птолемей Лаг (ок. 366–283 до н. э.), полководец Александра Македонского, в качестве своей доли наследства после смерти Александра получивший Египет и в 305 г. до н. э. ставший его царем под именем Птолемея I Сотера.
После гибели Антония и Клеопатры Египетское царство было упразднено и обращено в особые личные владения Августа. Мурринский сосуд весьма ценился в древнем мире; вытачивался из цельного куска плавикового шпата (гр. murrha); производством таких сосудов славился Египет.
… из того, что оставит ему отец Октавий и дядя Цезарь… — Октавиан был сыном Гая Октавия Старшего (ок. 101 — 59 до н. э.) и Атии (ум. в 43 г. до н. э.), дочери Марка Атия Бальба (ум. в 56 г. до н. э.) и Юлии (ум. в 51 г. до н. э.), сестры Цезаря; так что Цезарь был двоюродным дедом, а не дядей Августа.
… что принесла победа над Антонием и завоевание целого мира… — Марк Антоний (82–30 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель, друг и помощник Цезаря, его коллега по консульству в год гибели диктатора (44 до н. э.); сначала враждебно отнесся к Октавиану, но потом пошел на союз с ним, войдя в триумвират — особую официально признанную сенатом и народным собранием, но фактически самопровозглашенную коллегию из трех человек (третьим был старый соратник Цезаря Марк Эмилий Лепид; ок. 80 — 12 до н. э.), обладавшую абсолютной властью в стране. Триумвират объявил о намерении покарать убийц Цезаря и их сообщников и развязал кампанию террора в Римском государстве. После победы над антицезарианцами Брутом и Кассием в 42 г. до н. э. отношения между Антонием и Октавианом ухудшились. По соглашению Антоний получал в управление восточную часть Римской державы, Октавиан — западную, но уже с 41 г. до н. э. между ними начались столкновения, вылившиеся в 32 г. до н. э. в открытую войну. Октавиан, впрочем, заявлял, что ведет борьбу не с Антонием, а с его союзницей и женой (с 37 г. до н. э.) египетской царицей Клеопатрой (69–30 до н. э.; правила с 51 г. до н. э.) из династии Птолемеев. Исход войны решила морская битва при Акции в 31 г. до н. э. Вернувшись в Египет, Антоний писал Октавиану, что обещает отказаться от всех титулов, должностей и полномочий, но тот не отвечал, тайно предлагая Клеопатре выдать мужа. Наконец египетская царица через слуг ложно объявила Антонию о своем самоубийстве и отчаявшийся Антоний бросился на меч; Клеопатра призналась умирающему Антонию в своем обмане, и бывший повелитель половины Римской державы умер у нее на руках.
Римини (древн. Аримин) — портовый город на побережье Адриатического моря к северу от Рима.
17… выписал из Греции буффонов и философов… — Буффоны — актеры,
исполняющие комические роли, паяцы.
Философы — здесь: учителя философии и проповедники различных философских учений. Подавляющее большинство таких философов были выходцами из Греции. Полноправный римский гражданин должен был иметь определенные познания в философии, но ни в коем случае не заниматься ею профессионально (вообще любые занятия, кроме государственных, военных и судебных, почитались ниже достоинства римлянина); в крайнем случае, философией можно было заниматься в часы досуга, как это делал Цицерон (см. примеч. к с. 9) или Сенека (см. примеч. к с. 469).
… Довольны ли вы мною, римляне?.. Если да, то рукоплещите! — Умирая, Август, по словам Светония, спросил у друзей, хорошо ли он сыграл комедию жизни, и добавил финальный стих из какой-то пьесы: "Коль хорошо сыграли мы, похлопайте // И проводите добрым нас напутствием".
… треть обитаемого мира… — Имеется в виду та его часть, что была известна древним: Европа, кроме Крайнего Севера, Азия без Сибири, о которой, как и об островах от Японии до Цейлона (Шри-Ланки), существовали самые фантастические представления, Африка к северу от Сахары.
… Лврелианова стена не защитила Рим… — Император Цезарь Домиций Аврелиан Август (214/215—275; правил с 270 г.) первым из римских правителей понял, что начавшиеся в III в. набеги варваров на Империю могут угрожать не только государству, но и самому городу Риму; в 217–272 гг. он построил новые мощные оборонительные городские стены протяженностью в 18 км.
… его принялись завоевывать все, кто этого хотел: Аларих, Гейзерах, Одоакр… — Аларих I (ок. 370–410) — король германского народа вестготов с 385 г.; в 410 г. осадил и взял Рим. Впервые за всю историю, если не считать полулегендарного захвата Рима галлами в 390/387 г. до н. э. (цитадель — Капитолий — все же осталась в руках римлян), Вечный город пал. Это произвело ошеломляющее впечатление на современников.
Гейзерих (ум. в 477 г.) — король германского племени вандалов с 428 г.; в 438 г. во главе объединенного войска вандалов и ираноязычного племени аланов, выходцев с Северного Кавказа (оставшаяся часть этого народа стала предками нынешних осетин), захватил Карфаген и основал там свое государство; в 455 г. высадился в Италии и овладел Римом, подвергнув его страшному разграблению (воспоминания об этом сохранились доныне в слове "вандализм"). Одоакр (ок. 431–493) — командующий отрядом германских наемников в Италии. С 395 г. Римская империя окончательно распалась на две части — Западную со столицей в Риме (резиденция императоров находилась в городе Равенне на адриатическом побережье), и Восточную со столицей в Константинополе, хотя формально, да и в массовом сознании, это было единое государство. Ко второй половине V в. почти вся территория Западной империи была захвачена варварами-германцами и в Италии фактически правили наемники, распоряжавшиеся престолом. В 475 г. Одоакр возвел на престол юного императора, носившего как бы в насмешку имя Ромул Августул (т. е. "маленький Август"; ок. 460 — после 476), но в 476 г. сверг его, отправил в ссылку и провозгласил себя королем Италии. Одновременно от имени римского сената было отправлено посольство в Константинополь, которое привезло императорские регалии и заявило, что для Империи достаточно одного владыки — в Константинополе. Одоакр же просил должность императорского наместника Италии, каковую и получил вместе с саном патриция (в поздней Империи — высший государственный чин, нечто вроде премьер-министра). В 493 г. король германского племени остготов Теодорих I Великий (ок. 454–526; король с 493 г.) захватил Италию и, убив Одоакра, основал там собственное королевство.
Ступня — имеется в виду античный фут — 29,6 см.
…он был в конце концов пожалован Пипином Коротким папе Стефану II… — В 535–555 гг. Восточная Римская империя предприняла успешную попытку вернуть Италию, но уже в 568 г. на Апеннинский полуостров вторглись германские племена лангобардов, завоевав большую его часть; некоторые же территории остались под властью Византии, в т. ч. Рим, где гражданскую власть от имени константинопольского императора осуществлял римский епископ — папа. В VIII в., когда Византия с трудом отбивалась от арабов, она не могла оказывать помощь Риму, на который претендовали лангобарды. Папы обратили внимание на мощное Франкское государство (тогда оно включало Францию и значительную часть Германии) и привлекли его в союзники. Во Франкском государстве в 751 г. была свергнута династия Меровингов и к власти пришел представитель рода Пипинидов, или Каролингов, Пипин Короткий (714–768). Узурпатор не мог апеллировать к происхождению от древних владык франков и свою легитимность основывал на священном помазании и благословении церкви, поэтому он также был заинтересован в союзе с папами. В 756 г. Пипин совершил поход в Италию по просьбе папы Стефана II (ум. в 757 г.; правил с 752 г.), разбил лангобардов, признал полную независимость пап и от лангобарде ких королей Италии и от Византии, положив начало т. н. патримонию святого Петра, т. е. Церковной (Папской) области в Средней Италии, где светскую государственную власть осуществляли преемники святого Петра — папы римские.
Папа даровал Пипину титул патриция Рима — в тот момент это означало звание защитника и покровителя Вечного города.
… Карл Великий подтвердил права святого престола на город вместе с прилежащим к нему дукатом. — Принадлежавшие Византии после 555 г. территории в Средней Италии назывались Равеннским (по административному центру — городу Равенне в нынешней области Эмилия-Романья) экзархатом. Экзархат делился на дукаты (отсюда название чеканившихся в Риме золотых монет), т. е. округа во главе с дуксом (лат. dux, ит. duce — "вождь", "предводитель", отсюда фр. due, англ, duke, ит. duca — "герцог"; поэтому дукаты иногда в исторической литературе именуются герцогствами — фр. duche) — военным и гражданским губернатором. Дуксом Римской области был римский епископ — папа.
Сын Пипина Карл I Великий (742–814; король франков с 768 г., император с 800 г.) в 774 г. также разбил лангобардов, сам принял корону Италии, получил от папы титул патриция и подтвердил светскую власть пап над Римом и Римской областью.
В 800 г. папа Лев III (ум. в 816 г.; правил с 795 г.) возложил на Карла императорскую корону (согласно официальной версии, по собственной инициативе, без ведома Карла и чуть ли не против его воли).
… Крест, столь долгое время униженный и поруганный, гордо вознесся сначала над пантеоном Агриппы, затем над колонной Антонина, а там и над Капитолийским холмом. — Пантеон Агриппы — храм всех богов, построенный на средства Агриппы (см. примеч, к с. 16); однако здесь хронологическая неточность: Пантеон, полностью перестроенный в 125 г. при Адриане (Публий Элий Адриан; 76—138; с 117 г. — император Цезарь Траян Адриан Август), перестал быть местом языческого богослужения во второй половине IV в., но обращен в христианскую церковь святой Марии у Мучеников только в 609 г.
Колонна Антонина, воздвигнутая на Марсовом поле Антонином Пием (Тит Аврелий Фульвий Бойоний Аррий Антонин; 86-161; с 138 г. — император Цезарь Тит Элий Адриан Антонин Август Пий), была увенчана крестом в 354 г.; до наших дней дошел лишь постамент этой колонны.
Капитолийский холм — один из семи холмов Рима; расположен к западу от Форума, имеет две вершины; на нем располагались храмы Юпитера, Юноны и Минервы, государственный архив и монетный двор; седловина между вершинами была застроена домами богатой знати.
Первая церковь на Капитолийском холме — храм святых Косьмы и Дамиана, преобразованная из храма Ромула, была освящена едва ли не ранее и уж, во всяком случае, не намного;*<мднее воздвижения креста на колонне Антонина.
… духовная власть верховного понтифика распростерла крыла над миром… — Понтификами в Древнем Риме именовали не священнослужителей, а особых должностных лиц, пожизненно избираемых, в чьи обязанности входил надзор за культом. Коллегию понтификов возглавлял великий (или верховный) понтифик; со времен Империи последняя должность слилась с императорской. Папы, объявляя себя законными наследниками римских государей, хотя бы и языческих (впрочем, и христианские императоры Запада сохраняли за собой этот титул, пока существовала Западная Римская империя), присвоили себе и титул великого понтифика, что, однако, понималось тогда как сан первосвященника.
… далекому дыханию Великого океана и Индийского моря. — Великим океаном в античном мире именовался Атлантический океан, Индийским морем — Аравийское море, единственная известная древним европейцам часть Индийского океана.
… Но светская, земная власть пап замкнулась в стенах Рима, теснимого свирепыми кондотьерами средневековья, чья дерзость, подобно прибою, пока разбивалась о театр Марцелла и отступала перед аркой Траяна. — Оставаясь столицей папства, сам город Рим был разделен между мощными феодальными фамилиями, которые на протяжении столетий воевали друг с другом и претендовали на власть над Городом и даже папами, кому принадлежала не такая уж большая часть Рима, если не считать Ватикана на правом берегу Тибра и Латерана (см. примеч. к с. 7).
Этих феодальных владык Дюма не очень точно называет кондотьерами. Кондотьеры (от ит. condotta — "договор") — предводители наемных отрядов, поступавшие на службу к различным итальянским государям и городам и нередко захватывавшие власть в этих государствах и коммунах. Среди кондотьеров было немало представителей древних фамилий, но встречались и люди безродные. Знатные римляне также были вождями наемников, но не все и не всегда. Кроме того, кондотьерство как явление появилось в XIV в., а феодальные распри начались значительно раньше.
Эти феодалы воздвигали замки в Риме на месте древних строений, перестраивая и укрепляя их. Так, семейство Орсини (см. примеч. ниже) в XV в. построило замок на развалинах театра Марцелла, огромного каменного сооружения, рассчитанного на более чем 10 тыс. зрителей, воздвигнутого в 12–11 гг. до н. э. Августом в память своего племянника, зятя, приемного сына (с 25 г. до н. э.) и предполагавшегося наследника Марка Клавдия Марцелла (42–23 до н. э.). Семейство Колонна (см. примеч. ниже) владело форумом Траяна, построенным Траяном (Марк Ульпий Траян; 53-117; с 97 г. — император Цезарь Нерва Траян Август); на форуме, размерами 300 на 185 м, стояла огромная, высотой 39,83 м колонна, установленная в 117 г. в честь победы Траяна над жившими на территории современной Румынии племенами даков; по этой колонне семейство Колонна и получила свое прозвание. Северной границей форума Траяна служила воздвигнутая по тому же поводу триумфальная арка Траяна. Франджипани — знатная римская фамилия (о происхождении наименования см. примеч. к с. 34), возводившая свою родословную к древнеримскому роду Анициев, однако по документам прослеживается лишь с 1014 г.; в Риме владели Большим цирком, церковью Санта-Мария-Нуова и Колизеем.
Гаэтани — знатный римский род, который возводил себя к герцогам Гаэты, правившим этим городом к северо-западу от Неаполя на побережье Тирренского моря в IX в. — 1032 г. Однако реально проследить эту фамилию ранее XII в. не удается.
Орсини — аристократическое римское семейство, наследственные враги рода Колонна, традиционные сторонники партии гвельфов (см. примеч. к с. 29); вели свой род с VIII в., но первый по-настоящему известный представитель этого семейства — Орсо ди Боббио (ум. в 1167 г.), видимо давший своим прозвищем (ит. orso — "медведь") название фамилии.
Колонна — известный с X в. род, происходивший из Тускула, враги Орсини, потомственные гибеллины (см. примеч. к с. 29); о происхождении названия см. примеч. выше.
Савелли — римское аристократическое семейство, известное с конца XII в.; названо по одноименному замку в окрестности Рима.
18 Фискальная башня — средневековая крепость в предместье Рима; как явствует из названия (лат. fiscus — "казна"), являлась местом сбора въездных и торговых пошлин.
Дженцано — см. примеч. к с. 8.
Аричча — город в 3 км от Дженцано по направлению к Риму. Веллетри — см. примеч. к с. 8.
Орвъето — город в Умбрии в 100 км к северо-западу от Рима. Альбано — город на Аппиевой дороге, в 25 км к юго-востоку от Рима, на берегу Альбанского озера.
19… этот крестник Альба Лонги, родившийся посреди поместья Помпея… неспособный заполнить обширные земли, которые император Домициан повелел присоединить к поместью победителя при Силаре и побежденного при Фарсале. — Альбано расположен близ того места, где находилась древняя Альба Лонга — главный город т. н. Латинского союза, объединения 30 городов Лация (нач. I тыс. до н. э. — 338 г. до н. э.). В начале VI в. до н. э. гегемония в Латинском союзе перешла к Риму. Войны латинов с Римом привели к упразднению Союза и включению латинских городов в Римское государство. Альба Лонга, согласно легенде, была разрушена римским царем Туллом Гостилием.
Гней Помпей Магн (лат. "Великий"; 105—48 до н. э.) — римский государственный деятель и полководец; прославился уже в молодости, в 83 г. до н. э., во время гражданской войны между сторонниками Суллы и приверженцами Мария, к тому времени уже умершего (см. примеч. к с. 35). Объявив себя сулланцем, Помпей на собственные средства собрал военный отряд и разбил марианцев при реке Эзис в Умбрии, впадающей в Адриатическое море (Дюма, видимо, спутал ее с впадающей в Тирренское море рекой Силар — соврем. Селе — на границе Кампании и лежащей к югу от нее Лукании).
Став впоследствии знаменитым военачальником, Помпей был одно время политическим союзником Цезаря, но затем порвал с ним и в 49 г. до н. э. возглавил сенатские войска в борьбе с диктатором. В 48 г. до н. э. на Фарсальской равнине (Фарсале) в Греции противники сошлись, и Помпей, несмотря на двукратное численное превосходство своей армии, потерпел поражение. Ему удалось бежать в Египет, где он был предательски убит приближенными царя Птолемея XIII, желавшими подольститься к Цезарю. Огромные поместья Помпея — частично путем конфискаций, частично с помощью брачных союзов с наследниками Помпея — в конце концов оказались в руках императорского дома.
Тит Флавий Домициан (51–96; император с 81 г.) еще больше увеличил эти владения.
… увидел справа от дороги гробницу Аскания, сына Энея, основателя Альбы… — Асканий (иначе — Юл) — в римской мифологии сын троянского героя Энея, родившийся в Трое и вместе с отцом прибывший в Италию; согласно одному из вариантов мифа, после смерти Энея основал Альба Лонгу и стал ее царем.
… в одном льё пути от могилы Телегона, сына Улисса, основателя Тускула. — Телегон (гр. "Дальнерожденный") — в греческой мифологии сын Одиссея (лат. Улисса) и волшебницы Кирки (лат. Цирцеи), на остров которой прибыли Одиссей и его спутники. По одной из версий мифа, Телегон отправился на поиски Одиссея и, не узнав отца, убил его. Согласно римским преданиям, Телегон основал в Италии города Пренесте и Тускул.
… Поединок отцов под стенами Трои продолжался здесь между детьми. — У истоков своей истории греки, а за ними и римляне видели Троянскую войну между городом Троя на западном берегу Малой Азии и объединенным ополчением греческих царств. Начало этой войны они датировали, если принять наше летосчисление, 1182 г. до н. э. (современные историки считают, что указанный конфликт действительно имел место, но в середине XIII в. до н. э. и протекал, разумеется, не так, как повествуют Гомер и древние мифы).
… Юлии, давшие Риму Цезаря… — Род Юлиев, к которым принадлежал Гай Юлий Цезарь, вел свою родословную от Аскания — Юла… Порции, подарившие ему Катона Утического. — Марк Порций Катон Младший (95–46 до н. э.) — римский государственный деятель, республиканец, непримиримый противник Цезаря; прославился своей честностью и ненавистью к единовластию.
… троянское единоборство тысячелетие спустя закончилось в Утике… — Катон во время войны между Цезарем и Помпеем был на стороне последнего; после Фарсальской битвы и гибели Помпея возглавил остатки помпеянцев и бежал с ними в город Утику в Северной Африке (в нынешнем Тунисе). Вслед за поражением противников Цезаря в битве при Тапсе (на территории нынешнего Северного Алжира) в 46 г. до н. э. Катон, не желая пережить Республику, бросился на меч.
… Цезарь, потомок побежденных, отомстил отпрыскам победителей за гибель Гектора. — Греки и римляне считали участников Троянской войны образцовыми героями, независимо от того, на чьей стороне они сражались. Среди одержавших победу греков, именовавшихся также ахейцами, или данайцами, особо почитались могучий Ахилл и хитроумный Одиссей. Непревзойденным героем среди троянцев виделся древним павший от руки Ахилла Гектор, сын царя Трои Приама и дядя Аскания — Юла.
Для людей античности и даже поздних последователей древних мыслителей человеческая история есть цепь возмездий. "Местью" за Трою и Гектора объясняли и покорение Греции Римом, и даже завоевание в 1453 г. Византийской империи турками, в которых усматривали потомков троянцев.
… символ власти, воздвигнутый Тарквинием, дабы заключить латинскую цивилизацию в узилище цивилизации римской. — По преданию, храм Юпитера Латиариса (см. примеч. к с. 12) был воздвигнут последним римским царем Луцием Тарквинием Гордым (по традиции, правил в 534–510 гг. до н. э.); нынешние историки полагают, что он был построен позднее, после Первой Латинской войны 496–493 гг. до н. э., в результате которой Рим стал главой Латинского союза.
… проходил сквозь людские потоки подобно Роне, что пересекает Женевское озеро, не смешивая свои мутноватые ледяные воды с теплой прозрачной влагой Лемана. — Из 812 км Роны, которая начинается в Альпах и течет к Средиземному морю, 72 км приходится на Женевское озеро: река горным потоком впадает в озеро, а затем вытекает из него.
Леман — иное название Женевского озера.
20… волосы ниспадали на плечи, словно у римских императоров-варваров или франкских королей, вторгнувшихся в Галлию. — Насколько известно, государи поздней Римской империи — а некоторые из них были уроженцами провинций и, возможно, варварского происхождения — длинных волос не носили.
Что же касается германского племени франков, которое овладело в 486 г. северной Галлией, подвластной Риму, а в 507–536 гг. — южной, где с первой половины V в. господствовали германцы вестготы и бургунды, то правившие франками с 428 (если верить легенде) по 751 г. короли из династии Меровингов носили (и только они и их ближайшие родственники имели на это право) длинные волосы, что считалось знаком принадлежности к роду потомков германского верховного бога Вотана (хотя еще в 496 г. франки приняли крещение).
22… похожий на гения лесов… — Гений (от лат. gens — "род") — в римской мифологии первоначально божество — прародитель рода, затем бог мужской силы, олицетворение внутренних сил и способностей мужчины; считалось, что каждый мужчина имеет своего гения. Здесь это слово употреблено в неточном смысле, утвердившемся в XIX в. — бог-покровитель вообще.
Соракт (соврем. Монте Сант’Оресте) — гора над Римом, высотой 691 м, на правом берегу Тибра; на ее вершине находился храм Аполлона.
… котловины, напоминающей цирк, где, как гладиаторы, поочередно погибали племена фалисков, эквов, вольсков, сабинян и герников… — Область Лаций населяли племена латинов. Северными соседями их были сабиняне (сабины), северо-восточными — фалиски и эквы, восточными — герники, южными — вольски. Фалиски говорили на языке, весьма близком к латинскому, остальные — на языках оскскоумбрской ветви италийской группы, также родственных латыни. Отношения этих племен с Римом были в основном враждебными. Определенное исключение составляла часть сабинов: по преданию, подтвержденному археологическими изысканиями, население раннего Рима состояло из трех групп: латинов, сабинян и этрусков. Войны Рима с соседями продолжались от VIII в. до н. э. до рубежа IV и III вв. до н. э., когда покоренные вошли в состав Римской державы и были ассимилированы римлянами (по мнению некоторых историков, ассимиляция продолжалась до рубежа н. э.). Гладиаторы — в Древнем Риме борцы, выступавшие в публичных кровавых зрелищах, которые организовывали частные лица или государство и для которых строились специальные арены; бойцы сражались не на жизнь, а на смерть между собой или с дикими зверями; наряду с профессиональными бойцами в таких боях участвовали также военнопленные, рабы и осужденные на смерть преступники… Орсини, воинственных племянников папы Николая III… — Николай III (ум. в 1289 г.; папа с 1277 г.) до восшествия на папский престол носил имя Джованни Гаэтано Орсини.
… после страшных чумных поветрий одиннадцатого и двенадцатого веков… — Эпидемии были непременными спутниками всей европейской истории, по меньшей мере, до XVIII в., причем смертельными являлись и те болезни, что ныне таковыми не считаются, например коклюш. Самыми страшными были пандемии чумы; эта болезнь, впервые зафиксированная в Европе в VII в., до XIV в., давала знать о себе лишь спорадически. Завезенная с Востока в 1347 г. бубонная чума бушевала до 1349 г., и в результате этой пандемии (она получила название "черная смерть") вымерло, по разным подсчетам, от трети до половины населения Западной Европы, в т. ч. в городах от половины до двух третей. Эпидемии чумы периодически повторялись до второй половины XVII в.
Следует отметить, что в средние века чумой называли и другие болезни, к собственно чуме отношения не имеющие. Такой была, например, т. н. "огненная чума", она же "священный огонь", "дьяволов огонь", "огонь святого Антония". Болезнь была распространена с конца X по XIII в., но пик ее приходится на последние два десятилетия XI в. и 1120–1130 гг. (вызванные ею повальные смерти, вероятно, и имеет в виду Дюма). Симптомами болезни были нервные судороги, нестерпимая жажда и омертвление (вплоть до гангрены) конечностей. Причиной "огненной чумы" был не вирус, а заражение зерновых спорыньей, т. е. это была не эпидемия, а массовое отравление. Число умерших от него неизвестно.
… после походов европейцев на Восток — походов, которые в дополнение к арабскому нашествию оставили на дорогах Сирии, под стенами Константинополя, на берегах Нила и вокруг тунисского озера более двух миллионов трупов… — Имеются в виду крестовые походы: первый (1096–1099) — завершился взятием крестоносцами Иерусалима;
второй (1147–1149) — был вызван падением в 1144 г. графства Эдесского, одного из государств крестоносцев, и закончился безрезультатно;
третий (1189–1192) — был обусловлен взятием в 1187 г. арабами Иерусалима, но отбить город так и не удалось; четвертый (1201–1204) — конечным пунктом его должен был стать Египет, в чьи владения входила Палестина, однако завершился он по подстрекательству венецианцев, стремившихся разделаться со своим главным торговым соперником, взятием христианской (но, с точки зрения католиков, еретической) Византии; пятый (1217–1221) — в Египет, снова безуспешный; шестой (1228–1229) — был предпринят Фридрихом II Гогенштауфеном (1194–1250; король Сицилии с 1198 г., император Священной Римской империи с 1212 г.), который сговорился с египетским султаном и взял Иерусалим без единого сражения, но в 1244 г. Святой город снова и уже окончательно отошел к арабам; седьмой (1248–1254) — опять в Египет, и снова безрезультатно; восьмой (1270) — в сильнейшую морскую мусульманскую державу Тунис; сразу же по высадке крестоносцев на африканском берегу в их лагере вспыхнула холера — поход закончился, не успев начаться. Число погибших в крестовых походах неизвестно, но, во всяком случае, явно меньше названных двух миллионов.
Даже в первом походе, самом многочисленном, от битв, голода и болезней погибло 50–70 тыс. человек. Видимо, Дюма некритически воспринял сведения средневековых хронистов, всегда безмерно завышавших число воинов и потерь.
Под арабским нашествием Дюма понимает арабские завоевания VII — нач. VIII в. После смерти в 632 г. пророка Мухаммада, объединившего Аравию под знаменем ислама, его преемники захватили огромные территории от Атлантики до Северной Индии. Сирия и Палестина, до того принадлежавшие Византии, были заняты воинами ислама в 636 г.
Тунисское озеро — это Бизертский залив Средиземного моря. Наименование моря или залива озером не было редкостью в древности и в средневековье.
24 Аркебуза — возникшее в первой трети XV в. ручное огнестрельное оружие; представляла собой маленькую пушку, обслуживаемую двумя людьми: один укладывал аркебузу концом на плечо, а дулом — на воткнутую в землю рогулину, другой подносил к запальному отверстию в тыльной части аркебузы раскаленный прут. В конце XV — начале XVI в. (но, по-видимому, позднее описываемых событий) конструкция аркебузы несколько изменилась и она стала обслуживаться одним человеком. Порох поджигался с помощью горящего фитиля, закрепленного в курке; при нажатии на спусковую скобу фитиль падал на полку, где был насыпан затравочный порох, и поджигал его, а от этого огня воспламенялся весь заряд.
25 Линник — либо защищавшая лицо прикрепленная к шлему металлическая полумаска, либо выступающий козырек.
Шишак — здесь: небольшой открытый шлем-каска.
… Наполеоне Орсини, сын Карло Орсини, графа ди Тальякоццо. — Имеются в виду представители одной из линий дома Орсини, Орсини дель Бальзо, наследственные сеньоры Браччано: Карло Орсини (ум. ок. 1445 г.), граф Тальякоццо, и его сын Наполеоне (ок. 1440–1480), унаследовавший от отца только сеньорию Браччано, но не графский титул.
… назначил молодого человека гонфалоньером пресвятой Церкви… — Гонфалоньер (ит. "знаменосец") — название должности, связанной с командованием войсками; в итальянских коммунах — глава исполнительной власти и одновременно предводитель городского ополчения. Гонфалоньер святой Церкви — главнокомандующий вооруженными силами Папской области.
Святой Доминик Гусман (1170–1221) — испанский монах, основатель (1215) и первый глава нищенствующего ордена братьев-про-поведников (по имени основателя обычно называются доминиканцами), предназначенного для проповеди ортодоксальной веры среди размножившихся в начале XII — середине XIII в., особенно в Южной Франции, еретиков. (В нищенствующих орденах братия, кроме общемонашеских обетов бедности, в смысле отказа от личной собственности, целомудрия и послушания, принимала обет нищеты — отвержение любого имущества, хотя бы и находящегося в коллективной собственности, кроме рясы и чаши для сбора подаяния, причем первоначально только пищей, а не деньгами.) Доминик был причислен католической церковью к лику святых в 1233 г.; дата поминовения — 4 августа.
… перед воротами монастыря святого Сикста. — Этот монастырь в окрестности Рима был основан, как считалось, святым папой Сикстом III (ум. в 440 г.; правил с 432 г.).
26… основатель инквизиции… — Заявление не вполне точное: святой Доминик не был основателем инквизиции. В конце XII — начале XIII в. католическая церковь, обеспокоенная ростом ереси, предприняла ряд действий, направленных на создание специальных учреждений по борьбе с еретиками. Первоначально, по решению Латеранского собора 1179 г. и в соответствии с папским указом 1184 г., местным священникам предписывалось производить розыск еретиков, епископам — судить их, а светским властям — приводить смертные приговоры в исполнение, ибо, по словам папы Луция III (Убальдо Алучиньоли; ум. в 1185 г.; правил с 1181 г.), "Церковь испытывает отвращение к пролитию крови". В 1209 г. папа Иннокентий III (Джованни Лотарио, 1161/1162—1216; правил с 1198 г.) передал руководство процессами над еретиками особым папским легатам (т. е. посланцам), выведя их из-под юрисдикции епископов.
В 1229 г. в Тулузе (Южная Франция) был впервые организован инквизиционный трибунал, в обязанности которого входили сыск, следствие и суд над еретиками; процесс проводился, в отличие от светских судов, где дело решала присяга истца, ответчика и свидетелей, путем расследования (лат. inquisitio — "исследование", "расследование") с помощью свидетелей и допроса обвиняемого (с применением пыток). Инквизиционный трибунал мог приговорить уличенного судом в ереси к покаянию, ношению особой позорящей одежды, поражению в правах, конфискации имущества, тюремному заключению (иногда пожизненному) и в особо тяжких случаях — к смертной казни.
В 1231–1235 гг. папа Григорий IX (Уголино из Ананьи; ок. 1145–1241; правил с 1227 г.) подчинил инквизицию непосредственно своему руководству, передав в 1232 г., т. е. уже после смерти святого Доминика, ее функции на местах ордену доминиканцев. Органы инквизиции были реформированы папой Павлом III в 1542 г., был учрежден верховный инквизиционный трибунал в Риме ("Святая служба"), которому подчинялись местные трибуналы.
От папской инквизиции следует отличать учрежденную в 1480 г. испанскую инквизицию, подчиненную королю Испании, а не папе. Касале-Ротондо (ит. Casale Rotondo) — круглая в плане крепость к югу-востоку от Рима.
… заставил Рудольфа Габсбургского вернуть под папский скипетр Имолу, Болонью и Фаэнцу… — Итальянское королевство формально, наряду с Германией, входило в состав Священной Римской империи, но реально занимало лишь северо-восточную часть Апеннинского полуострова, да и там власть императоров была довольно нетвердой и постоянно оспаривалась (в первую очередь папами); императоры же стремились утвердить свое господство над Италией. Трон Империи замещался по выбору высшими князьями.
После смерти сына Фридриха II (см. примеч. к с. 23), императора Конрада IV (1228–1254; правил с 1250 г.), в Империи наступило междуцарствие, эпоха борьбы между разными претендентами, ни один из которых не достиг императорского сана. В 1271 г. императором был избран мелкий граф из Эльзаса Рудольф I Габсбург (1218–1291); его задачей было округлить свои владения в Германии, чего он и достиг, приобретя герцогства Австрию и Штирию и положив тем самым начало могуществу Габсбургского дома. Поскольку Рудольф не стремился к активной итальянской политике, он отказался от претензий на область Романью с центром в Болонье (города И мола и Фаэнца также входили в эту область), передав ее папе… Карла Анжуйского вынудил отказаться от звания имперского викария в Тоскане и титула римского патриция. — Император Конрад IV унаследовал от отца не только Империю, но и Королевство обеих Сицилий, включавшее одноименный остров и Южную Италию со столицей в Неаполе. В Неаполе во время междуцарствия власть захватил Манфред (1232–1266) — внебрачный сын Фридриха II. Урбан IV (Жак Панталеон; ок. 1200–1264; папа с 1261 г.), претендовавший, как и все папы, на верховные права в отношении Сицилии, передал в 1264 г. это королевство брату короля Франции Людовика IX Святого (1215–1270; правил с 1226 г.), графу Карлу Анжуйскому (1220–1285), а также пожаловал ему титул римского сенатора (а не патриция — см. примеч. к с. 17, — но это в XIII в. означало то же самое). Еще ранее, в разгар борьбы с папами, Фридрих II, надеясь завоевать расположение Людовика Святого, назначил Карла имперским викарием, т. е. наместником в Тоскане. Правда, реальный объем власти викария зависел от его собственной военной силы. Людовик IX не был склонен поддерживать военные авантюры брата, но в 1264 г. оказал ему помощь, и Карл занял сначала Неаполь, а в 1266 г., разбив Манфреда при Беневен-то, и Сицилию. Опасаясь слишком уж возросшей мощи Карла, папа Николай III заставил Рудольфа отобрать у Карла звание викария, а сам в 1278 г. лишил его титула римского сенатора. В 1282 г. на Сицилии вспыхнуло антифранцузское восстание, т. н. Сицилийская вечерня (сигнал к мятежу был дан колокольным звоном к вечерне), и остров отошел к королю Арагона Петру (Педро) III (1236–1285; король Арагона с 1276 г.), женатому на дочери Манфреда. Неаполь остался за Анжуйской династией.
… Раймондо Орсини, граф Леве, получил княжество Тарент… — Ошибка или опечатка: Раймондо Орсини (ум. в 1406 г.), захвативший у Анжуйского дома в 1399 г. княжество Тарентское, был по наследственному титулу граф ди Лечче, а не Леве.
… Бертольдо Орсини был назначен главнокомандующим во Флоренцию. — Бертольдо Орсини (ум. в 1353 г.) был назначен правителем Романьи с титулом графа. Главнокомандующим войсками Флоренции был Раймондо Орсини, сеньор Пьомбино (ум. в 1467 г.).
… Антонио Джованни Орсини, лишь десяти лет не доживший до описываемых событий… — Князь Тарентский Джанантонио (или Джованни Антонио, но не наоборот) Орсини умер за шесть лет до описываемых событий, в 1463 г.
… вел войну с неаполитанским семейством Колонна… — С XIV в. ветвь римского рода Колонна переселилась в Сицилию, а с 1442 г., когда Арагонская династия захватила у Анжуйской Неаполь, заняла высокое положение при неаполитанском дворе.
… с урбинским герцогом Федериго ди Монтефельтро… — Имеется в виду известный полководец и покровитель гуманистов Федериго, граф Монтефельтро и герцог Урбинский (ок. 1410–1482).
… с графом Аверса, недавно захватившим Ангвиллару, ленное владение Орсини, что не помешало им сохранить черного угря в своем гербе… — Особого графства Аверса в 1462 г. не было, оно входило в состав Неаполитанского королевства, и графами Аверса были сами неаполитанские короли.
Здесь имеется в виду город Ангвиллара на юго-восточном берегу озера Браччано.
Ангвиллара по-итальянски означает "место разведения угрей".
… подобно тому как Англия даже после потери Кале оставила себе геральдические французские лилии. — Одной из причин Столетней войны (1337–1453) и главным ее поводом были династические претензии английских монархов на французскую корону. Символом этих претензий стало включение в 1337 г. королем Англии Эдуардом III (1312–1377; правил с 1327 г.) в английский герб французской королевской эмблемы — трех золотых лилий на белом фоне. Эти линии остались там и после того, как английские монархи дважды (в 1360 и 1471 гг.) отказывались от прав на престол своего континентального соседа, а последнее английское владение на материке — захваченный в 1347 г. город Кале — отошел в 1558 г. к Франции.
… неаполитанский коннетабль Просперо Колонна, прибыл в город Бовилле, расположенный в Альбанских горах примерно в трех четвертях льёот Фискальной башни. — Неточность: Просперо Колонна (1452–1523) выдвинулся как военачальник в борьбе Неаполитанского королевства с Францией много позднее описываемых событий, а коннетаблем, т. е. главнокомандующим неаполитанской армией, стал лишь в 1499 г.
Бовилле — вероятно, имеется в виду город в Нации, древн. Бовиллы, но он находится в 100 км к юго-востоку от Рима, а не в трех четвертях льё от Фискальной башни.
Абруцци — горная область в Италии к востоку от Нация.
… произнес на превосходном тосканском наречии… — Итальянский язык доныне имеет множество диалектов, но в основу литературного языка с XIV в. положен тосканский, и владение им в Италии является признаком культурного человека.
28… кто из семидесяти двух римских императоров, тридцати известных и дюжины малоизвестных тиранов владел этой виллой? — Цифра более или менее условная: 72 императора от Августа до последнего единого владыки Империи (после него западная и восточная части ее более не соединялись, что, впрочем, в сознании римлян не означало распада страны — см. примеч. к с. 17) Феодосия I Великого (ок. 346 — 395; император с 379 г.) — это те, включая соправителей, чья законность была признана сенатом. Кроме них, насчитывалось то ли 31, то ли 32 претендента, условно именовавшиеся "тридцать тиранов". Это выражение было заимствовано из греческой истории: после поражения Афин в войне со Спартой в Афинах в 404 г. до н. э. была образована правящая Коллегия Тридцати, созданная врагами-победителями и управлявшая при помощи террора, что вызвало всеобщую ненависть и свержение "тридцати тиранов" в том же году.
Арпан (фр. "шаг") — старинная мера площади, варьировавшаяся в разных регионах Европы от 0,3 до 0,5 га.
29… занимается поисками некоего шедевра этрусских, греческих или римских мастеров. — В XV в., в эпоху Возрождения, в Италии проявляется интерес к античному искусству и зарождается археология. Художники, архитекторы, скульпторы, просто образованные люди измеряли остатки древних зданий и рылись в земле, чтобы найти памятники античного искусства (это даже становится модой).
… среди них попадались части статуй, барельефов или капителей, обладать которыми в наши дни счел бы за счастье какой-нибудь Висконти или Канина… — Капитель — верхняя, венчающая часть колонны.
Древний миланский род Висконти дал в XVIII–XIX вв. целую плеяду прославленных археологов. Среди них были: Джованни Антонио Баттиста Висконти (1722–1784), его сыновья Эннио Квирино Висконти (1751–1818) и Филиппо Аурелио Висконти (ум. в 1808 г.), их племянник Пьетро Эрколе Висконти (1802–1880) и племянник последнего Карло Лудовико Висконти (1818–1894).
Здесь упомянут также знаменитый итальянский архитектор и археолог Луиджи Канина (1795–1856).
… лучшей рыбы, какую только вылавливают у берегов Остии. — Остия — город в устье Тибра в 20 км к юго-западу от Рима; крупнейшая торговая гавань, основанная в конце IV в. до н. э. для обеспечения римской морской торговли; во время Империи — база римского флота и главная гавань Рима.
… я истинный итальянец, чистокровный гвельф. — Гвельф — представитель возникшей в XII в. в Италии политической группировки. Во время борьбы императоров из династии Штауфенов (Гогенштауфенов) с папами одна часть Италии — гибеллины — поддерживала императора и считала его верховным владыкой Италии, другая — гвельфы — папу. Слово "гибеллин" есть искаженное "Вайблинген" — название родового замка Штауфенов, а "гвельф" — искаженное "Вельф", родовое имя герцогов Баварских и Саксонских, наследственных врагов Штауфенов. Борьба между гвельфами и гибеллинами продолжалась до XVI в. и не всегда касалась прав императоров и пап на Италию. В основном гвельфы опирались на города, гибеллины — на феодальную знать, но некоторые коммуны, например Пиза, придерживались гибеллинской ориентации; среди гвельфов встречались знатнейшие фамилии, например Орсини или неаполитанские короли Анжуйской династии; существовали папы-гибеллины, например из рода Колонна, а гвельфе кая Флоренция в XV в. вела войну с папой.
30 Капитан — в XVI–XV вв. командир наемного отряда и/или комендант крепости.
31… совершающего паломничество подобно Фридриху Третьему Швабскому или Генриху Четвертому Германскому. — Началом длившейся столетия борьбы между императорами и папами обычно считается середина XI в., когда разгорелся спор об инвеституре, т. е. праве назначать епископов. Неистовый борец за папское верховенство Григорий VII (Гильдебранд; 1025/1030—1085; папа с 1073 г.) в 1076 г. отлучил от церкви императора Генриха IV (1050–1106; правил с 1056 г.) и освободил его подданных от присяги. Этим воспользовались князья, пригрозившие императору отказом в повиновении, если отлучение не будет снято. 25 января 1077 г. Генрих с небольшой свитой явился к воротам замка Каносса в Северной Италии, где в этот момент пребывал папа, и трое суток, до 28 января, стоял во внутреннем дворе замка один, босиком на снегу, с непокрытой головой, в одежде кающегося — грубой рубахе на голое тело. Григорий наконец принял Генриха и простил его. С того времени выражение "идти в Каноссу" стало означать "пойти на крайнее унижение во имя спасения себя и своего дела". Впрочем, Каносса ничего не дала, и борьба пап и императоров возобновилась в том же году и продолжалась не один век.
Очередной этап этой борьбы наступил, когда свои претензии на господство над Италией предъявил император Фридрих I Барбаросса (ок. 1125–1190; правил с 1152 г.), он же герцог Фридрих III Швабский. Союзником пап в этой борьбе выступили североитальянские города-коммуны, дорожившие своим самоуправлением и не желавшие подчиняться императорским властям. После ряда успехов Фридрих в 1176 г. в битве при Леньяно с войском североитальянских рыцарей и ополчением городов потерпел сокрушительное поражение и едва спасся от смерти. Ему пришлось пойти на переговоры с папой. Церемония примирения состоялась 24 июня 1177 г. в Венеции на паперти собора святого Марка. Папа
Александр III (Орландо Бандинелли; ум. в 1181 г.; правил с 1159 г.) восседал на троне, император был у его ног. По окончании церемонии Фридрих поцеловал туфлю папы и во время торжественной процессии вел под уздцы папского коня. Впрочем, и это примирение не было окончательным.
Следует отметить, что, строго говоря, поездки указанных императоров к папам не являлись паломничествами в собственном смысле — путешествиями к святым местам.
… под вашим началом целый отряд вассалов из Браччано, Черветери, Ауриоло, Читта-Релло, Виковаро, Роккаджовине, Сантоджемине, Тривеллиано… — Браччано — см. примеч. к с. 7.
Черветери — город в 35 км к северо-западу от Рима.
Ауриоло — непонятно, что имеется в виду.
Читга-Релло — возможно, это городок Читгареале в 95 км к северо-востоку от Рима.
Виковаро — город в 35 км к северо-востоку от Рима.
Роккаджовине — селение в 5 км к северу от Виковаро. Сантоджемине — вероятно, городок Сан Джемине в 90 км к северу от Рима.
Тривеллиано — по-видимому, городок Тривильяно в 70 км к востоку от Рима.
32… богатства царя Соломона или сокровища султана Гаруна аль-Рашида… — Соломон, владыка Израильского царства в 965–928 гг. до н. э., и Гарун аль-Рашид (правильнее — Харун ар-Рашид; 763/766—809), халиф (а не султан; халиф считался не только светским владыкой, но и "повелителем правоверных", высшим религиозным авторитетом) Багдадский с 786 г., вошли в память поколений и в фольклор как образцы мудрости и обладатели несметных богатств, а время их правления — как периоды расцвета и величия государств, над которыми они властвовали. На самом деле достаточно маленькое и бедное Израильское царство распалось вскоре после смерти Соломона, а гигантский халифат, простиравшийся от Атлантики до Северной Индии, от Кавказа и Пиренеев до Сахары, начал разваливаться еще при предшественниках Харуна ар-Рашида и при нем самом.
Особо популярным в Европе образ Гарун аль-Рашида стал в начале XVIII в., когда французский востоковед Жан Антуан Галлан (1646–1715) выпустил в свет книгу "Тысяча и одна ночь" (20 тт., 1707–1717, последние тома опубликованы после смерти переводчика). Никола Фламель (1330–1418) — французский алхимик, о котором ходили слухи, что он смог открыть тайну философского камня — вещества, превращающего неблагородные металлы в золото. Обстоятельства жизни Фламеля покрыты тайной; достоверно известно, что он внезапно разбогател — причины этого абсолютно неясны — и основал в Париже несколько больниц и домов для престарелых.
33… Геродот повествует, что от древних эфиопов осталось множество кладов, охраняемых грифонами. — Геродот из Галикарнаса (ок. 484–425 до н. э.) — древнегреческий историк, "отец истории" по выражению Цицерона; первым в мире создал собственно историческое повествование ("История в девяти книгах"); до него существовали либо памятные записки (о войнах, стихийных бедствиях, эпидемиях и т. п.), либо публичные тексты, восхваляющие действия правителей, либо эпические или мифологические сказания. Геродот также передает множество историй мифологического и фольклорного характера, но дистанцируется от них: "Как говорят…"
Грифоны — в древнегреческой мифологии существа (представления о них, возможно, ближневосточного происхождения) с телом льва и головой и крыльями орла. "Собаки Зевса", они охраняют золото в стране гипербореев (а не эфиопов), живущих в обители блаженства, которая находится на крайнем севере, где вечный день и вечное лето, где правит Аполлон и живут мудрецы.
34… подобно царице Семирамиде, Орсини устроил у себя висячий сад. —
Семирамида — в греческой мифологии дочь сирийской богини Деркето. Мифологизация образа Семирамиды (предполагают, что ее прообразом была вавилонская царица Шаммурамат; нач. IX в. до н. э.) относится к концу V в. до н. э. Ктесий Книдский, греческий лейб-медик при персидском дворе, рассказывал, что царица Семирамида, уроженка горных областей, повелела разбить т. н. "висячие сады" на крыше царского дворца, что должно было напоминать ей поросшие деревьями родные горы. В действительности эти "висячие сады", считавшиеся одним из семи чудес света, были построены вавилонским царем Навуходоносором II (см. примеч. к с. 74).
Санта-Мария-Нова (ныне — Сан Франческо Романо) — церковь, воздвигнутая на римском Форуме на развалинах храма Венеры и Ромы (богини, олицетворяющей Рим).
… гробница Цецилии Метеллы, чье имя значилось в надгробной плите, намертво вмурованной жадными руками Красса… — Имеется в виду круглая башня на третьем километре Аппиевой дороги; была украшена фризом из бычьих голов и мраморной облицовкой, не дошедшими до нас; венчающая башню зубчатая ограда, наподобие крепостной, напротив, воздвигнута лишь в средние века. Эта башня была построена как мавзолей для Цецилии Метеллы (годы жизни неизв.), жены Красса.
Марк Лициний Красе (115-53 до н. э.) — римский государственный деятель и полководец. Во время войн между Суллой и Марием (см. примеч. к с. 35) составил себе огромное состояние в основном из имущества врагов Суллы; был политическим союзником Цезаря и Помпея до их ссоры; предпринял поход против Парфии — государства в Иране, наследника Персидского царства, — но потерпел поражение в битве при Каррах (в Месопотамии) и был убит в бою… крепость Франджипани, властительного рода, получившего это имя в память о бесчисленных хлебах… — Имя Франджипани произошло от латинских слов frangere panes ("ломать хлебы").
… Это семейство захватило триумфальные арки не только Друза, но и Константина и Тита… — В Древнем Риме существовал обычай возводить особые арки в честь триумфа (см. примеч. к с. 9). На арке помещались трофеи (в основном оружие, захваченное у врага) и рельефы с изображением победоносных битв.
Младший брат будущего императора Тиберия, Децим Клавдий Нерон (38 до н. э. — 9 н. э.), позднее именовавшийся Клавдий Нерон Друз, или Друз Старший, был сыном Ливии Друзиллы (см. примеч. кс. 16) и ее мужа Тиберия Клавдия Нерона (ум. в 35 г. до н. э.), родившимся уже после ее развода и три месяца спустя после брака с Августом. Друз Старший был выдающимся полководцем, сражался с германскими племенами и погиб в результате несчастного случая. После его смерти сенат постановил возвести в его память триумфальную арку и присвоить ему (посмертно) и его потомству имя Германик (Германский).
Император Константин I Великий (см. примеч. к с. 7) в 315 г. установил арку в ознаменование своих побед, причем на ее строительство пошли элементы, в частности барельефы, других построек, например триумфальной арки Траяна.
Император Тит Флавий Веспасиан (39–81; правил с 79 г.) воздвиг арку (достроена она была после его смерти) в честь своего триумфа по случаю победы в Иудейской войне 66–73 гг., в которой он принимал участие не будучи еще принцепсом.
… вдали виднелись укрепленные Велизарием Аппиевы ворота… — Велизарий (505–564) — полководец императора Юстиниана (Флавий Савватий Юстиниан; 482/483—565; правил с 527 г.); возглавлял армию в Италии в борьбе с готами; во время этой войны Рим неоднократно переходил из рук в руки. Заняв Вечный город, Велизарий укрепил древние постройки, например ворота в стене Аврелиана (см. примеч. к с. 17), через которые проходила Аппиева дорога. Ввиду затягивания войны и в результате интриг Велизарий впал в немилость, был отозван, затем заподозрен в попытке захватить власть и арестован. Вскоре его выпустили, вернули часть огромного, награбленного в Италии богатства (остальное пошло в казну), позволили доживать век на собственной вилле; но пробыв несколько месяцев в застенке, этот физически очень сильный и безусловно мужественный человек превратился в развалину, повредился в уме и начал страдать манией преследования. Такой конец прославленного полководца породил множество легенд, в которых утверждалось, что он ослеп (или был ослеплен) и просил подаяние в Константинополе. Возникла даже поговорка "Подайте милостыню Велизарию", намекающая на бренность любой славы и власти.
35… рассказывали новинкам о былых походах Флорентийской республики и Неаполитанского королевства. — Италия в описываемое время дробилась на множество государств, самыми сильными и влиятельными из которых были Миланское герцогство и Венецианская республика в Северной, Флорентийская республика и Папское государство в Средней Италии и Неаполитанское королевство в Южной Италии. Эти государства постоянно конфликтовали друг с другом и часто воевали, вступая в самые разные коалиции между собой. Здесь скорее всего имеется в виду война 1452–1455 гг. между Миланом и Неаполем — с одной стороны и Венецией и Флоренцией — с другой.
… Одного, выходца из безвестной крестьянской семьи, проживавшей около Арпина, звали Гаем Марием, другой — отпрыск одного из древнейших патрицианских родов — носил имя Корнелия Суллы. — Столкновение двух политических деятелей — Луция Корнелия Суллы (138—78 до н. э.) и Гая Мария (ок. 157 — 86 до н. э.) объясняется не только их личными амбициями и взаимной ненавистью. Оба они к моменту начала их открытой борьбы в 88 г. до н. э. были прославленными полководцами, консулами (Марий занимал этот пост уже шесть раз — неслыханный в Риме случай), но резко различались политически. Отпрыск обедневшего патрицианского рода, Сулла возглавлял оптиматов (от лат. optimus — "наилучший"), движение, поддерживаемое крупными землевладельцами и стремившееся сосредоточить власть в Риме в руках сената. Марий, уроженец города Арпина близ Рима, первый в своем роду удостоившийся высших государственных должностей, был лидером популяров (от лат. populus — "народ"), группы политиков, опиравшихся на бедноту и требовавших расширения прав народного собрания, аграрной реформы и сложения долгов. Сулла в этой борьбе, изобиловавшей террором и жестокостями с обеих сторон, нарушил самые основы неписаной римской конституции, введя войска в Город; впрочем, после того и марианцы брали Рим штурмом. Марий бежал после первого взятия Рима Суллой в 88 г. до н. э., но, когда тот отбыл на театр военных действий на Восток, марианцы снова вернулись к власти (Марий вскоре после этой последней своей победы умер, скорее всего от старости). Сулла, завершив войну, высадился в 82 г. до н. э. в Италии и захватил ее, установив в Римском государстве режим жестокого террора. В 81 г. до н. э. он был объявлен диктатором без ограничения срока (диктатор в Римской республике — высшее должностное лицо с неограниченными полномочиями, избиравшееся сроком не более чем на полгода, причем указанные полномочия давались лишь для выполнения определенной задачи). В 79 г. до н. э. Сулла неожиданно снял с себя полномочия и последний год жизни провел в своем поместье.
… два народа, кимвры и тевтоны, общей численностью около миллиона человек, ополчились на римлян. — В конце II в. до н. э. германские племена кимвров и тевтонов (некоторые историки считают кимвров этносом смешанного кельто-германского происхождения) по неясным причинам снялись с мест своего обитания и двинулись со всем имуществом и семьями на юг, причем тевтоны вскоре повернули на запад в Галлию, а кимвры числом около 150 тыс. пошли на Италию. В 113, 109 и 107 гг. до н. э. они наносили поражения римлянам в Южной Галлии, но почему-то не пошли дальше через Альпы, а свернули в Испанию. Опасность, угрожавшая Римскому государству, побудила провести в римской армии реформу, связанную с именем Мария — ее инициатора и организатора. В новой армии, в отличие от старой, создававшейся по принципу ополчения, где каждый вооружался и снабжался в походе за свой счет, были введены единообразное вооружение, жалованье, а также новые принципы построения войска. Это пошло на пользу, и Марий в 102 г. до н. э. разбил в Южной Галлии тевтонов, а в следующем году в Северной Италии — кимвров. Натиск варваров был отражен. По подсчетам историков, около 150–200 тыс. германцев было убито в сражениях и примерно столько же продано в рабство. Позднейшие историки сочли эти набеги кимвров и тевтонов первой волной наступления варваров на Империю, которое достигло пика в IV–VI вв. н. э. и погубило Римское государство.
… за ними последуют Аттила, Аларих, Гейзерих. — Аттила (ум. в 453 г.) — предводитель (с 434 г.) кочевого народа гуннов, который в I–II вв. стал переселяться из Центральной Азии на равнины Восточной Европы и в конце IV в. вступил в пределы Империи. Местное население было в ужасе и видело в гуннах не столько людей, сколько демонов. Атгила сумел объединить гуннские племена и создать мощную державу, простиравшуюся от Волги до Рейна, с центром в Паннонии (нынешняя Венгрия). Он возглавлял разрушительные походы на восточные районы Империи (443,447–448 гг.), на Галлию (451 г.), где был разбит на Каталаунских полях в нынешней Шампани, и на Италию (452 г.). После довольно загадочной смерти Атгилы (она случилась вслед за его свадебным пиром) гуннский союз, в который были вовлечены многие негуннские племена, мгновенно распался; образ предводителя гуннов вошел в германский и скандинавский эпос (Атли в "Эдде", Этцель в "Песне о Нибелунгах").
Аларих, Гейзерих — см. примеч. к с. 17.
36… сенат постановил… наградить его титулом третьего основа теля Рима. — Неточность: третьим основателем Рима — после Ромула и Марка Фурия Камилла (ум. в 364 г. до н. э.), освободившего Город от галлов, — Мария именовали в народе, но такой официальный титул ему никогда не присваивался.
… заполнить навмахию, некогда вырытую при Августе… — Навмахия (гр. "морское сражение") — гладиаторское сражение, представлявшее собой инсценировку морского боя, а также искусственный водоем, вырытый для этой цели. Упомянутая навмахия была сооружена на противоположном по отношению к Городу берегу Тибра, напротив торговой пристани.
… и представить Саламинское сражение. — Саламинское сражение — решающая для греков битва между афинским и персидским флотами, произошедшая 28 (или 27) сентября 480 г. до н. э. близ греческого острова Саламин; греки победили, решительно изменив этим положение в греко-персидских войнах в свою пользу.
… удавливал их в тюрьмах, а Мамертинские подземелья заглушали крики пытаемых! — Казнь римского гражданина (кроме воинских казней) не могла быть публичной, как, например, позорные казни рабов — распятие и т. п. Смертный приговор приводился в исполнение путем удушения в подвалах Мамертинской (т. е. посвященной Мамерку, как по-сабински именовался бог Марс) тюрьмы.
… В проскрипционные списки попал и некий молодой человек, племянник Мария. — Со времен Суллы высшее должностное лицо (или лица), обладающее чрезвычайными полномочиями, могло объявить кого угодно вне закона как человека, опасного для государства. Имена этих несчастных публично обнародовались (лат. рго-scriptio — букв, "письменное оглашение"). Попавшие в такие списки подлежали смерти без суда и следствия, их имущество обращалось в казну, причем убийца или доносчик мог претендовать на часть этого имущества.
Здесь имеется в виду Гай Юлий Цезарь, который был племянником жены Мария; кроме того, Цезарь был женат на дочери Луция Корнелия Цинны (ум. в 84 г. до н. э.), ближайшего соратника Мария.
… по отцу слыл одним из потомков Венеры, а по матери происходил. от Анка Марция… — Юлии — род Цезаря — считали себя потомками Аскания — Юла, сына Энея, который в свою очередь был, по преданию, сыном троянца Анхиза и богини Афродиты (рим. Венеры). Бабка Цезаря по отцу (а не мать) была из рода Марциев Рексов, которые вели свое происхождение от полулегендарного четвертого римского царя Анка Марция (правил, по преданию, в 641–616 гг. до н. э.).
Всадники — члены второго после сенаторов сословия; первоначально — лица, имевшие право по имущественному цензу (в 400 тыс. сестерциев) служить в кавалерии, позднее (как здесь) — денежная аристократия.
37 Сенаторы — здесь: члены сенатского сословия.
Весталки — жрицы богини домашнего очага Весты; должны были поддерживать постоянный огонь в храме своей богини (этот огонь являлся символом устойчивости Римского государства), причем служение Весте продолжалось 30 лет (начиная примерно с 10-летнего возраста) и требовало обязательного целомудрия, нарушение которого каралось смертной казнью. Старшая весталка могла освобождать заключенных, если они попадались ей на пути во время торжественных процессий. Вообще ходатайство весталок за осужденных считалось в Риме весьма весомым.
… и кому Красе, скупейший из богачей, одолжил пятнадцать миллионов… — Цезарь смолоду вел весьма рассеянный образ жизни, а занявшись государственной деятельностью, не жалел средств на устройство роскошных празднеств для народа. Когда ему подошел срок ехать пропретором в Испанию, долги его достигли 25 млн. сестерциев. Кредиторы грозили предать его суду и наложить арест на имущество. Красе, бывший тогда политическим союзником Цезаря, поручился за него на сумму в 5 (а не 15) миллионов. По возвращении из Испании Цезарь полностью расплатился с заимодавцами, поскольку составил себе в провинции немалое состояние… мешали уехать пропретором в Испанию… — В 63 г. до н. э., т. е. много позднее смерти Суллы, Цезарь был избран и в 62 г. до н. э. вступил в должность претора (следующая по важности после консула должность в Римском государстве; первоначально их было 2, со времени Суллы — 8; основной обязанностью преторов была судебная деятельность).
По неписаной римской конституции наместниками провинций в республике становились сроком на год отбывшие свой должностной срок консулы и преторы; они назывались проконсулами и пропреторами. Промагистраты правили один год и обладали высшей властью над местным населением. Цезарь получил в управление провинцию Испания Дальняя (Южная Испания).
… Умерший от проказы Сулла… — Неясно, какая болезнь свела диктатора в могилу: он страдал от какого-то кожного заболевания, но вряд ли это была проказа.
… спас жизнь будущему победителю Верцингеторикса, Фарнака, Юбы, Катона Утического… — В 58–54 гг. до н. э. Цезарь завоевал Галлию, но уже в 52 г. до н. э. там вспыхнуло восстание части племен, которое возглавил молодой знатный галл Верцингеторикс (или Верцингеториг; ум. в 46 г. до н. э.). Цезарь в том же году, хотя и с огромным трудом, победил Верцингеторикса и взял его в плен. После триумфа Цезаря за победу над Галлией, состоявшегося ввиду гражданских смут лишь в 46 г. до н. э., вождь галльского восстания был, по обычаю, казнен.
Царь Понта (государство на севере Малой Азии, один из обломков империи Александра Македонского) Митридат VI Эвпатор (132—63 до н. э.; правил с 121 г. до н. э.) в 107 г. до н. э. присоединил к своим владениям Боспорское царство, лежавшее по обоим берегам Боспора Киммерийского, нынешнего Керченского пролива; с 89 г. до н. э. вел войну с Римом, был разбит, бежал в Крым, где был свергнут своим сыном, наместником Боспорского царства, Фарнаком II (ум. в 47 г.; царь с 63 до н. э.), и покончил с собой.
Цезарь в 47 г. до н. э. стремительным походом вторгся во владения Фарнака, разбил его в бою, взял в плен и казнил; об этом он составил донесение сенату, состоящее из трех ставших крылатыми слов: "Пришел, увидел, победил".
Царь Нумидии (см. примеч. к с. 12) Юба (ум. в 46 г. до н. э.; правил приблиз. с 50 г. до н. э.) во время гражданских войн между цезарианцами и помпеянцами принял сторону последних; после поражения помпеянцев в битве при Тапсе в 46 г. до н. э. покончил с собой. О Катоне Утическом см. примеч. к с. 19.
Аврелий Котта, Гай (124—74 до н. э.) — римский государственный деятель, консул 75 г. до н. э., знаменитый оратор.
… Оно указует на потомка великого семейства Аврелиев — Марка, которого усыновит и возведет на трон император Антонин. — Имеется в виду кумир позднейших историков, "философ на троне" Марк Аврелий (121–180; император с 161 г.), который, строго говоря, не принадлежал к роду Аврелиев. По сложившейся в правление династии Антонинов (96—192) традиции (впрочем, подобное случалось и ранее), император назначал себе преемника с согласия сената, причем этот наследник, не будучи ни сыном, ни — иногда — даже родственником, усыновлялся главой государства и рассматривался римлянами как его кровный родственник.
Таким образом император Тит Элий Адриан Антонин Август Пий (т. е. "Благочестивый"; 86—161; правил с 138 г.), чье имя до восшествия на престол было Тит Аврелий Фульв Бойоний Аррий Антонин (он-то и был Аврелием по крови), усыновил Марка Анния Катилия Севера из рода Анниев; тот получил имя Марк Элий Аврелий Вер Цезарь, а по занятии трона — император Цезарь Марк Аврелий Антонин Август.
Лаций (Лациум) — холмистая равнина между средним и нижним течением Тибра, лежащим к юго-востоку от него Л ирисом (соврем, р. Гарильяно) и Тирренским морем.
… благородному Аннию Веру… — Имеется в виду Марк Анний Вер (годы жизни неизв.), претор при Траяне, отец Марка Аврелия.
… отвратительному Комм оду! — Марк Аврелий нарушил традицию усыновления и сделал императором собственного сына Луция Элия Аврелия Коммода Антонина (161–192; самостоятельно правил с 180 г.; взойдя на престол, стал называть себя Марк, но в 190 г. вернулся к имени Луций). Выбор императора-философа оказался весьма неудачным. Коммод был тупым и жестоким тираном, более всего любившим удовольствия; не считаясь с правилами поведения не то что принцепса, но и просто римского гражданина, он окружил себя цирковыми возницами и гладиаторами и даже, ко всеобщему ужасу и отвращению, сам принимал участие в гладиаторских боях.
38… Этот внук Траяна и сын Марка Аврелия… — Коммод был родным сыном Марка Аврелия, Траяну (см. примеч. к с. 17) приходился же праправнуком — и то лишь в результате цепочки усыновлений, а не по крови.
… заговор двух братьев Квинтилианов. — Ошибка Дюма. В заговоре (он имел место где-то между 181 и 183 гг.) против Коммода (об этом заговоре см. подробнее ниже) принимал участие некий Квинциан.
… у одного парфянина он научился владеть луком… — Парфяне — ираноязычный народ, живший в Парфии — небольшой области к юго-западу от Каспийского моря. Около 250 г. до н. э. это племя начало наступление на Иран, который после крушения Персидского царства и смерти его победителя — Александра Македонского — оказался в руках Селевкидов, потомков одного из полководцев Александра. К середине I в. до н. э. Парфянское государство простиралось от Междуречья до Инда. Между Парфией и Римом шли длительные и безрезультатные многовековые войны. Парфяне считались в древности непревзойденными конными лучниками.
Мавры — так в древности называли жителей крайнего северо-запада Африки — территории нынешнего Марокко.
Геродиан (ок. 170 — ок. 240) — римский историк, грек по происхождению; его "История от царствования Марка" охватывает период 180–238 гг.
39… называл себя "Геркулес, сын Юпитера". — Принятие императорами имени Геркулеса (Коммод был не единственный) — бога и человека одновременно — означало не столько присвоение пышного прозвища, сколько прямое и буквальное отождествление себя с богами. Поскольку в античных религиозных воззрениях боги не были образцами нравственности, а наоборот, их поведение не укладывалось и не могло укладываться в рамки человеческой морали (ср. римскую пословицу — "Что дозволено Юпитеру, того нельзя быку"), то бог-император как бы получал санкционированное свыше право на абсолютный произвол, несоблюдение юридических и нравственных законов. Отсюда мания убийств, кровосмешений, половых извращений при императорском дворе — то был признак божественности.
… ободренные Луциллой, свояченицей императора… — Анния Аврелия Галерия Луцилла (149–183), дочь Марка Аврелия, была родной сестрой (а не свояченицей) Коммода и женой Луция Вера (136–169), еще одного, кроме Марка Аврелия, приемного сына Антонина Пия. Луций Вер с 161 г. был соправителем Марка. После смерти отца Луцилла активно интриговала против Коммода и организовывала заговоры; была сослана на остров Капрею (соврем. Капри) и убита по приказанию брата.
… Спасайся, Квадрат, все погибло! — Прозвище Квадрат (Quadratus) означает "Коренастый".
Дион Кассий Коккеян (ок. 165–235) — римский государственный деятель и историк, грек по происхождению. Его написанная по-гречески "История" в 80 книгах охватывает период от основания Рима до 229 г.
40… все смогли вздохнуть спокойно под властью Септимия Севера. —
Луций Септимий Север (146–211) — римский император с 193 г. В Римской империи после убийства Коммода вспыхнули смуты, появилось множество претендентов на престол; в этой борьбе победил Септимий Север, наместник Паннонии, выходец из Северной Африки. Опираясь на армию, он лишил сенат всякой власти и активно преследовал многих сенаторов, так что спокойным его правление можно называть лишь в смысле отсутствия гражданских войн.
… императора отравила его любимая наложница Марция и задушил приближенный к нему атлет Нарцисс. — Коммод был убит 31 декабря 192 г.; заговор организовали наложница Коммода Марция и, если верить большинству историков, не атлет Нарцисс, а начальник императорской охраны Квинт Эмилий Лет.
… Империей завладел Пертинакс, но он позволил, чтобы через полгода у него отняли ее вместе с жизнью. — Пертинакс, Публий Гельвий (ок. 160 — 193) — римский император; был провозглашен сенатом после убийства Коммода; пытался ограничить своеволие преторианцев — императорской гвардии — и был убит ими 28 марта 193 г., т. е. менее чем через три месяца после восшествия на престол.
… Дидий Юлиан попытался купить Рим и весь мир в придачу… — Дидий Юлиан, Марк (ум. в 193 г.) — римский император в 193 г. После убийства Пертинакса преторианцы заявили, что провозгласят императором того, кто больше заплатит. Покупщиком оказался сенатор Дидий Юлиан. Септимий Север объявил себя мстителем за Пертинакса и двинул войска на Рим. Привыкшие к вольной жизни в столице, преторианцы не могли противостоять закаленным рейнским и дунайским легионам Севера, да и не хотели этого делать, ибо Дидий Юлиан так и не расплатился с ними. 1 июня незадачливый покупатель престола был убит по приказу сената, провозгласившего Септимия Севера императором. Север разоружил преторианцев, разжаловал и в буквальном смысле слова голыми выгнал из Рима; впрочем, это не помешало ему набрать новую гвардию из своих солдат.
… между Коммодом и Каракаллой мир смог перевести дух. — Септимий Север в 198 г. сделал соправителем своего старшего сына Септимия Бассиана (186–217) по прозвищу Каракалла (галльский плащ с капюшоном, воинское одеяние, любимая одежда Бассиана), а в 209 г. — младшего сына, Луция Септимия Гету (189–212). После смерти отца братья тут же поссорились, и Каракалла, которому отец еще в 196 г. дал весьма популярное в Риме имя Марк Аврелий Антонин, убил Гету прямо в объятиях их матери Юлии Домны (ум. в 217 г.). Каракалла был свиреп не более, чем его отец, но не обладал ни его полководческими талантами, ни его политической мудростью. Он демонстративно (впрочем, не он первый) не следовал традиции поведения знатного римлянина, вместо тоги носил каракаллу (отсюда и прозвище); в 212 г. издал указ о присвоении всему свободному населению Римской державы прав римского гражданства; этот указ, впрочем, прошел почти незамеченным, ибо давно уже положение римского гражданина не давало никаких гарантированных прав и свобод. Неудачи в войнах, насильственная вербовка в войска и жестокое избиение противящихся этому (например, в Александрии) вызвали всеобщее недовольство, Каракалла был свергнут и убит.
41 Сципион Назика, Публий Корнелий (ум. в 142 до н. э.) — римский государственный деятель, консул 162 и 155 гг. до н. э., великий понтифик с 150 г. до н. э.
42 Миля — здесь: римская миля (тысяча шагов), равная 1480 м.
Площадь Святого Петра — расположена в Риме перед собором святого Петра, у подножия Ватиканского холма на правом берегу Тибра, вне прежних границ древнего Рима; нынешний вид приобрела в конце XVIII в.; сегодня является частью территории государства Ватикан; с IV в. служит местом проведения главных церемоний с участием пап.
Колумбарий (от лат. columbarium — "голубятня") — хранилище для урн с прахом.
… к купальне наподобие тех, что мы еще сегодня можем увидеть в Помпеях. — Помпеи — основанный в VI в. до н. э. город близ Везувия; был полностью засыпан пеплом и камнями во время извержения Везувия в 79 г., и поэтому его сооружения прекрасно сохранились. Раскопки Помпей, более или менее случайные еще с XVI в., с 1748 г. стали планомерными и открыли храмы, общественные постройки и частные дома, в т. ч. дома богатых людей, где в центре двора — в атрии — располагался бассейн-купальня (например, в т. н. доме Юлии Фелицы, построенном в I в. до н. э.).
Сиракузы — главный город Сицилии; основан греками ок. 733 г. до н. э.
43… То был некогда описанный Данте воздух ада… — Ад, по описанию великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) в его "Божественной комедии", — это место неподвижной смерти, заполненное затхлым и тлетворным воздухом. Следует отметить, что "Божественная комедия" является одновременно и созданием гениальной индивидуальной фантазии поэта, и плодом длительной средневековой традиции описания загробного мира.
46… содержался аббатом или приором… — Аббат (от арам, "абба", или "авва" — "отец") — глава крупного католического монастыря (аббатства), которому подчинены другие монастыри; в православии аббату соответствует сан архимандрита.
Приор (от лат. prior — здесь: "старший") — глава подчиненного аббатству монастыря, либо (в самом аббатстве) заместитель аббата; в православии — настоятель.
Бонифаций VIII (Бенедетто Гаэтани; ок. 1235–1303) — папа с 1294 г.; притязал на абсолютное верховенство над светскими властями и объявил в булле (папский указ, обязательный для всех верующих) "Unam Sanctam" (лат. "Единую Святую" — буллы назывались по первым словам), что подчинение папе в делах не только духовных, но и мирских есть непременное условие спасения души… короли Венгрии и Сицилии препровождали последнего в церковь святого Иоанна Латеранского, спешившись и держа поводья его коня. — По традиции, много более древней, чем с XIV в., и постоянно оспаривавшейся государями, последние при официальных церемониях встречи с папами, например при интронизации римских первосвященников, должны были исполнять т. н. "маршальскую службу" — вести коня папы под уздцы.
Здесь имеются в виду государи Анжуйской династии Карл II (1246–1309), король Неаполя с 1284 г. (Анжуйская династия утеряла Сицилию еще в 1282 г., но продолжала претендовать на титул сицилийских королей), и его сын Карл Мартелл (ок. 1270 — 1295), в 1290 г. приобретший права на наследование венгерского престола и провозгласивший себя королем Венгрии; однако получить признание в Венгрии удалось только его преемникам.
… Власть эту они постепенно утратили после пощечины, которую папа и папство в лице их предка получили от руки Колонны. — Король Франции Филипп IV Красивый (1268–1314; правил с 1285 г.) в стремлении подчинить все сословия страны своей воле, нуждаясь в деньгах на войны и внутренние преобразования, обложил французское духовенство налогами. Это вызвало затяжной конфликт с папой Бонифацием VIII, отстаивавшим абсолютную независимость церкви от светских властей и даже господство над ними. Папа отлучил короля от церкви (по другой версии — пригрозил отлучением), и тогда Филипп отправил в Италию небольшой военный отряд, во главе которого стояли королевский канцлер и хранитель печатей Гийом Ногаре де Сен-Феликс (1260–1314) и знатный римлянин Скиарра Колонна (ум. в 1329 г.), наследственный враг рода Гаэтани, к которому принадлежал папа; по преданию, Колонна попал в плен к пиратам-мусульманам и предпочел быть рабом на галере, лишь бы не открывать свое имя: он боялся, что его могли выкупить из плена не родственники, а папа, в руки которого он тогда бы попал. 7 сентября 1303 г. французский отряд вступил в город Аланью (соврем. Ананьи; в 60 км к юго-востоку от Рима), где была летняя резиденция папы. Посланцы французского короля застали 70-летнего первосвященника одного (слуги и приближенные сбежали) в летнем дворце — на троне и в полном облачении. На требование отречься от папского престола он ответил решительным отказом, говоря, что лучше умрет в сане. Тогда Скиарра Колонна ударил наместника Христа по лицу рукой в железной латной перчатке (впоследствии он это категорически отрицал). Возмущенное такой расправой, население Аланьи изгнало французов и освободило Бонифация, но тот не перенес тяжкого унижения, сошел с ума и вскоре умер. По требованию Филиппа IV последующие папы перенесли местопребывание своего престола из Рима в Авиньон (Южная Франция).
Метелл Критский, Квинт Цецилий (ум. после 54 г. до н. э.) — римский государственный деятель, полководец, консул 69 г. до н. э.
47 Катилина — Луций Сергий Каталина (108—62 до н. э.) — римский государственный деятель, обедневший патриций; возглавил весьма разношерстное движение, ставившее целью проведение неких достаточно неопределенных социальных реформ, в первую очередь сложения долгов; после неудачи на консульских выборах поднял мятеж с целью захвата власти, был разбит и погиб в бою.
Лукулл — Луций Лициний Лукулл (117—56 до н. э.) — римский государственный деятель и полководец; одержал ряд побед на Востоке; в сенате возглавлял сторонников аристократической республики; в память поколений вошел как богач и сверхизысканный гурман.
Теренций Варрон — Марк Теренций Варрон Реатинский (116-27 до н. э.) — римский ученый-энциклопедист, друг Цицерона, автор более 600 книг; самый плодовитый из римских писателей.
Павел III (Алессандро Фарнезе; 1468–1549) — римский папа с 1534 г.; принадлежал к роду Фарнезе, герцогов Пармских.
Дворец Фарнезе — построен в 1545–1549 гг. в Риме папой Павлом III; ныне — музей.
Юлий Аттик (60—120) — римский государственный деятель, грек по происхождению, отец Герода Аттика (см. примем, к с. 48).
… Посланный императором Нервой префектом в Азию, Юлий, разрушив афинскую цитадель, обнаружил огромные сокровища. — Марк Кокцей Нерва (30/35—98) — римский император с 96 г.; избран сенатом после убийства Домициана (см. примем, к с. 19); пытался стабилизировать государство после террористического и экономически разрушительного правления своего предшественника, провел социальные реформы (снижение налогов, раздача земли неимущим). Все это вызвало волнения среди армии, расходы на содержание которой были сокращены, и Нерва, дабы избежать переворота, назначил своим наместником популярного военачальника Траяна. В республиканскую эпоху слово "префект" (букв, "начальник", "поставленный над") служило для обозначения различных невысоких руководящих должностей; в императорские времена так именовался полководец невысокого ранга.
Азия — римская провинция на западе Малоазийского полуострова. Европейская Греция в состав этой провинции не входила. Однако на деле Аттик как раз мог заниматься раскопками в афинском акрополе, ибо он был назначен наместником не в Азию, а в провинцию Ахайя, включавшую Южную и Среднюю Грецию, в т. ч. и Аттику с Афинами.
… увенчанной восклицательным знаком… — Анахронизм: современная система пунктуации появилась лишь в XVI в.
48 Аттика — полуостров на юго-востоке Средней Греции, в равнинной части которого расположены Афины и Элевсин; на северо-западе граничит с Беотией и Мегаридой.
… Подобно Карлу Великому, при виде норманнов оплакивавшему упадок Империи… — В IX — начале XI в. на Западную Европу обрушились полчища морских разбойников, выходцев из Скандинавии, именовавшихся там норманнами ("северными людьми") или викингами (слово неясной этимологии, возможно, от vik — "залив"), проникавших по рекам далеко в глубь суши и грабивших и уничтожавших все на своем пути. Стремительно слабевшие после смерти Карла Великого (см. примеч. к с. 17), государственные власти были не в состоянии справиться с ними; в храмах возносили особую молитву: "От неистовства норманнов избави нас, Господи!" Захват норманнами многих территорий и оседание на них, социальные перемены в скандинавских государствах, укрепление феодализма положили конец набегам викингов. Поздняя (X в.) легенда гласит, что скандинавские пираты подплыли к франкским берегам, но узнав, что поблизости находится сам император Карл, отплыли. Проведав об этом, Карл заплакал, сказав, что ему-то бояться нечего, любые враги дрожат при его имени, но после его кончины Империя наверняка пострадает от завоевателей с Севера.
Ритор — оратор в Древней Греции и Риме. Ораторская наука — риторика — считалась в античности не только искусством правильного выражения своих мыслей, но и обязательным элементом культуры. Герод Аттик (101–178) — знаменитый греческий ритор, учитель Марка Аврелия.
… земли, на которых стояли гробница Цецилии Метеллы, вилла Юлия и Герода Аттиков, цирк Максенция… все это принадлежало Энрико Гаэтано и находилось под командой Гаэтано дАнаньи… — Марк Аврелий Валерий Максенций (или Максентий; 279–312) — захватил во время гражданских войн в Империи в начале ГУ в. власть в Риме (306 г.); построил цирк, названный именем его скончавшегося сына Ромула (ум. в 309 г.), однако в народе это сооружение называли цирком Максенция; потерпел поражение в битве с соперником — Константином Великим — и погиб при бегстве. Указанные земли были во владении сеньоров Ананьи — Онорато (ум. в 1489 г.) и его незаконного сына Энрико (ум. в 1488 г.).
… папа Бонифаций VIII, увеличивший число жителей множеством бастардов. — Бастард — незаконнорожденный. В средние века и эпоху Ренессанса к незаконным детям относились весьма спокойно, их воспитывали вместе с законными отпрысками. Быть внебрачным представителем знатного рода не считалось постыдным. Современники упрекали папу Бонифация VIII в чрезмерной любвеобильности, по крайней мере, во времена его молодости.
49… английские лучники, остатки полчищ, так много попортивших кро ви нам, французам, в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре. — В позднее средневековье рыцарская конница постепенно вытеснялась наемниками, среди которых немалую роль играли лучники. Лук считался неблагородным оружием, и им пользовались простолюдины. Особенно популярен лук был в Англии, где он широко употреблялся в войнах с Шотландией и Уэльсом, т. к. горы в первом случае и лесистые холмы во втором не давали возможности широко использовать кавалерию. С XII в. на смену луку во многих странах приходит арбалет, но англичане остались верны старинному оружию, находя, что лук, хотя и не столь дальнобойный, как арбалет, явно был более скорострельным оружием: особо умелые стрелки выпускали 7–9 стрел, прежде чем первая падала на землю.
Во время Столетней войны в несчастных для Франции битвах при Креси (1346) и Азенкуре (1415) английские лучники градом стрел остановили атаки французских рыцарей и загнали их в неудобные места (при Креси — в болото).
В битве при Пуатье (1356), где погиб цвет французского рыцарства, а король Франции попал в плен, основную роль сыграли не столько стрелки, сколько дисциплинированность английского войска, ибо стремление французских рыцарей первыми напасть на врага породило среди них неразбериху, а удачная контратака англичан заставила их отступить; отступавшие обратились в бегство, перешедшее в панику, охватившую и тех, кто еще не вступил в бой.
… белокурые потомки Арминия… — Арминий (16 до н. э. — 21 н. э.) — вождь германского племени херусков; в 9 г. н. э. возглавил восстание германских племен, живших между Рейном и Эльбой, на территории, завоеванной римлянами в 9 г. до н. э. Арминий атаковал в
Тевтобургском лесу (место в нынешней земле Нижняя Саксония) находившееся на марше римское войско под командованием наместника зарейнской Германии Публия Квинтилия Вара. Римляне были в трехдневной битве разбиты и почти все, включая командующего, погибли. Зарейнские земли с той поры более никогда не находились под римским владычеством. Арминий, насколько можно судить, стремился к соединению германских племен и расширению своей власти над ними, скорее всего именно поэтому он был убит соплеменниками.
50 Римское экю — неточность: монета экю, первоначально содержавшая 4,5 г золота, появилась в XIII в. во Франции; римское экю вошло в обращение только в XVI в., позднее описываемых событий.
51 Паоло — мелкая итальянская монета.
Байокко — старинная мелкая папская монета.
… расплачиваются, как святая Мария Египетская… — Мария Египетская (V в.?) — святая; по легенде, в 12 лет ушла из родного дома и вела в течение 17 лет в Александрии жизнь блудницы; затем отправилась вместе с паломниками в Иерусалим, платя своим телом корабельщикам за провоз и творя блуд в самом Иерусалиме; на праздник Пасхи попыталась войти в церковь, но какая-то сила не пустила ее; вразумленная таким наказанием, дала обет жить в чистоте и отправилась в пустыню, где провела в уединении 47 лет без одежды, питаясь одними травами.
Менестрели — профессиональные певцы и музыканты в средние века.
52… по ту сторону пролива… — То есть в Англии, по другую сторону Ла-Манша.
53 Линия — единица измерения малых длин, применявшаяся во многих странах до введения метрической системы. Ее значение в разных странах колебалось от 2 до 2,8 мм (во Франции равнялось 2,25 мм).
54… будто античный охотник, которого мстительная Диана обратила в мраморное изваяние… — Диана — римская богиня растительности, родовспомогательница, олицетворение Луны; отождествлялась с греческой Артемидой, также одним из олицетворений Луны, но по главной функции — богиней охоты. Говоря об охотнике, Дюма, возможно, намекает, хотя и неточно, на миф о юноше Актеоне, который, по одному варианту, увидел богиню обнаженной, по другому — похвалялся своим охотничьим превосходством, за что был превращен в оленя и стал добычей собственных собак.
55… бога Аполлона, переодетого пастухом и сторожащего стада царя Адмета. — Аполлон — популярнейший древнегреческий бог с очень широкими и не очень определенными функциями, связанный с солнцем, искусствами, прорицаниями, бог светлого, гармоничного начала, но одновременно и жестокий губитель, стреловержец. Аполлон, согласно греческим мифам, после того как Зевс убил его сына, бога-врачевателя Асклепия (рим. Эскулапа), за то, что тот пытался воскрешать мертвых, в гневе перебил одноглазых великанов киклопов (римских циклопов), выковавших оружие Зевса — мечущий молнии перун. В наказание за это убийство Зевс осудил Аполлона на пребывание на земле в течение года простым пастухом в услужении у Адмета, царя города Феры в Фессалии, который относился к Аполлону с величайшим почтением.
56 Колизей (лат. colosseus — "громадный") — построенный в 75–80 гг. в Риме амфитеатр для гладиаторских боев и конных ристаний; вмещал 50 тыс. зрителей.
… походил на какого-нибудь Аякса или Диомеда… — Аякс Теламонид — персонаж греческой мифологии, участник Троянской войны, великан и силач; во время сражения с Гектором (см. примеч. к с. 19) метал камни.
Диомед, другой участник Троянской войны на стороне греков, вступил в борьбу с выступавшими на стороне троянцев богами — Аресом (рим. Марсом) и Афродитой (рим. Венерой) — и ранил их… Перед ними был один из тех невероятных костяков, что описал Вергилий… — Имеются в виду следующие строки поэта:
Согнутым плугом своим борозду прорезающий пахарь Дротики в почве найдет, изъязвленные ржою шершавой; Тяжкой мотыгой своей наткнется на шлемы пустые И богатырским костям подивится в могиле разрытой. ("Георгики", I, 494–497. — Перевод С. Шервинского.)
57… был центурионом при Каракалле, трибуном при Элагабале и, наконец, императором после Александра… Звали его Максимин… — Имеется в виду Гай Юлий Вер Максимин Фракиец (ок. 175 — 238), римский император с 235 г.; родился во Фракии (на территории нынешней Болгарии) в семье пастуха, по некоторым сведениям, из германского племени готов (о происхождении матери ничего не известно), которые в конце II — начале III в. начали переселяться из причерноморских степей в пределы Империи; славился огромным ростом (позднейшие сказания приписали ему уже совершенно немыслимые размеры), колоссальной физической силой, исключительной храбростью, невероятной жестокостью и абсолютной — даже когда он достиг императорского трона — необразованностью; избрал военную карьеру в 90-е гг. II в.; при Каракалле стал центурионом, т. е. командиром центурии, основного подразделения в римской армии, первоначально насчитывавшего 100 (лат. centum — "сто"), потом — 80 человек.
Государственные потрясения не мешали продвижению Максимина по службе. После гибели Каракаллы и восшествия на трон его убийцы, начальника императорской охраны Марка Опеллия Макрина (ум. в 218 г.), в борьбу за трон включилась Юлия Меса (ум. в 226 г.), сестра жены Септимия Севера Юлии Домны (см. примеч. к с. 40) и тетка Каракаллы, выдвинувшая кандидатуру своего жившего в Сирии внука, Бария Авита Бассиана (ок. 204–222), который и был провозглашен императором в 218 г. под именем Марк Аврелий Антонин Август. Расположенные в Сирии войска поддержали Бассиана, армия Макрина, отправившаяся на борьбу с мятежниками, была разбита, а сам Макрин убит.
Новый принцепс, как выяснилось, был жрецом сирийского бога Элагабала (его часто неправильно называют Гелиогабал), имя которого он официально принял. Элагабал, назначивший Максимина военным трибуном, т. е. помощником командующего легионом, попытался ввести во всей Империи культ своего бога; этот оргиастический культ был, однако, чужд всем традициям римского благочестия.
Император назначил своего двоюродного брата, также внука Юлии Месы, Алексиана Бассиана (208–235), своим наследником на постах как принцепса, так и верховного жреца Элагабала. Наследник, принявший имя Марк Аврелий Александр Север, решительно отказался служить чужому богу, и Элагабал приказал его убить, но был убит сам. Сенат постановил бросить его тело в Тибр и запретил кому-либо носить запятнанное им имя Антонин. Молодой Александр Север был прекрасно образован и пытался править умеренно, отважно воевал. Однако назначенный им легат (наместник провинции) Верхней Германии (верхнерейнские земли) Максимин Фракиец поднял мятеж, и Александр со своей матерью и главной советницей, ненавидимой многими Юлией Маммеей (ум. в 235 г.), был убит, а Максимин взошел на престол. Его правление отличалось крайней жестокостью и страшным финансовым гнетом, что вызвало восстание его собственных солдат, и Максимин погиб вместе со своим малолетним сыном и соправителем Максимом.
Большой цирк — был воздвигнут в долине между холмами Палатином и Авентином, по преданию, царем Луцием Тарквинием Древним (правил в 616–578 гг. до н. э.), однако скорее всего уже при Республике (VI–V вв. до н. э.); первоначально это было даже не строение, но приспособленная для зрелищ часть естественного рельефа; перестроен Цезарем в виде трехъярусного амфитеатра, вмещавшего, если верить современникам, до 200 тыс. зрителей; не сохранился.
Амфора — здесь: древняя мера объема жидкости — 26,26 л.
… он был убит под Аквилеей… — Аквилея — город в Верхней Италии (в Венетии) на северном побережье Адриатического моря; важный торговый центр на путях в Северную и Восточную Европу; одна из крепостей Римской империи; в 238 г. была осаждена войсками Максимина Фракийца.
… Через шестьдесят лет другой император, заявлявший, что он ведет свой род от Максимина, послал за его телом в Аквилею. — Имеется в виду Максенций (см. примеч. к с. 48), ставший императором через 68 лет после гибели Максимина. Родство этих двух правителей Рима весьма сомнительно.
… подобно Улиссу, без усилий натягивающему свой лук… — Согласно "Одиссее" Гомера, Одиссей (рим. Улисс) после десятилетнего странствования неузнанным возвратился на родную Итаку. Там царило безвластие и местные аристократы требовали от жены Одиссея Пенелопы выйти замуж за одного из них. Под видом нищего Одиссей проник на пир женихов, где над ним насмеялись. Пенелопа предложила соискателям ее руки состязание: кто лучше выстрелит из лука Одиссея, за того она выйдет замуж. Никто не мог даже согнуть лук, и лишь безвестный нищий взял его, легко натянул и наложил стрелу. Затем Одиссей перебил из лука всех непрошеных женихов.
58 Святой Георгий — по преданию, римский воин, родом из Лидии, ставший христианином и принявший мученическую смерть во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (243–313/316; правил в 284–305 гг.). С именем этого святого связана популярная в средние века легенда о спасении дочери восточного царя, отданной на растерзание дракону.
… кто-то вроде Тевтата или Тора, сына Одина. — Тевтат — галльский бог, видимо покровитель военной и мирной жизни племени. Тор — скандинавский (у древних континентальных германцев ему соответствовал Донар) бог грома, бури и плодородия, божественный богатырь, защитник богов и людей от великанов и чудовищ, сын верховного бога Одина (германского Вотана). Следует отметить, что английский лучник вряд ли мог знать имена давно забытых скандинавских (о них помнили только в Исландии) и тем более галльских богов.
59… его последний представитель почил уже в наше время в стенах монастыря Монте Кассино. — Марио Франджипани (ум. ок. 1848 г.) был представителем римской ветви этого рода; ломбардские Франджипани проживают в Италии и ныне.
Монте Кассино — один из древнейших и наиболее почитаемых монастырей Италии; основан в 529 г. на юге Апеннинского полуострова создателем монашеского ордена бенедиктинцев святым Бенедиктом Нурсийским (480–543).
60… в проходе, что ныне называют воротами святого Себастьяна. — То же, что Аппиевы ворота в Аврелиановой стене; через них проходит Аппиева дорога, в самом Риме переходящая в улицу Порта ди Сан Себастьяно.
… На вершине арки, воздвигнутой в честь побед отца Германика и Клавдия над германцами… — Друз Старший (см. примеч. к с. 34) имел двух сыновей. Старший — Нерон Клавдий Друз (см. примеч. к с. 8) был в 4 г. н. э. по приказу Августа усыновлен Тиберием, получил имя Юлий (или Гай Юлий) Цезарь Германик и сделан официальным преемником Тиберия, хотя у того был сын. Германик был одним из крупнейших полководцев того времени и чрезвычайно популярным в Риме человеком. После смерти Августа войска предлагали трон Германику, но тот отказался, не желая идти против приемного отца. Ходили упорные слухи, что Германик в случае прихода к власти намеревался восстановить республиканскую форму правления: по крайней мере, он неоднократно высказывал неодобрение режиму единоличной власти. Смерть Германика молва упорно приписывала отравлению по приказу Тиберия.
Второй сын Друза Старшего — будущий император Клавдий (см. примеч. к с. 8).
… монастыря святого Григория, что на Скавре. — Этот монастырь был построен в VII в. на виа Аппиа на месте жилища папы святого Григория I Великого (ок. 540 — 604; правил с 590 г.); нынешний вид приобрел в XVI в.
Скавр — юго-восточный откос Палатинского холма.
61 Термы Каракаллы — огромные (216 на 112 м) общественные бани, в которых одновременно могли мыться и отдыхать 1500 человек; строительство их было начато при Септимии Севере в 206 г., закончено при Каракалле в 216 г.
Большой цирк — см. примеч. к с. 57.
Триумфальная аркада — здесь, по-видимому, череда арок Тита, Септимия Севера и Константина; существовала и соединяющая их одноименная улица, проложенная в 1535 г., т. е. позднее описываемых событий.
Храм Весты — круглый храм на Бычьем форуме, построенный в I в. до н. э.; долгое время считался посвященным богине домашнего очага Весте; ныне полагают, что это был храм Солнца.
… скользнул по только что украшенной резьбой стене дома Колаццо ди Риенци… — Имеется в виду вождь римского народного движения Кола ди Риенцо (полное имя — Никколо ди Лоренцо Габрини; Кола или Колаццо — уменьшительное от Никколо, Риенцо — от Лоренца; ок. 1313–1354). Рожденный в семье римского кабатчика, этот простолюдин с профилем римских цезарей считал себя внебрачным сыном императора Генриха VII (ок. 1275 — 1313; правил с 1308 г.). С детства увлекавшийся чтением древних авторов, испытавший в молодости унизительную трагедию (один дворянин убил его брата, и это осталось безнаказанным), волнуемый бедственным положением родного города (в 1308–1378 гг. папы пребывали не в Риме, а в Авиньоне и в Вечном городе царило безвластие), Кола стал мечтать об установлении в Риме некоего нового государственного устройства, основанного на древних доблестях и социальной справедливости. Он выдвинулся как оратор, выступая перед народом одетый во что-то вроде тоги, развешивал по Городу аллегорические картины с изображением тяжкого положения Рима. Знать, которой принадлежало господствующее положение в Городе, видела в нем забавного чудака, но в полночь 19 мая 1347 г. он двинулся с толпой приверженцев и в обществе папского посланника (легата) на Капитолий, где зачитал декреты, вводившие новую систему правления. Созванное народное собрание утвердило эти декреты, Рим стал республикой, а Кола принял титул "Николай, волею всемилостивейшего Господа Иисуса Христа строгий и милостивый трибун свободы, мира и справедливости и освободитель Священной Римской республики".
Риенцо удалось организовать городское ополчение, смирить римских баронов, обеспечить правосудие и создать нормально функционирующее правительство. Но его влекла более высокая цель — объединение Италии и установление главенства Рима над всем миром. Он созвал съезд всех монархов и городов Италии (ко всеобщему изумлению, этот съезд состоялся), объявил Италию объединенной, назначил в Риме выборы нового императора, выпустил монеты с надписью "Рим — глава мира", возвел сам себя в рыцарское достоинство, причем для полагавшегося при этом ритуала омовения была использована купель, в которой, по преданию, крестился сам Константин Равноапостольный, возложил на себя корону из шести венцов и появился со скипетром и державой. Трибун явно терял чувство реальности и жил в вымышленном мире.
Народ был на его стороне, несмотря на увеличивавшиеся налоги, но знать его ненавидела, и ее стала тайно поддерживать папская курия, опасавшаяся слишком уж независимого поведения трибуна. 20 ноября 1347 г. аристократия подняла восстание, которое было подавлено, причем при подавлении погибли почти все члены семьи Колонна. Мятеж 15 декабря был более успешен. Кола бежал, долго скрывался, пока после скитаний не появился в 1350 г. в Авиньоне. Папа Иннокентий VI (Этьенн Обер; ум. в 1362 г.; правил с 1352 г.) задумал подчинить Рим своей власти и решил сделать Риенцо орудием этого замысла. Он назначил его в 1354 г. сенатором Рима (тогда это было нечто вроде главы городской администрации). В сопровождении небольшого войска бывший глава Римской республики в середине августа 1354 г. снова вступил в некогда подвластный ему город. Он сломил сопротивление баронов, казнив кое-кого из них; затем этот "строгий и милостивый трибун свободы, мира и справедливости" стал вести себя как заурядный тиран. Он правил самовластно, истощил казну, повысил налоги, окружил себя сильной охраной, однако она ему не помогла. 8 октября 1354 г. в Риме вспыхнул мятеж, руководимый уцелевшим Колонна. Риенцо пытался бежать с Капитолия, где он жил, но был схвачен и растерзан. Его обезображенный труп римская чернь с гиканьем волокла по городу, потом сожгла, а пепел развеяла по ветру.
Театр Марцелла — см. примеч. к с. 17.
Театр Помпея — первый в Риме каменный театр, воздвигнутый Гнеем Помпеем в 55 г. до н. э. До наших дней дошли лишь его развалины.
Базилика Константина — см. примеч. к с. 7.
… называемый в Италии "парадизом". — Парадиз (лат. paradisus, от прошедшего через греческий язык древнеперсидского слова "pairi-daeza" — "огороженное место") — в древнеперсидской мифологии, культовой и бытовой практике одновременно сад (первоначально — охотничий парк) и место блаженства и успокоения духа. В V в. до н. э. в значении "сад", "парк" это слово проникает в греческий язык, на рубеже н. э. в том же значении — в латынь; смысл "рай" получает в христианских текстах лишь в III в. н. э.
… цирк Нерона, роковое место, где погибло столько христиан… — Точнее: цирк Калигулы и Нерона, ибо он был воздвигнут в Ватикане (тогда — на территории вне официальной городской черты) при Калигуле и перестроен при Нероне. По преданию, во время Нероновых гонений на христиан (64 г.) в этом цирке проводились массовые избиения сторонников Христа, принимавшие вид жестокой драмы: их отдавали на растерзание диким зверям, заставляли сражаться между собой (казнимые, как правило, решительно отказывались), при наступлении темноты зрелище освещалось привязанными к столбам и подожженными живыми людьми. Некоторые античные историки утверждают, что все это происходило не в цирке, а в садах Нерона, специально открытых для публики по этому случаю.
62… Вторые назывались Равеннскими, по имени города… — Равенна —
город в Умбрии, расположенный к югу от впадения реки По в Адриатическое море; служил портом и стоянкой римского адриатического флота; в 404 г. стал резиденцией западноримских императоров, затем Одоакра.
Яникул (соврем. Монте Джаниколо) — холм на правом берегу Тибра, названный по древнему месту культа бога Януса (см. примеч. к с. 446).
… Срединные врата… были отлиты из серебра на деньги Гонория I и Льва IV. — Гонорий I (ум. в 638 г.; папа с 625 г.) прославился обширным строительством в Риме.
Лев IV (ум. в 855 г.; папа с 847 г.), святой, также известен строительством, но еще более — борьбой с арабами, пытавшимися захватить Рим с моря.
… сарацины у разграбившие город… — Сарацины — средневековое название арабов и вообще мусульман. В IX в. арабы постепенно заняли принадлежавшую Византии Сицилию, откуда совершали морские набеги на Италию; в 847 г. они сожгли и разграбили римские предместья.
Евгений IV (Габриэле Кондильяно; 1383–1447) — папа с 1431 г.; усмирил вражду между Орсини и Колонна; отрекся от многих прав главы церкви в пользу светских государей Европы; покровительствовал гуманистам и многих привлекал к себе на службу; иногда считается первым ренессансным папой.
… пятые назывались Святыми, или Юбилейными: открывали их лишь раз в полвека. — Слово "юбилей" употреблено здесь в значении, какого оно не имеет в русском языке, — "всеобщее отпущение грехов". В католической церкви существует традиция особых ("юбилейных") годов, когда чрезвычайно облегчаются условия отпущения грехов и снятия тяжких церковных кар. Впервые такой год был установлен папой Бонифацием VIII (см. примеч. к с. 46) в 1300 г., с тем чтобы он повторялся каждые сто лет; постановлениями последующих пап интервал между этими годами был сокращен сначала до пятидесяти (1349), а потом до двадцати пяти лет (1468). Клирос — возвышение в христианской церкви, на котором находятся певчие во время богослужения.
Апсида — заканчивающаяся куполом полукруглая ниша в храмах, базиликах и термах; в христианских церквах — алтарный выступ. Гроб Господень — гробница, в которой, по евангельскому преданию, был погребен Иисус Христос после снятия с креста и которую он покинул после своего воскресения.
Лоджия Благословения — открытая галерея Ватиканского дворца, откуда папа раздает благословения паломникам, собравшимся на площади Святого Петра.
… "Pangue lingua", восхитительный гимн, сложенный в 838 году епископом Орлеанским Феодосием. — Этот гимн написал ок. 798 г. придворный и соратник Карла Великого, поэт, епископ Орлеанский приблиз. с 781 г. Теодульф (ум. в 821 г.).
63 Кардинал-диакон — одна из трех категорий кардиналов (см. примеч. кс. 7). Первоначально к числу кардиналов относились епископы, пресвитеры и диаконы римских церквей и приходов, причем пресвитеры действительно служили в этих церквах, а диаконы помогали в служении. С превращением кардиналов в высших должностных лиц не только римской епархии, но и всей католической церкви кардиналы-пресвитеры и кардиналы-диаконы сохранили, однако, свои титулы в качестве почетных и исполняют священнические (например, служба) или диаконские (например, облачение служителя) обязанности в особо торжественных случаях.
… бросил индульгенцию на площадь. — Индульгенция (лат. indulgentia — "милость") — полное или частичное отпущение грехов, в позднее средневековье дававшееся исключительно папой, а также — как здесь — письменное свидетельство об этом.
64 Замок святого Ангела (Сант’Анджело) — древнеримский мавзолей на правом берегу Тибра, рядом с одноименным мостом; служил с
X в. цитаделью, а с XIV в. стал папским владением; соединен крытым переходом с Ватиканом.
… взамен белой мантии, паллия и митры из золотого газа… — Паллий (паллиум) — длинный широкий плат с изображением креста (омофор).
Газ — см. примем, к с. 13.
… облачил его в епитрахиль фиолетового цвета… — Епитрахиль — часть облачения священника, расшитый узорами передник, надеваемый на шею и носимый под ризой; фиолетовый цвет в католической обрядности полагается епископам и в данном случае является указанием на то, что папа — епископ Рима.
65 Кардинал-пресвитер — см. примем, к с. 63.
Субдиакон (в православии — иподиакон) — помощник диакона, также пребывающий в диаконском сане; в римских церквах, где диакон — кардинал, исполняет повседневные диаконские обязанности. "Mandatum novum do vobis" (лат. "Заповедь новую даю вам") — Иоанн, 13: 34; слова из католического песнопения на Великий (Страстной) четверг.
Камерарий — служитель папских покоев.
Стихарь — священническая одежда по образцу античного хитона: прямая, длинная, с широкими рукавами; название происходит от гр. stihos — "стих", "строка", "прямая линия".
Медаль — в средние века и в начале нового времени памятный знак круглой формы, похожий на современную медаль, но обычно больший по размеру и не обязательно предназначенный для ношения (хотя медали иногда носили на шее на цепи); на папских медалях выбивался профиль первосвященника, его имя, дата выпуска и год его правления (понтификата).
… деяние Иисуса, омывшего ноги апостолам. — Согласно Евангелию (Иоанн, 13: 3-17), Иисус накануне Тайной вечери омыл ноги своим ученикам, сделав это в знак смирения и служения. Обычай омовения папой ног нищим в Великий четверг сохраняется доныне в католической обрядности; до середины XIX в. тот же ритуал в этот день проводили католические монархи.
66… Отправляйтесь же в мой Венецианский дворец. — Венецианский дворец — резиденция Венецианской республики при папском дворе, с 1815 г. — здание посольства Австрийской империи при папе, ныне — музей.
Папа говорит "мой дворец", ибо именно он, принадлежавший к знатной венецианской фамилии Барбо, заказал проект этого дворца.
Джулиано да Майано (1432–1490) — знаменитый итальянский архитектор, по проекту которого был построен Венецианский дворец.
Юлиева ограда (Saepta Julia) — воздвигнутый по велению Цезаря на Марсовом поле портик, в котором должно было проходить голосование в народном собрании (огороженное место для голосования, именовалось у римлян saepta — "ограда", "плотина", "запруда").
… К тому времени дворцов Баччоли, Памфили, Альтиери и Буонапарте еще не было… — Упомянуты знатные итальянские семьи, известные с конца XV в. и выстроившие себе дворцы в Риме в течение XVI в.
Относительно рода Буонапарте следует отметить, что он возводил свое происхождение к XI в., но первые документы с его упоминанием относятся в концу XV в.; сведения о том, что некая ветвь этого рода переселилась на Корсику в 1512 г., появились лишь в XIX в., когда отпрыск корсиканских Буонапарте стал императором Наполеоном I, и довольно ненадежны.
… в подражание Цезарю устроил богатую трапезу для всех жителей Рима. — По римским обычаям, победоносный полководец-триумфатор должен был после официальных торжеств устраивать за свой счет угощение для жителей Рима. Здесь имеется в виду роскошный пир, данный римлянам Цезарем в 46 г. до н. э., когда пиршество продолжалось четыре дня подряд, после чего был устроен еще особый день отдыха.
… став папой, он хотел было принять имя Формоз… — Обычай менять имя при восхождении на папский престол впервые возник в X в., когда Оттавиано (937–963), сын одного из римских баронов, в то время правивших Вечным городом, стал папой в 955 г. и назвал себя Иоанном, получив известность как папа Иоанн XII. Объяснения этого действия отсутствуют, гипотезы многочисленны и в одинаковой степени неубедительны. Однако обычай привился и с тех пор нарушался только один раз: кардинал-архиепископ Утрехтский, голландец Адриан Флоренс Бойенс (1459–1523), взойдя в 1522 г. на папский престол, принял имя Адриан VI.
На папском престоле был первосвященник с именем Формоз (лат. formosus означает "изящный", "прекрасный") — римский папа с 891 по 896 г. Через несколько месяцев после смерти Формоза тело его было вытащено из гробницы, осквернено и сброшено в Тибр… жадный до новизны ум и бесстрашное сердце Пьетро Барбо… — Пьетро Барбо — мирское имя Павла II.
… подобно Прометею, Эдипу или Оресту удостоился сокрушительного гнева богов. — По античным религиозным воззрениям, нарушитель установленного богами порядка подлежит непременному наказанию, при этом, в отличие от монотеистических религий, богоборец не обязательно воплощает в себе зло, нарушение указанного порядка может происходить и по неведению.
Прометей похищает огонь из мастерской бога-кузнеца Гефеста и передает его людям, помогая им, беззащитным перед холодом и дикими зверями; за это он прикован к скале где-то в Кавказских горах и ежедневно насылаемый Зевсом орел-стервятник терзает его печень.
Эдип, которому было предсказано, что он убьет отца и женится на матери, стремится избежать пророчества, и именно поэтому пророчество свершается: он бежит от тех, кого считает отцом и матерью (на деле — это приемные родители), на пустынной дороге убивает некоего незнакомца, поссорившись с ним, и, освободив город Фивы от чудовища Сфинкса, женится на вдовствующей царице этого города; когда же выясняется, что убитый и царица — его отец и мать, он ослепляет себя.
Орест, сын микенского царя Агамемнона и Клитеместры (Клитемнестры), мстит матери за то, что она вместе с любовником — братом Агамемнона Эгисфом — убила своего мужа, и убивает обоих; за матереубийство его преследуют богини мести (эринии).
Характерно для античной религиозности, что страдания героев есть путь восстановления космического равновесия, так что судьбы их в итоге меняются к лучшему: Прометея в конце концов освобождает Геракл; Эдип после смерти становится покровителем Аттики — полуострова, на котором расположены Афины; Ореста оправдывает суд под председательством самой Афины, и именно ее голос решает дело.
68… Так ты Каин? — Согласно Писанию, Господь объявил Каину, убившему брата Авеля, что тот будет изгнанником и скитальцем на земле (Бытие, 4: 12), а чтобы Каин влачил наказание как можно дольше, "сказал ему Господь Бог: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его" (Бытие, 4: 15).
Этот знак — "каинова печать" — интерпретировался по-разному: как особое сияние, а чаще — рог или рога; позднее возникает поверье, что "каинова печать" — особое родимое пятно на лбу, круглое или зигзагообразное.
… Каина умертвил племянник его Ламех. — О смерти Каина существовал ряд легенд, наиболее популярны из них были две. Согласно первой, слепой Ламех (по одной генеалогии — Бытие, 4: 17–18, — прямой потомок Каина в пятом колене, по другой — Бытие, 5: 3-25, — потомок Сифа, брата Каина в седьмом колене: так толкуется фраза "отмстится всемеро") по указанию сына, принявшего Каина за зверя из-за рога у него на лбу, убивает его стрелой из лука. По другой версии, Каин погиб во время всемирного потопа.
69… подобно Энкеладу, титану, не до конца поверженному, при каждом движении, каждом вздохе я погружаюсь в пучину страданий! — Энкелад — в греческой мифологии гигант (один из сыновей богини земли Геи и бога неба Урана; титанами называли сыновей Кроноса — сына Урана — и богини Реи); во время битвы богов с гигантами — гигантомахии — был поражен Афиной, которая обрушила на него остров Сицилию; Энкелад не погиб, но лишь придавлен, и его попытки высвободиться, по античным поверьям, вызывают землетрясения.
… где рычит Харибда и воет Сцилла… — По античным преданиям, существует некий пролив, преодолеть который невозможно (лишь однажды это сделал Одиссей), ибо на одном берегу его в пещере в скале живет чудовище Сцилла (Скилла), двенадцатилапое, с шестью собачьими головами, с тремя рядами зубов в каждой пасти, а близ другого берега — страшный водоворот Харибда.
Кайманы — пресмыкающиеся семейства аллигаторов, отряда крокодиловых, длиной до 5 м; их панцирь защищает не только спину, как у других крокодиловых, но и живот; обитают в Центральной и Южной Америке.
Сорренто — город в Италии, на юго-восточном берегу Неаполитанского залива.
… загорелся лес в Индии — из тех баобабовых лесов, где одно дерево как целая роща. — Баобабы, стволы которых достигают в диаметре 40 м, произрастают в Африке. Дюма, вероятно, имеет в виду индийское дерево баньян: его высота доходит до 30 м, а крона, поддерживаемая столбовидными воздушными корнями, может занимать до 500 кв. м.
…на острове Ява есть дерево, сок и даже сень которого смертельны для всего живого… — Имеется в виду анчар.
… В озерах тогда еще неизвестной Старому Свету Океании… клубятся несметные множества сплетенных змей… — Океания — совокупность островов в южной части Тихого океана — стала известна Европе в XVI в., и открытие ее завершилось лишь в первой половине XIX в.
Следует отметить, что ядовитые змеи в Океании не водятся.
70… волосы Медузы… — Из трех чудовищ античной мифологии, сес тер горгон, крылатых, покрытых чешуей, с клыками, со змеями вместо волос, проживавших на крайнем западе земли у берегов реки Океан, две старшие — Сфено и Эвриала — были бессмертными, младшая — Медуза — смертной.
Мыс Доброй Надежды — расположен на юге Африки. Обогнув его в 1486 г., португальские мореплаватели убедились в том, что африканский континент можно обойти по морю (по представлениям многих античных и средневековых географов, Африка есть лишь выступ огромного неведомого Южного континента, простирающегося до полюса), а значит, достичь Индии. Поэтому первоначальное название его — мыс Бурь — было вскоре заменено на мыс Доброй Надежды, т. е. надежды добраться до Индии.
Аспид — здесь: представитель аспидов, семейства ядовитых змей, к которым относятся, например, кобры.
Лагуна — неглубокий водоем, отделенный от основного водного массива (моря, озера) узким проливом.
… разорвали бы в клочки Геркулеса, Антея, Гериона. — Антей — великан античной мифологии, сын бога морей Посейдона и Геи, богини Земли; жил в Ливии, где уничтожал чужеземцев, вызывая их на бой; обладал необоримой силой, но лишь когда приникал к матери — Гее, т. е. Земле. Геракл задушил Антея, подняв его в воздух. Герион — в греческой мифологии великан с тремя туловищами и тремя головами. Убийство Гериона и похищение его коров — один из подвигов Геракла.
72… оттолкнул мученика, бредущего к Голгофе. — Голгофа (др. — евр. — gulgolet — "череп", ср. "Лобное место") — круглый холм к северо-западу от Иерусалима в районе пригородных садов, ставший местом казни Христа. Позднейшие легенды связали его название с тем, что там был захоронен череп Адама, так что грехопадение и искупление произошли как бы в одном месте.
В 336 г. на этом холме возвели церковь, позже сгоревшую и неоднократно восстанавливавшуюся. Современные церковные здания построены там в начале XIX в.
73… Иерушаль-Айм… значит "образ мира"… — Традиционную этимологию имени Иерусалима производили от др. — евр. "йерш" — "основание" и "шалом" — "мир" и переводили название как "обитель мира". Современные филологи считают, что вторая часть названия произошла от "Шульману" или "Шалем" — имени местного доеврейского божества.
… Моисей мечтал основать здесь столицу своего кочевого народа. — Моисей — согласно Ветхому завету, первый пророк бога Яхве,
основатель его религии, законодатель, религиозный наставник и политический вождь еврейского племени. Возмущенный судьбой своего народа, угнетенного в Египте, добился его освобождения и повел в Палестину (т. н. Исход). Ведомый Моисеем народ 40 лет скитался по пустыне Синайского полуострова, где на горе Синай Моисей получил непосредственно от Господа заповеди иудейской религии; умер до вступления в Ханаан, лишь с вершины горы увидев Землю обетованную. По мнению современных ученых, указанные в Библии события могли происходить в 1305–1230 гг. до н. э. (по другим данным — в XIV в. до н. э.).
… во времена плена он сулил им цветущую страну Ханаанскую… — Ханаан (др. — евр. "кина’ну" — "красный") — древнееврейское название Восточного Средиземноморья, включающего Сирию, Финикию и Палестину.
… что заставило его просить законы для них у самого Иеговы… — Иегова — принятое с позднего средневековья прочтение имени иудейского и христианского бога. В иудаизме существовал жесткий запрет на произнесение всуе его имени; там, где в письменном тексте стояло священное имя Яхве (YHWH, видимо, от глагола hwh — "быть", т. е. "Сущий") вслух произносилось "Адонай", т. е. "Господь". Дабы исключить случайное святотатство, с VII в. стали над именем Бога ставить гласные слова "Адонай"; отсюда, после определенных перемен в артикуляции, возникло чтение "Иегова".
… чтобы город Иисуса… предшествовал Риму времен Ромула и пережил Рим святого Петра… — Традиционная дата основания Рима — 753 г. до н. э.; по археологическим данным, поселение в районе римских холмов существовало уже в X в. до н. э. Иерусалим не моложе XIV в. до н. э.
Возможно, в этой фразе содержится намек на грядущее объединение Италии и провозглашении Рима ее столицей — идею, которая в 1853 г. (год публикации романа) уже звучала, но еще не была воплощена.
74… Когда город падает под ноги победителю Навуходоносору, они клей мят его прозвищем блудницы вавилонской. — Вавилонский царь Навуходоносор II (Набу-кудурри-уцур; ум. в 562 г.; правил с 605 г. до н. э.) в 586 г. до н. э. (называются и иные даты, например 597 г. до н. э.) взял штурмом и разрушил Иерусалим; значительная часть населения была переселена в Междуречье (т. н. Вавилонское пленение).
… Стоит ему подняться с колен благодаря мечу Маккавеев, они величают его девственницей сионской! — Иудея с 539 г. до н. э., после разгрома персами Вавилонского царства, вошла в состав Персидской державы.
В 332 г. до н. э. Иерусалим был завоеван Александром Македонским, а после его смерти и распада империи находился в государстве Селевкидов.
В 168 г. до н. э. в Иудее вспыхнуло восстание против царя Антиоха IV Эпифана (см. примеч. к с. 94), запретившего соблюдение всех иудейских религиозных обрядов и обязавшего приносить жертвы языческим богам. Это восстание возглавил священник Матгафий Хасмоней и пять его сыновей. В 166 г. до н. э. он умер и во главе движения встал его третий сын, Иуда, по прозвищу Маккави ("
Молот"), которое стало фамильным именем Хасмонеев. В 160 г. до н. э. он взял Иерусалим, но сам пал в бою. Его сменил самый младший из братьев — Ионафан, ставший первосвященником и убитый в 143 г. до н. э. В 141 г. до н. э. второй сын Маттафия — Симон (ум. в 134 г. до н. э.) провозгласил себя первосвященником и князем, основав династию (с 106 г. до н. э. — царскую) Маккавеев (Хасмонеев). Сион — холм в Иерусалиме, где был дворец царя Давида и храм. Ныне на месте дворца — мечеть Аль-Акса, а храма — мечеть Омара… И пойдут многие народы… — Исайя, 2: 3–4.
… взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева… — Богом Иакова пророки называли Яхве потому, что до Моисея евреи не имели Закона, а праотцы (Авраам, Исаак, Иаков) общались с Богом непосредственно.
… Давид, помазанник Божий, отстраивает его стены… — Давид (ок. 1034 — 965 до н. э.) — царь Израиля с 1004 г. до н. э.; захватил у ханнанского племени иевусеев (см. примеч. ниже) укрепленный город на горе Сион — Иерусалим — и сделал его своей столицей, перестроив стены города, усилив его защитную мощь. Давид вошел в легенды и предания как государь-воитель во имя Господа, прообраз боголюбивых царей. Он задумал построить храм Яхве, но через пророка Нафана ему была сообщена воля Бога: т. к. Давид слишком много проливал кровь, то храм дано будет воздвигнуть не ему, а его сыну, миротворцу Соломону.
… Соломон, любимый Господом, возводит храм. — В память поколений царь Израиля Соломон (см. примеч. к с. 32) вошел как величайший мудрец всех времен. При нем был воздвигнут храм Яхве, строившийся, по Писанию, семь лет.
Провиденциально — здесь: в соответствии с божественным замыслом, в широком смысле — с заранее заданной целью.
… Когда Иисус Навин в трехдневной битве при Гаваоне разбил пять царей и солнце замедлило свой бег… — Иисус Навин (Иешуа бен-Нун) — предводитель израильских племен, преемник Моисея. Его собственное имя было Осия, но Моисей заменил его на Иешуа, сокращенное от Иегошуа — "Бог-помощь". Под его водительством евреи вступили в Землю обетованную и завоевали большинство основных городов Ханаана.
Согласно Писанию, племя иевусеев из города Гаваона (располагался, вероятно, к северу от Иерусалима) заключило мир с евреями; напуганные этим, пять царей из западносемитского народа амореев вступили в союз и дали бой Иисусу Навину; тот воззвал к Господу, и Яхве дал Навину победить врагов, причем для завершения битвы над местом ее по молитве Иисуса Навина Солнце и Луна остановили свое движение.
… один из поверженных монархов отступил на вершину горы и укрепился там. Звали его Адонисек, а гору — Сион. — Одним из сражавшихся против Иисуса Навина царей был Адонисек, царь Иерусалима. После битвы он укрылся в пещере (а не в Иерусалиме, как у Дюма), но был схвачен и казнен. В Писании ничего не говорится о взятии Иерусалима в то время.
… Племя, подвластное ему, называлось иевусеями, потомками Иевусея, третьего сына Ханаанова. — По мнению толкователей Библии и современных ученых, иевусеи (основателем племени считался Иевусей, сын Ханаана, внук Хама; название племен или территорий по именам родоначальников или завоевателей и, наоборот, объяснение названия через имя, иногда вымышленное, — весьма распространенная традиция у самых разных народов) сохранили определенную автономию и свой город до завоевания Давидом.
… Послушайте Тацита… — Публий Корнелий Тацит (ок. 58 — ок. 117) — римский историк. Основные его сочинения — "Анналы", охватывающие римскую историю 14–68 гг., и "История", посвященная периоду 69–97 гг. Нижеследующая цитата представляет собой соединение двух фрагментов "Истории" (V, 11 и V, 12).
… Лдонисек был уверен в своей безопасности. — Видимо, ошибка Дюма. Адонисеком звали царя Иерусалима, сражавшегося с Иисусом Навином (см. примеч. к с. 74); судя по всему, во времена Давида царя над Иерусалимом уже не было. В Ветхом завете, где описывается взятие Иерусалима Давидом (2 Царств, 5), приводится лишь процитированная Дюма ниже фраза о слепых и хромых (ср. 1 Паралипоменон, 11: 5).
…На этот призыв откликнулись тридцать сильных мужей Израилевых… — Израиль (видимо, др. — евр. "Бог господствует") — по Библии имя, которое получил от Господа праотец Иаков после того, как он боролся с Богом (Бытие, 32: 28). Выражение "Израиль", "сыны Израилевы" перешло на его потомство и весь еврейский народ, а также на территорию, занятую этим народом после Исхода.
… правой рукой Давида стал Иоав, жестокий воин, который в лице Иевосфея изведет род Саула, умертвит Авенира и пронзит тремя стрелами сердце Авессалома, сына своего повелителя. — Иоав — согласно Писанию, племянник Давида, сын его сестры.
Саул — первый царь Израиля (правил в 1030–1004 гг. до н. э.); как повествует Первая книга Царств, он жестоко завидовал популярному воину и военачальнику Давиду и преследовал его, вынуждая вести жизнь изгнанника и разбойника. К Давиду стали стекаться его приверженцы, среди которых был и Иоав. Им удалось укрепиться в городе Хеврон, где Давид был провозглашен царем.
После того, как Саул и трое его сыновей погибли от рук филистимлян, врагов Израиля, военачальник Авенир провозгласил царем Иевосфея, единственного оставшегося в живых сына Саула. Иевосфей вскоре был убит, но не Иоавом, а своими приближенными (2 Царств, 4). Еще до этого Авенир, поссорившись с Иевосфеем, начал переговоры с Давидом, однако во время их был предательски убит Иоавом, действовавшим по побуждениям кровной мести: брат Иоава был в сражении убит Авениром (2 Царств, 1–3). За взятие Иерусалима Иоав был назначен верховным военачальником и сохранил этот пост до смерти Давида (1 Паралипоменон, 11:6).
Когда Авессалом, сын Давида, поднял восстание против отца, тот повелел Иоаву разбить войска Авессалома, но пощадить его жизнь; Иоав же собственноручно убил Авессалома уже после битвы.
В смерти потомков Саула он, впрочем, не виновен: внуков Саула от его дочерей Давид сам приказал умертвить, внука же от его сына Ионафана, Мемфивосфея, наоборот, приблизил к себе. После смерти Давида Иоав, выступавший за переход престола к Адонии, брату Соломона, был убит по приказу последнего (3 Царств, 2: 28–34).
… Саул был наказан за то, что помиловал амалекитян и их вождя. — Саул разбил кочевое племя амалекитян, обитавших в Заиорданье, и пленил их царя Агага, но оставил в живых пленных амалекитян и их вождя. Господь устами пророка Самуила выразил гнев свой за это и, хотя Саул принес всех пленных в жертву, объявил, что отбирает у него царство и передает достойнейшему, т. е. Давиду (1 Царств, 15).
… Восстают цари земли… — Цитата составлена из различных отрывков Псалтири (2: 2–3; 17: 33, 38–39, 43, 45–46).
76… Давид овладел великолепным укрепленным местом, охраняемым тремя горами: Сионом, Акрой и Мориа… — Акра — холм в Иерусалиме к западу от храма.
Мориа — холм рядом с Сионом, чуть севернее его; основная часть храмового комплекса была как раз на нем.
…на востоке — глубокая долина Иосафата, по которой течет Кедрон, на юге — крутой склон Хинном, на западе — Долина мертвых. — Долина Иосафата обычно отождествляется с долиной Кедрона. Предполагается, что она названа в честь иудейского царя Иосафата (правил в 873–849 гг. до н. э.). В Писании долина Иосафата впервые упоминается в Книге пророка Иоиля (3: 2, 12), причем в таких выражениях, что неясно, имеется ли в виду конкретное место или пророческий символ; считается, что именно в Иосафатовой долине будет происходить Страшный суд.
Кедрон — горный поток, несущий свои воды в Мертвое море. Хинном (др. — евр. Ге-Хинном, т. е. долина Хинном; Геенна) — в иудаизме и христианстве символическое обозначение ада, места гибели грешников и места их наказаний. В долине Хинном к юго-западу от Иерусалима некогда находился жертвенник, где местные племена приносили в жертву детей. Царь Иудеи Иосия (ум. в 609 г.; правил с 640 г. до н. э.) ок. 620 г. до н. э. повелел уничтожить языческое капище и превратить это место в свалку нечистот и непогребенных трупов.
… его брали приступом Навуходоносор, Александр Великий, Помпей, Тит и Готфрид Бульонский. — О взятии Иерусалима Навуходоносором и Александром Македонским см. примеч. к с. 74.
Помпей Великий (см. примеч. к с. 19) в походе на Восток разбил Митридата (см. примеч. к с. 37) в 66 г. до н. э., покорил Сирию и положил конец царству Селевкидов в 65 г. до н. э., завоевал Иудею, взяв штурмом Иерусалим в 63 г. до н. э.
В 66 г. н. э. в Палестине вспыхнуло антиримское восстание (Иудейская война 66–73 гг.); при подавлении его сын императора Веспасиана, будущий император Тит (см. примеч. к с. 34), взял в 70 г. Иерусалим после длительной осады и разрушил храм Яхве, никогда более не восстанавливавшийся.
Во время первого крестового похода, в 1099 г., Иерусалим захватили войска крестоносцев, одним из руководителей которых был герцог Нижней Лотарингии Готфрид Бульонский (1060–1100), избранный в том же году правителем созданного крестоносцами Иерусалимского королевства (Готфрид отказался от королевского звания, заявив, что "негоже носить королевский венец там, где Спаситель носил терновый", и принял титул "защитник Гроба Господня").
… Давид, едва успев вложить окровавленный меч в ножны, берет арфу, чтобы возблагодарить Господа… — Согласно традиции, Давид был автором большинства библейских псалмов, выдающихся памятников древневосточной религиозной поэзии. В древности стихи не декламировали, а распевали под музыкальное сопровождение, поэтому Давид в христианской живописи (иудаизм запрещает изображения) часто предстает с арфой.
… теократических и жреческих цивилизациях Востока. — Теократия (букв. гр. "боговластие") — система правления, при которой монарх является одновременно верховным жрецом.
… Индия уже впала в дряхлость… — Представления об истории Древней Индии были в XIX в. весьма неполными и неточными. С одной стороны, лишь в середине XX в. стало известно о существовании аборигенной, т. н. протоиндийской цивилизации, знавшей города и письменность, возникшей в середине III тыс. до н. э. и пришедшей в упадок в середине II тыс. до н. э. С другой стороны, древность собственно индийской цивилизации, созданной пришедшими с Иранского нагорья в середине II тыс. до н. э. (возможно, протоиндийские города погибли из-за этого вторжения) кочевниками-арьями, сильно преувеличивалась. На самом деле в XI–X вв. до н. э., в эпоху Давида, эта цивилизация только начинала свой блистательный путь, именно тогда возник древнейший письменный памятник индоарьев — "Ригведа", а первое обширное государство Древней Индии — Магадха — образовалось лишь в VI в до н. э. Дюма излагает здесь картину индийской истории, далекую от действительной: имена правителей и названия династий искажены до неузнаваемости, хронология не соответствуует ни реальности, ни сказаниям.
Бардты — это, видимо, бхараты, легендарный род, основателем которого был Бхарата; прославлены в древнеиндийском эпосе "Махабхарата" ("Великая война потомков Бхараты"). В древности Индия называлась "страна бхаратов", нынешнее ее называние на хинди — Бхарат. Однако бхараты, по преданиям, были не древнейшей династией, а ветвью одной из двух легендарных династий — "Лунной".
Чандры — видимо, легендарная древнеиндийская династия, именуемая по-индийски "чандра-ваньча", т. е. династия Чандры (одно из имен бога Луны), иначе — "Лунная".
Джадустеры — можно предположить, что это искаженное слово "шурья-ваньча", "Солнечная династия". Эта династия наряду с лунной и одновременно с ней (но не последовательно!) правила Индией в некие мифологические времена. Хотя многие правители разных частей Древней Индии (полного единства Индия не знала до завоевания англичанами в XIX в.) возводили себя к Солнечной или Лунной династии, мы до сих пор не можем быть уверены в их реальном существовании.
… Египет, дитя Эфиопии… — В данном случае под Эфиопией подразумевается не современное государство с тем же названием, а то, что так именовали греки, — территория, расположенная по Нилу выше порогов, нынешний Судан (египтяне назвали эти земли Страной Куш). Хотя раскопки XX в. действительно показали, что истоки древнеегипетской цивилизации лежат в культуре всей долины Нила V–IV тыс. до н. э., считать именно Страну Куш колыбелью
Египта неверно: лишь в 715 г. до н. э. выходцы из Эфиопии захватили трон фараонов и удерживали его до 671 г. до н. э. Древние эфиопы тогда уже не отличались по культуре от египтян и использовали, во всяком случае в сфере управления, древнеегипетский язык.
… Греция затем овладевает египетским наследством… — Опираясь на высказывания древнегреческих философов и историков, считавших Египет родиной вековой мудрости, ученые XIX в. сильно преувеличивали влияние древнеегипетской цивилизации на Элладу.
… двадцать четыре династии и пять сотен правителей… — Неточность: в начале III в. до н. э. в птолемеевском Египте местный жрец Манефон написал по-гречески дошедшую до нас лишь в цитатах и пересказах "Египетскую хронику", где применил сохранившуюся доныне периодизацию истории его страны с делением на три царства — Древнее, Среднее и Новое — и 30 династий (во времена Давида правила XXI-я династия). Всего Манефон насчитывает 497 правителей Египта (до нас дошло 120 названных им имен), но это не очень надежные сведения.
… возвели Фивы, Элефантину, Мемфис, Гераклею, Диосполис… — Дюма (не везде правильно) называет греческие имена древнеегипетских городов.
Фивы (см. примеч. к с. 8) эллины первоначально именовали Диосполисом (так что последний из перечисленных — никак не отдельный город), т. е. "Божьим городом", видимо, потому, что сами египтяне называли свою столицу также Пер-Амун, т. е. "Дом Амона", сначала бога-покровителя города, потом — верховного бога египтян. Элефантина (гр. "слоновья") — название города Иба, расположенного у первого порога Нила; долгое время был крепостью на южной границе Египта.
Мемфис — искаженное греками название города Минфи (Мен-Нофр), основанного на границе долины Нила и его дельты на рубеже IV и III тыс. до н. э.; древняя столица Египта приблизительно в 2800–2000 гг. до н. э.
Дюма спутал Гераклею (в древности в связи с популярностью культа Геракла существовало несколько городов с таким названием) с Гераклеуполем, городом, по-египетски называвшимся Хининси; правители этого города в XI в. до н. э. претендовали на власть над всем Египтом.
… Египет, создавший Анубиса, Тифона и Осириса, богов с головами собаки, кошки и ястреба… — Анубис (гр. форма имени; егип. Ануп или Инпу) — древнеегипетский бог-покровитель умерших, водитель душ мертвых; изображался с головой собаки или шакала. Тифон — в древнегреческой мифологии чудовище с головой (или множеством голов) дракона, корпусом человека и змеиным хвостом. Греки называли Тифоном также древнеегипетского бога Сета (Сетха, Сутеха), бога пустыни и чужих стран, олицетворение зла, убийцу своего брата Осириса. Сет изображался с головой осла. Осирис (егип. Усир) — бог производительных сил, царь загробного мира; изображался только в виде человека (иногда — человеческой мумии), но его священным животным был бык Апис (Хапи), являвшимся также олицетворением Нила. При Птолемеях эти божества слились в одно — Серапис, изображавшееся, впрочем, в греческом стиле как мужчина средних лет.
Кошка в Древнем Египте почиталась как священное животное богини радости и веселья Бает (Бастет). Сама Бает изображалась в виде женщины с кошачьей головой.
Ястреб (точнее — сокол) был атрибутом бога Гора (Хора), изображавшегося в виде сокола, человека с головой сокола или солнечного диска с соколиными крыльями; Гор — солнечный бог, победитель сил зла. Мифология Гора запутана и противоречива: он одновременно считался сыном верховного солнечного бога Ра и сыном Осириса и Исиды, мстителем за убитого отца.
… Египет… с его аллеями пилонов…и стадами сфинксов… — Пилоны — сооружения в форме усеченной пирамиды, воздвигавшиеся перед древнеегипетскими пирамидами по обе стороны входа.
Под сфинксами здесь имеются в виду древнеегипетские изображения существ с телом льва и головой человека, реже — барана.
… фараона Аменофиса с его мощным войском, посмевшего преследовать избранный Богом народ, поглотило Чермное море… — Во время Исхода из Египта евреи должны были перейти Чермное (т. е. Красное) море, точнее — Суэцкий залив, чтобы выйти на Синайский полуостров. По просьбе Моисея и велению Бога ветер отогнал воду, и евреи пошли посуху; когда же преследующие их колесницы фараона вступили на обнажившееся дно, ветер переменил направление и вода накрыла преследователей (Исход, 14: 21–28). Подобный феномен, хотя и не в таких масштабах, как это описано в Библии, был известен еще древним географам.
Имя фараона-преследователя в Библии не названо; Дюма именует его Аменофисом — так в XIX в. читали имя Аменхотепа II (правил в 60-е гг. XIV в. до н. э.).
… мертвецы сохраняются нетленно с тех пор, как там есть мертвецы… — Имеется в виду обычай мумифицирования.
77… пришла и расцвела во всей мощи Ассирия. — Ассирия — древнево сточная держава, расположенная в долине среднего течения Тигра; возникла в III тыс. до н. э. История Ассирии делится на три периода: древнеассирийский (XX–XVIII вв. до н. э.), в конце которого Ассирия (впрочем, названия этого тогда еще не существовало) попала под власть соседей; среднеассирийский (XV–XI вв. до н. э.), когда Ассирия стала мощным военным государством, и новоассирийский (X–VII вв. до н. э.), когда, после упадка XI–X вв. до н. э., т. е. как раз во время правления Давида и его ближайших преемников, Ассирия превратилась в гигантскую военную империю, включавшую Междуречье, Сирию, Палестину, юг Иранского нагорья и Малой Азии. …На севере Ассур, сын Сима, основал Ниневию… — Здесь и ниже Дюма следует Писанию (Бытие, 10, 11 и 22) и поздним античным авторам, которые нередко рационализировали древние мифы, представляя местных, в данном случае месопотамских, богов как исторических личностей, древних царей.
Ассур (правильнее: Ашшур) — бог-покровитель одноименного города, первоначально, видимо, называвшегося "храм бога Ашшура", позднее — всей Ассирийской державы. Город этот был сначала городом-государством, а в XV–VIII вв. до н. э. — столицей Ассирии. Сим — согласно Писанию, старший сын праотца Ноя; позднейшие ученые, опираясь на Библию, произвели термин "семиты".
Ниневия как поселение известна с V тыс. до н. э.; в III тыс. до н. э. — это уже город, но столицей Ассирийской державы она стала лишь в конце VIII в. до н. э., т. е. уже после описываемого периода — правления Давида и Соломона. Этимологически название ее неясно. Предполагается, что это слово из языка хурритов, аборигенного населения Верхней Месопотамии (существует гипотеза, что они были отдаленно родственны северокавказским этносам), которые к III тыс. до н. э. ассимилировались восточносемитскими племенами. …на юге Нимрод, внук Хама, выстроил Вавилон. — О Нимроде нам известно только из Библии (Бытие, 10: 8-10), но там ничего не сказано об основании им Вавилона, а говорится лишь о том, что этот город, в действительности известный с XXV в. до н. э. и ставший в XVIII в. до н. э. столицей сильного государства, входил в состав владений Нимрода.
Хам — средний сын Ноя, проклятый им за то, что он, увидев наготу своего опьяневшего отца, насмеялся над ним. Позднейшие ученые изобрели этноним "хамиты", первоначально обозначавший все темнокожие этносы Африки, потом, с XIX в. — ряд народов Северной Африки: Эфиопии, Судана, Сахары. Ныне в этнографии этот термин не употребляется.
… Ниневия, которую, дав ей свое имя, расширил и укрепил сын Бела… — Согласно античным писателям, основателем и Ассирийского царства и Ниневии был Нин, сын Бела. Здесь, видимо, проявились отзвуки шумерского (шумеры — древнее население Южной Месопотамии, создатели одной из древнейших цивилизаций, народ неясного происхождения; к описываемому времени полностью ассимилировались семитскими этносами) слова "нин" — "господин" и семитского "бел", "балу", означающего то же самое. Эти слова в обоих языках прилагались к именам богов.
… Финикии от роду лишь несколько столетий. — Финикия — прибрежная полоса в Восточном Средиземноморье в районе нынешнего Ливана, севера Израиля и юга Сирии; ее жители — западносемитский народ, не имевший ни государственного единства, ни даже общего самоназвания (египтяне называли их "фенеху", что греками было понято как "фойнекс" — "красный"). Еще в IV тыс. до н. э. на побережье стали возникать города, а ко II тыс. до н. э. они стали центрами торговли, ремесел и дальних морских торговых и грабительских экспедиций. Финикиняне были лучшими мореплавателями той эпохи; основали колонии по всему Средиземноморью и выходили в Атлантический (по некоторым данным и в Индийский) океан.
Арад — древнее название горы Мейрон в Северном Израиле близ границы с Ливаном.
… Финикиняне — нечистая раса, изгнанная из Индии при Таракийе и из Египта при Сезострисе. — Дюма спутал предания о финикийцах с легендами о цыганах, выходцах из Индии (царь Таракийя — или опечатка, или плод фантазии Дюма: в списках древних царей, действительных или легендарных, такого имени нет), которых в средние века считали изгнанниками из Египта (Сезострисом античные авторы именовали фараона Рамсеса II, время правления которого, 1317–1251 гг. до н. э., представлялось им эпохой наивысшего могущества Древнего Египта, хотя это был последний период политического подъема страны).
… Господь, поразивший Содом и Гоморру, забыл о Сидоне и Тире. — К середине II тыс. до н. э. самыми сильными городами-государствами финикийцев были постоянно враждовавшие между собой Тир (разрушен в конце средневековья, в XIV в.) и Сидон (соврем. Сайда). Расцвет Сидона пришелся на XV–XIII, Тира — на XII–VIII вв. до н. э. Финикийцы считались в древнем мире заносчивыми пиратами и бессовестными торговцами-обманщиками, а их города — средоточием богатства и разврата. Поэтому Дюма сравнивает их с библейскими Содомом и Гоморрой, находившимися в районе Мертвого моря и истребленными гневом Господним за грехи и нечестие (Бытие, 18: 20–19: 29): "И пролил Господь на Содом и Гоммору дождем серу и огонь от Господа с неба" (Бытие, 19: 24). Действительно, в начале II тыс. до н. э. местность около Мертвого моря испытала какое-то стихийное бедствие, видимо связанное с вулканической деятельностью. Судя по последним археологическим находкам, город Гоморра существовал в середине III тыс. до н. э.
… Карфаген, их дитя, только-только основан… — Карфаген (финик. Карт-Хадашт, т. е. "Новый Город") — находился на северо-западном средиземноморском побережье Африки в районе нынешнего Туниса; основан скорее всего в конце IX в. до н. э., т. е. позднее описываемых событий (римские предания настаивали на основании его во время Троянской войны, т. е. на рубеже XIII и XII вв. до н. э., но это, по-видимому, легенда — ср. след, примеч.), в качестве колонии Тира (к Сидону Карфаген отношения не имел); в VII в. до н. э. вышел из-под власти Тира и подчинил себе другие финикийские колонии Северной Африки; к IV в. до н. э. стал центром колониальной державы, включавшей побережье Северной Африки от Ливии до Гибралтарского пролива (Геркулесовых столбов), южное побережье Испании, Балеарские и Питиузские острова, Сардинию, Корсику и часть Сицилии. В III в. до н. э. в результате войн с Римом (Первая и Вторая Пунические войны; пунийцы — римское название карфагенян) Карфагенская держава, кроме самого города, была захвачена римлянами, а после Третьей Пунической войны (149–146 гг. до н. э.) Карфаген был взят и разрушен… только через полтора века Дидона, спасаясь здесь от своего брата Пигмалиона, расширит городские владения… — Согласно римским мифам, Дидона, дочь царя Тира и вдова жреца Сихея (предания называют и другие имена), которого убил брат Дидоны Пигмалион, дабы завладеть его богатствами, бежала с сокровищами мужа и спутниками в Северную Африку. Там она купила землю у местного царя, причем по условию договора она могла взять столько земли, сколько покроет бычья шкура. Дидона разрезала шкуру на тонкие ремни и окружила ими большой участок (тем самым она поставила и решила задачу, в современной математике носящую ее имя: линией заданной длины охватить максимально возможную площадь), на котором построила Бирсу, цитадель Карфагена. Позднее она приняла в своем городе Энея, полюбила его, а когда он по воле богов отплыл в Италию, чтобы исполнить предназначение — стать предком основателей Рима, — покончила с собой, взойдя на костер. Следовательно, если верить легенде, основание Карфагена произошло во время Троянской войны, т. е. за полтора века до, а не после правления Давида.
… Афины, в прошлом маленькая египетская колония, только что покончили со своими царями — их череду открыл Кекроп, а завершил Кодр… — Мнение, что Афины были египетской колонией, не соответствующее современным научным представлениям, существовало в XIX в., когда Египет считался центром распространения всей мировой цивилизации. На самом деле Афины возникли в середине II тыс. до н. э. как исконно греческий город-крепость, возможно, с собственным правителем.
Кекроп — в греческой мифологии автохтон (буквально — "рожденный землей"), получеловек-полузмей, основавший Афины. Поздние греческие историки считали его первым царем Афин.
Кодр — легендарный царь Афин. По преданию, в 1068 г. до н. э., когда на полуостров Аттику, где расположены Афины, вторглись северогреческие племена дорийцев, оракул возвестил Кодру, что, если он погибнет, Аттика не будет завоевана. Тогда Кодр пошел в лагерь дорийцев, переодевшись дровосеком, затеял там драку и погиб.
… уже сто лет городом управляют пожизненные архонты, возвысившие Афины до роли владычицы Греции. — После гибели Кодра афиняне не ставили себе больше царей, а управлялись выборными архонтами (от гр. "архэ" — "власть"). В действительности ранняя история Афин нам практически неизвестна; насколько можно судить, управлял городом царь, но неясно, выборный или наследственный. В XI–IX вв. до н. э. власть царя уменьшилась и управление сосредоточилось в руках ареопага, совета, состоявшего из представителей родовой знати. В VIII в. до н. э., т. е. позднее легендарной даты, власть царя исчезает, но как это произошло — сказать трудно. Высшими должностными лицами оказываются архонты, избиравшиеся знатью сначала пожизненно, затем на десять лет, потом — на год. Первоначально существовал один архонт, впоследствии — десять, причем второй по значимости из этой коллегии именовался басилей, т. е. царь, но в его обязанности входил надзор за жречеством и культом.
… Ведь Гомер еще не родился! — См. примеч. к с. 15.
… Меж тем растет Альба… — По преданиям, Альба Лонга была основана сыном Энея Асканием — Юлом (см. примеч. к с. 19) за четыре столетия до основания Рима; современные археологи утверждают, что она старше его на несколько десятилетий и возникла на рубеже II и I тыс. до н. э., а легендарная дата основания Рима — 753 г. до н. э. — может, по мнению некоторых историков, означать не возникновение Города, а обретение им независимости от бывшей метрополии — Альба Лонги.
… на семи холмах, где позже раскинется Рим. — Это Палатин, Квиринал, Виминал, Капитолий, Эсквилин, Авентин, Целий.
… Что же касается Испании, Франции, Германии либо России… ничего примечательного не найдется в этих почти безлюдных местах… — Наука XIX в. преувеличивала отсталость указанных регионов. Проживавшие там на рубеже II и I тыс. до н. э. народы не достигли еще стадии государства, плотность населения была существенно ниже, чем в Средиземноморье, животный мир — много богаче, но все же племена Европы знали земледелие, причем на территориях нынешних Испании, Франции, Северо-Западной Германии и причерноморских степей оно было пашенным, с использованием плуга — безусловно, а во внутренней Германии, Центральной Европе и Волжско-Окском бассейне — весьма вероятно.
… Европа к тому времени известна всего лишь как третья часть света. — Еще ко времени Геродота (V в. до н. э.) считалось, что Земля состоит из трех частей: Азии, Ливии (Африки) и Европы. Внутреннее море — так древние называли Средиземное море.
… Аравийский залив Индийского океана… — Имеется в виду Красное (Чермное) море — залив Аравийского моря, входящего в систему Индийского океана.
… перешагивая через Евфрат и Тигр, тянулось к Каспию. — Дюма, видимо под влиянием Библии, явно преувеличил здесь и ниже размеры и мощь израильского царства в эпоху Давида и Соломона. Оно занимало территорию нынешней Палестины (включая Израиль), и победоносные походы Давида на мелких князьков Сирии были лишь кратковременными военными экспедициями. Не только до Каспия (о нем и представления тогда на Ближнем Востоке были достаточно смутными), но и до Тигра войска евреев не доходили.
… Чтобы овладеть Внутренним морем, Давиду пришлось разгромить филистимлян… — Филистимляне — индоевропейский народ, вторгшийся в XII в. до н. э. на территорию Ханаана с моря. Они основали несколько княжеств на побережье Средиземного моря и передали этой земле свое название (Палестина); долгое время вели борьбу с еврейскими племенами, но были побеждены Давидом; впоследствии ассимилированы местным населением.
… дабы повелевать Аравийским заливом, он покорил племена идумеян… — Идумеяне (эдомитяне) — западносемитский народ, живший к югу от Мертвого моря. В XIII в. до н. э. возникло царство Эдом; завоеванное Давидом, оно открыло ему путь к Аккабскому заливу Красного моря.
… Соломону же оставалось лишь выстроить храм и основать Пальмиру. — Пальмира — город в оазисе Тадмор (Сирия); возник не позднее XI в. до н. э., т. е. до Соломона; впоследствии стал крупным центром караванной торговли; в I–III вв. н. э. существовало Пальмирское царство, зависимое от Рима и уничтоженное римлянами в 273 г. после попытки освободиться.
… Молодой царь получил власть в 2970 году от сотворения мира. — Еврейский календарь вел летосчисление от "сотворения мира", датой которого считалось 7 октября 3761 г. до н. э. Таким образом 2970 г. от сотворения мира — это 791 г. до н. э. По современным данным, Соломон вступил на трон в 965 г. до н. э.
… Господь ему отвечал… — Парафраз 3 Царств, 3: 11–13 и 2 Паралипоменон, 1: 11–12.
… И дал Бог Соломону… — 3 Царств, 4: 29.
79… Соломон, затмив славу четырех сыновей Махола, первых поэтов того времени, сложил три тысячи притч, пять тысяч песней, написал огромную книгу о сотворении всего живого… — Махол из рода Зары, колена Иудина, имел четырех сыновей, славившихся своей мудростью: Ефана Езрахитянина, Емана, Халхола и Дарду (3 Царств, 4: 31), но о том, что они были поэтами, Писание ничего не говорит; следующий абзац навеян 3 Царств, 4: 32–33.
Традиция приписывает Соломону часть Псалтири, книги Екклесиаст, Притчи Соломона, Премудрости Соломона; книги о сотворении всего сущего никогда не существовало — о ней, явно опираясь на вышеуказанное место из 3 Царств, много повествовали позднейшие иудейские, христианские и мусульманские легенды.
Отметим, что во французском тексте Библии, которым пользовался Дюма, говорится о 5 000 песней Соломона, тогда как в русском — о 1 005.
Иссоп — род многолетних трав и полукустарников; содержит эфирные масла, используемые в парфюмерии.
… все читали "Песнь песней" — сладостное видение Иудеи… напоенное поэтической свежестью и ароматом лилий с горы Гелвуй и роз Саровских… — "Песнь песней" — книга Библии, которая традиционно считается написанной Соломоном по поводу его женитьбы на египетской царевне; действительно, многие обороты там характерны для древнеегипетской лирики (например, обращение к невесте — "сестра"), а не древнееврейской. Позднее, ввиду неточного прочтения "Песни", возникла легенда, что этот гимн любви обращен к некой пастушке, названной по месту происхождения "Шуламит"; это имя было переделано в собственное — Суламифь. Гелвуй — гора на севере Палестины.
Сарон — долина Саронская на Средиземноморское побережье Палестины.
… гимн любви, сложенный в честь женитьбы царя на дочери фараона Осошора, принесшей в приданое союз с Египтом и город Газу на Средиземном море. — В Писании имя фараона, отца жены Соломона, не названо. Традиция настаивает на имени Фуземен (гр. Псусеннес, егип. Пасебахаенниут); так звали правившего в период ок. 965 — ок. 950 гг. до н. э. последнего фараона XXI-й династии, во время правления которой Египет резко ослаб и распался на несколько государств, так что нам известны имена и даты правления далеко не всех фараонов, да и имеющиеся сведения не слишком надежны. Дюма, видимо, исходя из собственной датировки времени правления Соломона полагает, что тестем царя был фараон Осошор (правильно — Осокхор), царствовавший в Египте в 990–984 гг. до н. э., т. е. во времена Давида.
Газа — филистимлянский город на побережье Средиземного моря. Экарлат (шарлах) — особая материя пунцового цвета.
… Хирам, владыка Тира и Сидона… — Хирам, царь Тира (не Сидона), правил в 969–936 гг. до н. э.
… на второй месяц года, называемый у македонян артемизий, а у евреев — зиф. — В македонском календаре (в Греции существовало несколько систем счисления времени) артемизий — март-апрель — седьмой месяц года; в еврейском зиф (иначе — сивон) — апрель-май (или май — июнь: для согласования лунного времяисчисления с солнечным в еврейском календаре раз в несколько лет вставлялся дополнительный високосный месяц): во времена Соломона и Давида, когда новый год начинался с Пасхи (15 нисана), — второй, а в современном еврейском календаре — девятый или, в високосные годы, десятый месяц года.
… Это случилось в две тысячи девятьсот семьдесят первом году от сотворения мира… — Дюма допускает здесь ряд хронологических ошибок: если, как он сам говорил выше, Соломон взошел на трон в 2970 г. от сотворения мира, то четвертый год его царствования никак не может быть 2971 г.; согласно Писанию (3 Царств, 6: 1), строительство храма началось в 488 г. после Исхода, а не в 548 г.; 1013 г. до рождества Христова — это 2748 или 2749 г. от сотворения мира и т. п.
80… Авраам выступил из Месопотамии и направился в землю Ханаан скую… — Праотец Авраам, согласно Писанию (Бытие, 11: 28), был родом из Ура Халдейского. Халдейским царством историки обычно именуют Нововавилонское государство (626–528 гг. до н. э.), где правила династия выходцев из западносемитского народа халдеев. Халдеями, однако, в эпоху окончательной письменной фиксации Ветхого завета, во второй половине I тыс. до н. э., именовали вообще всех жителей Месопотамии, в т. ч. обитателей одного из древнейших городов на Земле — Ура, основанного шумерами в V тыс. до н. э. Авраам во славу Бога отправился в Ханаан, где лежали земли, обетованные Господом Аврааму и его потомству (Бытие, 12: 1–5). Найденные в 1970-х гг. клинописные тексты подтверждают какое-то перемещение племен между Южным Междуречьем и будущей Палестиной во второй половине III тыс. до н. э., т. е. за 1000–1500 лет до Давида и Соломона, и даже дают, правда, в не вполне ясном контексте, имя, которое может читаться как А-бу-раму.
… Ионийцам потребуется двести двадцать лет, чтобы возвести в Эфесе храм Дианы. — Ионийцы — группа греческих племен, область первоначального расселения которых была Иония — территория на крайнем западе Малой Азии; ионийцы населяли также Аттику, и именно аттический говор ионийского диалекта лег в основу литературного древнегреческого языка.
В ионийском городе Эфесе на юго-западном побережье Малой Азии ок. 550 г. до н. э. было построено одно из семи чудес света — деревянный храм Артемиды (рим. Дианы). Этот храм, по преданию, сгорел в 356 г. до н. э., подожженный Геростратом, желавшим таким образом прославиться. Сведения о сроках строительства этого храма, как и храма Соломона, переданные легендами, весьма ненадежны, тем более что срок возведения храма Артемиды Эфесской подозрительно совпадает со временем между его завершением и уничтожением.
… во что превратились эти земли после наложенного на них восемнадцативекового проклятия. — Плодородность палестинских земель во времена Соломона, безусловно, преувеличена, как и их последующая бесплодность, каковую Дюма, видимо, считает последствием того, что именно там был распят сын Божий.
… его великолепный флот отправлялся из Ецион-Гавера, что на Чер-мном море… — Ецион-Гавер — древний идумейский порт при Аккабском заливе.
… дважды в год ходил в страну Офир, или Золотую землю… — В Писании (3 Царств, 9: 28; 2 Паралипоменон, 8: 18), косвенно подтверждаемом финикийскими источниками, однозначно говорится только об одной экспедиции в страну Офир, лежавшую, согласно последним изысканиям, где-то в Южном Красноморье, то ли на аравийском, то ли на африканском берегу (есть и менее обоснованные предположения, что Офир — либо Индия, либо Мадагаскар); преемник Соломона предпринял еще одну попытку экспедиции, но безуспешную (3 Царств, 22: 42, 48–49). Регулярным — раз з три года, но не дважды в год (3 Царств, 10: 22; 2 Паралипоменон, 9: 21) — было сообщение с Фарсисом (Тартессом, Таршишем), финикийской колонией на крайнем юго-западе атлантического побережья Испании.
… повелитель отправлялся на этой колеснице к своему дворцу в Хитту ме, в ста двенадцати стадиях от столицы… — Хиттум — неясно, что имел в виду Дюма.
Стадий — греческая мера длины, около 185 м.
Царица Савская — согласно Ветхому завету, царица Сабейского царства (Сабы, Савы), располагавшегося в Южной Аравии. Прослышав о славе царя Соломона, она направилась в Иерусалим, чтобы испытать его загадками, но была сама поражена его мудростью. В поздних иудейских и мусульманских преданиях (в Коране царица не названа по имени, легенды исламского мира именуют ее Билкис) она оказывается мудрой волшебницей, а страна ее — подобием земного рая. Императоры Эфиопии, правившие до 1974 г., возводили свою трехтысячелетнюю династию к потомству Соломона и царицы Савской.
… Магомету, создавшему Коран через шестнадцать веков после того, как Соломон написал Книгу Екклесиаста. — Священная книга мусульман Коран (араб, "кур’ан" — "чтение") представляет собой собрание проповедей основателя ислама Магомета (правильно — Мухаммада; ок. 570–632). Согласно мусульманской богословской традиции, Коран был ниспослан Аллахом через архангела Гавриила (Джибрила) Мухаммаду в форме откровений. Каждое откровение называется "сура". Первоначально суры передавались устно (сам Мухаммад был неграмотным), но в середине VII в., после смерти пророка, началась запись и кодификация его речений. Записанный Коран разделен на главы, которые также называются сурами. Книга Екклесиаста, т. е. "Проповедующего", составлена скорее всего в IV в. до н. э. в Иерусалиме, но поскольку в зачине книги ее автор называет себя "сын Давидов, царь в Иерусалиме" (Екклесиаст, 1: 1), то он однозначно отождествляется с Соломоном, умершим приблизительно за полторы тысячи лет до рождения Мухаммада.
… Прочитайте суру о муравье. — Точнее — "Муравьи", 27-я сура Корана. Дюма ниже передает содержание одной из частей этой суры и делает это в европейской литературной манере. На деле сура представляет собой поток пророчеств и поучений, и суть ее — не в рассказе о царице Савской, а в обращении неверующих к Аллаху: Соломон (Сулайман) знает истинного Бога, и владычица Сабы, пораженная мудростью и могуществом царя, принимает его веру. Названия всех сур достаточно случайны. В 27-й среди прочего говорится: "А когда дошли они до муравьиной долины, одна муравьиха сказала: "О муравьи, войдите в ваше жилье, пусть не растопчет вас Сулайман и его войска, не замечая этого". Он улыбнулся, засмеявшись от ее слов, и сказал: "Господи, внуши мне и моим родителям, и чтобы я делал благо, которое тебе угодно, и введи меня твоей милостью в число рабов твоих праведных!"" (Коран, 27: 19–20). Более в этой суре о муравьях ничего не говорится.
… Соломон, повелевавший джиннами… — Джинны — в мусульманской мифологии духи, созданные Аллахом из бездымного огня и представляющие собой воздушные или огненные тела, наделенные разумом. Джинны могут принимать любые формы и выполнять любые желания того, кто обладает соответствующим талисманом или знает заклятие. Легенды гласят, что Сулейман ибн Дауд (так именовался Соломон в исламских преданиях) обладал магическим кольцом, благодаря чему ему подчинялись джинны.
… прекрасная Николис… — Дюма во многих своих романах настойчиво и непонятно почему называет так царицу Савскую.
… прибыли многочисленные служители с бактрианами из земли Мадиамской и дромадерами из Эфы… — Мадиамская земля — территория к югу от Палестины, на крайнем северо-западе Аравийского полуострова, населенная древнеарабским племенем мадианитов, или мидианитян; протоарабские племена во второй половине II тыс. до н. э. одомашнили верблюда, но верблюда одногорбого — дромадера. Бактрианы же, двугорбые верблюды (названные так по области, где жители Европы с ними впервые столкнулись, — Бактрии, территории по верхнему и среднему течению Аму-Дарьи), не были тогда известны на Блю^нем Востоке, и неясно, были ли они уже одомашнены (некоторые ученые датируют доместикацию бактриана первой половиной I тыс. до н. э., некоторые — позднее). В легенды о царице Савской бактрианы попадают лишь в исламскую эпоху. Эфа — соврем. Хайфа на побережье Средиземного моря.
82… жили Иуда и Израиль спокойно… — 3 Царств, 4: 25. Выражение
"Иуда и Израиль" вошло в обращение для обозначения государства Давида и Соломона после того, как оно около 922 г. до н. э., вскоре после смерти Соломона, распалось на две части — северную, сохранившую название Израиль, и южную с центром в Иерусалиме, получившую название Иудея, т. к. эту область населяло колено Иуды — ветвь народа Израиля, ведущая свое происхождение от Иуды, третьего сына праотца Иакова.
… от Дана до Вирсавии… — т. е. с севера Палестины до ее южных пределов: Дан — местность, расположенная на юге нынешнего Ливана.
Вирсавия (соврем. Беер-Шева) — город примерно в 70 км к югу-западу от Иерусалима.
… наткнетесь на развалины древнего Тадмора… — См. примеч. к с. 78… Иноплеменные обольстительницы, дочери Финикии… навязали ему собственных богов: Астарту, эту индийскую Венеру, что спустилась по Нилу с четырьмя сотнями волхвов (позже она преобразится в греческую Афродиту, карфагенскую Юнону и сделается Доброй богиней Рима); Молоха, этого пламенного Сатурна, под звуки барабанов и кимвалов пожиравшего свои жертвы… — См. 3 Царств: "И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской" (11: 5; ср. 11:7, где Милхом обозначен как Молох). Следует учесть, что Дюма следовал мифологоведческой науке XIX в., черпавшей сведения из античных писателей того позднего (II в.
до н. э. — III в. н. э.) периода, когда исходная римская религия была полностью поглощена греческой (остались лишь имена богов), а по всему Средиземноморью распространились в результате завоеваний Александра Македонского, а затем римлян культы смешанных (синкретических) греко-восточных божеств.
Астарта — западносемитский (в т. ч. финикийский) вариант древнесемитской Иштар — богини любви и плодородия, с оргиастическим культом. В эллинистическое (т. е. после завоеваний Александра) время ее отождествили с греческой Афродитой, римской Венерой (образ последней — первоначально италийской богини садов — был полностью поглощен образом Афродиты), и, через карфагенскую богиню Тиннит (Танит), верховное женское божество, включившее в себя черты Астарты, с римской Юноной, богиней брака, материнства, женщин и женских производительных сил, отождествленной в свою очередь с греческой Герой.
В эллинистическом Египте Астарта — Афродита сливалась с Исидой, также богиней женского начала и одновременно покровительницей речных вод. Отсюда поздняя легенда о прибытии Афродиты— Исиды по Нилу из Индии (истоки Нила были неизвестны, Африка считалась соединенной с Индией, т. к. и ту и другую принимали иногда за выступы гигантского Южного континента). Для ее свиты Дюма в оригинале употребил выражение из французского перевода Библии — "цари-волхвы" (не смешивать с царями-волх-вами Нового завета), в синодальном переводе — "четыреста пророков дубравных" (3 Царств, 18: 19), как именуются жрецы языческого божества Ваала, приносящие жертвы в священных рощах. Добрая богиня — древнее римское божество, функции, культ и даже подлинное имя которого неизвестны: в ее священнодействиях могли участвовать только женщины (присутствие мужчин вело к обвинению их в святотатстве с возможным смертельным исходом), и даже действительное ее имя женщинам запрещалось произносить вслух (мужчины этого имени просто не знали); эта богиня также сближалась с Юноной.
До XX в. считалось, что Мильком (в Библии — Милхом), верховный бог враждебного Израилю заиорданского государства Аммон, и почитавшийся в Палестине, Финикии и Карфагене бог Молох (оба эти имени происходят от общесемитского mlk, читавшегося как Мелек, Молек, Мил к), которому приносили в жертву детей, — один и тот же персонаж. Ныне доказано, что "Молох" — это название самого ритуала жертвенного сожжения детей. В Палестине местом культа Милькома была долина Хинном (см. примеч. к с. 76). От III — нач. IV вв. н. э. дошли сведения о том, что Молох, понимаемый как божество, отождествлялся с отцом Зевса, Кроносом (Кроном), которому было предсказано, что он погибнет от руки сына, и потому он пожирал своих новорожденных детей; не позднее III в. до н. э. черты Кроноса были перенесены на римского Сатурна, бога мертвых. Кимвал — музыкальный ударный металлический инструмент; употребление подобных инструментов было присуще жрецам восточных культов.
… отуманенный заблуждениями прощальный взгляд на пророка Ахию Силомлеянина, разорвавшего одеяния свои на двенадцать кусков… — См. 3 Царств, 11: 29–39. Ахия из Силома объявил Иеровоаму (ум. в
901 г. до н. э.), приближенному Соломона и его сына и наследника Ровоама (ум. в 911 г. до н. э.; царь с 928 г. до н. э.), что за нечестие Соломона царство его будет разрушено, и в знак этого разорвал свои одежды на двенадцать частей, по числу колен Израилевых; десять Ахия отдал Иеровоаму в знак того, что десять колен отойдут под его власть (Иеровоам стал царем Израиля — фактически северной его части — ок. 922 г. до н. э.), а два — колена Иуды и Вениамина — останутся под властью дома Давида.
84… царь, одолевший Сезострида, строитель, соревнующийся с Хеопсом, поэт, состязающийся с Орфеем… — Сезострид — здесь: преемник Сезостриса (см. примеч. к с. 77), т. е. фараон.
Хеопс (такова общепринятая грецизированная форма имени, по-египетски Хуфу, или, в результате самых последних изысканий — Хуфи-Хмана) — фараон IV-й династии, правивший в конце XXVII или в начале XXVI в. до н. э.; вошел в легенды как символ невероятной мощи Древнего Египта и безграничной власти его фараонов благодаря строительству Великой пирамиды — колоссального сооружения высотой 146,5 м, занимающего площадь более 5 га и сложенного из 2 млн. 300 тыс. камней, каждый из которых весит в среднем 2,5 т.
Орфей — в греческой мифологии сын речного бога Эагра (по другой версии — Аполлона) и музы Каллиопы, поэт и музыкант, искусство которого было наделено столь мощной магической силой, что ему покорялись не только люди, но и боги и сама природа.
… алмазы из недр Голконды. — Голконда — государство в Центральной Индии в XVI–XVII вв.; славилось добычей алмазов, потому впоследствии, в XVIII–XIX вв., это слово стало обозначать вообще некую страну, недра которой наполнены драгоценными камнями. Аттила — см. примеч. к с. 35.
… Послушайте Исайю… — Исайя (785–691 до н. э.; даты не очень достоверные) — пророк израильский.
Книгу пророка Исайи современные исследователи делят на три части: т. н. Первоисайя, главы 1-39, написанные судя по всему самим пророком; Второисайя, главы 40–55, и Тритоисайя, главы 56–66, созданные неизвестными авторами в VI и V вв. до н. э. соответственно… Вот, придут дни… — Исайя, 39: 6–7.
… А вот Аввакум вещает от имени Господа… — Аввакум (Хабакук) — израильский пророк, живший в конце VII в. до н. э.; ему принадлежит Книга пророка Аввакума.
… Я подниму халдеев… — Аввакум, 1: 6–9.
85… И вышел Иехония… — Несколько сокращенный текст 4 Царств, 24: 12–15. Иехония, предпоследний царь Иудейский, царствовал в 599 г. до н. э., по Писанию, всего три месяца; после пленения был заточен в темницу, где провел 37 лет, и был освобожден в 562 г. до н. э. восшедшим на вавилонский престол Амель-Мардуком (Евилмеродах Библии; ум. в 550 г. до н. э.).
… При реках Вавилона… — Псалтирь, 136.
… Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима… — Выражение "сыны Едомовы", т. е. жители Эдома (см. примеч. к с. 78) употреблено здесь как метафора понятия "заклятые враги".
86… Даниил… смог истолковать сны Навуходоносора и значение роковой надписи "Мене, мене, текел, упарсин", испугавшей Валтасара… — Даниил — персонаж ветхозаветной Книги пророка Даниила, иудейский изгнанник Иерусалима, доставленный по повелению Навуходоносора в Вавилон. Он изумил царя своей мудростью, истолковав его сновидения. Первое из них — царю снился истукан с головой из золота, грудью и руками из серебра, бедрами и чревом из меди, голенями из железа, ногами из железа и глины; сорвавшийся камень разбивает ноги, и истукан падает — Даниил трактовал как предвестие гибели царства Навуходоносора (отсюда выражение "колосс на глиняных ногах"). Второе сновидение — выросшее до неба и срубленное дерево, корни которого остаются в земле, — мудрый юноша объяснил как пророчество о том, что царь будет отлучен от людей, станет жить со зверями и питаться травой, доколе не познает, что все в руке Всевышнего. Оба сна сбываются. Во время пира во дворце преемника Навуходоносора, Валтасара, на стене невидимая рука (видна только кисть) начертала таинственные письмена: "Мене, мене, текел, упарсин", что Даниил объяснил так: "Мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес <так! — Комм.> — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам" (Даниил, 5: 26–28). В ту же ночь Валтасар был убит, а царство его было захвачено персидским царем Дарием.
По традиции, Книга пророка Даниила написана им самим в VI в. до н. э.; современные исследователи утверждают, что она создана в 167–163 гг. до н. э., откуда и многочисленные неточности. Реальная канва событий такова: младший сын Навуходоносора, Набонид (правил в 556–539 гг. до н. э.), был отстранен от власти, но не лишен сана, ввиду, вероятно, психического заболевания (на то намекает второй сон Навуходоносора), и правителем, хотя и без царского титула, стал сын Набонида, царевич Валтасар. Он был убит при взятии Вавилона персами, которыми правил Кир II Великий (ум. в 530 г.; царь с 559 г. до н. э.) — не наследник, а предшественник своего родственника по боковой линии Дария I (см. примеч. к с. 88)… дважды его бросали в львиный ров… — Даниил вошел в милость к Дарию, но из-за интриг придворных был обречен на казнь и брошен в ров со львом, где провел ночь, не тронутый, по молитве Господней, диким животным, после чего опять был приближен к царю (апокрифические добавления к Книге пророка Даниила повествуют о том, что он был снова отдан на растерзание уже шести львам, но и они не тронули его) и продолжал пользоваться благосклонностью преемника Дария, Кира. Заключительная часть Книги Даниила содержит его пророчество о будущем Персидского царства, о приходе Александра Македонского и о дальнейших событиях.
… он смог получить у Кира эдикт, разрешавший евреям вернуться на родину и восстановить храм. — В Писании прямо не говорится о том, что Даниил побудил Кира восстановить храм Яхве, но именно он напомнил всем пророчество Иеремии об опустошении Иерусалима и восстановлении его через 70 лет, а согласно Книге Ездры (1: 1; ср. 2 Паралипоменон, 36: 22), Кир дал разрешение на восстановление храма во исполнение указанного пророчества.
Локоть — древняя мера длины, около 45 см.
… Храмовое здание освятили в 513 году до Рождества Христова… — История восстановления храма не вполне ясна. После того как Кир, видимо в 538 г. до н. э., разрешил вернуться иерусалимским изгнанникам, многие из них во главе с Зоровавелем (даты жизни неизв.) потянулись на родину. Там они принялись за восстановление храма, которое позднее по неясным причинам было запрещено персидскими властями. Во время смут в Персидском государстве в 522 г. Зоровавель принял решение самовольно продолжить строительство храма. В конце концов Дарий дал разрешение на продолжение работ, храм был завершен и освящен, но точные даты этих событий неизвестны.
… на это должно было получить дозволение Артаксеркса. — Артаксеркс I Лонгиман (т. е. "Долгорукий") — царь Персии в 465–424 гг. до н. э. Во время его царствования иудейский священник Ездра, родом из Вавилона, религиозный реформатор (согласно традиции, обнаруживший в Вавилоне Второзаконие — Пятую книгу Моисееву), прибыл в 458 г. до н. э. в Иерусалим. Он стал инициатором процесса превращения евреев, лишенных собственного государства, в замкнутую религиозную общину. Ездра добился в 457 г. до н. э. от Артаксеркса эдикта, освобождающего евреев от уплаты налогов… служил у персидского царя пленник, еврей по имени Неемия, сын Ахалиин… — Неемия, сын Ахалиин (правильнее — Нехемия), — знатный иудей из Вавилонии, назначенный в 445 г. до н. э. Артаксерксом наместником в Иудее. Неемия оказал Ездре значительную помощь в проведении религиозных реформ и отдал немало сил на восстановление обновленного храма Соломона; в 444 г. до н. э. добился царского декрета о восстановлении стен Иерусалима. Здесь и ниже Дюма дает пересказ, а местами и точные цитаты из Книги Неемии.
… в месяце нисане… — Нисан — по еврейскому календарю месяц, соответствующий марту-апрелю; первоначально — первый, после реформы календаря во II в. н. э. — седьмой или восьмой (см. также примеч. к с. 79).
87… Быть может, в пути он повстречался с Фемистоклом… —
Фемистокл (ок. 525 — ок. 460 до н. э.) — афинский государственный деятель и полководец эпохи греко-персидских войн (500–449 до н. э., с перерывами); сторонник создания мощного афинского флота, который мог бы обеспечить победу над персами и гегемонию Афин в Греции; фактически руководил морской битвой при острове Саламин (см. примеч. к с. 36), где было сломлено морское могущество Персии. После того как непосредственная военная угроза со стороны персов ослабла, политическое влияние Фемистокла в Афинах стало падать, поскольку большинство населения было против энергичной военной политики, на которой настаивал Фемистокл. В 470 г. до н. э. он был в результате политических интриг изгнан из Афин, в 465 г. до н. э. оказался в Персии (называются и другие даты), где был благосклонно принят Артаксерксом. Фемистокл приблизился к царю и давал ему советы, направленные на сохранение мира между Элладой и Персией, но когда при дворе возобладала партия, выступавшая за активизацию военных действий против Греции, покончил с собой, дабы не быть вынужденным ни мешать своему благодетелю, ни приносить вред отечеству.
22-1204
Неемия никак не мог по пути в Иудею (445 г. до н. э.) встретиться с Фемистоклом, ибо тот уже 15 лет как умер.
… разнеслась весть, что идет новый завоеватель: двигаясь с севера, он уже взял Дамаск, Сидон и осадил Тир. — Имеется в виду Александр Македонский (356–328; царь Македонии с 336 г. до н. э.), который начал поход на Восток в 334 г. до н. э. Осенью 333 г. до н. э. персидская армия была разбита при городе Иссе, после чего многие города, в т. ч. Сидон и Дамаск, сдались без боя, а Тир, объявивший о нейтралитете в войне между Персией и Македонией, отказался подчиниться Александру и был взят штурмом после семимесячной осады в 332 г. до н. э.
… прибыл и гонец с письмом от победоносного вождя к первосвященнику Адде. — Определенную гражданскую власть в Иерусалиме осуществляли первосвященники под контролем персидской администрации. О первосвященнике Адде (Ядде; ок. 400 — после 332 до н. э.) нам практически ничего не известно, кроме сказанного в Первой книге Маккавейской, откуда Дюма черпал материал для дальнейшего изложения.
… предпочтет дружбу с ним, а не с Дарием. — Имеется в виду Дарий III Кодоман, царь Персии в 336–331 гг. до н. э.; после военного поражения был убит приближенными, и тогда Александр объявил себя его законным преемником.
88… Александр, сын Филиппа. — Отец Александра, Филипп II Маке донский (ок. 382–336; царь с 359 г. до н. э.), превратил маленькое полуварварское царство Македонию в мощную военную державу, многими победами добился гегемонии над городами-государствами Эллады, организовал в 337 г. до н. э. Панэллинский (т. е. всегреческий) союз, поставил себя во главе его и объявил от имени всей Греции священную войну Персии в отмщение обид за греко-персидские войны. Война должна была начаться в следующем году, но неожиданно Филипп был убит на свадьбе своей дочери. Убийца заявлял, что действовал из личной мести; кое-кто подозревал самого Александра, но тот заявил, что руку убийцы направляла Персия, и, подчинив своей воле греческие города, восставшие было против македонского господства, начал поход на Восток во исполнение воли отца и в отмщение за его смерть.
… со времен падения Трои о Европе ничего не было слышно. — По вычислениям античных историков, Троя пала в 1192 г. до н. э.; современные исследователи датируют это событие 1235–1230 гг. до н. э. Со времен греко-персидских войн (кстати, тогда-то в Персидской державе хоть что-то все-таки услышали о Европе!) Троянская война стала осмысляться в Элладе как великий поход Европы на Азию.
…не желал знать никого, кроме Дария III, двенадцатого персидского царя. — Дарий III (см. примеч. к с. 87) был двенадцатым царем, если отсчитывать от Кира II Великого. Персидские царские списки включают еще четырех царей из династии Ахеменидов, в том числе ее полулегендарного основателя Ахемена (правил ок. 700 — 675 до н. э.), но это были скорее всего мелкие военные вожди, подчиненные Мидийскому царству, которое существовало в 727–550 гг. до н. э. на Иранском нагорье и было затем сокрушено Киром Великим.
… Она простиралась от Инда до Понта Эвксинского и от Яксарта до Эфиопии. — Исконная этническая территория персов — Персида — представляла собой в начале VI в. до н. э. небольшую область на северном берегу Персидского залива. В период наибольшего расширения, ок. 500 г. до н. э., держава Ахеменидов включала в Африке Египет до нильских порогов, т. е. до пределов тогдашней Эфиопии (см. примеч. к с. 76), и ливийское побережье; в Европе — Фракию; в Азии ее северная граница проходила по южному побережью Черного моря (Понта Эвксинского), Кавказскому хребту, южному берегу Каспия, пустыням Средней Азии до Арала и Сыр-Дарьи (Яксарта), а восточная граница шла по Инду. Ко времени похода Александра империя эта ослабла, лишилась европейских владений, многие греческие города на западном побережье Малой Азии получили свободу, восточные провинции обособились и стремились отделиться, но все же это еще было огромное царство.
… Ведя войны, начатые Дарием I и Ксерксом, персидский царь мечтал о третьем вторжении в Грецию, которое бы смыло позор Марафона и Соломина. — Имеются в виду греко-персидские войны. После подавления вспыхнувших ок. 500 г. до н. э. восстаний в подчиненных Персии греческих городах Малой Азии царь Дарий I Гистап (550–486 до н. э.; правил с 522 г. до н. э.) обвинил свободные государства Эллады в поддержке восставших (на деле эту поддержку оказали далеко не все полисы, но в первую очередь Афины), и в 493 г. до н. э. персидское войско вторглось в Грецию, где после ряда успехов было разбито в сентябре 490 г. до н. э. в битве при селении Марафон. Война затихла, но сын и преемник Дария Ксеркс (ум. в 465 г.; царь с 486 г. до н. э.) в 480 г. до н. э. предпринял новый поход на Элладу, однако после неудачного для него исхода Саламинского морского сражения (см. примеч. к с. 36) остался без флота и вынужден был отступить.
… в одной из областей той самой Греции, между горой Афон на востоке, Иллирией на западе, Гемом на севере и Олимпом на юге… появился новый повелитель, вознамерившийся опрокинуть и повергнуть во прах царство Дария III. — Македонское царство, возникшее в середине VI в. до н. э., со смешанным греко-аборигенным населением, говорившим на диалекте греческого языка, считалось остальными эллинами полуварварским. Это царство граничило: на севере — по хребту Гем с землями, населенными индоевропейскими племенами фракийцев, на западе — с территорией иллирийских племен (потомки иллирийцев — современные албанцы), на юге — с собственно Элладой; ориентиром его восточной границы служила гора Афон (Афос, Атос; высота 2033 м) на полуострове Агион-Орос (в античности он назывался Афон) в Эгейском море. На македонской земле находилась священная для греков гора Олимп (высота 2917 м). Площадь этого царства составляла 20–25 тыс. кв. км, и вся Греция с Македонией могла десятки раз уместиться на просторах Персидской державы.
… Он родился в Пелле шестого числа месяца гекатомбеона в первый год 106-й олимпиады, в ту самую ночь, когда запылал храм Дианы Эфесской. — Пелла — столица Македонского царства со времен Филиппа. Гекатомбеон — первый месяц (приблизительно июль) года по афинскому (но не македонскому) календарю. Греки вели счет по олимпиадам, четырехлетним периодам между Олимпийскими иг-
22*
рами, первые из которых состоялись, согласно традиции, 1 июля (гекатомбеона) 776 г. до н. э.
Надо сказать, что счет по олимпиадам стал общепринятым уже после смерти Александра. Совпадение даты рождения будущего покорителя полумира и даты пожара храма Дианы Эфесской (см. примеч. к с. 80) скорее всего выдумка позднейших летописцев.
… Александр… спас ему жизнь, прикрыв собственным щитом в битве с трибаллами. — Трибаллы — фракийское племя, жившее в среднем течении Истра (Дуная); Македония вела постоянную борьбу с ними, пока Александр в 335 г. до н. э. не покорил их окончательно… В двадцать лет он победил медаров, изгнав их из города, который переименовал в Александрополь… — В 340 г. до н. э., отправляясь в поход, Филипп назначил правителем Македонии шестнадцатилетнего (а не двадцатилетнего) Александра, который захватил земли фракийцев-медов (медаров — неверно), живших к северо-западу от Македонии, и на их территории основал город, названный им Александрополь… и разорил страну гетов. — В 335 г. до н. э., преследуя трибаллов, Александр вторгся в лежавшие вокруг устья Дуная земли союзного трибаллам многолюдного и могущественного фракийского племени гетов и добился их подчинения.
… Затем он обратил оружие против фиванцев и афинян, когда те взбунтовались, вняв призывам Демосфена и поверив слуху о смерти Александра; он вторгся в Беотию, разрушил Фивы… — Многие греческие города-государства противились установлению македонской гегемонии. Особо активными недругами Филиппа Македонского были Беотийский союз, мощная конфедерация полисов Беотии (область в Средней Греции, пограничная с Аттикой) с ее главным городом Фивы, и Афины, где боролись про- и антимакедонская партии (последнюю возглавлял знаменитый оратор Демосфен; см. примеч. к с. 15). После смерти Филиппа началось антимакедонское восстание, но Александр ввел войска в Беотию, и волнения прекратились. Когда же распространился слух о смерти Александра во время его похода на трибаллов и на другие фракийские и иллирийские племена, вся Греция снова восстала. Александр ускоренным маршем — всего за две недели — вернулся из Иллирии и подошел к Фивам; город был в 335 г. до н. э. взят, жестоко разграблен, разрушен, а жители его проданы в рабство; Афины не успели даже собрать войско и, видя полный разгром Фив, послали Александру поздравления с этой победой.
… оставив в целости лишь дом Пиндара. — Пиндар (522–438 до н. э.) — знаменитый древнегреческий поэт-лирик, автор многих гимнов в честь победителей на Олимпийских играх, уроженец Фив. Александр, в глазах большинства греков полуварвар, всячески стремился подчеркнуть свою принадлежность к Элладе, эллинской культуре, эллинским традициям.
Эги — столица Македонского царства во времена Филиппа; располагалась к западу от Пеллы; позднее продолжала оставаться почитаемым городом как место пребывания древних царей.
Галера — здесь: деревянное гребное судно. Собственно галера — судно с одним рядом весел, длиной 30–40 м, шириной ок. 6 м и осадкой ок. 2 м — было изобретено в Венеции в VII в. Античные гребные суда были, как правило, крупнее и нередко снабжались несколькими рядами весел.
… обогнув Амфиополь, он переправился через Стримон, потом через Гебр, за двадцать дней дошел до Сеста… — Путь Александра лежал по северному побережью Эгейского моря мимо основанного в V в. до н. э. и завоеванного Филиппом Македонским города Амфиополя, расположенного на левом берегу реки Стримон (так что Александру пришлось сначала форсировать реку, а уже потом огибать город), через Гебр (ныне — река Марина; она начинается в Болгарии, а в среднем и нижнем течении служит границей между Грецией и Турцией) в город Сеет на европейском берегу Геллеспонта на полуострове Херсонес Фракийский (ныне Эджеабад на берегу Дарданелл на Галлипольском полуострове).
… посетил царство Приама… украсил цветами могилу Ахилла, своего предка по материнской линии… — Царство Приама — Троя, на развалинах которой (они в сущности представляли лишь холм) Александр, подчеркивавший родство с греками и то, что его поход представляет как бы новую Троянскую войну, совершил жертвенное возлияние Афине Илионской и Приаму, украсил цветами могилы (достаточно условные) героев Троянской войны: Аякса, Патрокла и самого знаменитого из греков — Ахилла.
Мать Александра, Олимпиада (ум. в 316/309 г. до н. э.), дочь мелкого эпирского царька, возводила свой род к Неоптолему, сыну Ахилла. По словам позднейших античных историков, она мечтала, чтобы ее сын уподобился Ахиллу, который предпочел краткую и славную жизнь долгому прозябанию в безвестности.
… перешел Граник, одолел сатрапов, убил Митридата, подчинил себе Мизию и Лидию, взял Сарды, Милет, Галикарнас, покорил Галатию, пересек Каппадокию… бросился в Кидн… — После высадки Александра на азиатской стороне Геллеспонта персы выставили сорокатысячное войско (у Александра было 40–50 тыс. воинов) на берегу небольшой реки Граник приблизительно в 60 км от места высадки. Кто стоял во главе персидского войска, неясно, предполагается, что кто-то из сатрапов, т. е. полновластных наместников персидского царя. Александр быстро форсировал Граник и разбил персов. В бою погибли два персидских военачальника, Ресак и Спитридат (Дюма, видимо, спутал его со знаменитым царем Митридатом), причем Ресак, если верить античным авторам, пал от руки самого Александра, а Спитридата сразил Клит (ум. в 328/327 г. до н. э.), ближайший друг македонского царя. Эта победа отдала в руки Александра всю Малую Азию, в т. ч. прибрежные города Милет и Галикарнас, а также области — Мизию на северо-западе Малоазийского полуострова, Лидию в середине его западной части, Галатию в центре, Каппадокию, в которой находится среднее течение реки Кидн, — на востоке… овладел Киликией, сошелся в долине близ Исса с персами… — К началу 333 г. до н. э. Александр занял Киликию — область на юго-восточном побережье Малой Азии. Дарий III тем временем собрал и подготовил большую армию (точное число ее неизвестно, историки предполагают примерно 150 тыс. человек, античные авторы называют совершенно фантастические цифры), которую Александр встретил осенью 333 г. до н. э. в узкой долине близ города Исс; местность не дала персам возможности использовать численное превосходство, и они были разбиты; Дарий бежал за Евфрат, оставив Александру весь запад своей империи.
Парменион (ум. в 330 г. до н. э.) — македонский военачальник, приближенный и советник Филиппа и Александра. Его сын Филота (ум. в 330 г. до н. э.) был замешан в заговоре македонских военачальников, недовольных тем, что Александр, завоевав Персию, сам стал вести себя как персидский царь и отдалил от себя близких людей. Казнив Филоту, Александр приказал убить Пармениона, находившегося в то время в Македонии.
… как некогда Ахилл Гектора, трижды протащил его вокруг рушащихся стен полыхавшего города. — Согласно "Илиаде" (22, 395–404), Ахилл, победив в единоборстве первого среди троянцев героя Гектора, свершил недостойное дело — надругался над трупом побежденного: проколов ему сухожилия на ногах и продернув в отверстия ремни, привязал тело к колеснице и поволок его по земле.
… Александр полюбовался на пирамиды, спустился к Канопу… — Каноп — город в Египте, в дельте Нила близ моря, около Абукира; Дюма упоминает его, возможно, потому, что здесь в 1801 г. английские войска нанесли поражение остаткам французского экспедиционного корпуса, еще пребывавшим в Египте после Египетского похода Бонапарта в 1798 г., и вынудили тем самым французов покинуть Египет.
… обошел вокруг озера Мареотис… — Мареотис (Мареотида, соврем. Марьют) — соленое озеро, в которое впадает один из рукавов дельты Нила и которое отделено от моря песчаной полосой шириной около 2 км.
90… Царь повелел градостроителю Дейнократу возвести город, кото рый будет называться Александрия. — Имеется в виду Александрия Египетская, основанная в 332 г. до н. э. как центр греческого влияния в восточной части Южного Средиземноморья в противовес Карфагену, господствовавшему в западной его части. Александрия строилась по типу греческих городов, с правильной планировкой, которую разработал греческий архитектор Дейнократ, уроженец острова Родос (более о нем ничего не известно).
… полководец направился к оазису Аммона, пересек пустыню с севера на юг, оставляя по правую руку гробницу Осириса, по левую — озеро Натрон и Поток-без-воды, за неделю дошел до храма Юпитера и заставил жрецов признать себя сыном этого божества… — Имеется в виду оазис Сива в Ливийской пустыне. Двигаясь к нему, Александр мог идти от Александрии сначала на юг (но потом должен был свернуть на запад), так что слева от него было бы Соляное поле (Нитрия, иначе Натрон, соврем. Вадиэн-Натрун), покрытое соляной коркой высохшее озеро, и бывшие русла некогда впадавших в него рек (Поток-без-воды), а справа — город Диду, именовавшийся также Бу-Усир (гр. Бусирис), т. е. "Место Осириса" (соврем. Абу-Сир). Но могила Осириса (на самом деле — гробница одного из древнейших правителей IV тыс. до н. э., может быть, еще до объединения Египта) располагалась в городе Абидосе (Абада, соврем. Эль-Араба-эль-Мадфуна). В Сиве находился храм египетского верховного бога Амона (Амуна, греческое написание — Аммон), которого греки отождествляли с Зевсом, а римляне — с Юпитером.
По преданию, Александр обратился к оракулу этого бога с вопросом, кто убил его отца, и получил ответ: никто, ибо отец царя не Филипп, а Зевс — Аммон. Тем самым египетские жрецы как бы объявили Александра законным фараоном. Насмешливые греки уверяли, что Александр подсказал жрецам такой ответ, ибо желал вознестись над обыкновенными людьми. Акт объявления себя сыном бога повысил авторитет македонского царя среди народов Востока, но вызвал недовольство греческих и македонских приближенных, а также немалой части войска.
… возвратился к Александрии (которую затем посетит лишь однажды — уже на похоронной колеснице)… — Александр умер в 323 г. до н. э. в Вавилоне. Его полководцы тут же начали борьбу за власть. Египетский сатрап (Александр сохранил персидские чины и титулы для востока своей империи) Птолемей Лаг, объявивший себя позднее, в 305 г. до н. э., царем Египта, захватил тело Александра, которое везли из Вавилона в Македонию, и похоронил близ Александрии.
… Иерусалим оказывался прямо на дороге к Арбелам, где его уже ждал Дарий с войском… — В местности к востоку от Тигра неподалеку от города Арбелы близ селения Гавгамелы Дарий, вновь собрав превосходящее по численности македонскую армию войско, усилив его боевыми колесницами и слонами, вознамерился дать бой Александру на равнине. Битва состоялась осенью 331 г. до н. э., и, несмотря на все свои преимущества, персы снова были разбиты, Дарий бежал дальше на восток, а Александр занял Междуречье, Вавилонию и Сузы, одну из столиц Персии.
… он пошел горами мимо Аскалона к Иерусалиму. — Ас кал он (соврем. Ашкелон) — город на средиземноморском побережье Палестины к северу от Газы.
… глядя вослед победителю… исчезнувшему за Гелиополем, горожане решили, что, подобно солнцу, он угаснет где-то на западе. — Гелиополь (правильнее — Гелиуполь) — греческое название египетского города Он (Ану; соврем. Эль-Матария), центра культа солнца; расположен к юго-западу от Иерусалима.
… со всеми священниками и левитами… — По Писанию (Числа, 1: 47–53), Моисей, исчислив колена Израилевы, выделил колено Левия, возложив на членов его — левитов — особую службу при скинии (переносном святилище Бога). Позднее, после строительства храма Яхве, левиты составили особую наследственную группу храмовых служителей.
91… встретились на дороге в Самарию и Галилею, в селении Сафед… — Самария и Галилея — области в Палестине, к северу от Иерусалима. Ефод — короткая с поясом одежда иерусалимских первосвященников, украшенная драгоценными камнями; подробно описана в Библии (Исход, 28: 6-12).
Ен-Гадди (др. — евр. "козий источник") — местность на юго-востоке Палестины, близ западного берега Мертвого моря; неоднократно, упомянута в Библии как славившаяся виноградарством.
92 Геллеспонт (соврем. Дарданеллы) — пролив, отделяющий Азию от Европы.
… после жертвы всесожжения… — В соответствии с правилами иудейской религии храмового периода, Господу ежедневно приносились жертвы. Обычно часть жертвенного животного сжигалась, ч остальное переходило храмовым служителям. Такие жертвы приносили верующие от себя и своих близких. Но, кроме этого, ежедневно утром и вечером в храме приносилась от имени всего народа Израиля жертва всесожжения: непорочное животное мужского пола — телец, баран или козел — сжигалось целиком (по субботам или в особо значимые дни число животных удваивалось), что символизировало полное предание себя Богу.
… И видел я в видении… — Даниил, 8: 2–8, 15 (неточно), 18–22 (с сокращениями).
… в Сузах, престольном городе, в области Еламской… — Имеется в виду Элам, государство в западной части Иранского нагорья, существовавшее, несмотря на неоднократные завоевания соседями, с середины III тыс. до н. э. до середины VI в. до н. э., когда было завоевано Мидией и вместе с ней позднее вошло в состав Персидской державы; Сузы, главный город Элама, стал одной из столиц Персии.
Улай (гр. Евлей) — река в Персидском царстве, к западу от Суз, соврем. Керхе, приток Тигра.
93 Мидия — заселенная индоевропейской народностью мидян историческая область в западной части Иранского нагорья, на территории которой возникло Мидийское царство.
… и было это отзвуком падения Вавилона и Суз… вдали вспыхнуло зарево Персеполя… дальнее эхо этих слухов угасло за Экбатанами, в пустынях Мидии, на другом берегу реки арьев. — Держава Ахеменидов имела четыре столицы по числу основных частей государства: древняя столица Персиды (см. примеч. к с. 88) — Парса (Персеполь, как его называли греки), Сузы в Эламе, Вавилон и Экбатаны, бывшая столица Мидии.
Сузы и Вавилон были заняты Александром после битвы при Гавга-мелах (см. примеч. к с. 90); Персеполь, на подходах к которому Александр разбил остатки персидского войска, был занят в конце 331 г. до н. э. (в Персеполе македонцам досталась колоссальная казна Персидского царства); Экбатаны были заняты в 330 г. до н. э. Согласно легенде, Тайс (см. примеч. к с. 15) во время пира во дворце в захваченном Александром Персеполе попросила (и просьба ее была исполнена) сжечь дворец в отместку за сожжение Афин, совершенное во время греко-персидских войн более чем за сто лет до похода Александра. Возможно, пламя этого пожара и имеет в виду Дюма.
Дарий III, бежавший все далее и далее на восток, был убит сатрапом Бактрии (см. примеч. к с. 81) Бессом, объявившим себя царем под именем Артаксеркса IV. Александр продолжал движение на восток, в 329 г. до н. э. занял Бактрию и близлежащую область Согдиану со столицей Маракандой (близ соврем. Самарканда); Бесс был схвачен и казнен как (что любопытно!) убийца законного царя — Дария III. В 327 г. до н. э. войско Александра вышло к Инду, который Дюма называет рекой арьев (арьи — общее самоназвание североиндийских народов), и вторглось в Северную Индию. Наконец после ряда сражений, в основном для Александра успешных, войско его отказалось продолжать поход, и в 326 г. до н. э. великий завоеватель вынужден был повернуть обратно. В 324 г. до н. э. армия греков и македонян возвратилась в Вавилон.
… автор поэмы о Маккавеях… — Имеются в виду три Книги Маккавейские (в православии считаются неканоническими, т. е. не священными, но душеполезными). По мнению филологов, первые две книги написаны в середине II в. до н. э. в Палестине, причем вторая еще и обработана около 110 г. до н. э. в Александрии; третья книга создана около 24 г. до н. э. в Александрии.
… Ахилла, сына Фетиды и Пелея… — Верховный бог Зевс узнает, что его должен сместить его сын от нереиды (морской нимфы) Фетиды. Тогда он отдает ее в жены смертному герою Пелею, дабы дети их были смертными. Фетида могла сделать своего сына Ахилла неуязвимым (кроме известной пяты), но не бессмертным.
… сына Филиппа и Олимпии. — Мать Александра звали Олимпиадой (см. примеч. к с. 89).
… После того как Александр, сын Филиппа, македонянин, который вышел из земли Киттим, поразил Дария… — Первая книга Макка — вейская, 1: 1–3.
Землей Киттим древние евреи называли сначала Финикию, затем, долгое время, — остров Кипр, потом — вообще земли, лежащие к северо-западу от Палестины — Грецию и Рим.
94… Селевк Никатор, или Селевк Победитель. Именно под его власть попала Сирия. — После смерти Александра Македонского его полководцы (диадохи, т. е. преемники) разделили державу между собой. Большая часть империи Александра — Сирия, Иран, Междуречье, Средняя Азия, а также юго-запад и центр Малоазийского полуострова — достались Александру Селевку I Никатору (т. е. "Победителю"; ок. 356 — 281 до н. э.), основавшему в 311 г. до н. э. свое царство. Огромное государство его преемников — Селевкидов — со временем уменьшилось и ко второй половине II в. до н. э. его восточной границей стал Тигр, а само царство нередко называлось Сирийским.
… его наследники, правившие в Антиохии, взимали дань с Иерусалима… — Названия городов по именам царей было обычным на эллинистическом Востоке. Так, столица государства Селевкидов, город Антиохия на реке Оронте (соврем. Нахрэль-Ази) в Сирии, была названа по имени Антиоха I, а второй по важности город, Селевкия-на-Тигре, — по имени Селевка Никатора.
Антиох I Сотер ("Спаситель"; 324–261; царь с 281 до н. э.) — сын Селевка I; укрепил положение государства Селевкидов.
Антиох II Феос ("Бог"; 287–246; царь с 261 г. до н. э.) — сын Антиоха I; активно боролся с птолемеевским Египтом.
Селевк IIКаллиник ("Прекрасный победами"; 265–226; царь с 246 г. до н. э.) — утерял восточные области государства (Бактрию).
Селевк III Сотер (243–223; царь с 225 г. до н. э.) — утерял области в Малой Азии.
Антиох III Великий (242–187; царь с 223 г. до н. э.) — сын Селевка II; пытался восстановить империю Александра Македонского в первоначальных пределах, но неудачно; вступил в конце жизни в конфликт с Римом.
Селевк IV Филопатор ("Любящий отца"; 218–175; царь со 187 г. до н. э.) — сын Антиоха III; пытался наладить добрые отношения с Римом; чтобы выплатить контрибуцию римлянам, ввиду поражения своего отца, организовал ограбление иудейской общины; убит заговорщиками.
Антиох IV Эпифан (ум. в 164 г.?; правил с 175 г. до н. э.) — сын Антиоха III, брат Селевка ГУ; при нем началось восстание Маккавеев (см. примеч. к с. 74 и ниже); боролся с Птолемеем VI за египетский престол; в 168 г. до н. э. захватил Александрию, но был вынужден уйти под давлением римлян.
… выдал свою сестру замуж за Птолемея Филометора… — Птолемей VI Филометор ("Любящий мать") правил в Египте в 180–145 гг. до н. э.; изгонялся из страны, но был восстановлен на троне римлянами… отделив ей как свадебный дар Келесирию и Финикию. — Келесирия (Южная Сирия) и Финикия были предметом раздора между Селевкидами и Птолемеями. При распаде державы Александра Македонского Келесирия досталась Птолемеям, но в 200 г. до н. э. ее захватил Селевкид Антиох III.
… не решился помериться силой с потомками волчицы. — То есть с римлянами (см. примеч. к с. 16).
… вошел во святилище с надменностью… — 1 Маккавейская, 1: 21–23… Стенали начальники и старейшины… — 1 Маккавейская, 1: 26.
95… и сделались большой сетью… — 1 Маккавейская, 1: 34–36.
Модин — гора на дороге из Иерусалима в Иоппию, близ Диосполиса (Лидды); на ней располагался одноименный город.
96… провиденциальное имя Маккавеев, что значит по-еврейски "наносящий удар"… — Данный Дюма перевод имени неточен (см. примеч. к с. 74); "наносящий удар" — Аваран — это прозвище Елеазара, брата Иуды Маккавея.
… Первыми откликнулись асидеи, самые храбрые из евреев… — Асидеи (др. — евр. "хасидим" — "преданные") — так первоначально именовали себя иудеи, дававшие обет особой преданности Яхве. В XVIII в. возникло отдельное течение в иудаизме — хасидизм, сторонники которого настаивают на скрупулёзнейшем соблюдении иудейского Закона и, с сомнением относясь к раввинам, официальным руководителям иудейских общин, почитают собственных руководителей, цадиков ("провидцев"), которым приписывается особая близость с Богом.
97 Аполлоний — об этом военачальнике, как и о других упомянутых ниже: Сироне, Горгии, Лисии, Тимофее и Никаноре — мы знаем только то, что о них сказано в Книгах Маккавейских.
… и пошел к Вефорону. — Вефорон — селение в горном ущелье в 20 км к северо-западу от Иерусалима.
98 Антиох VЭвпатор ("Имеющий благого отца"; ок. 193–162; царь с 164 г. до н. э.) — сын Антиоха IV; добился определенных успехов в борьбе с Маккавеями.
99… был вместе с Лисием убит Деметрием, сыном Селевка… — Сын Селевка IV Деметрий I Сотер (ум. в 150 г. до н. э.) поднял восстание против своего двоюродного брата Антиоха V, победил его и казнил, но позднее сам погиб в борьбе с Александром I Валасом (правил в 150–145 гг. до н. э.), братом Антиоха V.
… нечестивца звали Ал к им. — Алким (иначе — Элиаким, или Иоаким) — первосвященник с 161 г. до н. э., назначенный Деметрием Сотером; после взятия Иерусалима Иудой Маккавеем убит в 160 или в 159 г. до н. э.
Хафарсалама — город в 8 км к северу от Иерусалима.
… В тринадцатый день месяца ад ар а… — Адар — последний, двенадцатый месяц еврейского календаря (до реформы календаря во II в. н. э.; ныне — шестой), январь-февраль (или февраль-март).
… погнали их от Адаса до Газиры… — Адас — селение в 5 км к северу от Вефорона.
Газира — местонахождение неизвестно.
100… Иуда прослышал о храбром народе… — Имеются в виду римляне.
… Это племя…на востоке покорило галатов… — Кельтское племя галаты во время массовых миграций кельтов в IV–III вв. до н. э. из Центральной Европы вторглось в 279 г. до н. э. на Балканы, а в 278 г. до н. э. переселилось в Малую Азию; в 275 г. до н. э. галаты разгромили Антиоха I и после ряда опустошительных набегов осели в центральных районах Малой Азии, основав там царство, получившее название Галатия. Антиох III покорил Галатию, но, разбитый римлянами, утерял ее: Галатия была передана союзнику Рима — Пергамскому царству (о нем подробнее см. примеч. ниже). В 168 г. до н. э. Рим, разбив своего бывшего союзника не без помощи восставших галатов, выделил из Пергама отдельное царство Галатию под римским протекторатом. В 25 г. н. э. Галатия была превращена в римскую провинцию.
…на западе захватило страну Испанскую, завладев ее серебряными, золотыми и свинцовыми рудниками. — Богатый полезными ископаемыми Иберийский полуостров, особенно южная его часть, находился под властью или влиянием Карфагена с V в. до н. э. В результате Второй Пунической войны (218–201 гг. до н. э.) карфагенские владения в Испании отошли к Риму, однако местные племена, не слишком лояльные и к Карфагену, сопротивлялись римскому господству. Лузитания (примерно территория нынешней Португалии) была покорена в результате длительной войны 154–139 гг. до н. э., а в центре Иберийского полуострова восстание местных племен привело к т. н. Нумантинской (Нуманция — город, ставший опорным пунктом восставших) войне 143–133 гг. до н. э. Окончательная победа Рима над Испанией произошла уже после смерти Иуды Маккавея в 160 г. до н. э.
… победили Филиппа и Персея, царя Киттимского… — О Киттиме см. примеч. к с. 93.
Распад державы Александра Македонского привел к тому, что власть в Македонии и претензии (иногда осуществлявшиеся) на гегемонию в Греции оказались в руках потомков одного из полководцев Александра — Антигона I Одноглазого (ум. в 301 г. до н. э.). В конце III в. до н. э. Рим начал вмешиваться в постоянные распри государств-преемников империи Александра. В Греции в это время ширилось антимакедонское движение, поддержанное Римом. В результате Второй Македонской войны (200–197 гг. до н. э.) царь Македонии Филипп V (238–179; правил с 221 г. до н. э.) потерпел поражение от Рима и утерял гегемонию в Греции. Тит Квинкций Фламинин, победитель Филиппа, в 196 г. до н. э. на Олимпийских играх торжественно провозгласил Грецию свободной. Однако "свобода" быстро обернулась римским гнетом, и большая часть Греции объединилась под главенством последнего македонского царя Персея (ок. 213 — 166; правил в 179–168 гг. до н. э.), сына Филиппа V. В результате Третьей Македонской войны (171–168 гг. до н. э.) антиримская коалиция была разбита, а Македония была разделена на четыре республики, формально самостоятельные, но фактически — римские провинции. Царь Персей бежал, но позднее сдался и вскоре умер в плену… в прах разгромили Антиоха Великого… — Победив Птолемеев в 200 г. до н. э., Антиох III начал захватывать города южного побережья Малой Азии. Желая остановить его, Пергамское царство и республика на острове Родос объявили ему в 197 г. до н. э. войну, поддержанную Римом. В 192 г. до н. э. Антиох переправился в Европу, и в том же году, в ущелье Фермопилы (где в 480 г. до н. э. спартанский царь Леонид и 300 его воинов пали в битве с персами) римляне разбили Антиоха. Он вернулся в Малую Азию, преследуемый римлянами, и в битве при городе Магнесии на реке Меандр (ныне — Большой Мендерес), несмотря на то что у него было мощное войско и боевые слоны, потерпел полное поражение. По договору с Римом он должен был выплатить 15 тыс. талантов (см. примеч. кс. 14) контрибуции, отдать всех боевых слонов, отказаться от всех владений в Европе и почти от всех — в Малой Азии.
… Они захватили земли персов, мидян и лидийцев и подарили эти владения своему союзнику — царю Эвмену. — Лидия — область на западе Малой Азии, населенная индоевропейским народом лидийцев, в начале VII в. до н. э. образовавших отдельное царство, которое было завоевано Киром Великим в 549 г. до н. э. Затем Лидия вошла в состав державы Александра, потом — Селевкидов. Но в западной части Лидии еще при Селевке Никаторе возникло отдельное Пергамское царство. Пергамский царь Эвмен II Сотер (правил в 197–160 гг. до н. э.) был верным союзником римлян и получил от них малоазийские владения Антиоха Великого.
… греки вознамерились было покорить этот народ… — Неясно, что имеется в виду: то ли Македонские войны, но в них собственно Риму ничего не угрожало, толи поход Пирра (см. примеч. к с. 104), но он не завершился победой римлян над греками.
… Иуда Маккавей отрядил двух своих племянников, Евполема, сына Иоаннова, и Иасона, сына Елеазарова… — Характерно для эллинистической эпохи, что указанные исторические персонажи, о которых по существу ничего не известно, кроме того, что упомянуто в Книгах Маккавейских (об Иасоне мы знаем, что он был одно время первосвященником и умер после 151 г. до н. э.), верные сторонники Маккавеев, выступавших против эллинизации евреев, сами носят греческие имена. Насколько известно, настоящее имя Иасона — Иешуа, т. е. Иисус.
101… Спустя четыреста тридцать два года после падения Трои, двести пятьдесят лет после смерти Соломона, ко времени рождения пророка Исайи, в седьмую олимпиаду… — Предлагаемые Дюма даты никак не совпадают между собой и не соответствуют ни современным датам, ни вычислениям древних. Летописная дата основания Рима — 753 г. до н. э., т. е. спустя 439 лет (а не 432 года) после летописной же даты падения Трои (1192 г. до н. э.), 175 (а не 250) лет после смерти Соломона (928 г. до н. э.), через 32 года (а не в тот же год) после рождения пророка Исайи (785 г. до н. э), в третий год шестой (не седьмой) олимпиады (см. примеч. к с. 88) — 755–752 до н. э.
… в первый год десятилетнего правления архонта Харопса… — Принятое в Афинах летосчисление по правлениям архонтов (см. примеч. к с. 77) весьма ненадежно до 496 г. до н. э. Об архонте Харопсе нам ничего не известно.
… альбанский царь Нумитор выделил землю во владение двум внукам, незаконнорожденным сыновьям своей дочери Реи Сильвии… — О Нумиторе, его дочери и внуках см. примеч. к с. 16. Римские предания говорят, что Ромул и Рем основали город по собственной инициативе. Видимо, Дюма пытается соединить предания и исторические данные, правда достаточно косвенные, в соответствии с которыми Рим был колонией Альба Лонги.
… ручеек, называемый источником Ютурны… — Ютурна — в римской мифологии нимфа ручья, протекавшего у будущего храма Весты.
… Рим — от гита: "сосец". — По римсю й традиции, латинское название Рима — Roma — произведено от имени Ромула.
102… от Ромула до Ромула Августула протекло двенадцать столетий. —
О Ромуле Августуле см. примеч. к с. 16. От основания Рима до т. н. "падения Западной Римской империи" прошло 1229 лет, от легендарной даты смерти Ромула (717 г. до н. э.) до назначения Ромула Августула на римский престол — 1192 года.
… Он поделил людей на три общины, названные трибами и возглавлявшиеся трибунами. Эти общины он поделил еще на тридцать, названных куриями, с курионами во главе, а каждую курию разбил еще на десять декурий, поставив над каждой декуриона. — Изложение крайне неточное. По словам античных авторов I в. до н. э. — II в. н. э. (более ранние источники неизв.), писавших в эпоху, когда подобное деление давно устарело и применялось лишь для генеалогических целей, римский народ в начале правления Ромула составлял одну трибу (triba — "племя"); позднее, но еще при жизни Ромула, с поселением в Риме сабинян и этрусков, их стало три — рамны (латиняне), тиции (сабиняне) и луцеры (этруски).
Каждая триба делилась на 10 курий (curia, видимо, от coviria — букв, "сомужие", "сообщество мужей"), курия — на 10 родов. Старейшины курий — курионы — возглавляли священнодействия и, возможно, на самых ранних стадиях, ополчение. Главы родов образовывали совет старейшин — сенат (от лат. senex — "старый"). Трибунами называли гораздо позднее (видимо, с V в. до н. э.) должностных лиц, избираемых по территориальным трибам (не путать с вышеупомянутыми родовыми), т. е. общинам (4 городские и 31 сельская), на которые подразделялись все римские граждане; существовали военные трибуны (помощники командующего), эрарные трибуны (надзиратели за казной) и наиболее известные народные, или плебейские, трибуны, обязанностями которых было отстаивание интересов плебса.
Курионами позднее стали называть членов городских советов в подвластных Риму италийских городах.
Декурионы — десятники в войске, нечто вроде унтер-офицеров. Современные историки считают, что описанная выше схема деления населения в раннем Риме верна в основе, но вряд ли она имела столь стройный вид.
… Наиболее храбрые и сведующие подданные были названы патрициями, остальные — плебеями. — См. примеч. к с. 13.
103 …до того дня, как Брут изгнал царей, то есть до 243 года от осно вания Рима. — По преданию, римский царь Луций Тарквиний Гордый (см. примеч. кс. 19) пришел к власти путем переворота и убийства предыдущего царя. Его сын Секст Тарквиний обесчестил знатную добродетельную римлянку Лукрецию, жену родственника царя, Луция Тарквиния Коллатина (т. е. происходившего из города Коллации, соврем. Кастеллаччо). Лукреция, не в силах пережить позор, закололась, предварительно рассказав все мужу. Коллатин и его друг, противник не только Тарквиниев, но и вообще царской власти, Луций Юний Брут призвали народ к восстанию, и власть царей в Риме была низвергнута. Согласно традиции, в последнее время подтверждаемой археологическими исследованиями, это произошло в 510 г. до н. э., т. е. в 243 г. от основания Рима.
… Брут был современником пророка Иезекииля. — Неточность: великий пророк Иезекииль жил во времена падения Иерусалима и Вавилонского пленения (597 г. до н. э.), т. е. одним поколением, а то и двумя ранее Луция Юния Бдэута.
… Новый порядок назвали республикой… — "Res publica" означает "общее дело"; этим провозглашалось, что власть в Риме переходит от царей к общине в целом.
… Римом правили два ежегодно избираемые магистрата, называемых консулами, что значит "советниками"… — Слово "консул" образовано от глагола consulare — "совещаться". Это означало не совет с народом, как утверждает Дюма, а то, что ни один из них не мог предпринять никаких действий без согласия другого.
… консулы унаследовали не только царскую власть, но и все привилегии единоличного правления, даже цепочку из двенадцати ликторов… — К атрибутам царской власти относились курульное кресло — особый трон без спинки, окаймленная пурпуром тога и 24 ликтора — специальные служители, исполнявшие функции телохранителей, посыльных и даже палачей. Сопровождая монарха, ликторы несли фасции (фаски) — связки длинных прутьев с воткнутыми в середину двулезвийными топориками. При исполнении приговоров этими прутьями секли осужденных, а топориками отрубали голову. Консулы унаследовали все атрибуты царей (поскольку консулов было два, то каждый получил по двенадцать ликторов), но с одним исключением, появившимся, если верить преданию, еще в 509 г. до н. э.: когда консулы (и другие высшие должностные лица Республики, кроме диктаторов) находились в городской черте Рима, топорики из фасций вынимались. Это значило, что никто не может казнить римского гражданина без утверждения приговора народным собранием; вне Города власть магистратов считалась абсолютной.
104… Первыми консулами стали Брут и Коллатин. — О Бруте и Колл а-
тине см. примем, к с. 103.
… они принялись искоренять влияние этрусков, обосновавшихся в Риме с приходом Тарквиниев. — Если верить древним историкам, Тарквинии происходили из этрусского города Тарквинии, и римлянам было ненавистно не столько этрусское влияние, сколько все, связанное с царями. По настоятельной просьбе Брута его соратник по консульству Коллатин сложил с себя полномочия и добровольно удалился в изгнание потому, что и он принадлежал к роду Тарквиниев… Затем пришло время сварам между патрициями и плебеями, чем воспользовались эквы и вольски и повели с Римом борьбу… — С VI в. до н. э. плебеи служили в войске и, возможно, участвовали в народном собрании. Однако они не имели доступа к государственным должностям, не могли пользоваться землей, захваченной в результате завоеваний, и даже вступать в брак с патрициями. Поскольку именно плебеи составляли основную часть войска, они нередко отказывались воевать, в частности с соседними племенами вольсков и эквов (см. примем, к с. 22), если не будут удовлетворены их требования.
… несмотря на старания трибунов захватить всю власть… — Должность народных трибунов была учреждена в 494 г. до н. э., когда плебеи отказались идти на войну с эквами и удалились на Священную гору (т. н. "Первая сецессия", т. е. "удаление") в 3 км от Рима. Трибуны должны были защищать плебеев от произвола патрицианских должностных лиц, считались неприкосновенными, имели право вето на любое решение властей и право законодательной инициативы. Трибуны V–IV вв. до н. э. вряд ли претендовали на полноту власти, хотя их противники-патриции обвиняли их в этом, и борьба между трибунами-плебеями и консулами-патрициями нередко была весьма жесткой. Пик столкновений между опиравшимися на народное собрание трибунами и сенатом приходится на II — начало I в. до н. э.
… на преступления децемвиров… — Плебеи среди прочих требований добивались, чтобы законы государства были однозначно определены и записаны во избежание их произвольного толкования патрициями. Для этого в 450 г. до н. э. была избрана комиссия децемвиров (лат. decern viri — "десять мужей"), ставшая на время полномочий высшим органом государства. Однако комиссия эта, имея неограниченную власть, не спешила исполнять порученное, а, напротив, стала злоупотреблять этой властью. Один из децемвиров, Аппий Клавдий, пытался совершенно незаконно объявить плебейку Виргинию своей рабыней. Ее отец убил дочь, чтобы она сохранила свободу хотя бы в смерти. Это вызвало Вторую сецессию на Священную гору (449 г. до н. э.), в результате чего законы, записанные на 12 медных таблицах, выставили для всеобщего обозрения и децемвират был упразднен.
… на появление военных трибунов… — Плебеи постоянно настаивали на праве занимать высшую должность — консульскую, в чем им патриции неизменно отказывали. В 445 г. до н. э. было принято компромиссное решение, в соответствии с которым вместо консулов, с теми же правами и объемом власти, можно было избирать коллегию военных трибунов в количестве от трех до шести человек, причем военными трибунами могли быть и патриции и плебеи. Замена консулов на военных трибунов и наоборот происходила в зависимости от политической и военной ситуации. В 367 г. до н. э. должность военных трибунов с консульской властью была упразднена (остались лишь военные трибуны — выборные и назначаемые помощники командующего), а должность консула стала доступной для плебеев… римляне, объединившись с латинами и герниками, подчинили себе вольсков… — Отношения Рима с соседними родственными племенами Лация, латинами и герниками (см. примеч. к с. 22), были далеко не безоблачными. В 508 г. до н. э. латины и герники помогли римлянам против этрусков (но не вольсков), но позднее латины выступили против Рима, который в двух Латинских войнах (496–493 и 340–338 гг. до н. э.) покорил своих бывших союзников. Герники были подчинены Риму в IV в. до н. э., вольски — после очень долгой войны (389–338 гг. до н. э.)
… захватили Вейи… — Вейи — этрусский город приблизительно в 10 км к северу от Рима, старый его соперник; захвачен римлянами в Вейс кой войне 406–396 гг. до н. э.
… руками Манлия повергли галлов к подножию Капитолия, а потом мечом Камилла изгнали их из Рима… — В начале IV в. до н. э. галлы, населявшие тогда многие регионы Европы, в т. ч. север Апеннинского полуострова от Альп до реки Рубикон, стали вторгаться в Этрурию и Лаций. В 390 г. до н. э. (по другим данным, в 387 г. до н. э.) они разбили римлян в битве при реке Аллии (притоке Тибра) и захватили Рим, кроме его цитадели — Капитолия, где засел отряд во главе с Марком Манлием (ум. в 384 г. до н. э.). Ночью галлы предприняли попытку тайно взобраться на стены крепости, но священные гуси, считавшиеся собственностью богини Юноны, проснулись, подняли шум и разбудили защитников Капитолия, в результате чего галлы были отброшены. Однако за освобождение Рима пришлось заплатить огромный выкуп весом в тысячу (по другой версии — две тысячи) фунтов золота.
Легенда настаивает на том, что при возвращении галльского войска на него напал Марк Фурий Камилл (см. примеч. к с. 36), рассеял его и отбил все захваченное в Риме; позднейшие историки полагают, что это вымысел, призванный смягчить горечь поражения.
… тем же мечом, завещанным Папирию Курсору, начали войну с самнитами… — Оскские (см. примеч. к с. 22) племена самнитов населяли горные районы южной части Средней Италии и образовывали довольно рыхлую конфедерацию городов. В результате трех Самнитских войн (343–341, 327–304, 298–290 гг. до н. э.) самниты были покорены, причем одно из довольно немногочисленных поражений — при городе Аквилонии (в Апулии) в 293 г. до н. э. им нанес консул Луций Папирий Курсор (ум. после 272 г. до н. э.). Однако попытки сбросить римское господство самниты предпринимали до I в. до н. э… всю Италию от мыса Регия до Этрурии. — Регий (соврем. Реджо) — мыс и одноименный город на крайнем юге Апеннинского полуострова.
Этрурия — см. примеч. к с. 16.
… Наконец пал Тарент, вопреки Пирру и его эпирцам… — Город Тарент (соврем. Таранто) был основан выходцами их Спарты в 706 г. до н. э. в Южной Италии. После Третьей Самнитской войны владения Рима вплотную подошли к Великой Греции (так называлась территория Южной Италии и Сицилии, колонизованная эллинами). В 281 г. до н. э. началась война Рима с Тарентом. Пирр (319–273 до н. э.), царствовавший в Эпире в 307–302 и 296–273 гг. до н. э., блестящий полководец и отчаянный авантюрист, вмешался в борьбу Рима и Тарента на стороне последнего, нанес Риму два поражения в 280 и 279 гг. до н. э., причем вторая битва была им выиграна с огромным напряжением ("Пиррова победа"), но в 275 г. до н. э. потерпел неудачу и вынужден был покинуть Италию. Победа далась Риму с большим трудом, ибо мощных армий у него тогда еще не было.
Эпир — историческая область (в конце IV в. — 161 г. до н. э. — отдельное царство) на северо-западе Греции.
… пала и Этрурия, вопреки Овию Пакцию и его самнитам, Бренну и его галлам. — Этруски и галлы были союзниками самнитов в Третьей Самнитской войне, в результате которой те были покорены, Этрурия признала римскую гегемонию, а галлы ушли из италийских земель к югу от реки Пад (соврем. По). Все это, однако, произошло еще до Тарентинской войны.
Овий Пакций — жрец самнитов, перед битвой под Аквилонией восстановивший старинный, по его словам, воинский ритуал своего племени: в закрытое со всех сторон помещение, сооруженное из щитов и покрытое сверху полотнищем, вводили по одному самых знатных по рождению и деяниям воинов и у алтаря, среди закланных жертв, заставляли произнести зловещее заклятие, обрекающее на смерть его самого, его семью и род, если он не выйдет в бой за военачальником, убежит из строя или не убьет на месте беглеца. Тех, кто отказывался дать такую клятву, тут же убивали. Войско, составленное из связанной общим заклятием знати, получило название "полотняного".
Бренн — вождь галлов, победивших римлян при Аллии и захвативших Рим (см. примеч. выше).
… когда в Вавилоне скончался Александр Великий, Рим был — или вскоре должен был стать — владыкой во всей Италии. — Александр умер в 323 г. до н. э., а последние города Великой Греции подчинились Риму к началу 60-х гг. III в. до н. э., т. е. более полувека спустя… Дуилий присоединяет Сардинию, Корсику и Сицилию… — Первая Пуническая война (264–241 до н. э.) была вызвана борьбой Рима и Карфагена за Сицилию. Вначале римляне терпели поражения из-за слабости их морских сил, но к 260 г. до н. э. они построили флот, и консул Гай Дуилий одержал победу в морском сражении при мысе Милы в Сицилии. Война, правда, на этом не закончилась, но все же римляне победили, получили бывшие карфагенские владения в Сицилии и на Корсике. А уже после войны, воспользовавшись неурядицами в Карфагене, они захватили в 238 г. до н. э. Сардинию… Сципион — Испанию… — Неясно, что имеется в виду. Знаменитый римский полководец Публий Корнелий Сципион (ок. 235 — ок. 183 до н. э.) во время Второй Пунической войны (218–201 до н. э.) сумел победить карфагенские войска в Испании, а затем, нанеся решающее поражение Ганнибалу (см. примеч. ниже), добился победы в войне, по результатам которой Испания отходила к Риму. Его неродной внук (сын приемного сына) Публий Корнелий Сципион Эмилиан (ок. 185–129 до н. э.) окончательно замирил Испанию, покончив с Нумантинской войной (см. примеч. к с. 100) в 133 г. до н. э… Эмилий Павел — Македонию… — Во время Третьей Македонской войны (см. примеч. к с. 100) консул Луций Эмилий Павел (изв. 193–151 до н. э.) разбил в 168 г. до н. э. в битве при Пидне царя Персея (см. там же).
… Секстий — Трансальпийскую Галлию… — Завоевателя южных районов Трансальпийской Галлии (см. примеч. к с. 14) — нынешнего Прованса — звали Гай Секстий (ум. в 124 г. до н. э.).
… Звали его Ганнибал, а изранил он тело Рима в трех местах: у Требии, Тразименского озера и Канн. — Ганнибал Барка (247/246— 183 до н. э.) — карфагенский полководец и государственный деятель, главнокомандующий карфагенской армией во время Второй Пунической (римляне называли ее Ганнибаловой) войны; в 218 г. до н. э. двинулся из Испании, преодолел Пиренеи, прошел по южному побережью Галлии, совершил сложнейший переход через Альпы и вторгся в Италию. В трех битвах — на реке Требии (соврем. Треви, приток По; 218 г. до н. э.), при Тразименском озере в Средней Италии (217 г. до н. э.) и при местечке Канны в Южной Италии (216 г. до н. э.) он разгромил римские войска, причем в двух последних битвах погибли командовавшие римскими войсками консулы. Однако Рим продолжал борьбу. Поддержки со стороны Македонии (Первая Македонская война 214–205 гг. до н. э.) Ганнибалу оказалось недостаточно, попытка в 212 г. до н. э. с ходу взять Рим не удалась, Сципион удачно действовал в Испании против карфагенян, а в самом Карфагене правящие круги с подозрением относились к популярному полководцу.
…он покинет Италию только тогда, когда Сципион ударит по Карфагену и война перекинется за море. — В 205 г. до н. э. Сципион предложил отчаянно смелый план: перенести боевые действия в Африку, невзирая на то что Ганнибал оставался в Италии. Весной 204 г. до н. э. Сципион высадил десант на африканском побережье. Карфагенское правительство отозвало Ганнибала, и великий пуниец покинул Италию, где не понес ни одного поражения.
… Здесь Ганнибал даст сражение у Замы и проиграет его, укроется у Прусия и примет яд, чтобы не попасть живым в руки римлян… — В 202 г. до н. э. при г. Зама близ Карфагена Ганнибал потерпел поражение — это была его первая и последняя проигранная битва. Согласно миру 201 г. до н. э. Карфаген терял все колонии, выплачивал огромную контрибуцию и лишался почти всего флота.
Однако Ганнибал оставался популярным в Карфагене; в 196 г. до н. э. он был избран на высшую государственную должность суффета (два суффета были подобны римским консулам) этой торговой республики и предпринял ряд мер по укреплению экономического положения и демократизации управления. Последнее вызвало злобу правящих кругов, и они донесли в Рим, что Ганнибал замышляет новую войну. Римское посольство явилось в Карфаген требовать выдачи Ганнибала, но тот бежал к Антиоху III (см. примеч. к с. 94) и, как утверждают древние историки, подстрекал его к борьбе с Римом. После поражения Антиох по мирному соглашению 188 г. до н. э. должен был выдать Ганнибала. Тот снова бежал и оказался в Вифинии (см. примеч. к с. 107). Царь Прусий I (правил ок. 230 — ок. 182 до н. э.) сначала принял изгнанника, но затем согласился выдать его Риму. Узнав об этом, Ганнибал принял яд.
105… они идут против неизвестных, непонятных и почти что неуловимых племен: бойев и инсубров. — Кельтские (галльские) племена бойев и инсубров исстари жили в долине По и были давно известны римлянам. Цизальпийская Галлия была покорена римлянами в начале III в. до н. э., но во время Второй Пунической войны галлы в основном поддержали Ганнибала. В 201 г. до н. э. римляне еще раз попытались привести галлов к покорности, но потерпели поражение. Однако со 191 г. до н. э. Цизальпийская Галлия снова оказалась в руках римлян.
… Упершись спиной в Апеннины, Рим напрягает руки, чтобы оттеснить галлов на несколько льё. Меж тем двух легионов и одного военачальника оказывается достаточно, чтобы разбить Антиоха… — Дюма — француз, а следовательно, потомок галлов (в XIX в. французские историки романтического направления, чьим внимательным читателем и популяризатором был Дюма, настаивали на самобытных галльских — не латинских и не германских — корнях Франции), и, движимый патриотическими чувствами, он явно преувеличивает мощь галлов и слабость Антиоха III.
… В Наксосе существовали даже алтари Безбожию и Неправедности. — Наксос — остров в Эгейском море и одноименный город-порт на нем.
Признание обожествленных качеств (Мужество, Верность и т. п.) было характерно для римской, а не греческой религии. Поклонение вредоносным силам есть феномен архаических религий, где божества или духи рассматриваются не как добрые или злые, но лишь как могущественные, поэтому всем им полагался определенный культ, дабы умилостивить их. Этическую окраску подобным верованиям придали христианские апологеты II–III вв. в полемике с язычеством, к тому же нередко придумывавшие несуществующих языческих богов.
… Кровосмешение вошло в повседневный обиход… — Кровосмешение — естественный способ брачных связей богов, являющихся потомками верховного божества (старшие боги в античной мифологии — дети бога Кроноса, младшие — Зевса; Осирис и Исида — дети бога воздуха Шу и богини влаги Тефнут и т. п.). Поскольку фараоны считались земными богами, им — и только им, в качестве знака божественности, — полагалось жениться на родных сестрах; для всех остальных это было абсолютно исключено.
… Антиохия и Селевкия, две сестры-гречанки, сражались между собой столь же ожесточенно, как и те греческие братья, что звались Этеоклом и Полиником. — Явная ошибка или описка Дюма: Селевкия — второй по значимости город государства Селевкидов — не была противником его столицы Антиохии. Здесь, конечно, имеются в виду длительные (кон. IV — сер. II в. до н. э.) войны между державой Селевкидов и Египтом, управляемым потомками Птолемея Лага, — двумя обломками монархии Александра Великого. Этеокл и Полиник — в греческой мифологии братья, сыновья Эдипа и его матери Иокасты, фиванской царицы. Выяснив, что они сыновья собственной бабки, братья потеряли всякое уважение к отцу и издевались над ним. За это Эдип проклял их, предсказав им делить наследство с оружием в руках, пока они не убьют друг друга. Потому братья договорились править Фивами поочередно по году, но Этеокл отказался передать трон Полинику и изгнал его. Тот вернулся с войском. В единоборстве у стен осажденного Полиником и защищаемого Этеоклом родного города оба брата погибли.
… Все эти жалкие царьки, потомки Лага и Селевка, поддерживали свое владычество лишь с помощью северян, выписываемых из Греции… Однажды Рим запретил ввозить туда это живое, мускулистое мясо войны… — Македония и находившаяся под ее гегемонией Греция постоянно вмешивались в борьбу Сирии и Египта, посылая свои войска. Кроме того, с IV в. до н. э. в Греции активно развивалось наемничество, и воины-профессионалы из Эллады сражались за плату на стороне как Птолемеев, так и Селевкидов. После покорения Македонии и установления римского господства над Грецией самостоятельное ведение войн греческими государствами стало невозможным, а наемничество было запрещено.
… без притока молодой воинственной крови в жилах сирийской и ассирийской монархий перестала теплиться жизнь. — Неясность: Ассирия как государство перестала существовать еще в 609 г. до н. э., уничтоженное соседями, и в первую очередь Вавилонией. Государство Селевкидов еще в III в. до н. э. потеряло Иран, где утвердились парфяне (см. примеч. к с. 38). В 141 г. до н. э. Парфянское царство отбило у Селевкидов Месопотамию, т. е. земли, некогда принадлежавшие Ассирии. Но парфянские цари никогда не были союзниками греков или македонцев, наследники же частей империи Александра, кроме Селевкидов, никогда не владели Междуречьем. Вероятно, здесь имеются в виду египетская и сирийская монархии. Филипп VМакедонский — см. примеч. к с. 100.
Эпир — см. примеч. к с. 104.
Фессалия — область на северо-востоке Греции, плодородная равнина, окруженная со всех сторон горами.
106… обладал тем, что Антипатр называл "ловчими сетями Греции", —
укреплениями Элатеи, Халкиды, Коринфа и Орхомена. — Антипатр (397–319 до н. э.) — македонский военачальник, приближенный Филиппа и Александра, правитель Македонии во время восточного похода Александра. Когда после смерти Александра начались смуты, Антипатр в 321 г. до н. э. на короткое время стал регентом всей монархии Александра, но вскоре умер.
Элатея (соврем. Драхмани) — город в Фокиде, в Центральной Греции.
Халкида — здесь, вероятно, приморский город в Этолии, в центральной части Греции.
Коринф — см. примеч. к с. 315.
Орхомен — см. примеч. к с. 356.
… Рим послал против него Фламинина… он… обнажил меч и разбил Филиппа в беспощадном сражении при Киноскефалах. — В 197 г. до н. э. полководец Тит Квинкций Фламинин (ок. 226 — 174 до н. э.) нанес Филиппу V поражение в битве при городе Киноскефалы в Фессалии.
Ущелье Антигона (соврем. Гонни) — проход из Фессалии в Македонию в долине реки Пеней. Ущелье получило название по имени македонского царя Антигона II Гоната (правил в 283–239 гг. до н. э.), подчинившего значительную часть Греции во время войн между наследниками Александра Македонского и потомками этих наследников.
… Благо да будет римлянам… — 1 Маккавейская, 8: 23–25, 27.
… Для чего ты наложил тяжкое твое иго… — 1 Маккавейская, 8: 29, 31–32.
107 Верея, Елеас — местоположение этих пунктов неизвестно.
… там и не заподозрили… что погиб новый Леонид… — Имеется в виду спартанский царь Леонид (507/508-480; царь с 488 г. до н. э.), героически павший в битве при Фермопилах.
… Сципион Эмилиан как раз завоевал для него все побережье Африки… — Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший (см. примеч. к с. 104) возглавил в 147 г. до н. э. римские войска в Третьей Пунической войне (149–146 до н. э.). Весной 146 г. до н. э. ему удалось блокировать и взять штурмом Карфаген. Город был разрушен, место его предано проклятию, а владения обращены в римскую провинцию Африку.
… Помпей — Сирию и Понт… — Митридат VI Эвпатор (см. примеч. к с. 37), царь Понта, предпринял серию длительных войн с Римом (три Митридатовы войны — 89–84, 83–81, 74–64 гг. до н. э.) за господство над Азией и Грецией. Войны эти были не всегда благоприятны для Рима, поскольку восточные римские провинции поддерживали Митридата, но в конце концов, после того как в 66 г. до н. э. верховное командование в войне с Митридатом было поручено Помпею (см. примеч. к с. 19), военное счастье окончательно перешло на сторону римлян. За два года Помпей овладел Малой Азией, превратив ряд независимых государств, в т. ч. Понт, в римские провинции, а в 64 г. до н. э. занял последние остатки монархии Селевкидов, включая Финикию и Иудею. Земли Селевкидов составили провинцию Сирию, а Иудея осталась формально самостоятельным государством под римским протекторатом.
… Марий — Нумидию… — Масинисса (ок. 238–149 до н. э.) в 215 г. до н. э. объединил нумидийские (см. примеч. к с. 12) земли и, став союзником Рима во Второй Пунической войне, получил в 201 г. до н. э. значительную часть африканских владений Карфагена. Его внук Югурта (см. примеч. к с. 13), объединив все государство в своих руках, стал угрожать африканским владениям Рима. В 111 г. до н. э. началась т. н. Югуртинская война, сначала весьма неудачная для Рима (Югурта широко подкупал римских полководцев); завершилась она все же решительным поражением Югурты, которое нанес ему в 105 г. до н. э. Гай Марий (см. примеч. к с. 35). Нумидийское царство, однако, было сохранено, на престол был возведен брат Югурты Гауда (годы жизни неизв.). Лишь в 46 г. до н. э. Нумидия была превращена в римскую провинцию Новая Африка.
… Юлий Цезарь — Галлию и Британию. — Галлия была покорена Цезарем в 58–50 гг. до н. э. Во время Галльской войны будущий диктатор дважды — в 55 и 54 гг. до н. э. — высаживался в Британии, побеждал британские племена и налагал на них дань, но установить римское господство над островом ему не удалось. Основная часть острова Британия — кроме нынешней горной Шотландии — была завоевана в 43–78 гг. н. э.
… Рим получил в наследство от Никомеда Вифинию… — Никомед ГУ Филопатор (правил ок. 94–74 гг. до н. э.) завещал в 74 г. до н. э. незадолго до смерти свое государство Вифинию (область в Малой Азии, входившая в державу Ахеменидов, потом — Александра, а с 297 г. до н. э. составлявшая отдельное царство) — Риму, видимо из страха перед Митридатом.
… от Аттала — Пергам… — Царь Пергама (см. примеч. к с. 100) Аттал III (правил в 138–133 гг. до н. э.) завещал свое царство Риму то ли потому, что Рим все равно фактически владел Пергамом, то ли потому, что этот жестокий тиран и самодур до того ненавидел людей, что решил: под римским господством его подданным будет еще хуже, чем при нем.
… от Аппиона — Ливию. — Египетский царь Птолемей IX Сотер (правил в 116–107 гг. до н. э.) завещал как отдельное царство западную часть египетского государства — Киренаику (нынешнюю восточную часть Ливии) своему младшему сыну Птолемею Аппиону; тот же в 96 г. до н. э. завещал свое государство Риму.
Канон — см. примеч. к с. 89.
Тир, Сидон, Карфаген — см. примеч. к с. 77.
Александрия — см. примеч. к с. 15.
Афины — см. примеч. к с. 77.
Тарент — см. примеч. к с. 104.
Сибарис — греческий город в Южной Италии, основанный в 720 г. до н. э.; жители его славились изнеженностью (отсюда слово "сибарит").
Регий — см. примеч. к с. 104.
Сиракузы — см. примеч. к с. 42.
Селинунт — греческий город на Сицилии.
Массилия (соврем. Марсель) — основана греками ок. 600 г. до н. э. Эридан — греческое название реки По.
… по Кадисскому проливу — к Большому морю и Касситеридам… — Кадисский пролив (Геркулесовы столбы) — Гибралтарский пролив. Большое море — Атлантический океан.
Касситериды (Оловянные острова) — скорее всего так греки именовали Британские острова, где добывалось олово, необходимое для производства бронзы.
… через пролив у Сеста — в Понт Эвксинский… — Сеет — см. примеч. к с. 89.
Понт Эвксинский — см. примеч. к с. 16.
Татария (или Великая Татария) — западноевропейское средневековое название Центральной Азии, населенной кочевыми народами — "татарами", совершавшими опустошительные набеги и завоевания в прилегающих регионах. Позднее в обиход вошло также наименование Малая Татария, обозначавшее населенные татарами области России — Нижнее и Среднее Поволжье и особенно Крым.
Мемфис, Элефантин, Эфиопия — см. примеч. к с. 76.
108… Рим, как и остальное человечество, ожидал Спасителя, предска занного Даниилом и возвещенного Вергилием… — Под предсказанием Даниила здесь подразумеваются следующие строки из Книги пророка Даниила: "Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, славо и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему; владычество его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство его не разрушится" (Даниил, 7: 13–14). Это пророчество считается предсказанием о грядущем Христе (Ветхий днями — Бог Отец).
О провозвестии Вергилия см. примеч. к с. 15.
… божества, кому заранее возводились алтари под именем Неведомого Бога — Deo ignoto. — Поскольку греки и римляне не были уверены, что им известны все боги, а забыть кого-либо из них, не принести ему соответствующие жертвы — значило навлечь на себя гнев этого божества, то они ставили алтари Неведомому богу. На рубеже н. э. этот бог стал пониматься — возможно, не без влияния иудейской религии — как верховное божество.
… В Тибете, Японии бог Фо, пекущийся о процветании народов, изберет для появления на свет лоно белокожей девственницы. — Фо — китайское имя Будды.
Будда (санскр. "просветленный") — в религии буддизма человек, достигший наивысшего предела духовного развития. Обычно это слово прилагается к основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме, получившему прозвище Шакьямуни ("Мудрец из племени шакья"). По легенде, Сиддхартха Гаутама родился от царя Шудходханы и царицы Майядевы, причем царице незадолго до рождения сына приснилось, что в нее вошел белый слон (о белом цвете ее кожи в буддийских легендах ничего не говорится, девственной Майядева объявлена в очень поздних, складывавшихся не без европейского влияния повествованиях). Родина буддизма — Индия, где буддизм возник скорее всего в VI в. до н. э. и господствовал до конца I тыс. н. э.; в Китае он появился в I в. н. э., в Японии — лишь в VI–VIII вв. н. э., причем в обоих последних странах распространен не собственно буддизм, а причудливая смесь его с иными, в т. ч. древними народными верованиями. В Тибет буддизм начал проникать в VII в. н. э., но сложные формы современного ламаизма — с иерархией священников-лам, с пышным культом — принял лишь в XVI в., а светскую власть над Тибетом верховные ламы (далай-ламы, т. е. "океан-ламы") обрели лишь в XVII в. Ни в одном из течений буддизма Будда не является покровителем народов — он лишь указывает человеку путь спасения, либо, в частности в ламаизме, помогает ему на этом пути.
… В Китае дева, понеся от цветка, родит сына, который станет царем вселенной. — Современные мифологоведческие исследования не фиксируют подобной китайской легенды. В китайских мифах необыкновенные личности — мудрецы, правители — нередко порождаются чудесным образом: от луча света, падающей звезды, от того, что дева вступает в след великана и т. п., но, во-первых, не порождаются от цветка, во-вторых, это относится к легендарному прошлому — китайские мифы не знают грядущих спасителей, а в-третьих, ни о каких будущих царях вселенной в Китае и говориться не могло, ибо царствующий император и был повелителем Поднебесной, т. е. в пределе — всего мира, а существующие правители могли властвовать лишь с его согласия (в XVIII в. прибытие посла Великобритании ко двору императоров интерпретировалось в Китае как выражение покорности "мучномордых варваров").
… В лесных чащах Германии и Британии, там, где укрылись вымирающие племена, их друиды ожидают избавителя, рожденного от девственницы. — Переход спасавшихся от римского господства галльских племен (не столько вымирающих, сколько романизируемых) в Германию был весьма редок, на остров Британию — чаще, но и это не было правилом; бритты подвергались довольно слабой ассимиляции, Германия вообще лежала вне власти Рима и даже вне его влияния. Друиды — жрецы малоизвестного современным ученым культа галльских божеств; насколько можно судить по отрывочным сведениям, они пророчествовали о появлении героя, который избавит галлов и бриттов от римлян, но о его рождении от девственницы ничего не говорилось.
109… каким был Иерусалим…на восемнадцатом году правления Тиберия,
под властью Понтия Пилата, шестого прокуратора Иудеи… — В эпоху Римской республики прокуратор (от лат. procurare — "заботиться", "обеспечивать") — лицо, ответственное за сбор доходов владельца поместий, обычно вольноотпущенник. С установлением Империи значительная часть государственных имуществ и доходов оказалась в частном владении императора. Помимо государственной казны — эрария, возникла собственная императорская казна — фиск, которая только и имела право чеканить золотую монету. Контроль за сбором налогов в фиск в той или иной части страны осуществляли назначенные императором прокураторы, оказавшиеся одновременно и служащими частного лица и государственными чиновниками. Прокураторы стали назначаться не из вольноотпущенников, а из всадников — второго после сенаторов сословия Древнего Рима. Они могли выполнять и другие поручения императоров, на них иногда возлагались и функции государственного управления, им придавались воинские контингенты. В этом случае они именовались не только прокураторами, но и префектами (в середине XX в. найдена надпись, где Пилат поименован префектом) или — по-гречески — гегемонами (правильнее: игемонами). Именно таким прокуратором был Понтий Пилат (ум. в 39 г.?), пребывавший в этой должности в 26–33 гг. н. э. Это был неплохой администратор, но человек, глубоко чуждый народу Иудеи, относившийся к его религии с презрением, как к темному суеверию. Ученые до сих пор спорят, каким по счету прокуратором Иудеи был Пилат — пятым или шестым. Дело в том, что после смерти Ирода Великого (см. след, примеч.) по его завещанию царем Иудеи становился его старший сын Архелай (ум. в 41 г. н. э.; правил 4 до н. э. -6 н. э.), однако Август не утвердил завещания, хотя и оставил Архелая правителем Иудеи, но с титулом не царя, а этнарха (букв. гр. "начальника народа"), возложив на него и обязанности римского администратора. Спор идет о том, был ли он официально назначен на должность прокуратора: если да, то Пилат будет шестым, если нет — то пятым.
… Ирода Антипы, тетрарха Галилеи… — Фактически последний царь Иудеи Ирод I Великий (ок. 73 — 4; правил с 37 г. до н. э.) разделил свое государство на четыре части (кроме того, город Иерусалим находился под юрисдикцией первосвященника). Северная часть — Галилея — была передана одному из его сыновей, Ироду Антипе (ум. в 40 г. н. э.; правил 4 до н. э. — 39 н. э.) с титулом тетрарха (в традиционном русском переводе — "четвертовластника", т. е. владетеля четвертой части), хотя придворные и жители Галилеи именовали его царем.
… и Каиафы, поставленного на тот год первосвященником. — Ср. Иоанн, 18: 13. Это выражение — "на тот год первосвященником" — употреблено евангелистом Иоанном иронически. Формально первосвященники избирались храмовым советом (Санхеддрином, гр. Синедрионом) пожизненно, но по существу сирийские и иудейские цари, а потом и римские наместники весьма часто меняли первосвященников фактически своей властью. Первосвященники же стремились закрепить этот пост если не за собой, то хотя бы в своем роду. Так, первосвященник Ханан бен Сет (Анан; в синодальном переводе — Анна), занимавший этот пост в 6—15 гг. н. э., сохранял влияние на дела иудейской общины в течение всей своей жизни (евангелия говорят о первосвященниках во множественном числе, подразумевая наряду с номинальным главой культа и Ханана) и добился поставления в этот сан своих родственников; всего первосвященниками было шесть членов его семьи, в т. ч. в 25–36 гг. н. э. его зять Иосиф Каиафа (есть сведения, что в 18–36 гг.).
… Стена, некогда возведенная Неемией… — См. примеч. к с. 86. Долина Иосафата — см. примеч. к с. 76.
Масличная гора (Елеонская) — холм высотой 800 м к северо-востоку от Иерусалима.
Кедрон — см. примеч. к с. 76.
… напротив селения Гефсимания, где было много масличных давилен, давших ему имя. — Гефсимания (на арам, "давильня масла") — сад или владение под Иерусалимом, к востоку от него, у подножия Масличной горы.
Мертвое море — бессточное озеро на юго-востоке Палестины, во впадине Гхор; расположено на 395 м ниже уровня моря; одно из самых соленых озер мира, органическая жизнь в нем практически отсутствует; по библейскому рассказу, образовалось из серного дождя, Иордан; от Иерусалима до Мертвого моря по прямой около 25 км.
Ен-Гадди — см. примеч. к с. 91.
Иордан — важнейшая река в Палестине; начинаясь в горах Ермон (Хермон) в Ливане, пересекает озеро Хула, достигает Генисаретского (Тивериадского) озера, выходит из него и течет далее на юг, впадая в Мертвое море.
Иерихон — город в 25 км к северо-востоку от Иерусалима. Источник Гион — расположен к юго-востоку от Иерусалима. Ен-Рогел — гора к югу от Иерусалима.
Царские сады — находились на дороге к Мертвому морю, у ворот Источника.
Вифлеем — город в 10 км к юго-западу от Иерусалима, на дороге в Хеврон (чуть в стороне от нее, к востоку); в Ветхом завете родина царя Давида; в Новом завете — место рождения Иисуса Христа. Хеврон — доеврейский город Ханаана; расположен в 35 км к юго-западу от Иерусалима.
110 Эммаус — селение к западу от Иерусалима.
Иоппия — город на побережье Средиземного моря, к западу от Иерусалима; будущая Яффа, вокруг которой вырос современный Тель-Авив.
Силоам — селение к юго-востоку от Иерусалима.
Гаваон — см. примем, к с. 74.
… оставляя справа могилу первосвященника Анании, а слева — холм Голгофу. — Анания (ум. в 58/59 г. н. э.) — первосвященник с 47 или 50 г. н. э.; убит во время антиримского восстания.
Голгофа — см. примем, к с. 72.
… на дорогу к Самарии и Галилее… — См. примем, к с. 91.
Анафоф — город в 7 км к северо-востоку от Иерусалима.
Вефиль — город в 20 км к северу от Иерусалима.
Гора Соблазна — расположена к юго-востоку от Иерусалима; по преданию, на ее склоне Соломон в старости установил алтари чужеземным богам.
… заключал в себе дома Анапа и его зятя Каиафы… — См. примем, к с. 109.
111 Ксист — так у римлян называлась открытая терраса загородних построек, предназначенная для прогулок.
… вести счет времени так, как принято ныне, а не так, как это делают еще и сегодня римляне. — В Древнем Риме (и это оставалось общепринятым до X в., а кое-где и до XVII в.) сутки начинались с рассвета (начало первого часа), который на широте Рима приходится в декабре приблизительно на 7.30 утра, а в июле приблизительно на 4.30 утра. Светлое и темное время дня делилось каждое на 12 часов, так что часы дня и ночи не совпадали, а в течение года продолжительность указанных часов менялась. Так, в декабре один час светлого времени был приблизительно равен нашим 45 мин., а в июле — 1 ч. 15 мин.
… По случаю Пасхи город выглядел необычно. — Пасха — древний иудейский праздник ("песах" — др. — евр. "прохождение") в ознаменование исхода из Египта; отмечается в честь освобождения народа Израиля.
Перистиль — прямоугольный двор, сад, площадь, окруженные с четырех сторон крытой колоннадой.
Офел — предместье у восточных стен Иерусалима, населенное беднотой.
112… каждый год один из этих двоих попеременно заступал на место первосвященника… — См. примем, к с. 109.
Ковчег Завета — особый переносный ящик, в котором хранилось Писание. В таком ковчеге евреи переносили свой Завет во времена Исхода и завоевания Земли обетованной. С построением Иерусалимского храма Писание стало храниться в этом здании, но в дни празднования Пасхи, в воспоминание о странствиях, ковчег выносили во двор храма и помещали в особый шатер, как бы в палатку кочевников.
113 Вифания — селение к юго-востоку от Иерусалима.
Назарет — город в Галилее; расположен между побережьем Средиземного моря и Генисаретским озером.
… Где комната, в которой бы мне есть пасху с учениками моими? — Здесь пасха — пасхальный агнец.
… у фарисея Никодима и у Иосифа Аримафейского. — Имеются в виду тайные ученики Христа, члены Синедриона.
Фарисеи (от др. — евр. "перушим" — "отделенные") — течение в иудаизме, выступавшее за скрупулёзнейшее соблюдение всех религиозных догматов и предписаний, за политическую независимость от иностранного господства (в тот момент — римского), веровавшие в загробное воздаяние и скорый приход Мессии; опорой фарисеев были т. н. книжники, религиозные авторитеты, знатоки и толкователи Писания, учителя в религиозных школах, руководители общин, не принадлежавшие к служителям Храма.
… древность постройки, восходящей ко временам Вавилона и Ниневии. — См. примеч. к с. 77.
… циклопическим камням… — То есть гигантским. Выражение произведено от названия циклопов (гр. киклопов), одноглазых великанов греческой мифологии.
… неутомимые воители… — Нижеследующие имена заимствованы из 2 Царств, 21–23.
114 Фасдамим — местоположение неизвестно.
Пустыня Моав — каменистая равнина к востоку от Мертвого моря, ныне — северная часть плоскогорья Эш-Шара.
… в сражении у Гефа убивший воина из потомков рефаимов… — Геф — город в 50 км к юго-западу от Иерусалима.
Рефаимы — согласно Писанию, древнейшие обитатели Ханаана, люди исполинского роста и огромной силы. Еще до прихода евреев в Землю обетованную были покорены аммонитянами и моавитянами и почти исчезли; очень немногие из них, в т. ч. знаменитый Голиаф, сраженный юным Давидом, еще жили в Палестине; с течением веков их стали воспринимать как обитателей подземного мира.
115… отдыхая от обязанностей мужа совета… — То есть от обязанностей члена Синедриона.
… пройдя притвор, попадаешь в святилище, за которым угадывается Святая Святых. — В центре Иерусалимского храма находилось огороженное завесой место, именовавшееся Святая Святых. Это пустое помещение понималось как место присутствия Яхве. Вход туда был запрещен, и лишь первосвященник мог раз в году вступить в Святая Святых (2 Паралипоменон, 3).
116 Мирт — см. примеч. к с. 14.
Теребинт (терпентинное дерево) — растение, дающее пахучую смолу. Рожковое дерево — вечнозеленое дерево, растущее по всему побережью Средиземного моря; его плод — длинный боб, заполненный сладкой мякотью: употребляется как лакомство под именем рожков.
Родос — большой плодородный остров в Эгейском море, у юго-западного побережья Малой Азии, с благоприятным климатом и богатой растительностью.
Эврот — главная река Лаконии; протекает около Спарты, впадает в Лаконский залив.
Виффагия — селение в 1,5 км к юго-востоку от Иерусалима. Евангелие детства — здесь: рассказ о детстве Иисуса (см. вступление к комментарию).
117 Хитон — узкая нижняя одежда древних греков и иудеев; род рубашки с подолом, выступающим ниже колен.
Капернаум — город на северном берегу Генисаретского озера. Самария — см. примем, к с. 145.
… уже тогда мать Иисуса почитали всеблаженной… — В Писании ничего не сказано о том, что Мария чем-то выделялась среди окружающих. Первые сведения об особом ее жизненном пути содержатся в созданной в Египте около 200 г. "Книге о рождестве Марии"… родительница его происходит из царского рода Давида, сына Иессея. — Иессей — отец царя Давида.
118… Мариам, что значит "морская звезда". — Этимология имени Мариам (так на арамейском, разговорном языке Палестины I в.; по-еврейски — Мириам) неясна. Возможно, это значит "сильная", "прекрасная". Именование Богородицы "звездой моря" восходит к средневековым латинским гимнам.
… Се, дева во чреве приимет… — Дюма соединяет здесь цитаты: Исайя, 7: 14 и Исайя, 11: 1–2.
… Иосиф, старец из дома Давидова. — В Писании ничего не говорится о возрасте Иосифа, но в "Книге о рождестве Марии" он назван стариком, что принято позднейшей иконографией.
120… В 369 году эры Александра вышел эдикт императора Цезаря Авгу ста… — Ошибка в вычислениях. Эра Александра отсчитывалась от 336 г. до н. э., года его восшествия на македонский престол, так что 369 г. эры Александра = 33 г. по рождеству Христову, т. е. году крестной смерти Христа. Рождество же приходится на 336 г. этой эры. Кроме того, в Иудее действовала селевкидская эра, отсчитывавшаяся от первого года по восшествии на престол Селевка 1 Никатора, т. е. от 312 г. до н. э.; позднее эта эра была ошибочно названа Александровой. Указ Августа о переписи последовал в 7 г. н. э., и этот факт создает трудности в хронологии. Мало кто сомневается, что вычисленная в VI в. монахом Дионисием Малым дата рождества Христова неточна: трудность в том, что Ирод Великий, с которым связаны события земной жизни Спасителя ("избиение младенцев"), умер в 4 г. до н. э., а о переписи (во время ее проведения Иисус родился) более ранней, нежели указано выше, ничего не известно. 122… это действительно Мессия, обещанный нам Писанием. — В рели гиозных представлениях иудаизма в момент тяжких бед и испытаний Израиля должен явиться праведный царь, выходец из дома Иессеева, помазанник (др. — евр. "машийах", арам, "мешиха", грецизированное "мессия") Божий, который устроит судьбы избранного народа. В писаниях пророков богоизбранный царь постепенно превращается из политического руководителя во всечеловеческого примирителя, в Спасителя мира, искупившего этот мир своей смертью (например, Исайя, 53: 8).
… И зваться он будет Иисусом, что значит "Спаситель". — Неточность (см. примеч. к с. 74).
… Зовут нас Мисраил, Стефаний и Кириак… — Имена пастухов, поклонившихся Христу (Лука, 2: 8-18) в Писании не указаны; приведенные выше заимствованы из средневековых рождественских мистерий — театрализованных представлений.
… зовут нас Гаспар, Мельхиор и Валтасар. — Писание (Матфей, 2: 1-12) не называет ни имен царей-волхвов, ни их числа, ни страны, откуда они пришли (термин "маги", употребленный в греческом тексте, относится к служителям зороастрийского культа, но не обязательно в Персии, где зороастризм был государственной религией). Число их — три — появляется у богословов II–III вв., а имена, приведенные выше, — в позднее средневековье.
… она приведет вас к колыбели Спасителя, обещанного миру Зороастром. — Заратуштра (гр. Зороастр) — древнеперсидский пророк (реальное историческое лицо, жившее, по разным подсчетам, то ли в XII–X, то ли в VII–VI вв. до н. э.), основатель зороастризма, религии, признающей существование двух верховных богов: благого Ахурамазды (гр. Ормузда) и злого Анхра-Майнью (гр. Аримана). Вся мировая история есть столкновение этих высших сил; в итоге силы добра победят, чему будет способствовать явившийся перед концом мира спаситель Саошьянт (имя являет собой древнеперсидское причастие будущего времени от глагола "спасать").
123… Авраам назвал город Вифлеемом, что значит дом хлеба… — Название "Вифлеем" есть греческая форма слова "Бейт-Лахм", что означает либо действительно "дом хлеба", либо "дом Лахаму"; Лахаму — божество семитского доеврейского населения Ханаана.
124… Голос слышен в Раме… — Иеремия, 31: 15; ср. Матфей, 2: 18.
… Господь грядет в Египет… — Неточная цитата: Исайя, 19: 1.
126… они заметили двух разбойников, стоявших на часах недалеко от своих спящих товарищей. Звали их Димас и Гестас. — Апокрифические сказания приписывают младенцу Христу встречу со своими будущими сострадальцами по казни; в Писании (Лука, 23: 43) их имена не названы и появляются лишь в средневековых мистериях. Драхма — серебряная монета, первоначально, с VI в. до н. э., афинская, позднее распространилась по всему Восточному Средиземноморью; содержала 4,26 г серебра.
127… рассказывали и о трех годах жизни Иисуса в Мемфисе… — О пребывании Иисуса в Египте евангелия молчат; его жизнь в Мемфисе, древней египетской столице, описывается лишь в апокрифах.
128… купали Иссу ибн Мариам? — Исса ибн Мариам (Иисус сын Марии) — так именуется Иисус на арабском языке. Он упоминается в Коране, созданном много позднее. Пророк Мухаммад чтил Иисуса, считал его одним из великих (однако наиболее великим полагал себя самого) пророков, но не Богочеловеком. Приводимая Дюма арабская легенда упускает из виду, что в I в. н. э. по-арабски в Египте еще не говорили.
… нового пророка будут называть Назореем. — Ряд исследователей настаивает, что прозвание "назорей" было дано Иисусу не от города Назарет, а от назорейства — в иудаизме системы посвящения человека Богу. Посвященный именовался назореем (от др. — евр. "назир" — "отделенный", "посвященный") и должен был придерживаться определенных запретов: не стричься, не употреблять опьяняющих напитков (Судей, 13: 5, 7). Обычай этот восходит к архаической системе табуации.
131 …Ты сын Ионии, по имени Симон; потом ты будешь зваться Петром, станешь моим учеником и отречешься от меня. — Апокрифы приписывают маленькому Иисусу знакомство с будущими апостолами. Согласно Писанию, Петр был родом из Вифсаиды (Иоанн, 1: 44), а до встречи с Иисусом жил в Капернауме (Марк, 1:21, 29), занимался рыболовством, и познакомились они на Тивериадском озере (Марк, 1: 16–18; ср. Иоанн, 1: 40–42). Первоначальное имя Петра — Симон (правильнее — Шимон), но Иисус назвал его Кифа (правильнее — Кефа), т. е. по-арамейски — "камень", что по-гречески передается как Петр (Петрос).
… преуспевал в премудрости и возрасте… — Лука, 2: 52.
132… Тиберий… явился в Вечный город с Родоса, подобно Августу, пришедшему из Аполлонии. — Не совсем точно. При жизни Августа вокруг него постоянно плелись интриги по поводу его преемника. Ливия, жена Августа, выдвигала своего сына Тиберия. Сам Август благосклонно смотрел на своих внуков, сыновей Юлии, которых он усыновил: Гая Цезаря (20 до н. э. — 4 н. э.) и Луция Цезаря (17 до н. э. — 2 н. э.). В первой фазе событий Тиберий проиграл и был вынужден — формально добровольно, но фактически по приказу Августа — в 6 г. до н. э. покинуть Рим и жить на острове Родос в качестве частного лица. Однако после смерти Луция Тиберию было дозволено вернуться, а когда умер Гай, Тиберий был усыновлен Августом и сделан официальным преемником. Накануне кончины императора Тиберий был в Греции по государственным делам, но, получив сведения о близящейся смерти Августа, вернулся и еще успел застать своего приемного отца в живых.
Сам Август, тогда еще Гай Октавий, накануне смерти Цезаря был в Аполлонии Иллирийской (прибрежном городе в Западной Греции, на восточном побережье Адриатики; оттуда начиналась военная дорога через Балканский полуостров на Восток), где по указанию двоюродного деда набирал войска для похода то ли в Парфию, то ли в Дакию (районы к северу от Дуная в нынешней Румынии.
… Тиберий удалился на свой остров Капрею и более не показывался в Риме. — В 27 г. н. э. император Тиберий покинул Рим и поселился на острове Капрее (соврем. Капри) в Неаполитанском заливе, запретив кого-либо пускать к себе без особого разрешения. Античные писатели настаивают на том, что это объясняется глубоким презрением принцепса к раболепному сенату и народу Рима и желанием предаться разврату вдали от постороннего глаза; все это не принесло императору удовлетворения и лишь усилило его душевные страдания. Современные ученые подозревают у него психическое заболевание.
… исполнилось тридцать лет некоему человеку по имени Иоанн, что значит "Благодать Божья", сыну Захарии и Елисаветы, родственницы Девы Марии. — Имя Иоанн (др. — евр. Иоханан) представляет собой сокращенное др. — евр. Иехоханан, т. е. "Бог (Яхве) милостив". Мать Иоанна Крестителя, Елисавета, была родственницей Девы Марии, но степень их родства в Писании (Лука, 1: 36) не указана… и сделается он предтечею Мессии… — Пророки утверждали, что явлению Мессии должно предшествовать появление его посланца — пророка Илии (Малахия, 3: 1 и 4: 5–6). В Иоанне Крестителе его последователи и первые христиане видели новое воплощение Илии.
133… питаясь акридами и диким медом… — Акриды — саранча; отваренная в соленой воде и высушенная на солнце, служит пищей бедуинам; символ низшего сорта еды.
… Мытарям же, собирающим подати, советовал… — Мытари (от рус. "мыто" — "пошлина") — сборщики налогов, в данном случае — римских налогов. По ортодоксальным иудейским установлениям, еврей, поступивший на такую службу, исключался из общины.
… для фарисеев и саддукеев у него не находилось ничего, кроме слов порицания. — Течением в иудаизме, противостоявшим фарисеям (см. примеч. к с. 113), были садуккеи (этимология неясна, считается, что слово произошло от имени древнего первосвященника Садока), отрицавшие загробное существование, откладывавшие приход Мессии на неопределенно-далекое будущее, довольно терпимо относившиеся к эллинистической культуре и иноземному господству; в основном рекрутировались из храмового священства.
… Порождения ехиднины… — См. Лука, 3: 7. Ехидна (Эхидна) — в греческой мифологии полудева-полузмея, в обыденной речи античных времен — зубастое чудовище.
134… С той поры Иисус понял, что путь его освящен свыше, и принял имя "Христос"… — Христос — означает по-гречески "помазанник", буквальный перевод слова "мессия".
135… Подобно тому как некогда Самуил помазал Давида на царство земное… — Самуил — ветхозаветный пророк, один из последних судей Израилевых, т. е. выборных руководителей, бывших у еврейских племен до установления монархии. Самуил помазал на царство сначала Саула (1 Царств, 10: 1), затем, когда Бог отверг Саула за нечестие, тайно помазал в цари Давида (1 Царств, 16: 13). Помазание состояло в возлиянии священного елея на голову.
… Это странное создание… было исполнено скорбной, горделивой и мрачной красоты, что гораздо позже откроется Данте и Мильтону. — В романтизме XIX в., а к нему принадлежало и творчество Дюма, заметна тенденция к романтизации образа дьявола, в котором видели пусть и проклятого, но сильного и несгибаемого борца против Бога; эту тенденцию романтики усматривали, не всегда основательно, и у более ранних писателей. Действительно, в поэме "Потерянный рай" английского поэта Джона Мильтона (1606–1674) Сатана не лишен мрачного величия, однако в "Божественной комедии" Данте Алигьери (см. примеч. к с. 43) ничего подобного, нет. Упоминается некий "черный херувим", ловкий в словопрениях ("Ад", XXVII, 114–120), но Сатана ("Ад", XXXIV, 26–54) отвратителен и страшен — не более.
… крадущимся аки тать в нощи. — Это ссылка на Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам (5: 2). Дюма имеет в виду дьявола, хотя в Писании эта метафора подчеркивает неожиданность явления Всевышнего.
… самым прекрасным из архангелов… — По сложившейся к началу VI в. богословской традиции, считается, что имеется девять различных ангельских разрядов (чинов) по степени близости ангельских существ к Богу: серафимы, херувимы, престолы, господства, силы, власти, начала, архангелы, ангелы.
Люцифер (лат. "светоносный", "утренняя звезда", т. е. Венера), восставший против Бога, низвергнутый с небес и ставший владыкой ада — Сатаной — был, по уверениям теологов, серафимом, т. е. ангелом высшего ранга. В обыденной речи, впрочем, слово "архангел", т. е. букв, "верховный ангел", относили ко всем высшим чинам небесной иерархии.
… взращенный на лугах эмпиреев среди других небесных цветов. — Эмпирей (от гр. empyros — "огненный") — в античной натурфилософии верхняя часть неба, наполненная огнем; средневековая теология именовала эмпиреем обитель душ праведных, высшую часть рая; видимо, поэтому Дюма сравнивает его с цветущим лугом.
136… от клеща до Левиафана… — Левиафан — в библейской мифологии морское животное, описываемое как крокодил, гигантский змей или огненный дракон. Наиболее развернутое описание Левиафана см. Иов, 41: 2-26. В переносном смысле — чудовище невиданных размеров, олицетворение сил зла.
… все невидимые силы ангельские — от престолов до властей — склонялись перед его ликом. — См. примеч. к с. 135.
137… Вспомни об Адаме! — Вспомни об Иове! — Имеется в виду противопоставление двух отношений к Богу и его заповедям. Соблазненный змием-искусителем (в иудаизме и христианстве отождествляемым с Сатаной) первочеловек Адам нарушил запрет на вкушение плодов от древа познания добра и зла, и этот первородный грех лежит на всех его потомках. Благочестивый Иов с Божьего соизволения испытал все тягости, насланные на него Сатаной (потерю близких, утрату богатства, болезни), спорил с Богом и упрекал его за преследование невинного, но не отрекся от него.
138… Не хлебом одним… — Матфей, 4: 4; ср. Второзаконие, 8: 3.
… Ангелам своим заповедает… — Матфей, 4:6; ср. Псалтирь, 90: 11–12.
…Не искушай Господа Бога твоего. — Матфей, 4: 7; ср. Второзаконие, 6: 16.
139… в сердце Тибета, на вершине Джавахира. — Вероятно, имеется в виду Джомолунгма (8 848 м); Дюма часто именует Джавахиром самую высокую в мире горную вершину.
… и ста пятьюдесятью миллионами человек, рассеянных от Китайского моря до Персидского залива. — Дюма, видимо, включает в Индию всю Южную и Юго-Восточную Азию, омываемую на востоке водами Тихого океана (Южно-Китайское море), а также, в противоречие сказанному ниже, Иран. Цифры, приведенные здесь, неточны. В начале н. э. на Индийском субконтиненте жило приблизительно 35 млн. человек, во времена самого Дюма (сер. XIX в.) — около 250 млн.
140… Слева от нее — скифы, справа — арабы. — Скифы — ираноязыч ные народы, в основном кочевые (но были и скифы-земледельцы), населявшие во второй половине I тыс. до н. э. южнорусские степи; скифами именовали также всех ираноязычных номадов от Алтая до северо-западного Причерноморья и — как здесь — вообще всех кочевников степей Евразии.
…. Пятьдесят миллионов человек, поклонявшихся свету и огню… — В Иране государственной религией был зороастризм (см. примеч. к с. 122), включавший культ огня. Население Ирана сегодня составляет ок. 60 млн. человек, а на рубеже н. э., в больших границах, нежели ныне, там было не более 10 млн.
Оке — древнее название Аму-Дарьи.
Дурра — трудно сказать, что здесь подразумевается, возможно, озеро Урмия — соврем, озеро Ван в Турции (D’urmia в результате опечатки могло превратиться в Durra).
… абиссинцы, эфиопы… — В XIX в. абиссинцами называли жителей нынешней Эфиопии (тогда — Абиссинии), эфиопами — нубийцев Судана.
… белеющие вот уже пять сотен лет скелеты воинов Камбиза. — Камбиз II (ум. в 522 г. до н. э.) — царь Персии с 530 г. до н. э., сын Кира II Великого; завоевал Египет в 525 г. до н. э.
142… Сардиния приближается к раскаленному побережью, вытянув к нему скалу Плумбарий… — Имеется в виду мыс Свинцового залива на юге Сардинии (от него до берегов Туниса около 180 км).
… рядом с ней Сицилия с Лилибеем… — Лилибей — мыс на западной оконечности Сицилии, обращенный в сторону Африки (до Туниса от него около 130 км).
… Италия выставила мыс Регий… — См. примеч. к с. 104.
… Греция — целый трезубец мысов: Акритас, Тенарон и Малею… — Перечислены (с запада на восток) южные мысы Пелопоннеса, действительно образующие по форме трезубец.
… узкий пролив, достаточный для прохода корабля. — Подразумевается, вероятно, Магелланов пролив, отделяющий южноамериканский материк от Огненной Земли, ибо пролив Дрейка, разделяющий Америку — часть света — и Антарктиду, весьма широк.
143… Звали его Платон, а материк он нарек Атлантидой. — Древнегреческий философ Платон (427–341 до н. э.) в диалогах "Тимей" и "Критий" рассказал об огромном острове Атлантиде, лежавшем к западу от Геркулесовых столбов (Гибралтарского пролива) и погибшем "в один день и бедственную ночь" за семь с лишним тысяч лет до Платона. С тех пор и по сей день идут споры о том, пересказал ли Платон древнее предание (какой сам утверждает), имеющее некую реальную основу, либо выдумал все от начала до конца. Некоторые исследователи XIX в. находили, что в рассказе об Атлантиде Платон использовал какие-то сведения об Америке, которую задолго до Колумба могли достигать древние мореплаватели, например финикийцы.
Чимборасо — потухший вулкан в Эквадоре (высота 6267 м).
Мисти (соврем. Чачани) — тействующий вулкан в Перу (высота 6075 м).
23-1204
… пятая часть света, вторая Атлантида… — В середине XIX в. бытовала гипотеза о том, что Океания представляет собой обломки Пацифиды, материка, ушедшего в воды Тихого океана. Исследования середины XX в. опровергли эту гипотезу.
Голубая река — Янцзы, самая большая река Евразии (5800 км длины); начинается на Тибетском нагорье.
Новая Голландия — старинное название Австралии.
Формоза ("Прекрасная") — данное португальцами в XVI в. название острова Тайвань.
… Господу Богу твоему поклоняйся… — Лука, 4: 8; ср. Второзаконие, 6: 13, 10: 20.
… О, прекрасный архангел, блистающая утренняя звезда… — Парафраз слов Христа: "Я видел сатану, спадшего с неба как молния" (Лука, 10: 18), сказанных им не после искушения, а при отправлении им учеников на проповедь; ср. также Исайя, 14: 12: "Как упал ты с неба, денница <т. е. планета Венера — см. примеч. к с. 135>, сын зари!"
144 Капернаум — см. примеч. к с. 117.
Генисаретское озеро (Тивериадское озеро, море Галилейское) — расположено на севере Палестины, связано с Мертвым морем Иорданом; площадь поверхности около 200 кв. км.
… на кого увидишь Духа сходящего… — Иоанн, 1: 33.
Вифсаида — селение на северном побережье Генисаретского озера.
145 Кана — городок в 8 км к северо-востоку от Назарета и недалеко от Генисаретского озера.
… Город далеко отстоял от Иудеи и, мало того, был отделен от нее Самарией. — Палестинская область Самария к северу от Иудеи получила название от города Самария (Шомрон), центра Израильского царства, образовавшегося после распада единого государства Давида и Соломона. В 722 г. до н. э., после завоевания Израиля Ассирией, часть жителей области была выселена, а на их место переведены колонисты из Вавилонии. В результате образовался особый этнос, близкородственный евреям, — самаритяне; среди них была распространена особая ветвь иудаизма, ввиду чего ортодоксальные евреи рассматривали их как не вполне правоверных.
… Земля Завулонова и земля Неффалимова… Галилея языческая… — Матфей, 4: 15–16; ср. Исайя, 9: 1–2.
Завулон и Неффалим — дети праотца Иакова, родоначальники соответствующих колен Израилевых, получивших отдельные территории для расселения после завоевания Ханаана.
Галилея, лежащая к северу от Самарии, была населена жителями, которых иерусалимские богословы считали сомнительными с точки зрения правоверия; отсюда — "Галилея языческая".
146… Исполнилось время… — Свободный пересказ — Иоанн, 6: 23.
147… похожий на одного из ангелов, что хлыстами изгнали Гелиодора… — Гелиодор был хранителем казны сирийского царя Селевка IV Филопатора (см. примеч. к с. 94). Согласно Первой книге Маккавейской, он хотел для пополнения государственных финансов ограбить Иерусалимский храм, но был остановлен ангелом с огненным бичом; впоследствии организовал заговор против
Селевка в пользу его брата, Антиоха IV Эпифана (см. примеч. к с. 94), принял личное участие в убийстве царя, но потом поссорился и с Антиохом, вознамерился произвести переворот, дабы самому занять престол; переворот (вскоре после 175 г. до н. э.) провалился, Гелиодор бежал, и далее следы его теряются.
… Дом мой домом молитвы наречется… — Матфей, 22: 13; Марк, 11: 17; ср. Исайя, 56: 7; Иеремия, 7: 11.
… ИродАнтипа повелел схватить Иоанна Крестителя, поставившего в вину тетрарху Галилеи женитьбу на племяннице… — Иродиада, жена Ирода Антипы, была дочерью его брата, Аристовула (ок. 36 — 7 до н. э.), казненного их отцом по подозрению в измене; до этого она недолгое время была замужем за другим дядей, Иродом Младшим (35 до н. э. — 7 н. э.), замешанным в заговоре в 5 г. до н. э. против своего отца. Ирод Великий пощадил сына, но лишил его наследства. Иродиада развелась с Иродом Младшим и вышла замуж за Антипу. Подобные близкородственные браки не были чем-то редким на Востоке, но в глазах верующего иудея такой союз был дважды кровосмешением — с племянницей и в то же время с женой брата, т. е. как бы сестрой.
… завоеванная Салманасаром… — Израильское царство было участником коалиции ближневосточных государств, направленной против крепнущей Ассирии. Царь Ассирии Салманасар III (Шульману-ашаред; ум. в 824 г.; правил с 859 г. до н. э.) разбил коалицию, разорил Израильское царство, увел множество пленных, но само государство осталось, хотя и сильно ослабевшее. В 722 г. до н. э. дальний преемник Салманасара III, Салманасар V (ум. в 722 г.; царь с 736 г. до н. э.) окончательно покорил Израильское царство, разрушил столицу его — Самарию — и угнал в рабство большинство населения.
… вновь заселенная Ассархаддоном… — В Ассирии активно практиковалась политика массовых переселений покоренных народов. Депортацию евреев за Евфрат начал еще Салманасар V. Его внук Синаххериб (Син-аххе-эриба; правил в 704–681 гг. до н. э.), завоевав в 689 г. до н. э. Вавилонию, выселил значительную часть ее жителей в Палестину; сын и преемник Синаххериба, Ассархаддон (Ашшурах-иддина; правил в 680–669 гг. до н. э.) продолжил эту политику, но в меньших масштабах.
… снова разоренная Антиохом Великим… — Южная Сирия (включая Палестину) была предметом раздора между Селевкидами и Птолемеями, и эту территорию жестоко опустошил отвоевавший ее у Египта Антиох III.
… вслед за ним — Иоанном Гирканом. — Иоанн Гиркан I (ум. в 107 г. до н. э.), племянник Иуды Маккавея, унаследовал в 134 г. до н. э. сан первосвященника, означавший тогда и светскую власть над Иудеей. Он потерпел поражение от Антиоха VII Сидета (правил в 139–129 гг. до н. э.), и ему пришлось сдать оружие и снести стены Иерусалима, но все же при условии сохранения за евреями свободы вероисповедания. Однако после гибели Антиоха VII в битве с парфянами Иоанн Гиркан укрепил свою власть и начал успешное наступление на Самарию и Идумею, подчинив их и заставив население принять иудаизм.
23*
… самаряне построили свое особое святилище на горе Гаризим. — После распада единого государства евреев религиозный центр — Иерусалимский храм — остался в южном царстве; в противовес этому цари севера в начале IX в. до н. э. устроили святилище на горе Гаризим недалеко от города Самарии. Захватив Самарию, Иоанн Гиркан распорядился в 129 г. до н. э. разрушить это святилище.
… сел под сикоморой у колодезя Иакова. — См. Иоанн, 4: 5. На земле племени аммонитян (в будущей Самарии) праотец Иаков приобрел участок с колодцем (в условиях пустыни это придавало участку немалую ценность) и завещал его любимому сыну Иосифу. По одной версии (Бытие, 33: 19; Иисус Навин, 24: 32), он купил это владение, по другой — как он сам говорил сыну (Бытие, 48: 22) — этот клочок земли был им отвоеван у аммонитян.
149 Сихем — город на юго-востоке Самарии.
… возвращению Мессии в Капернаум предшествовала весть о совершенном им чуде… — Далее перечисляются совершенные им чудеса: усмирение бури (Матфей, 8: 26), исцеление тещи Петра (там же, 8: 14–15), исцеление бесноватого (там же, 9: 32–33), насыщение хлебами (там же, 14: 13–23; Иоанн, 6: 5-14), исцеление дочери Иаира (Марк, 5: 22, 35–43), хождение по водам (Матфей, 14: 25–31; Марк, 6: 46–51; Иоанн, 6: 16–25).
150… И ходил Иисус по всей Галилее… — Матфей, 4: 23–35. Десятиградие — страна к востоку от Иордана, союз десяти свободных эллинистических городов, включавший Дамаск, Филадельфию, Рафапу, Скифополь, Гадару, Иппон, Дион, Пеллу, Геласу и Канафу… мир принадлежал мнительному Тиберию, в то время укрывшемуся на скалах Капреи… — См. примеч. к с. 132.
151… Дочь Иродиады… попросила голову Иоанна Крестителя. — О смерти Иоанна Крестителя см. Матфей, 14: 6-12; Марк, 6: 21–29. Образ Саломеи, падчерицы Ирода Антипы — евангелия не называют ее по имени, но нам оно известно из трудов писавшего по-гречески еврейского историка Иосифа Флавия (37 — после 100), — по просьбе которой Антипа казнил Иоанна, был весьма популярен в XIX — нач. XX в. Писатели-романтики приписывали ей тайную страсть к Иоанну. Дюма настаивает на политической подоплеке убийства Иоанна — тот якобы был в оппозиции к тетрарху и чуть ли не к императору. Писание ничего не говорит об этом: судя по всему, Ирод, капризный восточный монарх, боявшийся пророка (Матфей, 14: 3–5), просто не мог нарушить данное Иродиаде обещание, а та ненавидела Иоанна по сугубо личным причинам.
… фарисей, прозванный Симоном Прокаженным, пригласил Иисуса к себе на трапезу. — Страх людей древности и средневековья перед проказой был чрезвычайно велик, поэтому общавшийся с прокаженным мог быть только святым посланцем небес.
… Прекрасную грешницу звали Марией Магдалиной. — Традиция настаивает на том, что блудница, омывшая ноги Иисуса в доме Симона Прокаженного (Марк, 14: 3–9; Лука, 7: 37–50), тождественна Марии Магдалине (Марии из города Эль-Мигдала; название от арам, "магдала", др. — евр. "мигдал" — "башня"), которая последовала за Христом, когда он исцелил ее (Марк, 8: 2; Матфей, 15: 40–41;
Лука, 8: 3); она присутствовала при его казни и погребении (Матфей, 27: 56, 61 и др.), и ей он явился первой по воскресении (Иоанн, 20: 14–18); отождествляют ее также с сестрой Марфы и Лазаря, которого Христос воскресил (Иоанн, 11: 2).
152 Миро — благовонное масло (то же, что нард).
Динарий (правильнее: денарий) — римская серебряная монета, в описываемое время равная 16 ассам (мелкая медная монета).
156 Поприще — здесь: тысяча шагов, римская миля.
157… Полагают, что то была гора Фавор. — Фавор (Табор) — гора в Галилее (высота 562 м).
… Христос уже был не один: по бокам его они распознали Моисея и Илию… — Согласно иудейской вере, накануне пришествия Мессии и в знак его скорейшего явления на землю должны вернуться или показаться народу Израиля законодатель еврейского народа Моисей и пророк Илия.
… явившись во славе… — Лука, 9: 31.
158… и был из облака глас, глаголющий… — Лука, 9: 35.
… прибыл в священный город к празднику поставления кущей. — Имеется в виду суккот, древний иудейский "праздник жатвы первых плодов труда твоего" (Исход, 23: 16); отмечается 15 тишри (сентябрь-октябрь по еврейскому календарю); связан с исходом из Египта и памятью о странствованиях по пустыне и кочевой жизни в шатрах (др. — слав. "куща" — "шатер"). На восьмой день праздника справляется Симхас-Тойра ("Радость Торы", т. е. Писания), торжественная процессия со свитками Торы и песнопениями в честь Господа — самый веселый еврейский праздник.
159… привели к Иисусу, стоявшему в храме во Дворе Народа. — Иерусалимский храм имел внешнюю ограду, внутреннюю и собственно здание храма. Пространство между внешней и внутренней оградой образовывало Двор Народа, между внутренней оградой и храмом — Священный Двор. В первый допускались все, во второй — только мужчины, лишенные увечий или физических недостатков, в сам храм — лишь священники.
162… Иисус, когда увидел ее плачущую… — Иоанн, 11: 33.
163 Ефраим — маленький городок в Северной Иудее, в 7 км к востоку от Вефиля, вблизи пустыни.
164… люди приходили из Гефсимании, Анафофа, Вефиля, Силоама, Гаваона, Эммауса, Вифлеема, Хеврона и даже Самарии. — Гефсимания, Вефиль, Эммаус, Вифлеем, Хеврон — см. примеч. к с. 109. Анафоф, Силоам — см. примеч. к с. 110.
Гаваон — см. примеч. к с. 74.
Иродиане — то же, что садуккеи (см. примеч. к с. 133); название дано потому, что царь Ирод Великий поддерживал это направление в иудаизме.
167 Осанна! — др. — евр. "спаси же!"
168… Из уст младенцев… — Матфей, 21: 16; ср. Псалтирь, 8: 3.
170… предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах… —
В древности за пиршественным столом не сидели, а лежали на специальных ложах. Греческое слово "синагога" — "собрание" — употребляется для обозначения собрания иудейской общины (и здания для таких собраний). Поскольку в иудаизме не было священства, кроме храмового, руководили такими собраниями уважаемые члены общины.
171… Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови
Авеля праведного до крови Захарии, которого вы убили между храмом и жертвенником! — Матфей, 23: 35. Как повествует Писание (2 Паралипоменон, 24: 20–22), израильский царь Иоас (правил в 801–786 гг. до н. э.) был первоначально истовым приверженцем Яхве, но после смерти первосвященника Иодая обратился к идолослужению. Тогда сын Иодая, Захария (в Евангелии он назван сыном Варахии) стал гневно обличать царя, за что по велению Иоаса был побит камнями во дворе храма.
173 "Mater amaritudinis plena" — это выражение (букв. "Матерь, исполненная горечи"), как и некоторые другие (например, на с. 181 — "Дева, безупречная в вере"), заимствованы из средневековых латинских молитв Богоматери.
174… Блаженны непорочные в пути… — Псалтирь, 118: 1–2.
176… Господь попустил, чтобы в знак нетленной чистоты она оставалась молодой и прекрасной. — В Писании о внешнем облике Богоматери не сказано ничего; раннехристианская иконография подчеркивает в Деве Марии черты одухотворенности, нежности, но не внешней миловидности. Акцентирование юной прелести относится к позднесредневековому западному искусству; не ранее XIV в. появляются представления о том, что Богородица после рождения Иисуса не только осталась девственной (подобные идеи идут еще от ранней церкви), но и сохраняла молодость и красоту в течение всей земной жизни.
181… Мессия назвал Воанергес — "чадами грома". — Воанергес — грецизированная форма др. — евр. "б’най-регес" — "сыны Громовы".
182… он первый из двенадцати апостолов должен был скрепить веру и завет своей пролитой кровью. — Иаков Заведеев, согласно Писанию (Деяния, 12: 1–2), был убит по приказу Ирода Агриппы (ум. в 44 г.; объединил большую часть владений Ирода Великого к 41 г. н. э.).
… Варфоломей, в прошлом Нафанаил… — Варфоломей, по-арамейски Бар-Толмай ("сын Толмая"), упоминается в евангелиях от Матфея, Марка и Луки, а также в Деяниях апостолов. В евангелии от Иоанна его имя не встречается, зато упомянут некто Нафанаил. Видимо, это одно и то же лицо — Нафанаил, сын Толмая. Услышав от апостола Филиппа об Иисусе из Назарета, Нафанаил говорит с сомнением (или приводит пословицу): "Из Назарета может ли быть что доброе?" (Иоанн, 1: 46), но потом примыкает к Христу. Согласно житиям Варфоломея, он проповедовал в Сирии и Малой Азии, был распят, но снят с креста живым, снова отправился возвещать о Христе в Индию и Армению, где его еще раз распяли и, согласно житиям позднего средневековья, заживо содрали с него кожу. Зилоты (точнее: зелоты; гр. "ревнители") — приверженцы крайнего течения в иудаизме I в. до н. э. — сер. II в. н. э., понимавшие Мессию как посланного Богом харизматического лидера, который должен сокрушить римское господство и установить в Палестине Царство Божье; не гнушались террористических действий против римских властей. По мнению исследователей, некоторые зилоты могли под влиянием проповеди Христа отрешиться от экстремизма и войти в состав его учеников, и наоборот, абсолютно чуждые иудейским верованиям римляне могли смешивать духовный радикализм Христа с политическим радикализмом зилотов.
183… вспомните слова пророка… — Исайя, 53: 2.
186… подал Христу нашу вместе с опресноком. — Опресноки (др. — евр.
маца) — тонкие сухие лепешки из пресного теста, ритуальная еда иудеев в день Пасхи.
188… в Эдемовой купели сон их был не столь чист и невинен… — В пред ставлениях древних евреев, перешедших в христианство, Эдем — место блаженства, земной рай, где были сотворены Адам и Ева, некий сад, расположенный где-то в Междуречье; позднее — просто рай.
190 Ен-Рогел — см. примеч. к с. 109.
192… трубный звук их тех, что призван пробудить мертвых в Судный день. — Согласно Писанию, явившийся вторично Христос воссядет "на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет ангелов своих с трубою громогласною" (Матфей, 24: 30–31), что послужит началом воскрешения мертвых и последнего суда над ними. Современные ученые предполагают, что прообразом ангельских труб послужил шофар — труба из бараньего рога, сзывавшая иудеев в храм на молитву.
194… Что ты скажешь о Нимроде… — Нимрод — по Библии (Бытие,
10: 9-10), первый царь Вавилонский, "сильный зверолов пред Господом" (см. также примеч. к с. 77). В поздних иудейских легендах его образ, возможно, сливается с древним ассирийским царем Тукульти-Нинуртой I (правил в 1244–1208 гг. до н. э.). Он предстает как великий тиран, человекоубийца; Нимрод построил Вавилонскую башню, преследовал приверженцев Господа, пытался ввергнуть Авраама в печь огненную и погиб от руки Исава.
… помним и некоего Прокруста… — Прокруст — в греческой мифологии разбойник, подстерегавший путников близ Афин. Он изготовил два ложа — на небольшое укладывал высоких людей и, чтобы они поместились, обрубал им ноги, на большое — маленьких и бил их молотом, чтобы расплющить и тем удлинить; был убит афинским царем Тесеем.
… что ты скажешь о Синисе, разрывавшем людей, привязывая их к двум пригнутым к земле деревьям, а потом отпуская верхушки? — Синие (Синид) — в греческой мифологии разбойник, бесчинствовавший на Истме (Коринфском перешейке, соединяющем Пелопоннес с материком); был убит героем Персеем.
… не забыли некоего Антея, воздвигшего храм Нептуну из черепов странников, забредавших на его земли… — См. примеч. к с. 70. Нептун — бог моря у римлян; отождествляется с гр. Посейдоном (отцом Антея).
… И некоего Фаларида… — Фаларид — тиран (это слово не носило тогда одиозного оттенка и означало правителя, пришедшего к влас-. ти неординарным, но не обязательно насильственным путем — например по решению народного собрания) Агригента (соврем. Агридженто) в Сицилии в 670–664 гг. до н. э.; по легенде, расправлялся с неугодными, сжигая их на городской площади в чреве огромного бронзового быка; свергнут в результате восстания и казнен так же, как он сам казнил своих врагов.
… как тебе нравится Скирон… — Скирон — в греческой мифологии сын Посейдона, разбойник; убивал путников по дороге в Афины и сбрасывал в море, где их тела пожирала огромная черепаха.
… Здесь есть Клитемнестра, убившая мужа; Орест, зарезавший мать… — См. примеч. к с. 67.
… Эдип, умертвивший отца… — См. примеч. к с. 67.
… Ромул, поразивший мечом брата… — См. примеч. к с. 16.
… Камбиз, избавившийся от сестры… — Персидский царь Камбиз (см. примеч. к с. 140), был, насколько можно судить, патологически подозрительным и, возможно, психически больным человеком. Он все время подозревал своего брата Смердиза (по другим данным, брата звали Бардия) в намерении захватить престол. Свою сестру — она же была его женой, что допускали персидские традиции, — он заподозрил в симпатиях, скорее политических, нежели личных, к Бардии, и приказал ее умертвить. В 522 г. до н. э. он повелел убить и Бардию.
… Медея, покончившая с собственными малыми детьми… — Медея — в греческой мифологии волшебница, дочь царя Колхиды; помогла герою Ясону добыть золотое руно и родила ему двоих сыновей; когда Ясон задумал жениться на другой, подослала той волшебную одежду, надев которую соперница сгорела заживо, и убила собственных детей от Ясона, дабы отомстить ему за неверность.
… Фиест, съевший своих чад… — В греческой мифологии Фиест — брат Атрея, царя Микен; пытался захватить престол брата, соблазнив его жену Аэропу. Узнав об этом, Атрей тайно убил детей Фиеста и накормил ничего не подозревавшего отца этой страшной пищей. Когда все раскрылось, Фиест проклял Атрея, и это проклятие осуществилось в судьбе сына Атрея — Агамемнона и внука — Ореста (см. примеч. к с. 67).
… Ты берешься и эту добычу оспорить у эвменид? — Эвмениды (гр. "благословенные") — иное имя греческих богинь мести эриний, которое они получили по воле богов после оправдания Ореста (см. примеч. к с. 67).
… что ты скажешь о вакханках, растерзавших Орфея… — По греческим легендам, поэт Орфей (см. примеч. к с. 84) не чтил бога Диониса (Вакха), а был предан Аполлону. Дионис наслал на него своих служительниц — менад (менады, они же вакханки, — участницы вакханалий, оргиастических празднеств в честь Вакха — Диониса, впадавшие в священное безумие), и те растерзали Орфея.
…о Пасифае, подарившей миру Минотавра… — Пасифая — в греческой мифологии дочь бога Солнца Гелиоса, жена критского царя Миноса, которой была по воле богов внушена страсть к быку (о причинах этого существуют разные варианты мифов). От этой противоестественной связи родилось чудовище с телом человека и головой быка — Минотавр. Минотавр жил в сложно и запутанно выстроенном дворце критских царей — Лабиринте и пожирал приносимых ему в жертву юношей и девушек; его убил герой Тесей.
… о Федре, из-за которой Ипполита разорвали, привязав к скакунам… — По греческим преданиям, Федра, жена Тесея, воспылала страстью к пасынку Ипполиту; когда целомудренный юноша отказался осквернить ложе отца, Федра покончила с собой, в предсмертных словах обвинив Ипполита в насилии над ней. Тесей проклял сына, призвав гнев Посейдона, и Ипполит погиб, растоптанный собственными конями. Дюма излагает не столько миф, сколько трагедию "Федра" французского драматурга Жана Расина (1639–1699).
… о Туллии, пустившей колесницу по телу убитого ею отца, Сервия Туллия. — Царь Сервий Туллий (правил в 578–534 гг. до н. э.), согласно римским преданиям, был сыном то ли знатной пленницы, то ли рабыни (может быть, благодаря ассоциации: Servius — лат. "servus", что означает "раб", — и сложилась эта легенда), воспитанником царя Тарквиния Древнего (правил в 616–578 гг. до н. э.) и его жены Танаквиль. С детства он отличался необыкновенным умом, а его судьбу сопровождали благоприятные знамения. После убийства Тарквиния Древнего Танаквиль возвела Сервия на престол вопреки воле знати. (С I в. н. э. известна разделяемая многими современными учеными версия о том, что в действительности удачливый этрусский военачальник Мастарна захватил власть в Риме и, убив Тарквиния Древнего, стал царствовать под именем Сервия Туллия.) В памяти римлян Сервий Туллий остался как царь-народолюбец, противник аристократии, друг плебеев и даже рабов. Ему приписывается введение цензовой системы, т. е. деление римского общества по принципу знатности заменялось другим критерием — размером богатства (таким образом состоятельные плебеи получали долю власти) и дарование прав римских граждан вольноотпущенникам. Внук (по другой версии — сын) Тарквиния Древнего, Тарквиний Гордый (см. примеч. к с. 19), женатый на Туллии, дочери Сервия Туллия (получившей позднее прозвище Туллия Свирепая), и постоянно подстрекаемый ею к захвату власти, совершил, опираясь на сенат, переворот и приказал убить свергнутого царя. В исступлении Туллия переехала колесницей тело своего убитого отца.
… Поговорим о Сарданапале, обещавшем провинцию тому, кто изобретет новое наслаждение. — По словам античных писателей, владыка Ассирии Сарданапал беспрерывно предавался удовольствиям и забыл о врагах своей страны. Когда они осадили его столицу Ниневию, Сарданапал устроил на городской площади гигантский костер, в котором сжег свои богатства, семью и самого себя. Эта легенда связана с грандиозным пожаром Ниневии при взятии ее отрядом мидийско-вавилонских войск в 612 г. до н. э. Имя героя, видимо, есть искажение имени Ашшурбанипал (Ашшурбану-апли), как звали одного из самых мощных и грозных царей Ассирии, правившего с 668 то ли по 635, то ли по 627 г. до н. э.
… О Навуходоносоре, что разорил храм и увел твоих предков в рабство. — См. примеч. к с. 74.
… О Валтасаре, бросившем Даниила в львиный ров. — Даниила в львиный ров (см. примеч. к с. 86) велел бросить не Валтасар, а, согласно Книге Даниила, персидский царь Дарий.
… О Манассии, повелевшем распилить пророка Исайю… — Версия о том, что иудейский царь Манассия (правил в 687–642 гг. до н. э.) приказал распилить пророка Исайю, который обвинял его в нечестии и дурном правлении и угрожал гневом Господним, имеет довольно позднее происхождение.
… Об Ахаве, совершившем столько преступлений, что Самуил проклял Саула, ибо тот помиловал злодея! — Пророк Самуил проклял Саула за то, что он пощадил пленного царя амалекитян Агага (см. примем, кс. 75).
Ахав, царь Израильский в 869–850 гг. до н. э., обратился к языческим богам и преследовал истинно верующих. За это его проклял пророк Илия. В конце жизни Ахав раскаялся, и сам Господь простил его. Однако Ахав все же был смертельно ранен в битве, так что проклятие Илии как бы исполнилось.
… нравится тебе Иксион, возжелавший силой овладеть богиней? — Иксион, царь народа лапифов, был, согласно греческим мифам, любимцем Зевса, приглашавшим его даже разделять трапезу богов. Иксион осмелился домогаться любви Геры, супруги Зевса, и тогда отец богов и людей создал ее образ из облака; от союза Икс иона и облака на свет родились полулюди-полулошади — кентавры. Когда же счастливый любовник стал похваляться своей победой над Герой, Зевс повелел приковать его к огненному колесу.
… жители Содома, вознамерившиеся растлить трех ангелов Господних? — Когда ангелы (числом два) Господни посетили дом патриарха Лота в Содоме (см. примем, к с. 77), толпа содомлян осадила жилище праведника, требуя выдать пришельцев, дабы "познать" их. Лот предложил своих дочерей-девственниц, лишь бы уберечь гостей, но содомляне продолжали требовать своего и грозить насилием. Тогда ангелы поразили их слепотой и вывели Лота и его семью из города, который поразил Господь (Бытие, 19: 1-29).
…Не забудем и кровосмесителя патриарха Лота… — Две дочери Лота сочли, что после гибели Содома и Гоморры на земле не осталось более людей их племени, и, дабы продолжить свой род, подпоили отца, сошлись с ним и забеременели.
… таинствах Венеры — Милетты… — Милетта — ассирийская богиня, обладавшая некоторыми чертами греческой Афродиты и финикийской Астарты.
196… о цикуте, выпитой Сократом по приговору суда… — Великий древ негреческий философ Сократ (470/469—399 до н. э.) был обвинен в "поклонении новым божествам" (подразумевалось скептическое отношение Сократа к народной религии и вера в некое высшее божество) и "развращение молодежи" (имелось в виду распространение среди молодежи учений, противоречащих традиции), судим и казнен. Свободные граждане Афин должны были сохранить свободу даже в смерти, поэтому их не убивали, а приговоренный сам должен был выпить чашу с отваром цикуты (ядовитого зонтичного растения)… об изгнании Аристида… — Аристид (ок. 540 — ок. 467 до н. э.) — афинский политический деятель, прославленный справедливостью; во время греко-персидских войн был противником строительства мощного флота, и потому его изгнали при помощи процедуры остракизма. Остракизм заключался в том, что ежегодно народное собрание Афин решало, имеется ли в государстве человек, опасный для существующего строя, причем опасен он мог быть просто амбициями или чрезмерными дарованиями. Если собрание постановляло, что таковой имеется, то каждый афинянин должен был написать на черепке (гр. остракон) имя того, кто, по мнению голосующего, как раз и является этим человеком. Набравший большинство голосов изгонялся из Афин на 10 лет без конфискации имущества. Надо сказать, что, в отличие от нынешнего переносного смысла, вкладываемого в это понятие, остракизм не являлся тогда моральным осуждением и не наносил ущерба доброму имени изгоняемого. Античный анекдот (может быть, соответствующий действительности) гласит: к Аристиду во время процедуры голосования подошел некий крестьянин и попросил написать на черепке имя Аристида. Тот поинтересовался: "А знаешь ли ты его?" — "Да нет, — ответил крестьянин, — но мне надоело все время слышать, какой он справедливый". Аристид рассмеялся и написал свое имя… убийстве Гракхов… — Тиберий Семпроний Гракх (162–133 до н. э.) — трибун 133 г. до н. э.; попытался провести аграрную реформу в Риме в пользу малоимущих и бездомных, но по окончании полномочий совершенно безосновательно был обвинен группой сенаторов в стремлении к царской власти и убит без суда.
Его брат, Гай Семпроний Гракх (153–121 до н. э.), также стремился к проведению обширных социальных реформ, избирался трибуном в 122 и 121 гг. до н. э. Его противники развязали настоящую гражданскую войну, в ходе которой Гай со своими соратниками оказался осажденным на Авентине (одном из холмов Рима), где покончил жизнь самоубийством.
… умерщвлении Мария… — Имеется в виду сын известного Гая Мария (см. примеч. к с. 35) Гай Марий Младший, который в борьбе с Суллой был осажден в городе Пренесте, безуспешно пытался вырваться и покончил с собой в 82 г. до н. э.
… самоубийстве Катона… — См. примеч. к с. 19.
… о проскрипциях Октавиана, о прерванной жизни Цицерона, об Антонии, пославшем своей жене головы "тех, кто ему неведом". — Октавиан и Антоний широко использовали проскрипции (см. примеч. к с. 36), во время которых в 43 г. до н. э. погиб Цицерон, попавший в проскрипционные списки по требованию Антония. Цицерон после смерти Цезаря стремился к восстановлению республики и выступил против Антония, противопоставив ему юного Октавиана. Последний, примирившись и объединившись с Антонием, выдал ему Цицерона, который вымостил будущему Августу путь к власти. Отрубленную голову Цицерона Антоний отослал своей жене Фульвии, лично ненавидевшей Цицерона; получив этот дар, она стала колоть булавками язык великого оратора.
… Сципион, спаливший Нуманцию… — См. примеч. к с. 104.
… Муммий, сжегший Коринф… — Греческие города были недовольны своей тяжелой зависимостью от Рима, ив 146 г. до н. э. крупное объединение городов Южной и Средней Греции — Ахейский союз — подняло восстание. Римский консул Луций Муммий разбил войска Ахейского союза, взял, разрушил и сжег крупнейший город этого союза — Коринф, обратив его жителей в рабство. 146 г. до н. э. считается датой падения независимости Греции.
… Сулла, предавший огню Афины… — Во время Первой Митридатовой войны (см. примеч. к с. 107) значительная часть Греции примкнула к Митридату из ненависти к римлянам. Командовавший римскими войсками Сулла (см. примеч. к с. 35) 1 марта 87 г. до н. э. взял Афины, и его солдаты принялись грабить и избивать население. Афинская депутация молила о пощаде, и Сулла на третий день приказал остановить разгром Афин, заявив, что делает это из уважения к великим предкам нынешних афинян и "милует многих ради немногих".
… евреев, финикийцев, греков и египтян, приносящих сыновей своих в жертву Молоху… — Ни греки, ни египтяне в исторический период человеческих жертв не приносили; евреев обвиняли в служении Молоху (см. примеч. к с. 82), если они отклонялись от ортодоксальной веры, и это совершенно не обязательно соответствовало действительности.
… бриттов, карнутов и германцев, убивающих дочерей во имя Тевтата… — Бритты — древнее кельтское население Британии. Карнуты — кельтское племя в центральной Галлии.
Тевтат (см. примеч. к с. 58) был богом галлов, но не германцев. Ему действительно приносили человеческие жертвы: людей топили в воде. Германцы, впрочем, также в особых случаях приносили в жертву пленников.
… индийцах, бросающихся под колесницы их бога Вишну… — Вишну — одно из высших божеств индийской религии, хранитель мира. Одно из земных воплощений Вишну — герой Кришна. Священное изображение Кришны — Джаганнатха (др. — инд. "владыка мира"; часто употребляется в искаженной европейцами форме — Джаггернаут) — особо почитается в городе Пура в нынешнем индийском штате Орисса. Это изображение раз в году провозят в специальной колеснице, и стекающиеся со всей Индии паломники приветствуют процессию, а наиболее экзальтированные сами бросаются под колесницу, считая, что такая смерть обеспечит им счастливое будущее рождение… фараонах, скрепивших плиты своих пирамид кровью и потом двух миллионов людей! — Цифры явно преувеличены. Эпоха строительства пирамид насчитывала около 500 лет (2778–2263 до н. э.), причем наиболее крупные воздвигались в 2723–2563 гг. до н. э. Одновременно на строительстве работало несколько тысяч человек, и не все они погибали.
… Ироду Великому, который из-за тебя вырезал пять тысяч младенцев мужского пола! — См. Матфей, 2: 16. Число невинно убиенных младенцев в Писании не указано.
… Оставим в стороне Иуду: он достоин ожидающей его петли! — В Писании приводятся две версии смерти Иуды: он повесился (Матфей, 27: 5), причем традиция настаивает, что на осине, у которой с тех пор дрожат листья; "расселось чрево его, и выпали все внутренности его" (Деяния, 1: 18). Еще во II в. было высказано предположение, что он то ли сорвался, то ли был вынут из петли живым и умер от какой-то неясной болезни.
197… Начнем с первого, кто откроет победное шествие: с Иакова-стар-
шего. Попутешествовав в Испании… — Иаков-старший (см. примеч. к с. 182) никогда при жизни не был в Испании, и лишь мощи его, если верить католической легенде, были чудесным путем перенесены из Иерусалима в Галисию (Северо-Западная Испания) в местечко Компостелла. Святой Иаков Компостелльский (Сантьяго-де-
Компостелла — таково полное название города Компостелла) считался небесным покровителем Испании в борьбе с маврами.
… За ним — Матфей. — Из наиболее достоверных житий апостола Матфея известно, что он претерпел мученическую смерть в Гераклее, но в античном мире было несколько населенных пунктов с таким названием, и точное место кончины апостола не локализовано.
… Затем наступит черед Фомы… — По преданию, апостол Фома проповедовал в Индии. Он обратил в христианство жену местного царька и убедил ее избегать супружеского ложа. Разгневанный владыка предал апостола пыткам и одновременно задался целью склонить его к идолопоклонству, но Фома сокрушил кумир местного божества, и тогда верховный жрец этого божества пронзил Фому мечом. Индийские христиане (первые однозначно зафиксированные общины относятся к IV в.) доныне именуют себя "христианами святого Фомы". По другой версии, Фома проповедовал в Иране и там принял мученическую смерть, убитый мечом.
… Перейдем к Петру, основанию твоей церкви… — Первый епископ христианской общины в Риме, апостол Петр (претензии пап, преемников Петра на римской кафедре, на главенство над церковью католики обосновывают обращенными к Петру словами Христа о вручении тому ключей от Царства Небесного — Матфей, 16: 18–19), был распят головой вниз ок. 64 г.; это было совершено по его собственной просьбе, ибо он не хотел оскорбить Бога, уподобившись ему хотя бы в смерти.
… переступил дорогу Иакову-младшему… — Иаков Алфеев, или Иаков, Брат Господень, — двоюродный брат Иисуса по матери — был первым епископом Иерусалимским. Обстоятельства его смерти неясны. По свидетельству Иосифа Флавия, вполне правоверного иудея, относившегося, впрочем, к первым христианам без ненависти, Иаков-младший был осужден Синедрионом и побит камнями. Иные сведения — из поздних житий.
Варфоломей — см. примеч. к с. 182.
…. с него, как с нерадивого судии царя Камбиза, сдерут живьем кожу… — Если верить Геродоту, царь Камбиз (см. примеч. к с. 140), узнав, что его судья по имени Сисамна берет взятки, приказал содрать с него кожу живьем и этой кожей обить судейское кресло, в котором должен был восседать назначенный царем преемник Сисамны — его сын Отана.
… в армянском Албане. — Апостол Варфоломей был казнен в городе Албанополе в Албании Кавказской, северо-восточной части тогдашней Армении (ныне — в Азербайджане).
… За ним — Андрей… — Брат апостола Петра, апостол Андрей Первозванный, был то ли самым первым призван к служению Христу (Иоанн, 1:40–41), то ли одним из первых наряду с Петром (Матфей, 4: 18–20) казнен — на Х-образном ("андреевском") кресте по приказу римского наместника города Патры в Греции.
…За ним — Филипп, он отправится во Фригию и там будет побит камнями. — По наиболее надежным житиям, Филипп, обычно упоминаемый в Новом завете вместе с Варфоломеем, проповедовал во
Фригии (область в центральной части Малой Азии) и был там казнен ок. 70 г.: подобно Петру, его распяли вниз головой.
… Симон и Фаддей, неразлучные друзья…их в Персии побьют камнями жители города Саннира. — В Писании об особой дружбе этих апостолов не говорится. Согласно преданиям, Симон претерпел мученичество в одном из небольших месопотамских княжеств, буферных между Римским и Парфянским государствами, а Фаддей, он же Леввей, — в Армении.
Саннир — вероятно, имется в виду Сеннаар, библейское название Месопотамии.
198… Остался Иоанн, любимый твой ученик…он выйдет живым и не вредимым из котла с кипящим маслом… — Любимый ученик Христа Иоанн Богослов был сослан Домицианом на Патмос (один из Спорадских островов). Согласно популярным на Западе преданиям, Иоанна попытались сначала отравить, а затем сварить в кипящем масле, но безуспешно. Умер Иоанн, по всей видимости, в малоазийском городе Эфесе, в глубокой старости (по некоторым данным ему было более 100 лет) своей смертью (хотя существовали и не очень достоверные предания о его мученической кончине).
… поговорим немного о прозелитах, адептах и неофитах… — Прозелит — человек, принявший новое учение или вероисповедание. Адепт — ревностный приверженец идеи или религии, посвященный во все их тонкости.
Неофит — новообращенный.
… Что поделываешь, сын Агриппины и Агенобарба! — Император Нерон (см. примеч. к с. 8) был родным сыном Луция Домиция Агенобарба (ум. ок. 40 г.) и Агриппины Младшей (ум. в 59 г.), дочери Германика (см. там же). Нерон очень любил публично выступать с исполнением музыкальных и драматических произведений, в т. ч. собственных, требовал бурных оваций, радовался, когда льстецы называли его новым Орфеем (см. примеч. к с. 84). Когда в 64 г. в Риме вспыхнул страшный пожар, поползли слухи, что Город был подожжен по приказу самого Нерона, дабы тот мог подстегнуть свое вдохновение и сочинить поэму о гибели Трои в огне; другие утверждали, что император поджег Рим, чтобы на его месте воздвигнуть новый город и назвать его Неронополем. Чтобы снять с себя обвинения молвы, Нерон объявил виновниками пожара христиан и подверг их массовым казням (см. примеч. к с. 61).
… Положим на душу Нерона триста тысяч христиан. — Дюма сильно преувеличивает число погибших, следуя весьма поздним легендам и собственной фантазии. Во времена Нерона население Рима составляло около 1 млн. человек, христианская община была еще невелика (по весьма приблизительным подсчетам современных ученых во II в. во всей Империи христиан было 200–300 тыс. человек на 50–60 млн.), поэтому в гонениях 64 г. никак не могла погибнуть почти треть населения Города.
… что ты изобрел, брат доброго Тита… — По христианским преданиям (античные источники довольно смутно говорят об этом), одно из жестоких гонений на христиан (их обвиняли в отказе приносить жертвы обожествленному императору, т. е., по сути, в государственном преступлении) в 95–96 гг. предпринял император Домициан (см. примем, к с. 34), родной брат императора Тита (см. примем. кс. 19), жестокий тиран, возможно человек с садистскими наклонностями (по свидетельству историков, впрочем к нему явно неблагосклонных, в минуты отдыха от государственных дел он развлекался, давя мух или отрывая им крылья), ненавистный населению Рима и даже ближайшему окружению.
199… Право, он обошел Клавдия. — О гонениях при Клавдии (см. примем. к с. 8) мало что известно, и вряд ли они были жестокими. Мы знаем лишь, что в 50 г., как пишет Светоний, "иудеев, постоянно волнуемых Хрестом <так! — Комм.>, он изгнал из Рима".
… Полмиллиона — не так уж много, но ведь Домициану всего сорок пять лет, когда его убивает Стефан, вольноотпущенник императрицы. — Полмиллиона погибших при Домициане христиан — явно преувеличенная цифра (см. примем, к с. 198).
К 96 г. жестокость, подозрительность, мстительность Домициана возросли настолько, что обеспокоенное за свою жизнь окружение — охрана, приближенные вольноотпущенники, даже члены семьи, включая супругу принцепса Домицию Лонгину (строго говоря, титула императрицы в Древнем Риме не существовало), — организовало заговор с целью убийства императора. Возглавил ее управляющий Домиции, вольноотпущенник Стефан, которому грозило наказание за растрату. Стефан притворился, что у него болит рука и обмотал ее повязкой, спрятав там кинжал. Явившись к Домициану под предлогом тайной беседы о готовящемся заговоре, он поразил принцепса этим кинжалом, а ворвавшиеся в спальню телохранители императора добили Домициана.
… недоделанное им довершит Коммод. — Коммод — см. примем, к с. 37.
200 Ариане — приверженцы христианского учения, провозглашенного около 312 г. александрийским священником Арием (ум. в 336 г.). Он утверждал, что три лица Троицы не равны, что Бог Сын не единосущен, а лишь подобносущен Отцу и является хоть и наивысшим и совершенным, но всего лишь творением Бога Отца. Это учение, хотя и вызвало резкое осуждение александрийской церкви (Арий был в 318 г. отлучен и изгнан из Александрии), оказалось довольно популярным в некоторых церковных кругах и при дворе императора Константина Великого.
201 …не хватило всего трех голосов, чтобы Никейский собор сделал выбор в пользу Ария и против тебя! — В 325 г. в малоазийском городе Никея был созван Первый Вселенский собор (Никейский собор), осудивший Ария, хотя его сторонников на Соборе было немало.
… император уже повелит константинопольскому патриарху Александру восстановить Ария в исполнении его священнических обязанностей… — Император сначала колебался, потом поддержал решения Собора, но в 336 г. приказал епископу Константинопольскому (только что основанная новая столица Империи не имела тогда еще своего патриарха, получив его лишь в VI в.) Александру (ум. в 340 г.; епископ с 327 г.?) снять с Ария отлучение, вернуть из изгнания и восстановить в сане священника (фаворитом Константина, как в тексте, Арий не был; неясно даже, виделись ли они когда-либо); тот вернулся, но вскоре умер, так что ариане обвиняли православных в отравлении Ария.
… Его учение проникает в варварские народы и обрушивается на Европу с готами, бургундами, вандалами и ломбардами. — Арианство стало популярным среди германских племен, как раз в IV в. вступивших в активные контакты (мирные и военные) с Империей: готов, разные (восточная и западная) ветви которых завоевали в V и VI вв. Испанию и Италию; бургундов, занявших в начале V в. Юго-Западную Галлию; вандалов, сначала прошедших по Испании, а затем оккупировавших в V в. Северо-Западную Африку; лангобардов (ломбардов — неверно), захвативших в VI в. значительную часть Апеннинского полуострова и передавших свое (искаженное местным населением) племенное имя Северной Италии — Ломбардия. Арианство перешло к этим народам как благодаря большим группам германцев-наемников, находившихся в Империи в то время, когда арианство пользовалось благосклонностью наследников Константина, так и из-за деятельности арианских миссионеров. Во многих королевствах, основанных варварами на развалинах Империи, арианство было господствующей религией завоевателей, тогда как большинство местного населения придерживалось ортодоксального вероучения. В VII в. эти королевства приняли никейскую (т. е. православную, не отделенную тогда еще от католической) веру.
… От ариан произойдет социнианская ересь. — Арианами позже стали называть сторонников учений, отрицавших божественность Христа и признававших его лишь совершенным человеком. К таким принадлежал живший в Польше и Трансильвании итальянец Фауст Социн (Социни; 1539–1604), один из основателей т. н. социнианской ереси.
202… Город этот — Женева, а на костре жгут Мигеля Сервета. — В
арианстве обвинялся и врач родом из Испании Мигель Сервет (1509/1511—1553). Этот первооткрыватель малого круга кровообращения скитался по всей Европе, преследуемый католической инквизицией, от которой бежал в оплот протестантизма — Женеву, но там был сожжен как еретик по настоянию некоронованного владыки этого города — "женевского папы" Жана Кальвина (см. примеч. ниже)… венчающих горы, что позже получат имена Роза и Визо — европейские сестры Хорива и Синая. — Дюма сравнивает альпийские горы Роза и Визо с Хоривом и Синаем, горами, где Господь говорил с Моисеем. Валъденсы — секта, основанная в XII в. (а не в X в., как сказано у Дюма) лионским купцом Пьером Вальдом, — отсюда самоназвания "вальденсы" и "лионские братья". Вальденсы выступали против обмирщения церкви, за добровольную бедность (отсюда еще одно самоназвание — "лионские бедняки") и были весьма популярны благодаря идеям бедной церкви; они преследовались церковью и к XIV в. пришли в упадок, сохранившись лишь в горных альпийских деревнях (но эти места не были, в противовес сказанному ниже у Дюма, местами их возникновения).
В позднее средневековье слово "вальденсы" (фр. vaudois) уже утеряло связь с именем Пьера Вальда и понималось как "жители Во" (Vaux), кантона (области) в Швейцарии.
… они утверждают, будто даровав папам и Церкви большие богатства, Константин ввел в соблазн христианский мир. — Вальденсы (но далеко не только они) считали недопустимым для церкви принятие т. н. Константинова дара — составленной в VII в. в папской канцелярии подложной (но подложность эта была доказана лишь в XV в., ранее же никто, в т. ч. и вальденсы, не ставил этот дар под сомнение и обсуждал лишь нравственные и юридические основания этого акта) грамоты, в соответствии с которой Константин Равноапостольный якобы передавал римским папам власть над западной частью Империи.
203… Видишь два кровавых пятна? Имя им Кабриер и Мериндол. — В XVI
и XVII вв., в эпоху борьбы с протестантизмом, католическая церковь вновь обрушилась на вальденсов, причем массовая резня их произошла в провинции Дофине, в селениях Кабриер и Мериндол (1545)… не берусь исчислить убитых святым Домиником, Пьером де Кастельно и Торквемадой! — Преследования вальденсов в XVI–XVII вв. осуществляли как светские власти, так и инквизиция, символизируемая у Дюма именами святого Доминика (см. примеч. к с. 25), Пьера де Кастельно (ум. в 1208 г.), проповедника и инквизитора, убитого альбигойцами (см. след, примеч.), и Томаса Торквемады (ок. 1420 — 1498), основателя испанской королевской инквизиции (см. примеч. к с. 26); указанные выше лица прямого отношения к истреблению вальденсов не имели.
Альбигойцы — еретическая секта XI–XIII вв., получившая название от южнофранцузского города Альбй. Иное название этой секты — катары (гр. "чистые"). Они придерживались дуалистических взглядов, т. е. признавали существование в мире двух равноправных начал — доброго (Бога) и злого (Дьявола). Весь материальный мир они считали созданным Дьяволом и освобождение от зла мыслили только через полное преодоление плоти. Они признавали переселение душ, проповедовали крайний аскетизм, отрицали церковную иерархию (при этом создали собственную), Ветхий завет, таинства, а некоторые ответвления секты отрицали Страшный суд, загробную жизнь и крестную смерть Христа.
… Их тоже будут преследовать за приверженность смеси из твоих проповедей и учения перса Манеса. — Истоки учения катаров многие исследователи находят в манихействе, религии, основанной иранцем Мани (в грецизированной форме — Манесом; 216–277). Мани объявил, что было три великих пророка: Иисус на Западе (относительно Ирана), Будда — на Востоке и Заратуштра (см. примеч. к с. 122) — в центре; сам же он — Мани — современный пророк, величайший и стоящий над всеми. Прямое заимствование идей Мани альбигойцами маловероятно, но вполне возможно через посредство различных дуалистических сект.
Альбигойцы подвергались преследованиям церкви, но были популярны на юге Франции, в т. ч. и потому, что в их учении содержались элементы социального протеста. Поддерживали катаров и местные владетели — графы Тулузские, подвассальные французской короне, видя в них опору в борьбе против королей Франции и феодалов Севера: области к югу от Луары отличались от остальной Франции и языком (т. н. окситанским, или старопровансальским), на котором была создана богатая литература, и законами (здесь господствовало писаное, римское, а не обычное право) и мн. др. Распространение альбигойства, и, в частности, убийство Пьера де Кастельно (см. примеч. выше), послужило поводом к крестовым походам 1209–1229 гг., последствиями которых было полное крушение всей южнофранцузской цивилизации.
204… детям Гаскони и Прованса… — Историческая область Гасконь на крайнем юго-западе Франции (в эпоху альбигойских войн герцогство Гасконь принадлежало английской короне и вошло в состав Франции лишь в 1453 г.) и Прованс на крайнем юго-востоке ее (графство Прованс до 1481 г. входило в состав Священной Римской империи, а не Франции) символизируют здесь, видимо, области к югу от Луары… Три мощных города: Безье, Лавор, Каркасон — сокрушит огненный вихрь, что пройдет по всему югу Франции. — Центрами секты альбигойцев были также южнофранцузские города Безье, Лавор, Каркассон.
… Господь познает своих/ — Согласно легенде, когда крестоносцы подошли в 1209 г. к Безье, рыцари обратились к духовному руководителю похода, легату (посланцу) папы Арно Амальрику (ум. в 1239 г.), с вопросом: как отличить еретиков от правоверных католиков в осажденном и подлежащем штурму городе, чтобы никто не ушел от кары, но и никто не пострадал безвинно? Амальрик ответил: "Убивайте всех. Господь познает своих".
Тамплиеры (или храмовники; полное название — "бедные рыцари Христа и Соломонова храма") — духовно-рыцарский орден, т. е. орден, члены которого помимо обычных монашеских обетов — бедности, послушания и целомудрия — принимали еще обет борьбы с неверными; основан бургундскими рыцарями Гуго де Пэном и Годфруа де Сент-Омером в 1118 или 1119 г. в Палестине; название получил по резиденции, находившейся в Иерусалиме на месте, где, по преданию, некогда располагался храм (фр. "temple") Соломона. Орденская одежда — белый плащ с красным крестом. Орден обладал обширными земельными владениями по всей Европе и в Святой земле; значительные денежные средства пускались в оборот, и орден был, по существу, крупнейшим банком западнохристианского мира (по мнению некоторых исследователей, именно тамплиеры первыми ввели банковские чеки). После падения крестоносного Иерусалимского королевства в 1291 г. орден формально перенес резиденцию на Кипр, но фактически руководство ордена пребывало в Париже. Король Франции Филипп IV Красивый (см. примеч. к с. 46) в стремлении уничтожить независимую от него мощную военную и финансовую силу, а также завладеть богатствами храмовников приказал в 1307 г. арестовать руководство ордена и большинство его членов. В 1310 г. начался процесс по обвинению их в ереси, богохульстве, колдовстве, дьяволопоклонстве, противоестественных пороках и т. п. Зависимый от Франции авиньонский папа Климент V (Бертран де Го; ок. 1264 — 1314; правил с 1305 г.) после робкого сопротивления поддержал обвинение и потребовал арестовать и судить храмовников во всех странах Западной Европы. В 1312 г. последовал папский указ о запрете ордена. В марте 1314 г. великий магистр ордена Жак де Моле (ок. 1243–1314) и два высших сановника ордена были сожжены. Перед смертью Моле проклял короля и папу, пообещав призвать их на суд Божий в том же году. Папа умер через две недели, король — через полгода; молва приписывала их смерть отравлению, в котором подозревали спасшихся собратьев великого магистра.
Процесс тамплиеров и их воззрения породили обильную литературу в новое время. Большинство исследователей XIX в. настаивали на полной невиновности тамплиеров. Выяснилось, например, что показания, дававшиеся храмовниками на следствии, разнятся у проживавших совместно братьев, если брались разными следователями, и почти дословно совпадали у никогда не видевших друг друга членов ордена, если их допрашивал один и тот же инквизитор; из этого был сделан вывод, что признания в преступлениях вкладывались в уста обвиняемых следствием с помощью пыток. Однако во многих масонских, околомасонских и контрмасонских кругах в XVIII–XX вв. распространялись и распространяются мнения о том, что обвинения возникли не на пустом месте, что тамплиеры (некоторые масонские организации без достаточных оснований возводили себя к этому ордену) создали некую очищенную внеконфессиональную религию, высокую духовность которой не смогли понять тупые фанатики-инквизиторы, либо (мнение противников масонства), что они действительно предавались дьяволопоклонству и плели заговор с целью установления всемирного иудейского владычества (потому и избрали храм Соломона местом резиденции), а их наследники-масоны продолжают это губительное дело. Указанные про- и антимасонские мнения не имеют сколько-нибудь доказанной научной базы.
205… Они станут поклоняться идолу с таинственно замкнутым выра жением лица и семисвеннику, что понесут во время триумфа Тита. — Среди обвинений тамплиеров фигурировали поклонение идолу Бафомету либо семисвечнику — специальному подсвечнику, используемому в иудейской обрядности. Один из семисвечников Иерусалимского храма, в рост человека, сделанный из чистого золота, был в числе трофеев Тита (см. примеч. к сс. 34 и 76), когда тот в 70 г. взял и разрушил Иерусалим. Этот семисвечник оказался в числе предметов, захваченных вандалами в 455 г. при разграблении Рима, и попал в Константинополь после завоевания вандальского королевства Византией в 535 г.; далее следы его теряются.
Богемия — средневевовое название Чехии; было в ходу в Западной Европе вплоть до провозглашения в 1918 г. независимой Чехословакии.
Ян Гус (1371–1415) — чешский религиозный реформатор, профессор Пражского университета. Его последователей называли гуситами. Гус считал папу главой церкви, но не наместником Христа на земле, обладающим особой благодатью. Одновременно с религиозными требованиями Гус выставлял и национальные, настаивая на том, что богослужение, проповедь и образование должны проводиться на чешском языке. Он добился передачи управления Пражским университетом от немцев в руки чехов. Гуса пригласили на Констанцский собор католической церкви (1414–1419) якобы для обсуждения его идей. Председательствовавший на Соборе император Сигизмунд I (1363–1437; правил с 1411 г.) выдал ему охранную грамоту, однако на Соборе Гус был обвинен в ереси и приговорен к смерти. Отцы Собора заявили императору, что обещание, данное еретику, не имеет силы. В 1415 г. Ян Гус был сожжен.
Смерть Гуса вызвала в Чехии возмущение и не остановила распространение его учения.
… сожгут на одном костре с его учеником Яном Пражским. — Ученик Гуса Иероним Пражский (Дюма называет его Яном; ум. в 1416 г.) сначала отрекся от идей своего учителя, но затем взял отречение обратно и пошел на костер.
… Этот прекрасный лебедь — Лютер. — См. примеч. к с. 206.
… "Отнять чашу!" — вот клич единения… — Гус отвергал католическое учение о причастии. Проводя строгое различие между духовенством и остальными верующими, католическая церковь допускала причащение и вином и хлебом только для священников, тогда как миряне имели право причащаться лишь хлебом, но не вином. Таким образом, в истолковании причастия католической церковью содержались не только религиозные, но и общественные различия, утверждались привилегии церкви. Отрицая эти различия, Гус настаивал на едином для всех причастии под обоими видами.
206… Сначала чашники и табориты встанут под одни знамена. — Сто ронников Гуса называли еще "чашниками" (вино для причастия пили из особой чаши).
В самом гуситстве было несколько течений. Умеренные заявляли, что только они имеют право называться чашниками, требовали упразднить привилегии церкви, отменить церковное землевладение, упростить церковные обряды, ввести богослужение на чешском языке и причастие под обоими видами; выступали за независимую чешскую монархию.
В 1420 г. возникло радикальное течение — табориты, получившее название от центра этого движения — горы Табор в Южной Чехии (Табор, или Фавор, — святая гора в евангелиях). Табориты, во главе которых стоял небогатый рыцарь Ян Жижка (ок. 1360–1424), требовали отмены всех податей, отрицали культ святых и поклонение мощам, заявляли, что любой, даже женщина, может отправлять богослужение. Объявленный в 1420 г. крестовый поход против еретиков-гуситов превратился в войну чехов и немцев и завершился победой чехов в 1431 г. Табориты составляли основную силу войска; хорошая военная подготовка (все мужчины у них обучались военному делу), патриотический подъем, религиозное воодушевление и даже фанатизм — все это делало их прекрасными воинами. Вожди таборитов, ссылаясь на заповеди Христовы и военную обстановку, требовали от своих последователей отказа от денежного имущества и передачи его в общую казну. В 1434 г. чашники и табориты вступили в конфликт, закончившийся битвой при Липанах, где умеренные победили. На некоторое время (до нач. XVII в.) была признана особая чешская церковь со своей обрядностью.
… взять приступом Ватикан, как некогда варвары взяли Капитолий. — Вероятно, имеется в виду попытка захвата Капитолия Бренном (см. примеч. к с. 104).
… Духовным отцом этого нашествия станет монах с ликом, истощенным постом… — Имеется в виду протестантизм, третье крупнейшее (после католичества и православия) течение в христианстве, возникшее в результате Реформации (религиозного движения, направленного против католической церкви). Название "протестантизм" возникло более или менее случайно, после того как ряд немецких князей, сторонников Реформации, подписали в 1529 г.
протест против запрета имперскими властями права князей устанавливать для себя и своих подданных вероисповедание. Дюма кратко излагает здесь некоторые события из эпохи Реформации. Началом Реформации считается 31 октября 1517 г., когда профессор Виттенбергского университета, монах августинского ордена Мартин Лютер (1483–1546) прибил к дверям университетской церкви лист, содержавший 95 тезисов против индульгенций (см. примеч. к с. 63). Лютер считал, что грехи человеку может отпускать только Бог, что спасение дается исключительно верой, что человек непосредственно общается с Богом, а потому церковь как посредник между Христом и верующими не нужна, излишни посты, обеты, безбрачие духовенства, культ мощей и икон, не существует особой благодати священства, решения пап и Соборов есть человеческое мнение, а истина содержится в Писании, которое каждый может читать и толковать. Идеи Лютера нашли отклик по всей Европе, особенно в Германии. Однако, поскольку с отказом от центрального религиозного авторитета — папства — исчезли какие-либо обязательные для всех инстанции, сторонники Реформации раздробились на множество течений.
Крупнейшими среди них были сторонники Лютера, лютеране, и приверженцы Жана Кальвина (1509–1564), основателя одного из самых жестких протестантских течений, кальвинисты, во Франции называвшиеся гугенотами (от нем. Eidgenossen — "давшие совместную клятву", через швейцарское диалектное Eidguenoten ко французскому huguenots).
… и вот уже сто тысяч крестьян под водительством одного из твоих священников, Томаса Мюнцера, усеют своими костями земли Франконии. — Идеи непосредственной связи с Богом и отсюда — равенства всех христиан перед Богом (в отличие от католичества, признававшего наличие особой, привилегированной в религиозном отношении группы — духовенства) трансформировались в массах в идеи равенства людей в миру. Эти идеи развивали участники Крестьянской войны в Германии в 1524–1525 гг. Среди восставших выделялся Томас Мюнцер (ок. 1490 — 1525), считавший возможным насильственное построение Царства Божьего на земле — без бедных и богатых, без собственности и власти. Мюнцер захватил власть в городе Мюльхаузене в Тюрингии (во Франконии — исторической области, включающей большую часть нынешней земли Гессен и север нынешней земли Бавария, — действовали другие отряды повстанцев), но был разбит войсками противников, в т. ч. князей-лютеран, взят в плен и казнен после пыток.
… истребление, подобное тому, что твой любимый ученик Иоанн предречет в Апокалипсисе. — Имеются в виду видения о конце мира, которые Иоанн Богослов имел в ссылке на острове Патмосе и которое он изложил в Апокалипсисе.
207… После крестьян Мюнцера придет черед анабаптистов под води тельством… Иоанна Лейденского… — Особым течением в Реформации были анабаптисты (букв. гр. "перекрещенцы", т. к. они отрицали действенность крещения в любом вероисповедании, кроме собственного, и требовали от новообращенных повторного крещения). Его сторонники отвергали также институциональное духовенство (руководителями общин могли быть только пророки, осененные духом Божьим), требовали полного социального равенства и были готовы установить Царствие Божье на земле насильственным путем. Они захватили в 1534 г. власть в городе Мюнстере и объявили его Новым Иерусалимом. В городе были отменены деньги, все произведенные товары поступали в общую казну и распределялись. Князь-епископ Мюнстера начал войну с городом, в которой погиб первый руководитель анабаптистов, выходец из Нидерландов булочник Ян Матис. Его преемником стал портной из Лейдена в Нидерландах Ян Бокелзон (Иоанн Лейденский; ок. 1509 — 1536), объявивший, что по откровению, которое ему было дано, он предназначен в наследники погибшему пророку. Он ввел жестокий теократический режим, расправлялся со своими противниками, уничтожал все книги, казавшиеся ему неподобающими, ввел общность жен и окружил себя гаремом. В 1535 г. Мюнстер пал, население было подвергнуто избиению, оставшиеся в живых руководители, включая Иоанна Лейденского, после жестоких пыток казнены.
… бедные моравские братья, какой грех они совершат? — Преследованиям подвергались и секты, отрицавшие насильственные действия. Так, после разгрома таборитов их остатки отказались от идей революционного построения Царства Божьего на земле и стали проповедовать ненасилие, но и на этих, как они стали называть себя, богемских, или моравских, братьев (Моравия — область в Чехии) обрушились жестокие гонения в 1620 г.
… Голгофа… покрывает Европу от истоков Одера до побережья Бретани, от залива Голуэй до устья Тахо. — Гонения моравских братьев происходили в рамках мощных политических потрясений, охвативших всю Западную Европу: с востока на запад — от восточных границ Германии до западного побережья Франции; и с севера до юга — от Ирландии, на западном побережье которой находится залив Голуэй, до Испании, где протекает река Тахо (устье ее расположено уже в Португалии, близ Лиссабона, на побережье Атлантического океана; впрочем, там эта река называется Тежу).
… Это то, что потом назовут восьмидесятилетней войной. — Дюма называет этот период восьмидесятилетней войной (это его собственный термин; вероятно, имеются в виду 1566–1649 гг.) и включает в него Тридцатилетнюю войну (1618–1648), развернувшуюся в основном в Германии, особенно в Чехии (Богемии), Вестфалии (Западная Германия) и Венгрии, входившей тогда в австрийские владения (впрочем, большая часть этой страны была в то время под властью турок), Нидерландскую революцию, охватившую в т. ч. Южные Нидерланды — Фландрию (1566–1610), Английскую революцию (1640–1660) и религиозные войны во Франции (1563–1594)… Она начнется разграблением собора в Антверпене… — В Нидерландах (включавших тогда нынешнее Нидерландское королевство, обычно именуемое Голландией, и Бельгию), попавших в результате династических комбинаций под власть Испании, получили широкое распространение кальвинистские идеи, причем борьба за Реформацию сливалась с борьбой против испанского господства. Началом Нидерландской революции считается т. н. иконоборческое восстание в Антверпене и ряде других городов в 1566 г. Кальвинисты отрицали культ Богоматери, святых, церковных изображений, реликвий, считая это почитание идолопоклонством. Иконоборцы, в основном из народных низов, врывались в церкви, уничтожали священные изображения и утварь. По всем Нидерландам разгрому подверглось около пяти с половиной тысяч церквей.
Дворянство и купечество, даже и кальвинистское, были недовольны такими крайностями, и к весне 1567 г. движение иконоборцев пошло на убыль.
… и закончится падением головы Карла Первого. — См. след, примеч.
… вон пылает Британия. Там бесчинствует Мария Кровавая. — На Британских островах господствовали в XVI в. три религии: установленное королем Англии Генрихом VIII (1491–1547; правил с 1509 г.) англиканство, которое сохранило много элементов католичества, но создало собственную церковь, подчиненную не папе, а королю; различные виды кальвинизма и католичество. Англиканская церковь господствовала в Англии, кальвинизм — в Шотландии, католичество оставалось верой большинства в подвластной Англии Ирландии. Все это вызывало борьбу внутри каждой из стран и между ними. Дочь Генриха VIII Мария I Тюдор (1516–1559; королева с 1553 г.) пыталась вернуться к католичеству, жестоко преследовала сторонников Реформации, за что получила прозвище Кровавой, но после ее смерти Реформация восторжествовала.
Однако религиозно-политические споры продолжались и оказались одной из причин Английской революции. Англикане стояли за сильную королевскую власть, умеренные кальвинисты — за ограниченную парламентом монархию, крайние — за республику. Последние временно победили (монархия была восстановлена в 1660 г.), и король Карл I (1600–1649; правил с 1625 г.) был в 1649 г. низложен и казнен.
… Л вот дымится Испания: ее поджег Филипп Второй! — Филипп II (1527–1598; правил с 1556 г.) — король Испании, мрачный и жестокий фанатик, целью которого являлось величие Испании и торжество католической веры. Он безжалостно расправлялся с инаковерием и инакомыслием внутри своей страны — Испании — и не мог допустить такое в нидерландских владениях. Кровавый террор, обрушившийся на Нидерланды, привел ко всеобщему восстанию. В конечном счете Северные Нидерланды отделились от Испании в 1581 г. (война с Испанией продолжалась до 1610 г), образовав Республику Соединенных провинций (по крупнейшей из них называвшуюся также Голландской республикой); Южные Нидерланды, в т. ч. Фландрия, остались за Испанией.
… ваш брачный союз — обручение северной тигрицы и южного беса. — Филипп II (тогда еще наследник испанского престола) в 1553 г. вступил в брак с Марией Тюдор, только что ставшей королевой Англии, и претендовал на английскую корону — по браку. Ранняя смерть Марии и единодушное неприятие англичанами испанского владычества сделали эти претензии беспочвенными.
208… Да здравствует ночь святого Варфоломея… — Во Франции Ре формация вылилась в длительные религиозные войны, прерываемые перемириями и соглашениями. За католиками стоял север страны, за гугенотами — юг; королевский двор, где всеми делами заправляла вдовствующая королева Екатерина Медичи (1519–1589; королева с 1547 г.; вдова с 1559 г.), колебался между крайними партиями. В 1572 г. очередное соглашение должно было быть скреплено браком между лидером гугенотов Генрихом I Бурбоном (1553–1610), королем Наваррским, и дочерью Екатерины Маргаритой Валуа (1552–1610). На состоявшуюся 18 августа 1572 г. свадьбу в Париж съехалось большое число дворян-гугенотов. Влияние кальвинистов при дворе возросло. Екатерина Медичи испугалась и вошла в союз с ультракатоликами. 24 августа, в день святого Варфоломея, около двух часов ночи в Париже ударили в набат. Парижская чернь, ведомая агентами католической партии и руководителями парижских ремесленных корпораций, бросилась громить дома гугенотов, накануне помеченные крестами. Началось массовое избиение безоружных людей. Находившийся в ту ночь в королевском дворце Лувре Генрих Наваррский спасся, перейдя в католичество. К полудню было убито около двух тысяч гугенотов, причем среди них были женщины и дети. Бойня распространилась на всю Францию, и всего пали жертвами около 30 тыс. человек. Протестанты во Франции и за ее пределами погрузились в траур, католики отметили Варфоломеевскую ночь как праздник. В конечном счете после смерти последнего представителя династии Валуа в 1589 г. к власти пришел Генрих Бурбон (Генрих IV как король Франции), который, перейдя в 1594 г. в католичество (после бегства из Парижа он снова вернулся к гугенотской вере и согласился отказаться от нее лишь для принятия французской короны ("Париж стоит мессы", якобы сказал он), усмирил страну и в 1598 г. даровал своим бывшим единоверцам Нантский эдикт, по которому они получали гражданские и политические права и значительную свободу вероисповедания. Карл /А"(1550–1574; правил с 1560 г.) — король Франции; в Варфоломеевскую ночь стрелял по бегущим гугенотам из окна Лувра. Людовик XIV (1638–1715; правил с 1643 г.) — король Франции; в 1685 г. отменил Нантский эдикт и начал преследовать протестантов, вызвав этим их массовую эмиграцию.
209… Звали их Зум, Дафан, Гамалиил, Левий, Нефалим, Александр и
Зир. — За одним исключением, имена этих членов Синедриона вымышленные. Реальным является только один персонаж — знаменитый иудейский законоучитель, учитель апостола Павла Гамалиил (точные годы жизни неизв.). Насколько можно судить, этот член Синедриона, вообще отличавшийся терпимостью, относился к христианам без злобы и предубеждения, но о его участии в суде над Христом ничего не известно.
… дверь, как вход в Дантов ад… — См. "Божественную комедию", Ад, III, 1-10.
211 Декурион — см. примеч. к с. 102.
… деревьев Минервы, как называли оливы. — Согласно греческим мифам, Афина (рим. Минерва) спорила с Посейдоном за власть над Аттикой; жители Аттики отдали предпочтение Афине, ибо она одарила их оливковыми деревьями, из плодов которых получают масло; в честь богини главный город Аттики назвали Афинами.
214… он, кому через шестьдесят лет на острове Патмос Иисус ниспо шлет видение смерти. — См. примеч. к с. 206.
218 Лонгин — персонаж, отсутствующий в евангелиях, но устойчиво наличествующий в легендах: некий центурион, римлянин (потому не могущий быть — вопреки сказанному Дюма — воином Каиафы), по просьбе которого Иисус исцелил его слугу (Матфей, 8: 5-13; Лука, 7: 6-10 — но имя там не названо); он же пронзает умершего Иисуса копьем, дабы убедиться в его кончине. За это, согласно преданию, он поражен слепотой, но, уверовав в Христа и прикоснувшись к глазам копьем, прозревает (архаический мотив оружия, исцеляющего раны, которые оно наносит). Копье сотника Лонгина вместе с Граалем — чашей, из которой Иисус пил на Тайной вечере и в которую Иосиф Аримафейский собрал его кровь после распятия, — играет большую роль в средневековых рыцарских легендах.
219 Центурион — см. примеч. к с. 57.
221… За сто восемьдесят четыре года до рождения Христа ее возвел Гиркан Маккавей… — Имеется в виду Иоанн I Гиркан (см. примеч. к с. 147), правивший не за 184, а за 134 года до н. э.
… римляне навязали Иудее первого из Иродов, сначала как тетрарха, а затем и как царя, сменив Антигона изродаАсмонеев… — В 47 г. до н. э. Цезарь прибыл в Сирию и вмешался в распри местных династий. Он назначил идумейского князя Антипатра (ум. в 41 г. до н. э.) правителем (без царского титула) Иудеи, а тот в свою очередь назначил, с согласия римлян, тетрархом Галилеи своего старшего сына Ирода (см. примеч. к с. 109). После смерти Антипатра владения унаследовали Ирод и его брат Фасаэль (ум. в 40 г. до н. э.). В 40 г. до н. э. в Палестину вторглись парфяне, разбили Ирода (его брат погиб в плену у парфян) и посадили на иудейский престол представителя династии Хасмонеев (Асмонеев) Антигона (ок. 73–37 до н. э.). Римский сенат тогда объявил Ирода царем Иудеи, и тому в 37 г. до н. э. с помощью войск Антония удалось взять Иерусалим; Антигон был казнен, а Ирод утвердился на престоле под римским протекторатом.
222 Марк Антоний — см. примеч. к с. 16.
223… Это был испанец Понтий Пилат. — О месте рождения Пилата ничего не известно. Среди колонистов в Испании был род Понтиев, но мы не знаем степень родства испанских Понтиев с Пилатом. Существует также гипотеза о том, что Пилат — потомок самнитов, родственного латинам племени, жившего в Самнии на севере нынешней области Лацио и практически ассимилированного римлянами к I в. до н. э. Это предположение базируется на том, что слово pilum ("копье"), от которого произведено фамильное имя Пилат, самнитского происхождения. Однако это самнитское слово вошло в латынь очень давно.
… шесть лет, как он сменил на этом месте Валерия Грата… — Валерий Грат был прокуратором Иудеи в 14–25 гг. н. э., а Пилат занял эту должность в 26 г.
…он ввел в Иерусалим легион с изображением римского императора на боевых знаменах, а это было недопустимо по иудейским законам. — Иудейские законы, опиравшиеся на известное: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли" (Исход, 20: 7) — категорически запрещали любое изображение, кроме орнамента. Помещение образов императора в священном городе — Иерусалиме — рассматривалось как святотатство и вызвало волнения, жестоко подавленные Пилатом. Легион был единицей римского войска, состоявшей из 4000–4200 пехотинцев и 700 конников. Со времен Гая Мария легионеры имели единообразное вооружение, дававшееся за счет казны. Подразделения легиона — центурии (от 30 до 80 чел.), манипулы (две центурии) и когорты (два манипула).
… Звали ее Клавдия Прокула. — Жена Пилата упоминается только в одном месте Писания: "жена его <Пилата — Комм.> послала ему сказать: не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него" (Матфей, 27: 19). Позднейшие легенды уделяют ей внимание, и в них говорится не о сновидениях, а о том, что Христос исцелил ее, но все это малодостоверно. Имя Клавдия Прокула — вымысел Дюма.
224 Порфир — здесь: вид мрамора, красного или розового цвета. Грифон — см. примеч. к с. 33.
226 Гробница Авессалома — находится к востоку от Иерусалима, по другую сторону Кедрона, у подножия Масличной горы. Об Авессаломе см. примеч. к с. 75.
Ессеи — иудейское религиозное течение во II в. до н. э. — I в. н. э.; проповедовали близкое пришествие Мессии, аскетизм, отказ от собственности; жили вне городов и поселений небольшими общинами, в которых соблюдали равенство и общность имущества.
227… Из потока на пути… — Псалтирь, 109: 7.
… стих из Малахии: "Япосылаю ангела…" — Малахия — один из т. н. "малых" пророков ("великими" из 12 пророков, чьи книги вошли в Ветхий завет, именуются Исайя, Иеремия, Иезекииль и Даниил); о нем практически ничего не известно, неясно даже: Малахия — это имя или прозвище (др. — евр. "посланец мой"); по преданию, жил в V в. до н. э., умер молодым.
Приведенные в тексте слова — слегка измененная цитата (надо "предо мною", а не "пред тобою"; Малахия, 3: 1).
228… после падения Силоамской башни вылечил многих из них. — О падении Силоамской башни (она располагалась возле источника, потому не исключен подмыв фундамента) см. Лука, 13: 4, но там ничего не говорится об исцелении покалеченных.
… Это зрелище растрогало бы фракийцев, скифов и варваров! — Фракийцы — группа древних индоевропейских племен, населявших северо-восток Балканского полуострова (территории нынешних Болгарии и Румынии) и северо-запад Малой Азии.
Преторий — первоначально палатка главнокомандующего и плац, на котором он вершил суд и расправу над подчиненными; позднее — вообще судебное учреждение и место суда.
235 Претор — здесь: римский наместник.
Ефод — см. примеч. к с. 91.
237… Если восстанет среди тебя пророк… — Второзаконие, 13: 1–4.
238… сидящего одесную силы… — То есть по правую руку от Бога.
244… Луч это был для него лестницей Иакова… — Праотец Иаков,
спасаясь от брата-близнеца Исава, разгневанного обманом (Иаков выманил у него право первородства), попал в пустыне в место, которое он назвал Вефиль (Бейт-Эль, т. е. "Дом Божий"). Уснув там, он видит вещий сон: лестница, стоящая на земле, касалась неба, по ней восходили и нисходили ангелы Господни; сам Господь, стоящий на верху лестницы, предрек Иакову обильное потомство и обещал свое покровительство (Бытие, 28: 11–15).
245 Милло — крепостной ров и вал в Иерусалиме, существовавший еще во времена Давида.
248 Акеддама (точнее: Акелдама) — место к югу от Иерусалима.
251 …в руках знаменосцы держали штандарты с орлом наверху и четырьмя буквами: S.P.Q.R…. — Имеется в виду знак легиона — серебряный орел на длинном древке с девизом, номером и названием легиона. S.P.Q.R. ("Senatus populusque Romanus" — лат. "Сенат и народ римский") — формула, помещавшаяся на официальных зданиях, воинских знаменах и т. д. и означавшая источник власти в римском государстве; сохранялась до конца императорского периода, хотя в реальности еще со времен Августа вся власть сосредоточилась в руках императора.
… Со времен Мария орел заменил на римских знаменах волчицу. — То есть со времен проведенной им военной реформы (см. примеч. к с. 35).
252… Марии, дочери Анны и Иоакима… — Родители Богоматери не упоминаются в канонических евангелиях. О них впервые говорится в "Книге о рождении Марии". По преданию, они были глубоко благочестивыми людьми, но, несмотря на все их молитвы, у них не было потомства. Однажды священник Иерусалимского храма не принял принесенную Иоакимом жертву на том основании, что бездетность — признак отверженности в глазах Бога. Иоаким ушел из дому, долго жил с пастухами и оплакивал свою судьбу, пока ему не явился ангел и не повелел вернуться к супруге, пообещав рождение младенца. Иоаким и Анна воспитывали Марию до трех лет, после чего отдали ее на служение в храм. На этом легенда умолкает, и о дальнейшей их судьбе ничего не известно.
253… излечивал он именем Вельзевула… — Вельзевул — демоническое существо; впервые это имя упомянуто в Евангелии именно в указанном Дюма контексте, и Вельзевул там назван "князем бесов" (Матфей, 10: 25; 12: 24, 27). С IV в. раннехристианские писатели имя Вельзевул связывали с филистимлянским божеством Баал-Зе-бубом, т. е. "Повелителем мух". Современные филологи выводят это имя из др. — евр. глагола zabal — "вывозить нечистоты".
257… я служил в восточном легионе, набранном в Сирии Квинтилием
Варом. — Публий Квинтилий Вар (46 до н. э. — 9 н. э.) был легатом Сирии (императорским наместником) в 6–4 гг. до н. э.; в 5 г. н. э. получил назначение легатом зарейнской Германии. О его гибели см. примеч. к с. 49.
Следует отметить, что Исаак Лакедем никак не мог служить в легионе, поскольку право на это имели лишь римские граждане, а провинциалы допускались только во вспомогательные войска; служба там была дольше (25 лет вместо 20), а жалованье меньше, но после окончания срока службы ветеран получал римское гражданство.
… сгорбившись и пошатываясь, сошел вниз, подобный Гелиодору под плетью ангела! — См. примеч. к с. 147.
262… С ним будет то же, что с египетскими волхвами, которых фараон подвиг выступить против Моисея… — Согласно Писанию, евреи были в рабстве в Египте; Моисей обратился к фараону с требованием отпустить народ Израиля, но фараон отказался. Тогда Господь по молитве Моисея сотворил множество чудес через этого пророка, но фараон оказался принять их за божественные знамения, ибо волхвы фараона умели делать то же самое (позднейшие богословы добавляли — силой дьявола). Однако, когда Господь наслал на египтян моровую язву, волхвы ничего подобного сделать не смогли, так как сами страдали от этой болезни.
263 Иерихон — см. примеч. к с. 109.
265… притчи о богаче и Лазаре… — Лука, 16: 19–31.
… величественным сооружением, связанным с именем Александра Ян-ная, иудейского царя и первосвященника. — Со времен Иоанна Гиркана (см. примеч. к с. 147) Маккавеи (они же Хасмонеи, или Асмонеи) носили одновременно царский и первосвященнический сан. Александр Яннай (правил в 103—76 гг. до н. э.) построил в Верхнем городе дворец Хасмонеев.
… по велению Ирода Великого из Аскалона — того самого, что отравил жену Мариамну, убил двух своих сыновей… — Ирод Великий, не будучи ни потомком Хасмонеев, ни, строго говоря, евреем, посаженный на престол римлянами, всю жизнь боялся за трон. В 25 г. до н. э. он приказал перебить всех оставшихся в живых Хасмонеев. Его жена Мариам (Мариамна; ок. 60 до н. э. — 29 н. э.) принадлежала к Маккавеям; чтобы жениться на ней, Ирод развелся с первой женой, Дорис (ум. после 13 г. до н. э.), но второй брак объяснялся не только стремлением стать поближе к законной династии. Ирод безумно любил свою вторую жену и невероятно ревновал ее. Он прислушивался ко всем наветам придворных на царицу; доносы сделали свое дело, и в 29 г. до н. э. Мариамна была отравлена. Своих многочисленных сыновей Ирод также весьма опасался и в 7 г. до н. э. приказал казнить сына от Мариамны Аристовула (см. примеч. к с. 147). Стремясь стравить сыновей между собой, он в 13 г. до н. э. приказал вернуть ко двору первую жену и сына от нее — Антипатра (ум. в 4 г. до н. э.), но и его заподозрил в стремлении захватить престол неизлечимо больного отца и казнил Антипатра за пять дней до собственной смерти.
266… Саул у Аэндорской волшебницы, вызвавшей для него тень пророка Самуила… — Саул накануне решающей битвы с филистимлянами обратился к жившей в палестинском местечке Эйн-Доре (Аэндоре) волшебнице, которая вызывала мертвых. Та призывает дух пророка Самуила, к тому времени покойного, и он предвещает царю гибель от рук его врагов. Позднейшие толкователи единодушно считали, что обращение Саула к ворожбе и гаданию свидетельствовало о том, что он окончательно отвратился от путей Господа и впал в нечестие.
269… на листе папируса изящным стилосом из египетского тростника начертал по-латыни… — Стил ос — орудие письма, палочка с расщепленным концом. Следует отметить, что в реальности Пилат никогда бы не стал сам писать приговор: при обязательной грамотности для высших сословий сам акт писания (кроме, может быть, набросков для себя, памятных записок) считался уделом рабов и вольноотпущенников, недостойным свободного человека занятием; не только должностные лица, но и писатели диктовали свои тексты.
Ликтор — см. с. 103.
272… и подозрительный император может внести в один и тот же проскрипционный список и ненаказанного смутьяна, и слишком снисходительного судию. — Здесь выражение "внести в проскрипционный список" употреблено в переносном смысле — осудить на смерть, ибо собственно проскрипций (см. примеч. к с. 36) Тиберий не проводил.
… убийцу звали Вар-Авва, то есть "сын Левы". — Имя Варавва (так в синодальном переводе) произведено то ли от Вар-Авва (Бар-Абба), т. е. "Сын Отца", то ли от Вар-Равван (Бар-Раббан), т. е. "Сын Учителя" (раввина). По некоторым свидетельствам, его собственное имя было Иешуа, т. е. Иисус. По одним данным, Варавва был мятежником ("некто по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство" — Марк, 15: 7; "Варрава же был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство" — Лука, 23: 19), по другим — "Варавва же был разбойник" (Иоанн, 18: 40).
275… Латинский текст приговора, каким его сохранила древняя тради ция… — Имеются в виду т. н. "Акты Пилата", подложные отчеты Пилата императору Тиберию о процессе Иисуса из Назарета; эти "Акты" входят в созданное в IV в. апокрифическое евангелие от Никодима.
279… Вот когда бы я хотел держать в руках орла цезарей! — См. примеч.
к с. 251.
282… оставь имя Серафии и зовись Вероника. — Евангелия о данном сюжете — т. н. плате Вероники, на котором отпечаталось изображение Христа ("Спас Нерукотворный"), — умалчивают, он появляется впервые в "Актах Пилата" (см. примеч. к с. 275).
… Vera icon — "истинное изображение". — Вероника, имя женщины, давшей платок, — это позднегреческая форма македонского имени Береника, что в свою очередь есть диалектное искажение имени Ференика, т. е. "Победоносная". "Вероника" OTvera icon, как сообщает в подстрочном примечании Дюма, — ложная этимология, впервые введенная англичанином Гервазием Тилбюрийским (изв. ок. 1215 г.).
283 Кармель — гора и предгорья на северо-западе Палестины, вблизи Средиземного моря; высота ок. 500 м.
284 Киринея (Кирена) — основанная в VII в. до н. э. греками — выходцами с о. Фера в южной части Эгейского моря колония к западу от Египта на краю Ливийской пустыни.
287 Мирра — ароматическая смола тропических деревьев семейства бурзеровых, растущих в Южной Аравии и Северо-Восточной Африке; употребляется в качестве пряности и для благовонных курений… И к злодеям причтен… — Марк, 15: 28; ср. Исайя, 53: 12.
… в раскрытую ладонь упер острие гвоздя и пятью ударами молотка прибил к столбу эту руку… — Распространенная ошибка, ведущая начало от средневековой иконографии. В действительности осужденные на распятие либо привязывались к кресту, либо — как в случае Христа — прибивались гвоздями за запястье, между двумя отростками лучевой кости, чтобы тело не сорвалось под собственным весом, как это случилось бы, будь эти гвозди вбиты в ладонь.
289… Пронзили руки мои… — Псалтирь, 21: 17.
290… Как восточным ветром развею… — Иеремия, 18: 17.
… Очи его зрят на народы! — Псалтирь, 65: 7.
292… Или, Или!лама савахфани? — Матфей, 27: 46; неточно переданная по-арамейски (правильно: Марк, 15: 34 — "Элой, Элой! ламма савахфанй") фраза "Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?" (Псалтирь, 21: 2).
… А мальчик пел вот что… — Нижеследующая песнь есть целиком и полностью плод фантазии Дюма. Если некоторые персонажи этой песни находят соответствие в иудейских легендах (Каин, Ламех — см. примеч. к с. 68), то мифологические имена заимствованы, притом весьма вольно и неточно, совсем из другого ареала. Конь Семехай — это, по-видимому, Симург, вещая птица иранской мифологии.
Птица Винатейн — Вината, мать Гаруды, мифологической птицы, на которой ездит индийский бог Вишну.
294 Рыба Махар — чудовищная рыба Макара опять же из индийской мифологии.
295 Кифара — многострунный щипковый инструмент, имевший от четырех до семи струн.
Кидар — головной убор первосвященника, нечто вроде чалмы.
… Элоа, самый прекрасный из ангелов Господних… — Ангел с таким именем в текстах не зафиксирован; видимо, Дюма неточно понял встречающееся в Писании обозначение ангелов — сыновья Элохим, т. е. Бога.
298… облака, подгоняемые огненными крылами самума. — Самум — принятое в Аравии и Северной Африке арабское название сухого горячего ветра, нередко сопровождающегося песчаными бурями.
Гора Гион — холм высотой ок. 100 м у западной части стены Иерусалима.
… оттуда он некогда бросал любострастные взгляды на жену своего верного военачальника Урии. — Согласно 2 Царств, 11, Давид увидел купающуюся Вирсавию (грецизированная форма евр. имени Батшеба), жену военачальника Урии Хеттеянина (т. е. хетта, представителя индоевропейского народа, создавшего в Малой Азии в XVIII–XII вв. до н. э. мощное государство) и воспылал к ней страстью. Давид послал Урию на войну и дал указание Иоаву (см. примеч. к с. 75) поставить Урию на самое опасное место. После гибели Урии Давид взял Вирсавию в жены, и она родила ему Соломона. "И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа" (2 Царств, 11: 27).
299… протянул ему губку, смоченную в уксусе. — Уксус здесь: кислый виноградный напиток, обычное питье римских воинов.
310 Наин — селение к юго-востоку от Назарета.
311 Тиропеон — низина в южной части Иерусалима, по которой проходит Силоамская дорога.
314… И покой его будет слава! — Исайя, И: 10.
315 Аполлоний Тианский (1 г. до н. э./1 г. н. э. — ок. 97) — античный философ-пифагореец, родом из каппадокийского города Тиана, отличавшийся суровым аскетизмом и экстравагантностью поведения. Еще при его жизни, а особенно после смерти вокруг его имени складывались легенды: он познал всю мудрость мира, был великим чудотворцем, мог переноситься по воздуху, появляться одновременно в разных, удаленных друг от друга местах, овладел тайной бессмертия и т. п. Между 205 и 217 гг. греческий писатель Флавий Филострат (ок. 170 — ок. 247) создал "Жизнь Аполлония Тианского", где собрал и обработал многочисленные легенды. Современные ученые считают, что это сочинение имело скрытую направленность против становящегося все более популярным христианства: образу страдающего Богочеловека противопоставлялся образ богоравного философствующего мага.
Коринф — древний город в Греции, на Истме (Коринфском перешейке), соединяющем Пелопоннеский полуостров с материковой Грецией; был основан в X в. до н. э.; находился примерно в 6 км от современного города с тем же названием; благодаря своему уникальному положению, имея выходы к двум морям — Ионическому и Эгейскому, стал крупнейшим торговым центром древности на путях из Европы в Азию, поскольку плавание вокруг Пелопоннеса было небезопасным из-за бурь, рифов и пиратов.
Немея — город в северо-восточной части Пелопоннеса, в 30 км от Коринфа.
… Коринф, ты дитя Эфиры… — Поскольку древнее название Коринфа — Эфира, то существовало предположение, что его основали выходцы из одноименного города в Северной Греции.
… сестры твои — Афины и Спарта. — Афины — см. примеч. к с. 77. Спарта (иначе — Лакедемон) — город-государство в Южной Греции на полуострове Пелопоннес. Спартанское общество было построено по жесткому сословному принципу, его полноправные граждане (спартиаты) представляли собой предельно военизированную общину. Спарта обладала самой сильной сухопутной армией среди греческих полисов и находилась в постоянном конфликте с Афинами.
… родина Сизифа и Нелея… — Сын Эола, царя эолийцев (одного из основных греческих племен), Сизиф считался основателем Эфиры — Коринфа. Греческие мифы рисуют Сизифа хитрецом, способным обмануть богов и даже самое смерть; кроме того, он совершал разбойные набеги на Аттику, убивал путников, придавливая их камнями; за это был осужден в царстве мертвых вкатывать на гору тяжелый камень, который в последнюю минуту скатывается вниз, и все начинается сначала.
Нелей, сын Посейдона, не родился в Коринфе, а, по преданию, умер и был похоронен там.
… царство Медеи и Ясона! — Медея и Ясон (см. примеч. к с. 194) жили в Коринфе, но не владели им. Именно попытка Ясона жениться на дочери коринфского царя и привела к трагическому концу.
… Аполлон и Нептун оспаривали друг у друга честь обладания тобой и, не желая уступить, позвали в судьи титана Бриарея. — Неточность: по преданию, из-за Истма спорили Посейдон (рим. Нептун) и бог солнца Гелиос (а не Аполлон). Их рассудил Бриарей, отдав Посейдону все, что находится на Истме, а Гелиосу — вершины гор.
Бриарей — в греческой мифологии не титан (см. примем, к с. 69), а гекатонхейр, сын Урана и Геи, пятидесятиголовое и сторукое существо; во время битвы богов с гигантами (см. там же) был на стороне Зевса.
… она даровала тебе спасение, вняв мольбам своих жриц — твоих куртизанок. — Согласно малодостоверному преданию, когда во время греко-персидских войн армия царя Ксеркса I (см. примем, к с. 88) подступила к Коринфу, горожане обратились с молитвой к Афродите, и та придала коринфским гетерам такое очарование, что персы тут же поддались их мольбам и отступили от Коринфа.
… выкупив у афинян рабыню Лаис, сделал ее своей любимейшей дочерью…. — Лаис (Лайда) Старшая — знаменитая греческая гетера, вокруг имени которой сложилось много легенд. Она была привезена в Коринф в 415 г. до н. э. маленькой девочкой; прославилась красотой и умом; среди ее обожателей называют знаменитого греческого художника Апеллеса (см. примем, к с. 348), хотя тот жил в следующем веке; была якобы убита в храме Афродиты женщинами, завидовавшими ей.
… утоляющий жажду неиссякаемыми слезами нимфы, оплакивающей смерть своего сына, которого случайно задела стрелой богиня охоты. — Согласно греческим мифам, Кенхрей, сын бога Посейдона и речной нимфы Пирены, был случайно убит Артемидой. Пирена в горе пролила столько слез, что сама превратилась в источник, из которого коринфяне добывали питьевую воду (источник Пирены на Акрокоринфе).
… ты был хорош во время Истмийских игр… — Истмийские игры — общегреческие празднества, организатором которых был Коринф. Проводились в июле раз в два года в священной роще на Истме; программа включала гимнастические, конные, музыкальные и поэтические состязания; известны с 581 г. до н. э.
… узкий перешеек, отделяющий Саронийский залив от моря Алкионы! — Саронийский залив (соврем. Сароникос) — залив Эгейского моря между Арголидой и Аттикой.
Море Алкионы — юго-восточная часть Коринфского залива Ионического моря.
Ширина разделяющего их Коринфского перешейка около 6 км. Тир — см. примем, к с. 77.
Александрия, Кадис — см. примем, к с. 15.
Массилия — см. примем, к с. 107.
Дельфы — город в Средней Греции, в Фокиде, в 80 км к северо-западу от Коринфа.
Олимпия — город на западе Пелопоннеса, в Элиде, в 120 км к западу от Коринфа.
316… в триумфальную перевязь твоих побед вплетены Соломин, Мара фон, Платеи и Левктры, на ней вышиты имена Фемистокла, Милътиада, Павсания, Эпаминонда и Филопемена. — В греко-персидских войнах Коринф стоял на стороне греков, но не играл существенной роли, которая принадлежала Афинам и Спарте. Первое крупное поражение на суше греки, в сущности одни афиняне, нанесли персам в сентябре 490 г. до н. э. близ селения Марафон на востоке Аттики; афинянами командовал беглый правитель подвластного персам Херсонеса Фракийского (ныне — Галлипольский полуостров), афинский гражданин Мильтиад (ок. 550–489 до н. э.).
Морским сражением при острове Саламин (см. примем, к с. 36), в котором в сентябре 480 г. до н. э. был разгромлен персидский флот, фактически руководил афинянин Фемистокл (см. примем, к с. 87; формальное командование принадлежало спартанцам).
После Садами на произошел перелом в войне, и победа греков была закреплена сражением при городе Платеи в Беотии, в Средней Греции, в 479 г. до н. э. Здесь основную роль сыграли спартанцы; объединенным войском греков командовал спартанский полководец Павсаний (ум. ок. 470 г. до н. э.), судьба которого в дальнейшем была печальной: спартанские власти, опасаясь его влияния, обвинили его в подготовке государственного переворота; он прибегнул к убежищу в храме, где и умер от голода.
После греко-персидских войн и Пелопоннесской (431–404 до н. э.) войны между Афинами и Спартой, в которой Коринф сражался на стороне последней, Спарта, несмотря на победу над Афинами, была обессилена и в Греции начал набирать силу созданный еще в VI в. до н. э. и реформированный в 379 г. до н. э. в конфедеративное государство Беотийский союз во главе с Фивами. Реорганизатором союза выступил его стратег (выборный военачальник) Эпаминонд (ок. 418–362 до н. э.), нанесший Спарте поражение при беотийском городе Левктры в 371 г. до н. э.
Позднее Коринф был включен в состав Ахейского союза (см. след, примем.), одним из руководителей которого был непримиримый борец за свободу Эллады — противник Рима Филопемен (253–183 до н. э.).
… Арат принес тебе освобождение от македонян, некогда покоривших тебя, и включил в Ахейскую лигу! — После распада державы Александра Македонского большая часть Греции находилась под македонской гегемонией. В 280 г. до н. э. в Ахайе, горной области на севере Пелопоннеса, местные города создали (или восстановили ранее существовавший) Ахейский союз, имевший некоторые черты конфедеративного государства. В 251 г. до н. э. Сикион, крупный портовый город на севере Пелопоннеса, сверг промакедонское правительство и присоединился к Ахейскому союзу. Инициатором этого был сикионец Арат (271–213 до н. э.), ставший одним из руководителей союза. В 243 г. до н. э. Арат изгнал из Коринфа македонский гарнизон и город прочно вошел в Ахейский союз, став одним из его центров… покоритель мира Рим поднялся против тебя и превратил всю Грецию в одну провинцию. — Греция в древности не представляла собой единого государства. После римского завоевания в ней было образовано три провинции — Ахайя (Южная и часть Средней Греции), Македония (собственно Македония и часть Средней Греции) и Эпир (Северо-Западная Греция).
… Беспощадный завоеватель обрек тебя на восьмидневный пожар. — См. примем, к с. 196.
…во всепожирающем пламени… был создан металл, драгоценнее любого из когда либо рождавшихся в недрах земли. — Имеется в виду коринфская бронза — сплав золота, серебра и меди; изготовленная из этого сплава посуда ценилась очень высоко, и любители платили за нее огромные деньги; была трех цветов, в зависимости от преобладания одного из ее компонентов.
… Ты не был разрушен Ксерксом, но пал перед войском Муммия. — О Ксерксе см. примеч. к с. 88; о Муммии см. примеч. к с. 196.
… оделся мрамором, дарованным Юлием Цезарем и Августом. — Чтобы привлечь города Греции на свою сторону, Цезарь после победы над Помпеем в 46 г. до н. э. отпустил большие средства на строительство городов в Элладе. То же делал и Август во время борьбы с Антонием, которого поддерживала значительная часть Греции.
… Возникли… храмы Нептуна, Палемона, Киклопов, Геракла, Цереры… — Нептун — см. примеч. к с. 194.
Палемон — морское божество, покровитель Коринфа. По легенде, Гера наслала безумие на царя Беотии Афаманта и его супругу Ино. Афамант убил одного из сыновей, а Ино с другим сыном — Меликертом — бросилась в море. Труп Меликерта дельфин вынес на берег возле Коринфа, где его нашел и похоронил Сизиф (см. примеч. к с. 315), учредивший в честь Меликерта Истмийские игры. Одновременно (не надо искать в верованиях греков современную логику) тот же Меликерт был превращен богами в божественного помощника моряков, терпящих бедствие, по имени Палемон. Геракл — см. примеч. к с. 14.
Киклопы — см. примеч. к с. 55.
Церера — см. примеч. к с. 8.
… Твои площади украшали изваяния Амфитриты, Ино, Беллерофонта, Венеры, Дианы, Бахуса и Фортуны… — Амфитрита — морская нимфа (нереида), супруга Посейдона.
Ино — см. пред, примеч.
Беллерофонт — греческий герой, сын коринфского царя Главка, внук Сизифа; получил от богов крылатого коня — Пегаса, с помощью которого победил химеру — трехглавое огнедышащее чудовище. Диана — см. примеч. к с. 54.
Бахус — латинизированная форма имени греческого бога вина и экстаза Вакха — Диониса (см. примеч. к с. 194).
Фортуна — римская богиня удачи; ассоциировалась с греческой богиней с теми же функциями — Тихе (см. примеч. к с. 375).
… Меркурию было установлено две статуи, Юпитеру — три… — Меркурий — римский бог торговли, в III в. до н. э. отождествленный с греческим Гермесом, богом торговли и обмана, а также проводником душ мертвых.
Юпитер, римский бог неба и грома, царь богов, очень рано был отождествлен с подразумеваемым здесь Зевсом.
… были построены бани Елены, Эвриклеи, Октавии… — Елена — героиня греческого эпоса, жена Менелая, возлюбленная Париса, виновница Троянской войны.
Эвриклея — старая нянька Одиссея, первая узнавшая героя, когда он после многолетних странствий возвратился домой на Итаку. Октавия (ум. в 11 г. до н. э.) — сестра Августа, жена Марка Антония… гробницы Ксенофонта, Диогена, детей Медеи, Схойнея и Лика Мессенского! — Ксенофонт (430–355 до н. э.) — древнегреческий политик, писатель и полководец; был учеником Сократа и написал "Воспоминания о Сократе"; участвовал в междоусобных войнах в Персии в качестве наемника и создал в связи с этим книги "Киропедия" (т. е. "Воспитание Кира") и "Анабасис" (букв. гр. "Нисхождение", в переносном смысле — "Поход из внутренних районов страны к морю"); служил в Спарте, за что был изгнан из Афин; умер в Коринфе. Диоген — здесь именуется в виду Диоген Синопский (ок. 412–323 до н. э.) — философ-киник, живший в Коринфе; отличался презрительным отношением к культуре ("Диоген в бочке"); несмотря на свое знатное происхождение, вел нищенский образ жизни; воздействовал на умы больше своим образом жизни, чем учением.
О детях Медеи см. примеч. к с. 194.
Схойней (Схейней) — греческий герой, отец прославленной в легендах охотницы и бегуньи Аталанты.
Лик Мессенский — неясно, кто это; в греческой мифологии несколько героев носят имя Лик, но все они по большей части связаны не с Мессенией, областью на юго-западе Пелопоннеса, а с Фивами или малоазийским регионом Ликия.
Возможно, имеется в виду Линкей, сын мессенского царя, участник похода аргонавтов, обладавший могучей силой и необыкновенной остротой зрения.
Вероятно также, что подразумевается Лик, сын афинского царя Пандиона. После смерти изгнанного из Афин Пандиона Лик отвоевал себе остров Эвбею, но затем был лишен этого царства. В древней мессенской столице Андании он ввел мистерии Атгиды. Дубовая роща в Андании, где Лик подвергал очищению всех посвящаемых, носила его имя. Однако могила этого Лика находилась в Афинах.
… в конце месяца гелафеболиона… — Гелафеболион (элафеболион) — девятый месяц афинского календаря, приблизительно март… скользят, как алкионы, между его островами. — Алкиона — здесь: зимородок. Объясняющий это название миф см. с. 339 и соотв. примеч.
Алтарь Меликерта — см. примеч. выше.
Кенхрейские ворота — городские ворота Коринфа, выходящие в сторону Кенхрейской гавани.
Источник Пирены — см. примеч. к с. 315.
Акрокоринф — высокая отвесная гора близ Коринфа и крепость на ней, контролировавшая Коринфский перешеек.
317 Кенхрейская гавань (Кенхрея, Кенхреи) — восточная гавань Коринфа для доставки товаров из Азии.
Лехейская гавань (Лехей, Лехея) — западная гавань Коринфа для доставки товаров из Италии.
… Как и последователи Пифагора, он полагал, что животные имеют душу… — Пифагор (ок. 540 — 500 до н. э.) — греческий философ родом с острова Самоса в Эгейском море, основавший религиознофилософское учение, центральная идея которого — единство мира, воплощенное в числах (совершенное число — 10). Его последователи, пифагорейцы, проповедовали переселение душ, занимались математикой, дающей ключ к познанию мира, а также магической практикой.
Эги — здесь: город в Киликии, области на юго-западе Малой Азии… все время там посвятил занятиям медициной в храме Эскулапа… —
Эскулап — римская форма имени греческого бога врачевания Асклепия, сына Аполлона.
318… пробыл некоторое время у царя Фраота, проник в Индию, достиг
Замка мудрецов, беседовал сучеными браминами и даже с самим Иархом… — Увлечение восточной мудростью началось в античном мире после того, как там узнали об Индии, которой достиг Александр Македонский в своих походах. Индия мыслилась страной мудрецов и чудотворцев, хранителей истинного знания — браминов (правильнее: брахманов). Фактически брахманы — высшая каста в Индии, священнослужители, знатоки индуистских религиозных текстов и культа; в Греции же это название прилагалось к аскетам, предававшимся йогической практике. По словам Флавия Филострата (см. примеч. к с. 315), мудрецы-брамины обитали на холме Мудрецов в особой крепости; в реальности такого места не существовало, вероятно, имелись в виду ашрамы — нечто вроде монастырей, где аскеты-йоги селились вместе. Точно также вымышленными персонажами являются описанные Филостратом индийский царь с парфянским именем Фраот и индийский верховный мудрец с неиндийским именем Иарх (слово образовано от соединения греческих глаголов iaomai — "исцелять", "лечить" и archo — "начальствовать", "властвовать").
… Возвращаясь через Египет, он виделся и беседовал с Эвфратом и Дионом… — Эвфрат (Евфрат; ок. 40 — 119) — философ-стоик, уроженец Тира; был, если верить Филострату, противником Аполлония и доносил на него властям, обвиняя его в колдовстве.
Дион Хрисостом (Златоуст; I в. н. э.) — знаменитый оратор, близкий друг Аполлония. Все трое действительно бывали в Египте.
… и пролил свет на чудеса Мемнона. — Мемнон — в сказаниях о Троянской войне эфиопский царь, сын богини зари Эос, союзник троянцев, павший от руки Ахилла. Греки считали статуей Мемнона полуразрушенное изображение фараона Аменхотепа III (XV в. до н. э.), ибо эта скульптура на рассвете, видимо, из-за выделения нагретого воздуха, издавала звук, напоминающий звук лопнувшей струны; эллины полагали, что так Мемнон приветствует свою мать — Эос. Филострат повествует о путешествии Аполлония Тианского к колоссу Мемнона и излагает иной вариант мифа о нем (по его словам, Мемнон никогда не был в Трое и приветствует не богиню зари, а Гелиоса — Солнце, верховного, по мнению Филострата, бога), но делает это от собственного имени, а не от имени Аполлония.
… В тех местах он встретил и укротил сатира. — Сатир — в античной мифологии полузверь с человеческим торсом и головой, козлиными или лошадиными ногами, иногда с рожками и/или лошадиным хвостом. В эллинистическую эпоху рассматривался как реальное существо-чудовище.
Филострат рассказывает (VI, 27), как Аполлоний усмирил некоего невидимого и любострастного сатира, который держал в страхе целую деревню. Мудрец напоил его четырьмя кувшинами египетского вина и, сделав видимым, показал спавшего поселянам.
… спустился до Александрии, где поразил всех ученых своим рассуждением о золоте Пактола… — Пактол — золотоносная река в Лидии (области на западном берегу Малой Азии). Согласно Филострату (VI, 37), Аполлоний объяснял происхождение золота в Пактоле тем, что золотой песок приносят в него дождевые воды с Тмола — горной цепи в Лидии.
Остальные упомянутые в тексте чудесные истории, связанные с Аполлонием, также изложены у Филострата.
Антиохия — см. примеч. к с. 94.
Иония — населенная греческими племенами ионийцев область на западном побережье Малой Азии, включая острова Самос и Хиос вблизи побережья.
Аттика — см. примеч. к с. 48.
… посетив по дороге Элевсин. — См. примеч. к с. 8.
… Затем он пересек Мегариду… — Мегарида — область города Мегары на Истме, к северо-востоку от перешейка, на берегу Саронийского залива.
… Этот каппадокийский город расположен между Тарсом и Кесарией. — Таре — город на реке Кидне, в северо-восточной части Малой Азии, столица Киликии.
Кесария (соврем. Кейсери) — столица Каппадокии, политический и военный центр Малой Азии.
319… ей явился Протей, сын Нептуна и Феники. — Протей — греческое морское божество, способное к постоянным превращениям; обладал пророческим даром, но открывал будущее лишь тому, кто оказывался в состоянии узнать его истинный облик.
Феника — об этом персонаже ничего неизвестно; мифы не назвают имени матери Протея.
Сивилла — в греческой мифологии собственное имя древнейшей предсказательницы, дочери Зевса; позднее — вообще пророчица. Флора — римская богиня цветения колосьев, цветов и садов.
… место, известное… свом чудодейственным Асбамейским источником. — Согласно Филострату (I, 6), этот источник был посвящен Зевсу Клятвоблюстителю.
… словно в него вселились души Зенона, Аристотеля, Платона и Хрисиппа. — Зенон из Кития (ок. 355 — ок. 262 до н. э.) на Крите — древнегреческий философ, основатель стоицизма (Зенон проповедовал в портике — по-гречески stoa), философского учения, утверждавшего равенство людей перед судьбой, неизменность судьбы и невозможность избежать ее: надо спокойно воспринимать все удары рока и утешаться внутренней невозмутимостью.
Учение Зенона систематизировал Хрисипп (ок. 280–208/205 до н. э.), выдвинувший на первое место образ мудреца, невозмутимого, живущего в согласии с природой и достигшего внутреннего спокойствия, в котором заключается высшее счастье.
Платон (см. примеч. к с. 143) и Аристотель (384–323 до н. э.) еще в древности считались вершинами античной философии.
320 Суний — укрепленный мыс на юго-восточной оконечности Аттики с беломраморным храмом Посейдона, построенным на высоте 60 м над уровнем моря; в средние века назывался Колонным мысом.
Киферон — горная цепь между Аттикой и Беотией.
Ахайя — здесь: область на севере Пелопоннеса.
Микены — некогда могущественный и богатый город в северной части Арголиды, в 30 км к югу от Коринфа.
… один из учеников по имени Филострат… — Дюма, видимо, намекает на Флавия Филострата, который, однако, жил много позднее и учеником Аполлония быть никак не мог.
321… как наш божественный учитель Пифагор, он присутствовал при осаде Трои… — Среди пифагорейцев был распространен культ Пифагора, которого считали если не божеством, то полубогом; распространялись слухи (возможно, к ним при жизни был причастен сам Пифагор), что он не то бессмертен, не то наделен невероятным долголетием и был современником Троянской войны.
… носил бы имя Аякса Оилида, этого великого хулителя богов. — Аякс, сын Оилея (Оилид) — герой греческого эпоса, участник Троянской войны; во время взятия Трои совершил насилие над троянской царевной Кассандрой, искавшей убежища у алтаря Афины, т. е. содеял святотатство. Разгневанная богиня вызвала бурю, которая разбила корабль возвращавшегося Аякса, но тот уцепился за скалу и похвалялся, что остался жив вопреки воле богов; тогда Посейдон расколол скалу, и Аякс утонул.
… На его вопрос не ответили ни маги Азии, ни жрецы Египта, ни брамины Индии. — Маги — служители культа Ахурамазды (см. примеч. к с. 122) в Иране; в Греции считалось, что жрецы стран Востока обладают особой мудростью.
… Где отыскать золотую ветвь Энея… — Как повествуют римские предания, Эней, прибыв в Италию, по совету сивиллы, живущей в городе Кумы (кумской сивиллы), срезает ветвь омелы ("золотую ветвь"), приносит ее в жертву богине преисподней и царице подземного царства Прозерпине и попадает в обитель мертвых, где встречается с тенью своего отца Анхиза, который пророчествует о судьбе самого Энея и его потомства.
…от имени Юпитера Гостеприимного… — Юпитер как верховный бог считался гарантом соблюдения законов и обычаев, в т. ч. обычаев гостеприимства.
… родился на двенадцатом или тринадцатом году консулата Августа… — Следовало было бы сказать: "в год двенадцатого или тринадцатого консулата Августа". Со времен Августа должность консула, высшая в республиканском Риме, превратилась в почетное звание, но сам император многократно и охотно избирался на этот пост. В 12-й раз он был избран в 5 г. до н. э., в 13-й и последний — во 2 г. н. э. По мнению современных исследователей, Аполлоний родился в 1 г. до н. э. или в 1 г. н. э., причем вторая из дат приходится на год, когда консулом был Гай Цезарь, усыновленный внук Августа (см. примеч. к с. 132).
… учился в Гарсе со стоиком Антипатром, философом Архедемом и обоими Афинодорами. — Сказанное абсолютно невозможно и представляет собой чистый вымысел. Все перечисленные философы, относящиеся к стоической школе (см. примеч. к с. 318) — Антипатр Тарсийский (150—? до н. э.), Архедем Тарсийский (изв. после 156 г. до н. э.), Афинодор Тарсийский (изв. после 70 г. до н. э.) и его тезка — то ли Афинодор, брат поэта Арата (II в. до н. э.), то ли Афинодор, учитель Августа (I в. до н. э.), — жили много ранее Аполлония.
322… Когда Бахус с Гераклом захватили Индию… — Ниже излагается весьма популярная в эллинистическое время легенда греческого происхождения, к Индии и древним мифам Эллады отношения не имеющая. Сын Зевса и смертной женщины Семелы Дионис — Вакх (лат. Бахус), согласно мифам, дошел до Индии и триумфально вернулся оттуда. О походах Геракла в Индию в древних преданиях ничего не говорится. Филострат, рассказывая приведенный миф, связывает его не с общеизвестным Гераклом, а с его тезкой, Гераклом Египетским, о котором ничего, кроме сказанного у Филострата, не известно; возможно, это чистый плод фантазии Филострата… храма Венеры Победительницы… — Римская Венера, отождествленная с греческой Афродитой, была, сверх того, еще и олицетворением милости богов. Так, Помпей воздвиг в Риме храм Венеры Победительницы (и это была богиня мужчин-воинов, а не женщин) в знак благодарности за дарованные ему богами победы.
323… Бог, предугаданный Эсхилом… — Вероятно, имеется в виду трагедия одного из величайших греческих драматургов Эсхила (525–456 до н. э.) "Прометей прикованный". Зевс знает, что будет свергнут своим сыном, но лишь Прометею известно, от кого родится столь опасное потомство, однако он отказывается назвать имя этой смертной женщины или богини. За это его приковывают к скалам Кавказа, — а не только за похищение божественного огня. Мысль о том, что Эсхил в образной форме предвещает появление христианства, есть плод не античности, а XVIII–XIX вв. (см. также примеч. к с. 402).
324… Виноградная лоза в Сорренто шептала… — Сорренто — см. примеч. к с. 69.
"Lacrima Christi"("Лакрима Кристи") — сорт белого мускатного вина… Кармельский кипарис шептал… — Кармель — см. примеч. к с. 283… Сузский ирис шептал… — Сузы — см. примеч. к с. 92.
… Ипомея, прозванная "красою дня", шептала… — Имеется в виду "денная красавица", вьюнок трехцветный.
326… туда, где прялка прядет, где кружится веретено, а ножницы режут нить. — Имеется в виду мир (скорее всего загробный, во всяком случае — иной), где вершатся судьбы людей. Согласно античной мифологии, судьбу человека определяют богини мойры (рим. парки), три сестры, из которых первая — Лахесис ("дающая жребий"), держит веретено, вторая — Клото ("прядущая"), прядет нить жизни, третья — Атропос ("неотвратимая"), обрезает ее.
… выбрал… великолепного фессалийского жеребца… — Фессалия (см. примеч. к с. 105) славилась своими конями.
… назвал их в честь четырех коней бога Солнца… — Имеется в виду четверка коней, запряженных в колесницу, на которой едет по небу бог Солнца Гелиос: Эоус (Эоос; "утренний"), Эфос (Эфон; "жар"), Пироэнт ("огненный"), Флегонт ("пылающий").
Астерион — река в Арголиде.
327… в знаменитой пещере, один из выходов которой закрыл Геракл… — Речь идет о первом подвиге Геракла: убийство немейского льва, неуязвимого для оружия; герой загнал льва в пещеру, завалил один из выходов, вошел в другой и задушил чудовище.
328… С ними фессалийская колдунья… — Фессалия считалась страной колдунов и особенно колдуний.
329 Трет и Лпес — горы близ Немей, на которых Геракл разыскивал немейского льва.
Клеоны — город на северо-востоке Пелопоннеса, приблизительно в 15 км к юго-западу от Коринфа.
Немея — см. примеч. к с. 315.
Бембина — селение близ Клеон.
… пусть у тебя вырастут крылья химеры… — У античных химер крыльев не было; с крыльями изображались химеры средневековья. Крисейский залив (Крисейское море) — часть Коринфского залива близ Фокиды; название получил от фокийского города Криса. Возможно также, что здесь имеется в виду весь Коринфский залив.
330… вакханки, что разорвали на части Орфея на берегах Гебра… — О гибели Орфея см. примеч. к с. 194.
Гебр — см. примеч. к с. 89.
… нас окружает фессалийская свора ведьм под предводительством самой Канидии? — Канидия — фессалийская колдунья. Неясно, была ли она историческим лицом, фольклорным персонажем, вроде бабы-яги, или плодом фантазии Горация, от которого (эподы V и XVII) мы и узнали о ней.
… мрачную, как Эреб, темную, как Ночь!.. — Эреб — в греческой мифологии персонификация мрака, сын Хаоса и брат Ночи.
… Только крылья Пегаса могли бы спасти меня, подобно Беллерофонту… — См. примеч. к с. 316.
331 Киклоп — см. примеч. к с. 55.
332… ступни и кисти были достойны Гебы. — Геба — в греческой мифологии богиня юности, дочь Зевса и Геры.
Пеплум (латинская форма гр. "пеплос") — женская одежда: прямоугольный кусок ткани, которым драпировались вокруг тела поверх рубахи-туники.
333… осенью, когда наступает месяц Цереры и Помоны… — То есть сентябрь, время сбора урожая.
Церера — см. примеч. к с. 8.
Помона — в римской мифологии богиня плодов.
Аспид — см. примеч. к с. 70.
… унесен на Елисейские поля гениями смерти… — Елисейские поля — см. примеч. к с. 8; гении — здесь: духи (см. примеч. к с. 22)… готов был понять Плутона, похитившего Прозерпину. — Согласно античным мифам, богиня Персефона (рим. Прозерпина), дочь Деметры (рим. Цереры), была похищена богом подземного царства Аидом (рим. Плутоном). Деметра, скорбя по утерянной дочери, наслала на землю засуху, и встревоженные этим боги решили, что треть года Персефона будет с мужем править царством мертвых, а две трети — пребывать на земле с матерью. Поэтому зимой ничего не растет, ибо богиня плодородия Деметра тоскует по дочери.
… Верно, ты второй Орест, что твой сон так мучителен? — Орест — см. примеч. к с. 67.
… Ты путешествуешь из Аргоса в Афины, чтобы испросить прощение у ареопага? — Аргос — город на северо-востоке Пелопоннеса, в Арголиде; воспет Гомером.
Ареопаг — совет в Афинах, состоящий из представителей родовой знати.
… сто шестьдесят стадиев, отделяющих город Персея от города Эфиры. — Город Персея — это Тиринф на востоке Пелопоннеса (к югу от Микен), где жил герой греческой мифологии Персей, убивший чудовище, обладавшее смертоносным взглядом, — горгону Медузу (см. примеч. к с. 70).
Город Эфиры — Коринф (см. примеч. к с. 315).
334 Эспарцет — многолетняя трава семейства бобовых.
… Мелисс с его золотистыми лозами… — Непонятно, что имеется в виду.
Немея — здесь: река между Коринфом и Сикионом; впадает в Лехейский залив.
… Афины называют городом Минервы. — Минерва — римский аналог греческой Афины.
… их можно принять за богинь, равных Юноне. — Юнона — см. примеч. к с. 82.
… умноженные искусством художника Зевксиса и скульптора Праксителя… — Зевксис — греческий художник кон. V — нач. IV в. до н. э.; считался изобретателем приема светотени; произведения его не сохранились.
Пракситель (ок. 390 — ок. 330 до н. э.) — греческий скульптор; его произведения, вт.ч. впервые изображавшие обнаженную Афродиту (Афродита Книдская), известны по поздним римским копиям.
… опасалась златоустов, что ходят на красных котурнах и обитают между двумя морями! — Котурны — обувь трагических актеров, которая придавала им более высокий рост. Котурны красного цвета носили актеры, игравшие царей.
335… в муслиновых рукавах… — Муслин — мягкая тонкая хлопчатобумажная или шелковая ткань.
… статуи из паросского мрамора… — т. е. мрамора с острова Парос в Эгейском море.
Оней — гора около Коринфа.
336 Скарабеи — род жуков-навозников.
Эритрейское море (Ерифрейское, букв. "Красное") — западная часть Индийского океана между Индией, Аравией и Африкой.
… богиня Луцина допустила твое рождение… — Луцина ("светлая", "выводящая на свет") — римская богиня родов; довольно рано стала отождествляться с Юноной и именовалась Юнона — Луцина.
… тебе встретились Герион или Синие… — Герион — см. примеч. к с. 70, Синие — см. примеч. к с. 194.
337 Мегара — город на берегу Саронийского залива, в 40 км к востоку от Коринфа.
Сикион — крупный портовый город на севере Пелопоннеса, на берегу Коринфского залива, в 20 км к западу от Коринфа.
Протей — см. примеч. к с. 319.
… Венера, которой они поклоняются, не Венера из Пафоса, Киферы или Книда. — Греческая мифология, как и любая другая народная (не ученая, искусственная) мифология, представляет богов неотделимыми от мест их поклонений, поэтому Венера (Афродита), почитавшаяся в разных местах: например, в городе Пафос (на юго-западе острова Кипр), где находился храм Афродиты; на острове Кифера (к югу от Пелопоннеса против мыса Малея, центр культа Афродиты) со знаменитым святилищем богини; в городе Книде (на юго-западном побережье Малой Азии, в Карии) с прославленным храмом Афродиты — это одновременно и одна и та же богиня, и разные.
… Это также не Венера Анадиомена — мать всего сотворенного, не Венера Урания — властительница неба, не Венера Благая, что кормит весь мир. — Поскольку любое божество обладает разными функциями, это одновременно и одно божество, и несколько. Венера Анадиомена, т. е. "появившаяся на поверхности моря", получила название по мифу о своем происхождении: она появилась на свет из крови и семени упавшего в море детородного члена оскопленного бога Урана… Эта — из Индии, спустившаяся по Нилу до Сирии. — См. примеч. к с. 82.
… Это Анаит, Энио, Астарта. — С Венерой — Афродитой в эллинистическом мире отождествлялись различные восточные богини любви и плодородия — армянская Анаит (Анахит), финикийская Астарта и др.
Греческая богиня Энио, сестра и служительница бога войны Ареса, никогда с Афродитой не смешивалась и не сближалась.
… окруженная тритонами и океанидами… — Тритон — в греческой мифологии морское божество, сын Посейдона и нереиды Амфитриты; изображался с рыбьим хвостом вместо ног, с трезубцем и раковиной в руках. Позднее возникло представление о множественности тритонов.
Океаниды — в греческой мифологии три тысячи дочерей Океана — титана, сына Урана и Геи.
… взойти на Олимп сквозь лазурь эмпирея. — Олимп — см. примеч. к с. 88; эмпирей — см. примеч. к с. 135.
… сестра мрачного Молоха… — См. примеч. к с. 82.
339… не гордитесь… вашей амброзией, нектаром и самим вашим Олим пом! — Амброзия — согласно греческой мифологии, пища богов, дающая бессмертие каждому вкушающему ее.
Нектар — напиток богов, дающий бессмертие и вечную молодость… Феба поднялась над Кифероном… — Феба — в греческой мифологии богиня Луны, а также одно из прозвищ Дианы.
… Так же в "Эклогах" латинского поэта поют поочередно два пастуха. — См. примеч. кс. 15 о Вергилии.
… повествовали о любви Кейка, царя Трохина, и Алкионы, дочери Эола. — Согласно греческим мифам, Кейк — сын Эофора, божества утренней звезды, т. е. планеты Венеры (Дюма спутал его с другим Кейком, царем города Трахина в Фессалии, товарищем Геракла), и Алкиона — дочь бога ветров Эола, так сильно любили друг друга, что, когда Кейк не вернулся из морского путешествия,
Алкиона бросилась в море. Боги превратили супругов в зимородков (вариант: его в зимородка, ее в чайку). Другое название зимородков — алкионы. Существовала и менее романтическая версия мифа: они были превращены в птиц, ибо возгордились своим супружеским счастьем и именовали себя Зевсом и Герой.
340 …не выпускай из твоих мехов ни хладом дышащего Борея, ни Эвра в широком покрове, ни Нота, что из склоненной чаши беспрестанно поливает землю дождем!… Зефир мне желанен… — Здесь упомянуты божества ветров, позднее ставшие просто названиями этих ветров: Борей — северного, Нот — южного, Зефир — западного и Эвр — юго-восточного; первые три бога-ветра — сыновья бога звездного неба Астрея и богини зари Эос, четвертый — неясного происхождения.
… отпусти его из твоих Стронгильских пещер на волю! — Стронгила — один из Эоловых островов (соврем. Липарские), группы островов вулканического происхождения к северо-западу от Сицилии; по преданию, на Стронгиле (соврем. Стромболи), действующем вулкане, обитал бог ветров Эол.
Дима — портовый город в Ахайе, на северо-восточной оконечности Пелопоннеса.
Криса — портовый город в Фокиде, на северном берегу Коринфского залива.
Левкада (соврем. Лефкас) — остров в Ионийском море на западе Эллады, у выхода из Коринфского залива.
Итака — остров к югу от Левкады; родина Одиссея.
342 Коринфия (Коринфская область) — область города Коринфа, от Сикиона до перешейка.
…Ей оставалось лишь молить Венеру — Диону о счастье для сына. — Диона — в греческой мифологии дочь Геи и Урана; в некоторых мифах — супруга Зевса и мать Афродиты (Венеры); одно из имен Афродиты тоже Диона.
343 Аркадия — горная область в центральной части Пелопоннеса к западу от Коринфа.
… шествие направилось в храм Венеры Меланеидской… — Меланеи-да — древнее название города Эретрии на острове Эвбея.
Истм — Коринфский перешеек.
Фламмеум — у римлян огненно-красная фата невесты.
344… Аполлон и Клития… — Клития — в греческой мифологии дочь титана Океана; влюбившись в бога солнца Гелиоса (не Аполлона), впала в безумие, отказалась от воды и пищи и могла лишь поворачивать голову, чтобы следить за возлюбленным; вросла в землю и превратилась в цветок гелиотроп.
… Венера и Адонис… — Адонис — божество сиро-финикийского происхождения, по наиболее распространенной версии сложившегося уже на греческой почве мифа, сын царской дочери (разные версии дают разные имена) от кровосмесительного союза с отцом. Афродита полюбила прекрасного юношу и сделала его своим возлюбленным и служителем. Артемида, разгневанная предпочтением, которое Адонис отдал Афродите, наслала на него кабана, который смертельно его ранил. Афродита оплакивала возлюбленного, и из его крови вырастали розы, из ее слез — анемоны.
Геликон — гора и горный кряж в Средней Греции, в Беотии.
… брат Амура, о Гименей! — Амур (гр. Эрот) — в античной мифологии бог любви; первоначально — божество, олицетворяющее сексуальное влечение, брат или потомок Хаоса; позднее — сын Марса (Ареса) и Венеры (Афродиты), мальчик или юноша с золотыми крыльями, вселяющий в людей любовные чувства.
Гименей — бог брака, сын Бахуса (Диониса) и Венеры; торжественная песнь в честь новобрачных также называлась Гименеем. Аттика — см. примеч. к с. 48.
… от мыса Малей до горы Орбел и от обрыва Фалары до пролива Левкады… — То есть во всей Греции с юга до севера и с востока до запада.
Малея — см. примеч. к с. 142.
Орбел (соврем. Перим-Даг) — гора на севере Греции, в Македонии. Левкада — см. примеч. к с. 340.
Фалары — восточный мыс во Фтиоде.
345 Симонид Кеосский (556–468 до н. э.) — греческий поэт с острова Кеос (близ Аттики); известен погребальными плачами, а таже песнями в честь победителей при Саламине и павших при Фермопилах.
… чтобы умилостивить их, каждой заклали нетель. — Нетель (нетеля) — молодая, ни разу не отелившаяся корова.
Парки — см. примеч. к с. 326.
Грации (гр. хариты) — в античной мифологии богини, воплощающие доброе, радостное и вечно юное начало жизни; их три — Аглая ("сияющая"), Евфросина ("благомыслящая") и Талия ("цветущая")… вошли в артемизий, храмовый притвор… — Словом "артемизий" ("артемисий") называли храм Артемиды на острове Эвбея и притвор только этого храма.
346 Смирна (соврем. Измир) — ионийский город на западном побережье Малой Азии, в бухте Герм; крупный торговый центр. Эпиталама — свадебная песнь, исполняемая перед брачными покоями.
… будто сам создатель пропилеев Мнесикл позаботился о ее украшении. — Мнесикл (вторая пол. V в. до н. э.) — греческий скульптор, создавший в 437–432 гг. до н. э. пропилеи (особый элемент древнегреческой архитектуры — обрамление парадного входа или въезда симметричными портиками или колоннадами) Афинского акрополя (цитадели). Эти пропилеи имели два портика, расположенные на разных уровнях и соединенные внутри акрополя колоннадой. Ионические колонны — то есть относящиеся к т. н. ионическому ордеру, для которого характерны колонны с невысокими профилированными основаниями, увенчанные капителями.
Веларий — навес от солнца, нередко расшитый.
Капитель — см. примеч. к с. 29.
… знаменитые пейзажи Греции: Дельфы и их храм… — В Дельфах (см. примеч. к с. 315) находилось общегреческое святилище — храм Аполлона.
… Афины и их Парфенон… — Парфенон — храм Афины Парфенос ("Девственной") в Афинах, шедевр классической греческой архитектуры.
… Спарту и ее крепость… — Одним из знаменитых архитектурных памятников города Спарта был акрополь с храмом Афины.
… Додону и ее священную дубовую рощу. — Близ Додоны, города в Эпире (см. примеч. к с. 104) было еще одно обще греческое святилище — дубовая роща, посвященная Зевсу.
Фриз — декоративно оформленная горизонтальная полоса в той части здания, где колоннада или стена соединяется с крышей; свойственна ионическому ордеру.
347 Фасис (соврем. Риони) — река в Колхиде; в древности считалась границей Европы и Азии.
… Мозаика пола, приписываемая Гермогену Киферскому… — Гермоген (рубеж III и II вв. до н. э.) — греческий архитектор, уроженец острова Кифера, строитель храма Артемиды в городе Магнесии на реке Меандре в Малой Азии.
… являла собой историю любви Пирама и Фисбы, послужившую впоследствии рождению не менее прекрасной легенды о Ромео и Джульетте. — По преданию, изложенному Овидием, Пирам и Фисба должны были впервые прийти на свидание друг к другу (до этого они виделись и беседовали лишь через щель в стене дома). На пришедшую первой Фисбу кинулась львица с окровавленной мордой. Фисба убежала, бросив покрывало. Найдя его, Пирам решил, что Фисба погибла, и закололся мечом. Обнаружив труп возлюбленного, Фисба покончила с собой тем же мечом. Дюма сближает эту легенду с повествованием о Ромео и Джульетте из-за близости фабулы — самоубийство, вызванное ложной вестью о гибели любимого человека. Нард — благовонное масло (то же, что миро).
… гурманов того времени, чьи имена донесла до нас история: Октавия и Габия Апиция. — Луций Октавий и Габий Апиций — знаменитые римские гурманы, жившие около 60 г. до н. э.; их пиры славились не столько изысканностью, сколько экзотичностью и дороговизной блюд: по преданию, на трапезе одного из них подавалась рыба стоимостью 5 тыс. сестерциев за штуку (для сравнения: участок земли, который получал выходящий в отставку ветеран, оценивался в 1–3 тыс. сестерциев, в зависимости от местоположения — в Италии или в провинциях).
Самос — остров в Эгейском море у берегов Ионии.
… старого фалернского урожая 632 года по римскому календарю… — То есть урожая 121 г. до н. э. (римское летосчисление шло от 753 г. до н. э. — легендарной даты основания Рима).
Фалернское — горьковатое белое италийское вино, считавшееся в древности одним из лучших.
… привилегированного консульского вина, упоминаемого Тибуллом… — Консульское вино — то есть марочное, с указанием года его розлива (в году консульства такого-то).
Альбий Тибулл (ок. 55–19 до н. э.) — римский буколический поэт. Ср. "Дайте бочонок теперь с окуренным старым фалерном…" — Тибулл, "Элегии", II, 17, 27. — Перевод Л. Остроумова.
…из коринфского вина и меда с горы Гиметт… — Гиметт — горный кряж Аттики, славившийся сбором меда.
Фригия — см. примем, к с. 197.
Мелос — один из юго-западных Кикладских островов Эгейского моря.
Амбракия — область и город в западной части Греции, на побережье Амбракийского залива Ионического моря.
Халкедон — город в Вифинии (области в Малой Азии), на юго-восточном побережье Пропонтиды (Мраморного моря).
Тарент — см. примем, к с. 104.
Киос — город в Вифинии, на юго-восточном побережье Пропонтиды, к югу от Халкедона.
Фасос — остров в Эгейском море у берегов Фракии.
Иберия — либо страна на Пиренейском полуострове, либо часть нынешней Грузии.
348 Илисс — река в Аттике.
… Ты одинаково ловко владеешь иглой Арахны и кистью Апеллеса… — Арахна — в греческой мифологии вышивальщица и ткачиха, вызвавшая на состязание в этом искусстве богиню Афину. Богиня выткала изображения главных богов и сцены ужасных наказаний, которые претерпевают смертные, дерзнувшие соперничать с богами. Арахна изобразила любовные похождения Зевса, Диониса и других богов. Разгневанная Афина разорвала прекрасное творение Арахны и ударила ее ткацким челноком. Та в горе повесилась, но богиня извлекла ее из петли и превратила в паука, который вечно висит на нити и ткет паутину.
Апеллес — греческий живописец второй половины IV в. до н. э., считавшийся наилучшим из античных художников; произведения его не сохранились.
Латона — римская форма имени Лето, древнегреческой богини-покровительницы жен и матерей, матери (от Зевса) Аполлона и Артемиды (Дианы).
Юнона — Луцина — см. примем, к с. 336.
349… как некогда Дафна, возлюбленная Аполлона, вросла корнями в землю. — Согласно греческим мифам, Аполлон полюбил речную нимфу Дафну, поклявшуюся сохранить целомудрие; преследуемая Аполлоном, Дафна обратилась с мольбой к богам, и те превратили ее в лавровое дерево ("лавр" — по-гречески "дафнэ"), которое тщетно обнимал Аполлон, сделавший после этого лавр своим любимым растением.
350… изгнал беса из молодого человека с Коркиры, что был потомком феака Алкиноя, гостеприимно принявшего Улисса после осады Трои. — История о бесноватом рассказана Филостратом (IV, 20).
Коркира (Керкира) — древнее название острова Корфу у побережья Западной Греции, в Ионическом море; еще в древности отождествлялась с мифической Схерией.
По греческим мифам, где-то на Западе (видимо, в Западном Средиземноморье) лежит остров Схерия, на котором живут феаки, — счастливый народ, отличающийся гостеприимством и непревзойденным мастерством кораблевождения. Правит этим народом царь Алкиной, и в садах его вечно произрастают плоды. Именно со Схерии возвращается к себе домой на Итаку Одиссей (лат. Улисс), после окончания Троянской войны в течение десяти лет скитавшийся по воле богов.
351… жди нас в Фессалии, в долине между Филлийскими горами и Пенеем… — Пеней — река в Фессалии и Македонии, впадающая в Фермейский залив Эгейского моря.
… собери там колдуний, вещуний, демонов, злых духов, ламий, эмпуз, кентавров, сфинксов, химер… — В греческой мифологии Л амия — некогда возлюбленная Зевса, детей которой убила ревнивая Гера; от горя Ламия превратилась в чудовище, пожиравшее малолетних. Позднее ламиями стали называть злых духов, которых представляли в виде змей с головой и грудью красивой женщины; считалось, что они пожирают детей и могут соблазнять мужчин и пить их кровь во время соития.
Эмпуза (эмпуса) — злой дух, способный представать в любом обличье, частый персонаж народных преданий. Иногда эмпуз отождествляли с упырями-ламиями. О чудовищности "истинного" облика эмпузы существуют различные легенды, включающие два постоянных мотива: эмпуза существо женского пола и у нее не хватает ноги или у нее ослиные ноги (или одна нога ослиная, а другая человеческая и т. п.).
Кентавры — в греческой мифологии дикие существа с телом лошади и головой и торсом человека, обитатели гор и лесных чащ, обладавшие буйным нравом (см. примеч. к с. 194).
Сфинкс — чудовище женского пола, с телом льва, птичьими крыльями, головой и грудью женщины, убивавшее (видимо, душившее) людей. По одним вариантам греческого мифа, Сфинкс задавал всем прохожим загадку, и неответивший погибал; лишь герой Эдип смог найти разгадку, и Сфинкс бросился в пропасть (см. примеч. к с. 67). В ранних вариантах мифа о загадке нет речи, и Эдип убивает Сфинкса в единоборстве. Представления о многочисленных сфинксах (мужского пола) и сфингах (женского пола) достаточно поздние. Химера — первоначально чудовище греческой мифологии с ногами козы, туловищем льва, хвостом змеи и тремя головами — козьей, львиной и змеиной; ее убил герой Беллерофонт (см. примеч. к с. 316). Позднее химеры — плотоядные чудовища, представляющие собой соединения разных частей различных животных.
352 Киферон — см. примеч. к с. 320.
… одно из древнейших творений искусства, приписываемых Дедалу-скульптору, современнику Миноса… — Дедал — в греческой мифологии искусный мастер (скульптор, архитектор, строитель), изобретатель столярных инструментов; жил в Афинах, откуда вынужден был бежать на Крит, поскольку убил своего ученика, позавидовав его искусству; на Крите служил сыну Зевса, мудрому царю острова Миносу, владыке морей и гегемону Греции (после смерти Ми: нос стал верховным судьей в царстве мертвых). Поссорившись с ним, Дедал улетел вместе с сыном Икаром на Сицилию при помощи крыльев, сделанных из воска и перьев. Икар поднялся слишком высоко, близко к солнцу, которое растопило воск, и рухнул в море, Дедал же благополучно долетел до цели. За образом Миноса стоят определенные исторические реалии: правители города Кносса на Крите в XVII–XV вв. до н. э. (один или несколько из них носили имя Минос) не только владели всем островом, но и, благодаря мощному флоту, господствовали в северо-восточном Средиземноморье. Дедал — фигура мифологическая; ему приписывалось авторство древнейших деревянных изваяний богов, восходивших к VIII в. до н. э. (во многих случаях дерево на самом деле не выдерживало разрушительного воздействия времени, и статуя заменялась точной копией) и почитавшихся именно в силу своей древности.
353… Истмийские игры, учрежденные Сизифом в честь Меликерта, сына Ино. — См. примеч. к с. 316.
Олъмийский мыс — находится к северу-западу от Коринфа.
Герания — горная цепь в Мегариде; максимальная высота 1351 м. Паги — укрепленный город в Мегариде.
Мегарида — см. примеч. к с. 318.
Эвбейский пролив — отделяет остров Эвбею в Эгейском море от материковой Беотии и Аттики.
Плутарх (ок. 45 — после 120) — греческий писатель и философ, автор многочисленных произведений (древние авторы составили список его трудов, насчитывающий 227 наименований); наиболее известны его "Сравнительные жизнеописания" — биографии великих греков и римлян. Нижеприведенная легенда взята из его "Греческих вопросов" — сборника выписок и материалов для дальнейшей обработки… Берега его ручьев… будь то Аганиппа, Пермесс или Гиппокрена… поросли розовыми и белыми олеандрами. — Геликон считался обиталищем муз (см. примеч. к с. 15), получавших вдохновение в водах источников: Аганиппы, Пермесса (отсюда прозвище муз — "пермесские девы") и Гиппокрены ("Лошадиного источника"; название основано на поверье, что ключ забил в том месте, где ударил копытом крылатый конь Пегас).
… Здесь, на Геликоне, родился Гесиод, соперник Гомера. — Греки считали вершиной и, одновременно, началом своей поэзии творения Гомера (см. примеч. к с. 15) и Гесиода, его младшего современника (скорее всего, кон. VIII — нач. VII в. до н. э.) и соперника (правда, легенды об их состязаниях довольно поздние). В селение Аскра у подножия Геликона отец Гесиода переселился из Малой Азии.
354… Здесь сохранился манускрипт, писанный от начала до конца рукой автора "Теогонии" и "Трудов и дней". — Перу Гесиода (многое до нас не дошло) принадлежат поэмы "Теогония" ("Происхождение богов"), "Труды и дни" и сохранившаяся лишь в отрывках поэма "Перечень женщин". Первая рассказывает о родословных различных богов, вторая представляет собой достаточно свободное соединение различных тем (моральные рассуждения о пользе труда, историко-философские пассажи о Золотом, Серебряном, Медном и Железном веках, практические советы, религиозные наставления), объединенных идеей благости сельских занятий. В третьей дается перечень женщин, родивших знаменитых героев от союза с богами. Век Антонинов — время правления династии Антонинов (96-192); считался эпохой расцвета Римской империи и временем ее эллинизации.
… статуя Бахуса — шедевр Мирона. — Мирон (V в. до н. э.) — греческий скульптор, чьи произведения, славившиеся своим жизнеподобием, дошли до нас лишь в копиях (например, "Дискобол").
… были там изваяния Лина… — Лин — первоначально жанр скорбной песни; этиологический (разъясняющий) миф гласит, что сын Аполлона Лин был отдан на воспитание пастухам и растерзан их собаками; это послужило поводом для создания первой песни об умершем, отсюда и получившей свое название. Позднее распространился другой вариант мифа, согласно которому Лин, сын музы Урании, знаменитый музыкант, соперничал с самим Аполлоном и был им убит из зависти; по еще одной версии он обучал музыке Геракла, наказал этого нерадивого ученика и пал от его руки.
… Тамира, перебирающего перстами струны разбитой лиры… — Та-мир (Тамирис, Фамирид), влюбленный в юношу Гиакинфа (Гиацинта), вошел в мифы как основатель однополой любви. Он был великим музыкантом и, встретив муз, предложил им музыкальное состязание: если победит он, они по очереди отдадутся ему, если они — возьмут у него что захотят. Победившие музы ослепили его, а также лишили музыкального слуха и голоса. Сохранилось описание не дошедшей до нас картины греческого художника Полигнота (изв. втор. четв. V в. до н. э.), где изображен сидящий слепой Тамир, а у ног его лежит разбитая арфа.
… Ариона верхом на дельфине… — Арион — возможно, реально существовавший древнегреческий поэт (VII–VI вв. до н. э.), живший в Коринфе; сохранилась легенда о том, что, оказавшись в море после кораблекрушения, Арион запел и привлеченный пением дельфин вынес его на берег.
Павсаний (I в. н. э.) — греческий писатель, автор "Описания Эллады", своего рода путеводителя по религиозным древностям Греции. Эринии — греческие богини мести.
Вакханки — см. примеч. к с. 194.
…. На Кифероне… был растерзан фиванский царь Пенфей. — По античным легендам, Дионис прибыл в Фивы, на родину его матери Семелы, дабы учредить свой культ. Фиванские женщины отказались признать Диониса богом и заявили, что он сын Семелы совсем не от Зевса. Тогда Дионис наслал на женщин безумие, заставил их покинуть дома и предаться вакхическим оргиям на склонах горы Киферон. Фиванский царь Пенфей запретил вакханалии, но Дионис и у него отнял разум, и царь в одежде вакханки последовал за женщинами, чтобы увидеть их обряды собственными глазами. Вакханки, а первыми среди них были мать Пенфея и ее сестры, набросились на Пенфея, приняв его за зверя, и растерзали.
… здесь злополучный сын Аристея, устав на охоте, напился из источника, где купалась Диана. — Имеется в виду персонаж греческой мифологии Актеон (см. примеч. к с. 54), сын Аристея, внук Аполлона. …На Кифероне пастух Форб нашел младенца Эдипа, брошенного там потому, что его отец царь Лай, испуганный предсказаниями оракула, захотел избавиться от сына. — По преданию, фиванскому царю Лаю было предсказано, что его сын убьет отца и женится на матери. Лай приказал бросить младенца на Кифероне, проколов ему ноги.
Но добрый раб пожалел ребенка и отдал его коринфскому пастуху Форбу. Тот отнес мальчика бездетным царю и царице Коринфа, и те усыновили Эдипа (см. примеч. к с. 67).
Платеи — см. примеч. к с. 316.
… четырнадцать городов Беотийского союза… — Беотийский союз — конфедерация полисов Беотии во главе с ее главным городом Фивы (см. примеч. к с. 316).
Дедалии — празднества, устраивавшиеся в Афинах ремесленниками в честь Дедала (см. примеч. к с. 352).
Aeon — река в Беотии, впадающая в Эвбейский пролив.
… река, в которую Юпитер, соблазнивший дочь Асопа, метал молнии… — Зевс (Юпитер) похитил Эгину, дочь речного бога Асопа; тот направился искать Зевса и нашел его в лесу обнимающим Эгину. Безоружный Зевс постыдно скрылся в зарослях и превратился в камень, а Асоп прошел мимо. Но, пробравшись на Олимп и почувствовав себя в безопасности, Зевс стал метать в Асопа молнии. С тех пор Асоп еле течет от полученных им ран, а со дна его часто достают куски угля.
Дриоскефальский проход (Дубовые вершины) — перевал на Кифероне. Гиликийское озеро — небольшое озеро в Беотии, к северу от Фив. 355… о событиях того страшного дня, когда персы потеряли двести шестьдесят из трехсот тысяч воинов. — Имеется в виду битва при Платеях (см. примеч. к с. 316).
Надо сказать, что цифры войск, приводимые античными историками (им доверчиво следует Дюма) совершенно фантастические. Так, они утверждали, что войско персов насчитывало три миллиона человек. Современные исследователи подсчитали исходя из походного строя персов, скорости войска на марше, количества и состояния дорог, что, если бы это число соответствовало действительности, авангард персидской армии достиг бы Фермопил тогда, когда арьергард его только выходил из городских ворот Суз — тогдашней столицы Персии (от Суз до Фермопил по прямой более 2500 км).
… место, где в начале битвы погиб Масистий, а в конце — Мардоний. — Персидские войска в битве при Платеях возглавлял зять персидского царя Мардоний, а греческие — Павсаний (см. примеч. к с. 316); среди афинян главную роль играл Аристид (см. примеч. к с. 196), которому в связи с войной было разрешено раньше установленного срока вернуться из изгнания.
В начале битвы погиб командующий персидской конницей Масистий (по преданию, он был весь закован в доспехи, но его сбили с коня и закололи в глаз), и это смешало наступление кавалерии. Гибель Мардония заставила персов оставить поле боя.
… мысленно последовать за сорокатысячным войском Артабаза, бегущего по дороге Фокиды… — После поражения при Платеях остатки персидского войска под командованием царского родственника Артабаза отступили к морю, чтобы переправиться в Малую Азию. Фокида — область в Центральной Греции, к западу от Беотии, заселенная племенем фокийцев; на ее территории находится гора Парнас и Дельфийское святилище.
Лакедемон — официальное название Спарты.
… великая битва между Востоком и Западом, в которой Ксеркс попытался отомстить за Трою. — См. примем, к с. 19.
… лучшие дни города ста ворот миновали. — Ошибка Дюма: "стовратными" у Гомера назывались египетские Фивы в отличие от "семивратных" греческих Фив.
… Прошли времена, когда там царствовали Кадм, Лабдак, Лай, Эдип, Этеокл и Полиник. — По греческим преданиям, Кадм, сын финикийского царя Агенора, был послан отцом в Грецию на поиски похищенной Зевсом Европы, дочери Агенора. После безуспешных розысков он пришел на указанное оракулом место, где встретил дракона и убил его. Кадм, по совету Афины, засеял поле зубами дракона, и тут же из земли выросли вооруженные люди, вступившие в битву друг с другом. Пятеро оставшихся в живых стали основателями знатнейших родов в построенной Кадмом крепости Кадмее, вокруг которой вырос город Фивы.
Лабдак, отец Лая и дед Эдипа, был внуком Кадма.
Об Этеокле и Полинике см. примем, к с. 105.
… война "семерыхпротив Фив", воспетая Эсхилом… — По греческим преданиям, после того как Полиник был изгнан из Фив Этеоклом, он получил убежище у Адраста, царя Аргоса, женился на его дочери и убедил тестя начать войну против Фив; войско Адраста состояло из семи отрядов (по числу городских ворот Фив), каждый из которых возглавлял известный герой. Все участники похода погибли, кроме Адраста, пал и защищавший Фивы Этеокл. Указанному сюжету посвящены трагедии Эсхила "Семеро против Фив" и Еврипида "Финикинянки".
… и битвы эпигонов, не нашедшие, увы, своего поэта… — Эпигоны (гр. "последователи") — в греческих сказаниях сыновья семерых героев, осаждавших Фивы; через десять лет после гибели своих отцов они совершили такой же поход и захватили Фивы.
… Амфион, Пиндар и Эпаминонд были родом из Фив. — Амфион — в греческой мифологии сын Зевса и дочери фиванского царя Антиопы; вместе с братом-близнецом Зетом построил стены вокруг Фив, причем Зет, обладавший огромной физической силой, носил и складывал камни, а Амфион приводил их в движение и заставлял ложиться на установленные места игрою на волшебной лире, которую подарил ему Гермес.
Пиндар — см. примем, к с. 88.
Эпаминонд — см. примем, к с. 316.
Схеней (Схен) — местность в Беотии, приблизительно в 10 км от Фив. Гипат — гора в Беотии.
Акрефий (Акрефии, Акрефия) — город в Беотии.
Копаидское озеро (Копаиды) — большое озеро в Беотии; вследствие засорения подземных стоков постоянно разливалось, и потому все его окрестности были заболочены; осушено в конце XIX в.
356 Имплювий — здесь: главный водосток местности.
…на празднествах граций в Орхомене, муз — в Либефроне и Амура в Феспиях. — Орхомен — город в Беотии, к северо-западу от Копаидского озера.
Либефрон — город во Фракии.
Феспии (Феспий) — приморский город на юге Беотии; там находилась статуя Эрота, изваянная Праксителем.
Копы — город в Беотии, который дал имя Копаидскому озеру. Опунт — главный город области Локрида на южном побережье Эвбейского пролива.
… места, где царствовал Аякс, сын Оилея. — См. примем, к с. 321.
… Родина Патрокла, друга Ахилла… — Согласно "Илиаде", Патрокл вместе с другом, величайшим героем Ахиллом, участвовал в Троянской войне. Когда из-за конфликта с вождями греческого войска Ахилл отказывается сражаться и грекам грозит поражение, Патрокл упрашивает друга разрешить ему сражаться в доспехах и на колеснице Ахилла. Ахилл позволяет, и Патрокл вступает в сражение, в котором гибнет. Это побуждает Ахилла снова принять участие в войне. Эвбейское побережье — здесь: южное побережье Эвбейского пролива.
Фроний — город на берегу Малийского залива.
… оставили слева гору Эта, с вершины которой Геракл на огненном облаке вознесся на Олимп. — Спасая свою жену Деяниру, Геракл убил ее похитителя, кентавра Несса. Умирающий кентавр коварно посоветовал Деянире собрать его кровь, т. к. она поможет чудесным образом сохранить любовь к ней Геракла. Когда впоследствии Деянира усомнилась, и не без оснований, в верности Геракла, она послала ему смоченную в крови Несса тунику. Однако кровь кентавра была пропитана ядом, хитон сразу прирос к телу Геракла, и тот стал испытывать невыносимые мучения. Тогда Геракл поднялся на гору Эту, разложил огромный костер и взошел на него. Как только пламя охватило героя, с неба спустилась туча и с громом унесла его на Олимп, где Геракл был принят в сонм богов. Фермопильский проход — ущелье в горах Эты; единственный путь проникновения в Элладу со стороны морского побережья.
Боагрий — горная река, на которой стоял город Фроний.
Тарфа — город вблизи Фрония.
Малийский залив — часть Эгейского моря, расположенная к северо-западу от Эвбейского пролива.
… чуть ниже Гераклового камня… — См. примеч. к с. 362.
… В этом месте четыре века назад расположился Леонид с тремя сотнями спартиатов и семью сотнями лакедемонян… — Имеется в виду сражение при Фермопилах (см. примеч. к с. 107).
Спартиаты — полноправные граждане Спарты, единственной обязанностью которых было служить в войске. Кроме спартиатов в Спартанском государстве были бесправные прикрепленные к земле илоты и периэки — лично свободные, но лишенные всех политических и ряда гражданских прав жители Лакедомона (иное название Спарты) — они здесь и подразумеваются.
… к ним присоединились тысяча бойцов из Милета, четыреста из Фив, тысяча из Локриды и столько же из Фокиды. — Милет — скорее всего опечатка в оригинале или ошибка Дюма. В составленном Геродотом списке эллинов, защищавших Фермопилы, воинов из этого малоазийского города нет.
Локрида — две небольшие области Центральной Греции, заселенные племенами локров: восточная Локрида на берегу Эвбейского залива, и западная — на севере Коринфского залива; разделены Фокидой (см. примем, к с. 355).
… Ксеркса почти с миллионом персов и двумястами тысячами наемников… — Цифры невероятно преувеличены (см. примем, к с. 355). О Ксерксе и Дарии см. примем, к с. 88.
… из Македонии, Беотии, Арголиды и Фессалии пришли еще пятьдесят тысяч человек. — Македония — область в Северной Греции. Беотия — см. примем, к с. 88.
Арголида — область на северо-востоке Пелопоннеса.
Фессалия — см. примем, к с. 105.
… то были цари Тира, Сидона, Киликии и царица Галикарнаса. — Тир, Сидон — см. примем, к с. 77.
Киликия — см. примем, к с. 89.
Галикарнас (соврем. Бодрум) — город в Карии, на крайнем юго-западе Малой Азии. Его правительница Артемизия I была зависимой союзницей Персии во время греко-персидских войн и мудрой советчицей Ксеркса.
… перебросив понтонный мост через Геллеспонт… — Ксеркс повелел навести через Геллеспонт (Дарданеллы) понтонный мост длиной в 2 км; этот мост строился несколько лет, причем дважды, так как первое сооружение было уничтожено бурей.
… Прорыв гору Афон, его войска затопили Фессалию… — Согласно легенде, Ксеркс велел прорыть через перешеек полуострова, на котором находится Афон (см. примем, к с. 88), канал и провести через него свой флот из Стримонского залива Эгейского моря в Сингский залив. Царь боялся обходить Афон морским путем, поскольку там в свое время погибло немало кораблей Дария. Сам же Ксеркс сухопутным путем двинулся к Ферме (соврем. Салоники), а затем уже, соединившись с флотом, — в Фессалию.
… покрыли шатрами все земли малийцев. — Малийцы — фессалийское племя, обитавшее на северном побережье Малийского залива, жители Мал иды.
Анфела — селение у Фермопильского прохода, между рекой Феникс и Фермопилами, у реки Асоп.
357… стенами Спарты, по мнению ее обитателей, служила доблесть спартанцев… — Парафраз высказывания, приписываемого легендарному спартанскому законодателю Ликургу (IX или VIII в. до н. э.?), так ответившему на вопрос, почему у Спарты нет городских стен: "Люди, а не камни — вот лучшие стены города".
… к Леониду приблизились эфоры. — Спарта имела своеобразное государственное устройство. Во главе ее стояли два царя, считавшиеся потомками двух сыновей Геракла; фактически это были высшие военачальники с небольшой властью в мирное время, когда их полномочия ограничивались апеллой — народным собранием из полноправных спартиатов, и герусией — советом старейшин, состоявшим из пожизненно избираемых лиц старше 60 лет. Спартанские законы считались вечными и неизменными, и для контроля за их соблюдением на год избиралась коллегия из пяти эфоров (гр.
"наблюдателей"). Эфоры имели право привлекать к ответственности и судить всех спартиатов, включая царей.
… старинные укрепления, перегораживающие дорогу и именовавшиеся стеной фокийцев, поскольку те некогда возвели ее, сражаясь с мессенцами. — Мессенцы — жители Мессении, плодородной области в юго-западной части Пелопоннеса, к югу от Аркадии.
Предки мессенцев жили в Северной Греции, но предположительно в XI в. до н. э. вместе с другими северогреческими племенами дорийцев вторглись через Среднюю Грецию в Пелопоннес, сдвинув целый ряд племен, в т. ч. фокийцев, живших южнее тогдашних мессенцев. Поселившиеся в Пелопоннесе мессенцы были покорены родственным им дорийским племенем лакедемонян, пришедшим сюда несколько позже.
Феникс — горная речка, южный приток Асопа.
Лнопея — гора и тропа с тем же названием в Фермопилах.
Альпен — селение локров у Фермопильского прохода, ближайшее к нему со стороны Мал иды.
… тропа, кончавшаяся у камня Геракла Мелампига… — Гр. Мелампиг — букв. "Чернозадый". Геракла иногда именуют "Чернозадым", потому что во время своего похода в преисподнюю он прирос спиной к волшебной скале, но сумел освободиться, хотя и перепачкался. Этим эпитетом, как ни странно, подчеркивается его мужественность. Упомянутый камень — скала на границе Локриды.
358 …На пятый день он послал Леониду письмо… — По преданию, в первом письме было сказано: "Покорись, ибо, если вторгнусь в Грецию, разорю ее". Ответ Леонида состоял из одного слова: "Если" (по-гречески из одной буквы — "Э").
… Ксеркс призвал к себе войско мидян и киссиев… — Мидяне — жители покоренного персами Мидийского царства (на территории современного Курдистана).
Киссии — жители области Киссия, в которой находилась столица персов Сузы.
359… персидский царь послал десять тысяч "бессмертных". — "Бессмертные" — особое войско, гвардия персидского царя, тяжеловооруженные пехотинцы. Их число всегда должно было быть неизменным — 10 000 — отсюда и название.
… лучшие твои стены — грудь твоих воинов! — См. примеч. к с. 357… отправился повидать гробницу царя Бела… — Согласно греческим мифам, Бел — сын Посейдона, царь Египта, отец Нина, основателя Ниневии (см. примеч. к с. 77). Приведенный рассказ представляет собой легенду.
… звалась Немесидой, что значит "мстительница". — Имя Немесиды, греческой богини возмездия и кары, означает "справедливый гнев".
360… Этой ночью мы отужинаем у Плутона! — То есть в царстве мертвых (см. примеч. к с. 333).
… Один что-то тихо шептал другому: наверное, поверял свои сердечные тайны… — В Спарте поощряли не только дружбу между молодыми воинами, но и мужеложство: считалось, что в этом случае они будут лучше биться друг за друга.
361… трахинские скалы… — То есть скалы Трахинии, области вокруг города Трахин (см. примем, к с. 339) в Фессалии у горы Эта.
… были принесены ради него в жертву во время этой чудовищной гекатомбы. — Гекатомба (букв. гр. "стобычие") — в Древней Греции особо торжественное жертвоприношение, первоначально состоявшее из 100 быков; в переносном смысле — огромные жертвы войны или террора.
362… предгорья Эты, еще закопченной пламенем Гераклова костра… — См. примем, к с. 356.
… прошли через Гипату и Ламию — города колдуний… — Гипат — город в Фессалии, в 15 км к юго-западу от Ламии, на северном склоне горы Эты.
Л амия — город в Фессалии, вблизи Фермопил.
… углубились в ущелья Офрия… — Офрий — горы на южной границе Фессалии, спускающиеся к побережью Малийского залива; максимальная высота 1729 м.
… миновали вершины, где титаны десять лет сражались с Юпитером… — Титаны — в греческой мифологии боги первого поколения, дети богини земли Геи и бога неба Урана. Младший из них — Крон (Кронос, Хронос; римляне отождествляли его с Сатурном) — сверг своего отца Урана, но в свою очередь был свергнут сыном — Зевсом (рим. Юпитером). Титаны, стремясь восстановить власть Крона, начали войну против младшего поколения богов (обычно именно они называются богами в узком смысле) — детей и внуков Крона. Титаны выступили с Офрия, боги — с Олимпа; сражение (титаномахия) длилось 10 лет, пока титаны не были побеждены и сброшены в самое нижнее подземное царство — Тартар.
… оставили справа реку Ахелой, пытавшуюся отнять у Геракла Деяниру, когда тот плыл с ней в ее водах…и потом трижды сражавшуюся с сыном Алкмены под тремя личинами: реки, змеи и быка… — Ахелой — в греческой мифологии бог одноименной реки в Этолии (Средняя Греция); сватался к Деянире (см. примеч. к с. 356), которая отказала ему, испуганная его даром оборотничества. После сражения с Гераклом из-за Деяниры побежденный Ахелой подарил герою рог изобилия.
Алкмена — жена тиринфского (Тиринф — город в Пелопоннесе) царя Амфитриона, отличавшаяся необыкновенной красотой и добродетелью; Зевс смог добиться ее благосклонности, лишь приняв облик Амфитриона. От этой связи родился Геракл.
… ночным мистериям, оставленным античной магией в наследство нашим средневековым колдуньям. — В XIX в. считалось твердо установленным, что время расцвета колдовства (ведовства) — средние века, что ведьмы являлись тайными поклонницами античных богов плодородия, и церковь вела борьбу с ними как с язычниками. Ныне показано, что прямой преемственности с античными верованиями у средневековых колдунов не было; колдовство есть феномен мифомагического мышления, характерного для всех народов на определенной стадии развития, в т. ч. для большинства населения средневековой Европы. Пик увлечения ведовством и в то же время охоты на ведьм приходится не на средневековье, а на конец XV — начало XVII в., когда происходит крушение народной культуры, распад традиционной картины мира: это вызывало различные коллективные психозы — одержимость ведовством и обратное — охоту на ведьм… пока Нептун, раздвинув своим трезубцем прежде бывшие единым целым Олимп и Оссу, не дал морю вытечь… — То есть пока не произошло землетрясение. Олимп (см. примем, к с. 88) отделен лежащей от него к югу горы Осса (высота 1978 м) Темпейской долиной.
363 Темпейская долина — долина реки Пеней; узкий проход, ведущий из Македонии в Фессалию.
Фермейский залив (соврем. Салоникский) — находится в северо-западной части Эгейского моря.
… на них поселялись горцы с Олимпа, Линда, Оссы, Пелиона и Офрия. — Пинд — горная цепь между Фессалией и Эпиром, т. е. к западу от Олимпа, Оссы и Офрия, без удобных горных перевалов; максимальная высота — 2632 м.
Пелион — горы в Фессалии, к юго-востоку от Оссы; максимальная высота 1651 м.
… кентавры, сыновья Иксиона и Облака. — См. примем, к с. 194.
… Лапиф Пирифой, сын Иксиона, берет в жены Гипподамию, дочь Адраста, и приглашает на торжество ее родственников кентавров и их царя Эвритиона. — Лапифы — потомки Лапифа, сына Иксиона, племя, жившее в Фессалии и славившееся своей необузданностью (возможно, реально существовавшее догреческое население Эллады). Царь лапифов Пирифой пригласил на свое бракосочетание с Гипподамией родичей лапифов — кентавров (по одной версии мифа, их родоначальник Кентавр был единокровным братом Лапифа, по другой — родным). На свадьбе произошла битва, описанная ниже. Ни в одном из вариантов мифа не говорится, что Эвритион был царем кентавров.
… Теми же предводительствовал Кеней, который некогда был женщиной под именем Кениды. — В битве кентавров и лапифов принял участие лапиф Кеней, неуязвимый великан, погибший оттого, что кентавры завалили его деревьями и камнями и он задохнулся. Миф о деве Кениде, обращенной богами в мужчину по ее мольбе, дабы спастись от домогательств Посейдона (Нептуна), — позднего происхождения.
364… прижавшись друг к другу, словно Диоскуры. — Диоскуры — в греческой мифологии братья-близнецы Кастор и Полидевк (у римлян — Поллукс), сыновья Леды и одновременно Зевса (от него — бессмертный Полидевк) и мужа Леды, спартанского царя Тиндарея (от него — смертный Кастор). Диоскуры в глазах древних были символами братской любви и дружбы: Полидевк поделился половиной бессмертия с Кастором.
…На Пелионе остался только Хирон… — После битвы кентавров с лапифами большая часть обоих племен была уничтожена (позднее кентавры пытались напасть на Геракла и тот перебил почти всех оставшихся), а остатки расселились по всей Греции. Среди кентавров выделялся мудрый и бессмертный Хирон, воспитатель многих героев. После битвы кентавров с лапифами Хирон, в противовес сказанному Дюма, был изгнан из Фессалии. Позднее его случайно ранил отравленной стрелой Геракл, и Хирон, страдая от раны, отказался от бессмертия в обмен на освобождение Прометея.
… За Пирифоем, влюбившимся в Прозерпину и спустившимся за ней в Тартар, где его растерзал трехголовый страж адских врат пес Цербер… — Пирифой полюбил царицу подземного царства Персефону (рим. Прозерпину; см. примем, к с. 333) и вместе с другом Тесеем спустился в царство мертвых — Аид, но царь Аид (рим. Плутон) приковал их к камню у входа в обитель мертвых. Впоследствии Геракл освободил Тесея, но Пирифой навеки остался в Аиде. В мифах не говорится о том, что его растерзал страж Аида — чудовищный трехглавый пес Кербер (рим. Цербер), готовый сожрать и живых, стремящихся проникнуть в царство мертвых, и тени мертвых, если они попытаются сбежать из Аида.
… пришла очередь аргонавта Ясона. — Ниже Дюма подробно и в основном верно излагает начало мифа об аргонавтах, поэтому здесь главным образом поясняются лишь отклонения, вызванные фантазией Дюма, от античных мифов.
… Ясон родился в Полке. — Иолк — город в Фессалии.
… Отца его Эсона только что сверг с иолкского трона Пелий, его брат, дядя Ясона. — Эсон был сын Кретея, основателя Иолка, и Тиро. Пелий был сводный брат Эсона, сын Тиро от Посейдона, обманом совершившего над ней насилие.
… Алкимеда, Эсонова супруга… — Жену Эсона называют по-разному: Алкимеда, Полимела, Перимеда и.т.д.
… Магнесийский оракул повелел ему… потребовать себе отцовский трон. — Оракул в Магнесии (область к востоку от Фессалии) предсказал не Ясону, а его дяде Пелию, что тот погибнет от руки юноши в одной сандалии — и именно Ясон приходит в Иолк, утопив одну из сандалий при переправе через реку.
… В то время вся Греция клялась и божилась именем Геракла, только что совершившего двенадцать прославивших его подвигов. — Клятва именем Геракла была популярна в Греции не в глубокой древности, а в эллинистическую эпоху.
Двенадцать подвигов Геракла: 1) одоление каменнокожего немейского льва (см. примеч. к с. 327), 2) убийство многоголовой лернейской гидры (см. примеч. к с. 380), 3) поимка керинейской лани, устраивавшей набеги на окрестные поля и 4) свирепого эриманфского вепря, 5) очищение авгиевых конюшен, 6) изгнание стимфалийских птиц (см. примеч. к с. 376), 7) одоление критского быка, 8) расправа с фракийским Диомедом, кормившим коней человеческим мясом, 9) добыча пояса царицы амазонок Ипполиты, 10) расправа с трехтелым великаном Герионом (см. примеч. к с. 70), И) добыча волшебных золотых яблок Гесперид, 12) изведение трехглавого пса Кербера из преисподней. (Последовательность подвигов в мимографах различна.)
Колхида — область на восточном побережье Черного моря (в нынешней Грузии).
365 Парнас — горный массив в Фокиде; максимальная высота 1413 м; в мифологии место обитания (наряду с Геликоном) Аполлона и муз.
Орхомен — см. примеч. к с. 356.
… Афамант, царь Орхомена, имел от своей первой жены Нефелы сына по имени Фрике и дочь Геллу. — Нефела — древнегреческая богиня облаков.
… и вторым браком взял в дом Ино, дочь Кадма. — Ино — см. примем, к с. 316.
Кадм — см. примем, к с. 355.
… Даже иудейский бог Яхве требует от Авраама принести в жертву своего сына Исаака… — См. Бытие, 22: 2-13. Этот сюжет истолковывался как абсолютная покорность Богу: Авраам готов принести в жертву единственного сына, но Господь в последний момент взамен посылает для всесожжения барана.
… и принимает заклание дочери Иеффая. — См. Судей, 11. Военачальник Иеффай дал Богу обет принести в жертву то, что первое выйдет из ворот дома Иеффая; первой оказалась его единственная дочь. Она принимает клятву отца и просит лишь два месяца, чтобы оплакать свою судьбу. По завершении этого срока ее приносят в жертву.
… на помощь приходит Меркурий… — Меркурий — см. примем, к с. 316.
…он дарит Нефеле барана Хрисомалла… — Chrysomallos — гр. "златорунный".
Пропонтида (букв, "предморье") — древнегреческое название Мраморного моря.
… руно пошло царю Ээту в уплату за его гостеприимство. — Ээт — царь страны Эа, которая отождествлялась с Колхидой.
366 Палладий — здесь: символ города, от которого зависит его судьба и обороноспособность и который хранится в недоступном для посторонних месте.
… Так началась чудесная история путешествия аргонавтов — тех, кто пустился в плавание на корабле "Арго". — Рассказ о конструктивных особенностях корабля "Арго" целиком вымышлен Дюма, который рационализирует миф.
… прежде всего следовало построить судно, а эта наука еще не была известна обитателям Северной Греции. — Мореплавание было известно грекам, по меньшей мере, с начала III тыс. до н. э., тогда как поход аргонавтов состоялся, по греческим преданиям, незадолго до Троянской войны, т. е. в конце XIII в. до н. э.
… Лишь по преданиям они знали об отважных кораблях, перенесших в Южную Грецию из Финикии или Египта колонистов под предводительством Кадма, Кекропа, Огигия и Инаха. — Повествование о плавании из Египта не содержится в античных сказаниях.
О финикийском царевиче Кадме см. примем, к с. 355.
Кекроп (см. примем, к с. 77), по древним сказаниям, не приплывал из Египта, а был рожден из земли в Аттике и представлял собой получеловека-полузмея.
Царь Фив Огигий и Инах, бог одноименной реки, никогда не считались выходцами из Египта.
… Минерва принесла дубовый ствол из священной дубравы Додоны… — Согласно мифу, Афина (рим. Минерва) сама вделала в корму "Арго" кусок священного дуба из рощи оракула Зевса в Додоне (см. примем, к с. 346).
… Судно построили в Пагасах под надзором Арга, сына Полиба и Аргии. — Пагасы — якорная стоянка фессалийского города Феры, удаленного от моря на 90 стадиев к северу.
Кораблестроитель Apr был родом из Феспий.
… забыли, как звали спутников Колумба, Васко да Гамы и Альбукерке… — Христофор Колумб (1451–1509) — достиг Америки в 1492 г. Васко да Гама (1464–1524) — обогнул в 1498–1499 гг. Африку, открыв морской путь в Индию.
Альфонс Альбукерке (1452–1515) — второй португальский вице-король Индии; захватил Хормуз — порт при входе в Персидский залив, Гоа в Индии, местности на побережье Малаккского полуострова и Цейлон.
Что касается их спутников, то один известен точно: это был матрос Родриго де Триана, раньше всех увидевший побережье острова Сан-Сальвадор из группы Багамских островов, первую землю Нового Света, на которую ступила нога европейца.
… Сначала их возглавил Геракл… — Ясон с самого начала возглавлял поход, ибо Геракл отказался в его пользу.
Риндак — река в Мизии; ее устье находится на южном берегу Пропонтиды.
367 Мизия — см. примеч. к с. 89.
Тифис — был родом из города Сифы в Беотии.
Орфей — см. примеч. к с. 84.
Эскулап — вероятно, имеется в виду бог врачевания.
Линкей — см. примеч. к с. 316.
Калаид и Зет — сыновья бога северного ветра Борея и Орифии, дочери афинского царя Эрехтея.
Пелей — царь Фтии в Фессалии; отец Ахилла (поэтому героя по родителю называют Пелид).
Теламон — родной брат Пелея, друг Геракла, отец Аякса Теламонида (см. примеч. к с. 56).
Пагасейский залив — залив Эгейского моря, к югу от Магнесии; на его берегу находился город Пагасы.
368 Сепия — мыс в Магнесии.
… Его матери Фетиде, самой прекрасной из нереид, предсказали, что она родит сына, который во всем превзойдет своего отца. — Причины брака Фетиды со смертным Пелеем древнегреческие мифы излагают по-разному. По одной из версий, с Фетидой желал соединиться Зевс, но ему было предсказано Прометеем, что сын от этого брака воцарится над миром, и он отступился. По другой версии, Зевсу все открыла богиня ночи Никс. По третьей версии, воспитанная Герой Фетида, не желая причинять зла своей благодетельнице, отвергла домогательства Зевса, и тогда разгневанный отец богов повелел выдать ее за смертного.
… это было предсказание оракула Фемиды, а он, как известно, никогда не обманывал. — По другому варианту мифа, из-за Фетиды спорили Зевс и Посейдон, но оба отступились, узнав от богини правосудия Фемиды (см. примеч. к с. 375), что родившийся от этого союза сын будет сильнее отца. Есть также вариант, когда предупредил Зевса Прометей, но ему об этом сказала Фемида.
… Лелей, внук Эака, эгинского царя… — Эак — сын Зевса и Эгины, дочери Асопа (см. примеч. к с. 354), отец Теламона и Пелея, царь острова Эгина в Саронийском заливе; основатель рода Эакидов.
… созвали всех богов, кроме Эриды, дочери Ночи, сестры Сна и Смерти. — См. примеч. к с. 9.
… Адмет… ради похода расставшийся с обожаемой прекрасной Алке-стидой. — Легенда об Адмете (см. примеч. к с. 55) и его жене Алке-стиде изложена ниже точно. Внезапную болезнь на Адмета наслала Артемида, которой Адмет забыл принести жертвы во время бракосочетания с Алкестидой. Последняя согласилась умереть вместо Адмета, когда остальные родственники отказались это сделать.
369… Аполлон, сосланный на год на землю из-за того, что он истребил киклопов… — См. примеч. к с. 55.
370 Эвбея — остров у берегов Аттики и Беотии.
… Пеней, воспетый Симонидом, Феокритом и Вергилием. — Пеней — см. примеч. кс. 351.
Симонид — см. примеч. к с. 345.
Феокрит (ок. 305–240 до н. э.) — греческий поэт, родом из Сиракуз; жил на острове Кос и в Александрии Египетской; основатель жанра идиллии (гр. "картинка"), краткого стихотворения, воспевающего радости простой жизни на лоне природы; иное название идиллии — буколика (см. примеч. к с. 10).
Вергилий — см. примеч. к с. 15.
Лариса — город в Фессалии на берегу Пенея.
Трикка (соврем. Трикала) — город в Фессалии в 55 км к юго-западу от Ларисы.
Пирифой — см. примеч. к с. 364.
… Фарсал напомнил ему о двух именах, соединивших историю Востока и Запада. — Фарсал — город в Фессалии, близ которого произошла знаменитая битва (см. примеч. к с. 19).
… у Августа, племянника Цезаря. — Август был внучатый племянник Цезаря (см. примеч. к с. 9).
371 Апидан — правый приток Пенея.
Киклады — острова на юге Эгейского моря.
… два легиона привел из Азии Лентул. — Лентул Спинтер, Публий Корнелий (ум. ок. 47 г. до н. э.) — римский государственный деятель, сторонник Помпея, друг Цицерона.
… три тысячи лучников из Лакедемона и Понта… — Лакедемон — см. примеч. к с. 355.
Понт — здесь: римская провинция Вифиния и Понт, образованная в 64 г. до н. э. после завоевания Помпеем Понтийского царства, возникшего на черноморском побережье Малой Азии ок. 302 г. до н. э. в результате распада империи Александра Македонского. В гражданских войнах жители Понта поддерживали Помпея — своего завоевателя и патрона многих городских общин.
… тысяча двести пращников с Балеарских островов и Сирии… — Балеарские острова — островная группа в западной части Средиземного моря (Мальорка, Минорка и целый ряд мелких островов); с 123–122 г. до н. э. отошли к Риму и входили в провинцию Испания Тарраконская; местные пращники славились искусством метать свинцовые ядра.
… шестьсот галлов, приведенныхДейотаром… — Дейотар (ум. в 40 г. до н. э.) — вождь малоазийского кельтского племени галатов (см. примем, к с. 100), союзник Рима в борьбе с Митридатом (см. примем. к с. 37). Помпей в 62 г. до н. э. возвел Дейотара в сан царя Галатии и прибавил к его владениям земли, отнятые у Митридата и его сторонников. Дейотар поддерживал Помпея в его борьбе с Цезарем, после Фарсала перешел на сторону Цезаря, но лишился некоторых территорий своего царства. Внук Дейотара, Кастор, пытался обвинить деда в подготовке убийства Цезаря, но тот был оправдан благодаря защите Цицерона.
… пятьсот фракийцев, присланных Котисом… — Фракия не представляла собой единого государства, но вожди многих племен носили титул царей Фракии. Садал II (ум. ок. 44 г. до н. э.), царь одрисов, одного из крупнейших фракийских племен, поддержал Помпея, послав ему на помощь отряд под водительством своего сына и наследника, будущего Котиса V (правил в 30–11 гг. до н. э.). После поражения помпянцев Цезарь оставил Садал а на престоле.
… столько же каппадокийцев под водительством Ариобарзана… — Ариобарзан III (правил в 52–42 гг. до н. э.), царь малоазийского государства Каппадокии, выступил на стороне Помпея с большой неохотой и после Фарсальской битвы перешел на сторону Цезаря. Во время гражданской войны между цезарианцами и их противниками уже после убийства диктатора республиканцы предложили Ариобарзану выступить на их стороне; царь отказался и был убит.
… двести македонцев, повинующихся приказам Рескупорида… — Имеется в виду Рескупорид I (ум. ок. 30 г. до н. э.) — вождь фракийского племени сапеев, живших близ границ римской провинции Македония; сторонник Помпея.
… пятьсот галлов и германцев, призванных из Александрии… — Восток Римского государства во время гражданских войн поддерживал Помпея, своего покорителя. Среди солдат Помпея были в небольшом количестве галлы и германцы, попавшие в плен во время галльской кампании Цезаря и освобожденные с правом служить во вспомогательных войсках Республики на Востоке.
… триста галатов, бессов, дарданцев и фессалийцев… — Бессы — фракийское племя, жившее на территории от соврем. Пловдивской низменности до горного хребта Родопы.
Дарданцы — иллирийское племя Фракии.
Десятый легион — один из двух легионов, с которыми Цезарь начал завоевание Галлии в 58 г. до н. э.; именно с Десятым легионом он вторгся в Италию в 49 г. до н. э., чтобы захватить единоличную власть в Риме.
… тяжелая пехота из Белгики… — Белгика — историческая область на севере Галлии, населенная белгами — смешанным галло-гер-. манским племенем; завоевана Цезарем в 58–57 гг. до н. э.
… легкая пехота, набранная из Арвернии и Аквитании… — Арверния — область кельтского племени арвернов, нынешняя Овернь во Франции.
Аквитания — юго-западная часть Галлии (со смешанным кельтско-иберийским населением).
Рутены — племя в Аквитании.
Массилия — см. примеч. к с. 107.
372 Сципион Назика, Квинт Цецилий Метелл (ум. в 46 г. до н. э.) — римский государственный деятель, противник Цезаря; после окончательного поражения помпеянцев при Тапсе (см. примеч. к с. 19) покончил с собой.
Диррахия (соврем. Дуррес в Албании) — портовый город в Эпире, на восточном побережье Адриатического моря. Во время гражданской войны между Цезарем и Помпеем последний в 48 г. до н. э. укрылся в Диррахии; Цезарь осадил город, но Помпей прорвал кольцо осаждавших, дал сражение Цезарю и разбил его. Цезарь, по словам Плутарха, говорил, что война могла бы в тот же день закончиться, если бы среди помпеянцев были люди, способные побеждать. Цезарь отвел свои войска в Фессалию, где и дал Помпею решающую Фарсальскую битву.
Домиций Агенобарб, Луций (ум. в 48 г. до н. э.) — консул 50 г. до н. э.; противник Цезаря, погиб при Фарсале; прадед будущего императора Нерона.
… "Агамемнон, сколько времени, по-твоему, продлится эта война?" — Домиций, иронизируя над Помпеем, намекает на Троянскую войну, в которой, по преданиям, объединенным греческим войском командовал микенский царь Агамемнон; эта война длилась 10 лет. Цицерон — см. примеч. к с. 9.
Фавоний, Марк (ок. 90–42 до н. э.) — римский государственный деятель, друг и сторонник Катона; участвовал в гражданских войнах сначала на стороне Помпея, потом Брута и Кассия; попал в плен к Октавиану и был казнен.
… под командованием победителя Сертория и Митридата… — Квинт Серторий (ок. 122 — 73 до н. э.), сторонник Мария в гражданской войне между ним и Суллой; после поражения марианцев бежал в Испанию, где сплотил вокруг себя противников Суллы и местные иберийские племена, создав своеобразное движение со многими чертами государства; сформировал из своих соратников сенат, вел переговоры с противниками Рима, но одновременно объявил себя боговдохновенным вождем иберийских племен (его всегда сопровождала лань, которую он объявил волшебной), карал за притеснения местного населения, открывал школы для детей местной аристократии. Борьба его с Римом с 78 г. до н. э. сначала шла успешно, но позднее обозначился раскол между римскими и иберийскими приверженцами Сертория, и в 73 г. до н. э. он был убит на пиру своим сподвижником из римлян Марком Перперной. Иберы стали отходить от движения, и в 72 г. до н. э. оно было подавлено Помпеем. Митридат — см. примеч. к с. 37.
… отказаться в этом году от тускульских фиг. — То есть оставить надежды о скором возвращении на свои виллы в Тускуле близ Рима… Афраний, продавший Цезарю Испанию… — Афраний, Луций (ум. в 46 г. до н. э.) — консул 60 г. до н. э., сторонник Помпея; командовал помпеянцами в Испании. Окруженный войском Цезаря, преданный собственными солдатами, не желавшими более воевать с Цезарем, Афраний капитулировал на достаточно почетных условиях: его армия распускалась, а он покидал провинцию, так что обвинение в том, что он продал Испанию Цезарю за деньги, несправедливо. Афраний примкнул к Помпею в Фарсале, после битвы сумел бежать и продолжить борьбу в Нумидии (см. примеч. к с. 12), где он пал в бою.
… Сулла — дитя перед нами… — См. примеч. к с. 35.
… Всеобщего воодушевления не разделял лишь Секст, младший сын Помпея (старший, Гней, сложил голову на земле Испании). — Неточность: Гней Помпей Магн (ум. в 45 г. до н. э.) в описываемое время был жив. После Фарсала он продолжал борьбу в Испании, был взят в плен после битвы при городе Мунд на юге страны и убит.
Секст Помпей (68/66—35 до н. э.) до последнего боролся с Цезарем и его наследниками — Октавианом и Антонием, принимал к себе беглых рабов, организовал целый пиратский флот, заключил соглашение с Октавианом, но в конце концов был в 36 г. до н. э. разбит, бежал на Восток и там погиб.
… на берегу Энипея. — Энипей — река в Фессалии, приток Апидана… просил у колдуньи Эрихто раскрыть ему тайны будущего. — Эрих-то — персонаж (возможно, фольклорного происхождения) поэмы римского поэта Марка Аннея Лукана (39–65 н. э.) "Гражданская война" о борьбе Цезаря с Помпеем (позднее поэма получила общепринятое название "Фарсалия").
373 Портик Октавии — поставлен на Форуме Цезарем в честь своей внучатой племянницы Октавии (ок. 70 — И до н. э.), сестры Октавиана; место гуляний. Одно время, незадолго до гражданских войн, Цезарь был увлечен идеей выдать Октавию замуж за Помпея, чтобы укрепить союз с ним.
… Лабиен, когда-то помощник Цезаря. — Лабиен, Тит (ок. 99–35 до н. э.) — легат (здесь: помощник командующего) Цезаря в Галльской войне (58–51 до н. э.); в гражданской войне — непримиримый его противник; погиб при Мунде с последними помпеянцами.
374… уподобившись Антонию при Акции, не решился даже довести бой до конца. — 2 сентября 31 г. до н. э. флот Октавиана в сражении при Акции (мыс в Северо-Западной Греции и одноименный город на берегу Амбракийского залива) разбил объединенные морские силы Антония и Клеопатры, что решило вопрос о единоначалии в Римской державе в пользу Октавиана.
Во время этого сражения флот Клеопатры по неясным доныне причинам неожиданно покинул место сражения, Антоний на своем корабле бросился за ней, а его сторонники, лишенные вождя, предпочли сдаться.
… и отплыл в Лесбос, где оставил жену, молодую и прекрасную Корнелию… — Лесбос — остров Эгейского моря.
Корнелия (ум. в 48 г. до н. э.) — дочь Метелла Сципиона (см. примеч. к с. 372), жена Помпея (первым ее мужем был Красе — см. примеч. к с. 34); в описываемое время ей было уже за 30 — не юный возраст по тем временам.
… Ты видел его могилу и знаешь, как он кончил! — См. примеч. к с. 19.
… К нему привели пленных сенаторов и среди них — Брута… — Имеется в виду Марк Юний Брут (85–42 до н. э.), будущий убийца Цезаря. …он попросил их о дружбе и предложил свою в обмен. — Дружбой в Древнем Риме именовалось несколько иное, нежели теперь. Это было не просто чувство приязни, но полуофициальные отношения: подвластные Риму цари именовались друзьями римского народа; ближайшее окружение римского политического деятеля, его, как бы мы сказали сегодня, "команда", состояла из людей, называвшихся друзьями; несмотря на развитый институт римской адвокатуры, притом адвокатуры профессиональной, по древним, но неотмененным законам защищать человека в суде мог только его родственник или друг… раб того недвижного, глухого к мольбам и бестрепетного божества, что греки называют Имарменом, а латиняне — Фатумом. — Имармен — неясно, что здесь имеется в виду. Греческий аналог Фатума — Ананке (см. примеч. ниже).
Фатум — понятие античной философии, возникшее из мифологии; в древней римской религии существовали фаты, божества (мужского и женского пола) судьбы, аналогичные мойрам (см. примеч. к с. 326). В философии фатум — рок, предопределение, слепая судьба, которой никто не может избежать; мудрец покоряется ей, глупец пытается — и безуспешно — сопротивляться.
В отличие от фатума, провидение — замысел Бога, разумно устроившего мир и судьбы людей; последнее понятие присуще монотеистическим религиям — иудаизму, христианству, исламу.
… Оно древнее Хаоса, древнее Земли и Эреба, оно родилось раньше Любви! — Согласно представлениям греков, дошедшим до нас из поэмы Гесиода "Теогония" (см. примеч. к с. 354), первоначально существовал лишь Хаос, бесконечное пустое пространство; толи из Хаоса, то ли одновременно с ним существовали (или были порождены) Гея (Земля), Тартар (преисподняя), Эреб (мрак) и Эрос (любовь, понимаемая как сила, соединяющая весь Космос).
375… рок похож на Зерван Аракану парсов. — В представлениях поздних
(III–VII вв.) зороастрийцев (см. примеч. к с. 122), которых называли, особенно в Индии, куда они бежали от мусульман, парсами, т. е. персами, над всем миром властвует Зерван Аракана — бескачественное время.
… Он парит над Ормуздом и всем творением… — Зерван Аракана порождает двух близнецов — светлое божество Ахурамазду (Ормузда греков) и темное Анхра-Майнью (Аримана греков).
… Фемида — законность… — Фемида — греческая богиня правосудия, дочь Урана и Геи, вторая (после Геры) законная супруга Зевса.
… Дике — правосудие… — В греческих мифах Дике — дочь Зевса и Фемиды, богиня справедливости, а не правосудия; в массовых представлениях сближалась с Фемидой, но не сливалась с ней.
… Ананке — необходимость… — Ананке — древнейшее божество необходимости, мать мойр; в греческой философии — рок, аналог римского Фатума.
… Тихе — разноречивость событий… — Тихе (Тюхе) — греческое божество судьбы, но не судьбы-рока, а судьбы-удачи/неудачи, олицетворение случайности; соответствует римской Фортуне.
376… Птицы со Стимфалийского озера. — Стимфалийские птицы — согласно греческим преданиям, хищные птицы с железными или медными перьями; жили на лесном болоте около города Стимфала в Аркадии и пожирали людей. Их распугал трещоткой и перебил Геракл (шестой его подвиг); оставшиеся перелетели на Понт Эвксинский (Черное море), откуда их изгнали аргонавты.
377… Это гарпии, дочери Нептуна и Моря. Самых известных зовут Аэлла, Окипета и Келено. — Гарпии — чудовища греческой мифологии, дочери морского божества Тавманта и нимфы океана Электры, полуженщины, полуптицы. Число их в разных вариантах мифа колеблется от двух до пяти.
… Долго-долго они измывались над слепым Финеем, царем города Салмидесса, что во Фракии… — Когда царь города Салмидесса во Фракии Финей по навету новой жены ослепил сыновей от первого брака, боги ослепили его самого, а также наслали на него гарпий, которые похищали и осыпали пометом его пищу. Их прогнали (но не убили ввиду прямого запрета Зевса) Калаид и Зет (см. примеч. к с. 367).
… и вынудили их укрыться на Строфадах. — Местом обитания гарпий считались Строфады — два небольших острова в Ионическом море, в 45 км к югу от Закинфа.
…на этих островах с ними повстречался Эней… — См. у Вергилия:
Принял нас берег Строфад, когда из пучины я спасся, Страшные те острова, что зовут Строфадами греки,
В море великом лежат Ионийском. С ужасной Келено Прочие гарпии там обитают…
("Энеида", III, 209–211. — Перевод С.Ошерова под редакцией Ф. Петровского.)
… там же Келено пророчит ему жестокий голод, что заставит троянцев пожирать дерево своих столов… — Келено пророчит голод Энею и его спутникам за нанесенное гарпиям оскорбление ("Энеида", III, 253–257).
… ты не узнал трех дочерей Форкия и Кето, отвратительных горгон?… У них на всех трех один глаз, один рог и один зуб. — Ниже весьма неточно излагается миф о герое Персее. Он действительно собирался убить Медузу — чудовище со смертоносным взглядом, единственную смертную из трех сестер-горгон (см. примеч. к с. 70), дочерей морских божеств Форкия и Кето. Ему помогли Гермес (рим. Меркурий), давший ему алмазный серп, и Афина, вручившая герою блестящий щит (а не эгиду, как у Дюма, т. е. щит самой Афины из козьей шкуры), дабы тот, сражаясь с Медузой, смотрел не на нее, а на ее отражение; кроме того, боги посоветовали Персею обратиться за помощь к грайям — сестрам горгон, трем старухам с одним глазом и одним зубом на всех трех. Грайи, у которых Персей похитил этот глаз и зуб, в обмен на их возвращение указали ему, где он сможет достать волшебные предметы: сандалии с крыльями, шлем-неведимку (он получен не от Нептуна — Посейдона) и особую заплечную сумку. Персей убил Медузу, спрятал ее голову в сумку и, не замеченный бессмертными Горгонами, улетел. Голову Медузы Персей отдал Афине, и та водрузила ее на свою эгиду.
25 1204
378 Кадуцей — жезл Меркурия в виде ветви лавра или палки, обвитой двумя змеями, с навершием — орлом с расправленными крыльями; отождествлен с золотым жезлом греческого аналога Меркурия — Гермеса: с помощью жезла тот мог проходить из царства живых в царство мертвых и наоборот, а также насылать сны. Кадуцей первоначально символизировал мир во время торговых операций на определенной территории, позднее стал эмблемой торговцев.
379 Пифон — в греческой мифологии чудовищный змей, опустошавший окрестности города Дельфы. Его убил Аполлон и основал в ознаменование своей победы храм в Дельфах на месте древнего прорицалища, посвященного богине земли Гее. Дельфийский оракул, связанный с именем Аполлона, был одним из самых почитаемых в Греции. Немейское чудовище — имеется в виду немейский лев (см. примеч. к с. 327).
… дочь Тифона и Ехидны, кошмарная Химера! — Тифон — см. примеч. к с. 76.
Ехидна — см. примеч. к с. 133.
Химера — см. примеч. к с. 351.
… у меня есть магическое слово, которым я укротил ликийского царя… — Дюма намекает на эпизод из "Жизни Аполлония Тианского" (I, 12), делая это несколько неточно. Согласно этому жизнеописанию, Аполлоний ок. 34 г. н. э. находился в городе Эги в Киликии, области на юго-западе Малой Азии (а не Ликии, страны на юге Малой Азии, где в XII–VI вв. до н. э. располагалось независимое Ликийское царство). Некое высшее должностное лицо из местных жителей, но не царь (Киликия никогда не была единым государством, а входила в состав Персидской державы, потом — государств-преемников империи Александра Македонского, с 67 г. до н. э. — Рима), человек развратный, начал домогаться любви Аполлония. Добродетельный юноша отказал, и тогда этот правитель, или скорее судья, начал угрожать Аполлонию расправой, на что тот ответил: "О третий день!" И на третий день негодяй был убит, ибо участвовал в антиримском заговоре.
… медный щит, на котором матери-спартанке принесли тело убитого в бою сына. — В античной Греции вообще, а в Спарте в особенности, знаком воина считался не меч, а щит; потеря щита в бою расценивалась как несмываемый позор; павшего в сражении приносили домой на щите (величайшим несчастием для грека было быть погребенным на чужбине, но еще хуже — остаться непогребенным). Отсюда и крылатая фраза, приписываемая некой спартанке. Вручая отправлявшемуся в поход сыну щит, она сказала: "С ним или на нем", т. е. "Победи или умри".
380… там были сатиры с козлиными ногами… — См. примеч. к с. 318… киклопы с единственным глазом во лбу… — См. примеч. к с. 55.
… аримаспы с Рифейских гор… — По представлениям античности, к северу от Рифейских гор (вероятно, имелся в виду Уральский хребет, до которого, впрочем, ни греки, ни римляне не доходили) лежит блаженная страна гипербореев, охраняемая грифонами и одноглазыми дикими людьми — аримаспами. Со времен походов Александра Македонского Рифеем именовали и Кавказ и Памир, а грифонов помещали в Индии.
… азиатский сфинкс с орлиными крыльями, когтями льва, с лицом и грудью женщины… — См. примеч. к с. 351.
… египетские сфинксы с головами, повязанными лентами, как у Лнубиса… — О сфинксах см. примеч. к с. 76. Лентами здесь не очень точно именуется пшент, особым образом повязанный головной платок, атрибут богов и фараонов.
Анубиса (см. примеч. к с. 76) древние греки отождествляли с Гермесом.
… стимфалиды с железным клювом… — См. примеч. к с. 376.
… горгоны со змеями вместо волос на голове… — См. примеч. к с. 70… гарпии с отвратительно пахнущими руками… — См. примеч. к с. 377… индийские грифоны — хранители сокровищ… — См. примеч. к с. 33… сирены, чьи божественные головки возвышались над водой… — Сирены в античной мифологии чудовища, птицы с лицами дев, дочери речного бога Ахелоя и одной из муз (разные варианты мифа называют разные имена); обитают на скалистых островах, куда заманивают моряков своим чарующим пением; берег острова сирен усеян обломками кораблей и костями погибших.
… эмпузы с ослиными ногами… — См. примеч. к с. 351.
… лернейская многоголовая гидра, у которой на месте одной отсеченной отрастают две новые головы… — Лернейская гидра — десятиголовое чудовище, обитавшее, согласно греческим мифам, близ города Лерны на южном берегу Пелопоннеса. Одна из девяти голов была бессмертная; если гидре отрубали любую смертную голову, на ее месте вырастало две. Геракл победил это чудовище, ибо в сражении с ней его друг и спутник Иолай прижигал свежие раны гидры, и тогда новые головы не отрастали. Отрубив последнюю, бессмертную голову, Геракл зарыл ее в землю и забросал это место камнями.
… чарующим голосом, что чуть не погубил Улисса и его спутников… — Когда Одиссей со своими спутниками проплывал мимо острова сирен, он приказал всем залепить уши воском, а себя привязать к мачте; таким образом он, все-таки услышав их пение, остался невредимым.
381 Троада — область на северо-западе Малой Азии, вокруг города Троя.
… это воплощение античной учености, чье имя означало "искусная рука". — Предполагается, что имя Хирон (Cheiron) произведено от cheir (гр. "рука") и намекает на его искусность.
… Рожденный от любви Сатурна и нимфы Филиры… — Крон (Сатурн) разделил ложе с Филирой, дочерью Океана, и был застигнут в самый неподходящий момент своей супругой Реей. Тогда он обернулся жеребцом и умчался прочь, наделив Филиру ребенком в виде получеловека-полуконя, будущим Хироном.
… не только перед глазами Хирона, но и через его руки прошли важнейшие герои античности: Кефал, Феникс, Аристей, Геракл, Нестор, Амфиарий, Тесей, Пелей, Ясон, Мелеагр, Ипполит, Кастор и Поллукс, Махаон и Лодалирий, Менесфей, Диомед, Аякс, Паламед, Эскулап, Улисс, Антилох, Эней, Протесилай, Ахилл… — Приведенный список весьма расширен Дюма в сравнении с античными преданиями. Среди воспитанников Хирона или тех, кому он так или иначе оказывал помощь, из перечисленных были:
25’
Феникс, сын беотийского царя Аминтора, ослепленный отцом по ложному обвинению (наложница отца, воспылавшая к юноше страстью, но отвергнутая им, оклеветала Феникса) и излеченный Хироном;
Аристей, сын Аполлона и нимфы Кирены, которого Хирон обучил мудрости и различным искусствам;
Геракл, друг Хирона;
Тесей, воспитанник Хирона;
Пелей, которому Хирон помог завоевать Фетиду и спас жизнь, подсказав в критический момент, где спрятан меч героя;
Ясон, приемный сын Хирона;
Диоскуры Кастор и Поллукс (см. примеч. к с. 364), воспитанники Хирона;
Асклепий (Эскулап), которого Хирон обучал искусствам врачевания и охоты;
Ахилл, приемный сын Хирона.
К мифам о Хироне не имеют отношения:
Кефал, наиболее известный по истории о его любви к изменившей, но вернувшейся к нему жене Прокриде, которую он затем случайно убил на охоте;
Нестор, мудрый царь города Пилос в Пелопоннесе, участник Троянской войны (в молодости участвовал в борьбе кентавров с лапифами на стороне последних, но это единственное упоминание о каком-либо его контакте с кентаврами);
Амфиарай, прорицатель, против воли принявший участие в войне семерых против Фив (см. примеч. к с. 355);
Мелеагр, участник похода аргонавтов;
Ипполит (см. примеч. к с. 194);
Махаон и Полидарий, участники Троянской войны, сыновья Асклепия;
Менесфей, родич Тесея, афинский узурпатор и друг Диоскуров; Диомед (см. примеч. к с. 56);
ни один из Аяксов — ни Теламонид (см. примеч. к с. 56), ни Оилид (см. примеч. к с. 321);
Паламед, мудрец, которого ненавидел Одиссей (Улисс, сам, кстати, тоже никакого отношения к Хирону не имевший) и которого он погубил, обвинив в предательстве и сношениях с троянцами; Антилох, сын Нестора;
Эней;
Протесилай, первый грек, погибший в Троянской войне (с ним связана трогательная легенда: незадолго до похода на Трою Протесилай женился и так сильно любил жену, что ему было разрешено богами на одну ночь вернуться домой из царства мертвых (жена Протесилая, Лаодамия, поняв, что эта встреча была последней, покончила с собой; по иной версии, Лаодамия после смерти мужа влюбилась в изображавшую его статую; когда ее отец приказал сжечь изображение, она бросилась в костер).
… являюсь пифагорейцем, а следственно — противником пролития крови. — Пифагорейцы (см. примеч. к с. 321) верили в переселение душ, в то, что после смерти душа человека вселяется в иное тело, возможно даже животного, поэтому они запрещали уничтожение любого живого существа. Некоторые современные ученые полагают, что это учение было заимствовано (неясно каким путем) из Индии.
382… в граде Приама… — То есть в Трое; Приам — царь Трои, мудрый старец.
… тебя окунули в Стикс… — Согласно мифам, богиня Фетида, не имевшая возможности сделать сына бессмертным, желала придать ему неуязвимость. Для этого она, согласно одной версии, по ночам закаляла его в огне, а днем натирала пищей богов — амброзией; согласно другой — окунала в воды Стикса (реки в подземном царстве). В обоих вариантах она во время этих процедур держала младенца за пятку, которая поэтому не приобрела свойство неуязвимости, и именно в нее он был поражен стрелой и погиб ("Ахиллесова пята")… Поликсена была принесена в жертву из любви к тебе. — О гибели дочери Приама существовали две версии сказания. Ранняя версия повествует, что, когда греки, взяв Трою, спешили вернуться домой с добычей и пленными, тень убитого Ахилла потребовала принести ему в жертву Поликсену, что и было сделано. Поздняя, романтическая версия гласит: Ахилл был влюблен в Поликсену, желал жениться на ней и был готов содействовать прекращению Троянской войны. Он явился безоружным в Трою, чтобы договориться о свадьбе, но был предательски убит. После смерти его тень является Поликсене и зовет к себе; несчастная невеста бросается на меч.
… в обществе друга моего Патрокла. — См. примеч. к с. 356.
383… Речь идет о Паламеде. — Паламед (см. примеч. к с. 381), сын Навплия, царя Эвбеи, считался великим благодетелем людей. Он изобрел (вариант: усовершенствовал) алфавит, ввел числа, меры длины и веса, научил определять курс корабля по звездам, установил трехкратный ежедневный прием пищи и трехступенчатое построение войска, обучил людей игре в шашки и кости, причем последнее сделал во время Троянской войны, чтобы скрасить воинам скуку лагерной жизни. Об участии Паламеда в осаде Трои нам известно не из поэм Гомера, а из поздних (II в. до н. э. — II в. н. э.) мифографов… уловки и хитрости Улисса, не желавшего покидать Итаку… — Об Итаке см. примеч. к с. 340.
384… Паламед взял колыбель с Телемахом… — Телемах ("сражающийся вдали") — сын Одиссея; странствовал в поисках отца, а по возвращении того всячески помогал ему; был популярен в Италии, т. к. считалось, что его сыном был Латин, родоначальник латинских племен.
Агамемнон — см. примеч. к с. 372.
… убив собственноручно Деифоба и Сарпедона… — Деифоб — сын Приама, брат Гектора и Париса; после смерти Париса, похитившего прекрасную Елену, становится мужем вдовы брата; согласно Гомеру, погиб при взятии Трои от руки первого мужа Елены — Менелая. Сарпедон — сын Зевса, царь Ликии в Малой Азии, союзник троянцев; пал, если верить "Илиаде", от руки Патрокла.
Мефимна — город на северном побережье острова Лесбос.
385… будь ты столь же умелым пловцом, как Леандр… — Леандр — в греческой мифологии юноша из города Абидоса на европейском берегу Геллеспонта, влюбленный в девушку Геро, жившую в городе
Сеете на азиатском берегу. На свидание с ней он еженощно переплывал пролив, ориентируясь по огню маяка, который зажигала Геро. Однажды огонь погас и Леандр утонул. Геро, увидев утром прибитое к берегу тело Леандра, бросилась в море.
…Не тебя ли я видел в Александрии перед гробницей Клеопатры по возвращении моем из Нубии? — Имя Клеопатра носили все царевны птолемеевского Египта, как все цари — имя Птолемей. Здесь имеется в виду прославленная в веках своей красотой, умом, любвеобильностью (впрочем, молва сильно преувеличивала число ее любовников) Клеопатра VII Филопатра ("Любящая отца"; см. примеч. к с. 16). Нубия — см. примеч. к с. 13.
386 Элефантина — см. примеч. к с. 76.
Филы — остров на Ниле у города Сиена (соврем. Асуан).
Луксор — см. примеч. к с. 8.
Мемфис — см. примеч. к с. 76.
… божество Нут-Фен, что невежды называют Нилом? — Древнеегипетское божество Нут-Фен не зафиксировано. Возможно, имеется в виду богиня влаги Тефнут или ее дочь, мать Осириса и Исиды, богиня неба Нут, но ни та ни другая не отождествлялись с богом Хапи — повелителем и воплощением одноименной реки, которую греки называли Нилом. Видимо, Дюма передает здесь не очень точно понятые египтологами XIX в. представления о том, что Нил продолжается на небесах, как бы образуя кольцо.
… Полторы тысячи лет назад фараон Аменофис, сын Тутмоса, повелел высечь меня из той же глыбы гранита, что и статую Мемнона… — О статуе Мемнона см. примеч. к с. 318. Луксорский храм был воздвигнут при фараоне Аменхотепе III (см. там же), которого греки называли Аменофисом; отцом Аменхотепа III был Тутмос IV (точные даты жизни неизв., умер молодым ок. 1450 г. до н. э.). Дейнократ — см. примеч. к с. 90.
Озерные ворота — южные ворота Александрии, выходившие в сторону озера Мареотис (всего в этом городе, построенном в виде квадрата, было четверо ворот).
… Дочь Птолемея Авлета, жену Птолемея Тринадцатого, возлюбленную Секста Помпея, Цезаря и Антония. — Клеопатра была дочь Птолемея XII Нового Диониса Филопатора Филадельфа ("Отцелюбивого", "Братолюбивого"; правил в 80–51 гг. до н. э.), которого насмешливые александрийцы прозвали Авлет, т. е. "Флейтист", т. к. он любил играть на флейте, что не приличествовало царю.
По завещанию Авлета его наследниками являлись Клеопатра и старший сын Птолемей XIII (61–47; царь с 51 до н. э.), причем 17-летняя девушка и 10-летний мальчик должны были вступить в брак (птолемеевские владыки Египта сохраняли обычай фараонов, по которому правители должны были жениться на родных сестрах). Египет вел сложную и запутанную политику, стремясь сохранить хоть какую-то независимость от Рима, причем противоборствующие претенденты на власть в Римской республике одновременно требовали от египетских властей помощи. В 49 г. до н. э. в Египет приехал с такими требованиями старший сын Помпея, Гней (см. примеч. к с. 372). Молодая царица совершенно очаровала его, но слухи об их близости (Дюма путает Гнея с его младшим братом Секстом) были скорее всего клеветой.
После разгрома Помпея начались распри между Клеопатрой, сторонницей Помпея, и ее мужем, сторонником Цезаря. В 48 г. до н. э. явившийся в Александрию Цезарь примирил их. Во время восстания против римлян Клеопатра, желая заслужить благоволение Цезаря, отправилась к нему. Птолемей XIII в этом восстании (Александрийской войне) оказался на стороне мятежников. Цезарь, судя по всему, оказался неравнодушен к царице, и в 47 г. до н. э. она родила сына, названного Птолемей Цезарион. Перед этим Клеопатра овдовела и вышла замуж за младшего брата, Птолемея XIV (58–44; царь с 47 г. до н. э.), а после его смерти правила совместно с Цезарионом, объявленным Птолемеем XV.
Во время гражданских войн, последовавших за убийством Цезаря, Клеопатра встала на сторону мстителей за него. В 41 г. до н. э. она встретилась с Марком Антонием (см. примем, к с. 16). Их бурный роман длился 10 лет. Она родила ему двух сыновей и дочь, с ней он сочетался браком при живой жене. После поражения в борьбе с Октавианом и смерти Антония и Клеопатры Цезарион был казнен, а дети Антония и Клеопатры, пройдя в триумфе победителя, были отданы на воспитание Октавии, сестре Октавиана и жене Антония… вся в слезах, вернулась из Акция… — См. примем, к с. 374.
387 Пелусий — город в дельте Нила.
… со своею наперсницей Хармионой и Ирой, ведающей прической царицы. — Хармиона и Ира — реальные исторические лица, рабыни Клеопатры.
… Она дала укусить себя аспиду, принесенному в корзине со смоквами… — Такова наиболее распространенная версия смерти Клеопатры. Она пыталась заколоться при появлении Октавиана, но ей не дали. Вероятно, о предстоящем триумфе ей сообщил не сам наконец-то единоличный владыка Рима, а некий его приближенный, влюбленный в египетскую царицу. Тогда Клеопатра послала Октавиану письмо; получив его, победитель Антония побежал в ее покои, но царица была мертва, а рядом с ней находились умирающие Ира и Хармиона. Отчего они погибли, осталось неизвестным. На плече царицы были найдены следы укуса змеи; вспомнили, что незадолго перед этим какой-то крестьянин привез поверженной повелительнице Египта корзину с фруктами, где могла быть спрятана змея, но змею так и не обнаружили.
389… из Эпира в Фессалию, из Буфротона в Ларису… — То есть с запада Греции на ее восток: Буфротон — город и гавань Эпира (см. примем. к с. 104) на берегу Ионического моря.
Лариса — см. примем, к с. 370.
390 Парки — см. примем, к с. 326.
391… трое смертных переплыли назад Ахеронт: Эвридика, Алкестида и Тесей. — Перейти Ахеронт (см. примем, к с. 9) обратно означает воскреснуть. Великий певец и музыкант Орфей (см. примем, к с. 84) спустился в Аид за своей умершей от укуса змеи женой Эвридикой. Он очаровал своим пением владыку подземного царства Аида (Плутона), и ему было позволено вызволить жену из обители смерти при условии, что он не взглянет на нее, пока не вступит в отчий дом.
Орфей нарушил запрет и навсегда потерял Эвридику.
Алкестида — см. примем, к с. 368.
Тесей — см. примем, к с. 364.
… глаза василиска… — Василиск — сказочное существо с головой петуха, телом жабы и хвостом змеи, способное убивать взглядом; вылупляется из яйца, снесенного петухом и высиженного жабой. Дюма, вероятно, имеет в виду ящерицу-василиска, но это животное семейства игуан живет в Южной Америке и никак не могло существовать в Греции I в. н. э.
392 Прозерпина — см. примем, к с. 333.
Геката — в греческой мифологии богиня мрака, ночных видений и чародейства, повелительница злых духов. Римляне отождествили ее с Тривией, богиней трех дорог, и стали изображать с тремя ликами или в виде трех сросшихся женщин. С этим связано понимание Гекаты в трех ипостасях в позднеантичное время: она Селена (Луна) на небе, Диана на земле и Прозерпина в преисподней.
… эвмениды-мстительницы, помогающие мне общаться с манами! — Ни в греческой, ни в римской мифологиях души предков — маны (см. примем, к с. 9) никак не были связаны с эриниями-эвменидами (см. примем, к с. 194).
… старый стиксский лодочник, к которому я отправила столько теней! — Имеется в виду Харон — персонаж античной мифологии, но он, согласно античным верованиям, перевозил умерших через Ахеронт, а Стикс протекает уже внутри подземного царства (ср. примем. к с. 9).
… Я та, что предсказала Фарсал Помпею, Филиппы — Бруту, Акций — Антонию. — О битве при Филиппах см. примем, к с. 15. Эрихто предсказала печальный конец только Помпею, причем не Помпею Великому, а его сыну Сексту (см. примем, к с. 372).
По легенде, накануне битвы при Филиппах в палатке Брута появился призрак и на вопрос, кто он, ответил: "Я твой злой дух, Брут, и мы встретимся у Филипп".
393… ту, что омолодила старого Эсона — всемогущую Медею. — Легенды о Медее и Ясоне имеют разные варианты. По одной из версий, Медея (см. примем, к с. 194) и ее муж Ясон, сын царя Полка Эсона, свергнутого братом Пелием (см. примем, к с. 364), восстановили Эсона на престоле, а Медея омолодила свекра. Подругой, более распространенной версии, Пелий убил своего брата еще до возвращения "Арго". В любом случае конец узурпатора один: Медея обманом уговорила дочерей Пелия убить отца. На их глазах она разрубила на части барана и бросила его в кипящую воду, откуда вышел ягненок. Дочери, решив, что их отец сможет таким образом омолодиться, расчленили его и бросили в котел, но Пелию не суждено было возродиться.
… Медея, заклинаю братом твоим Абсиртом, разорванным твоими собственными руками! — Когда Ясон и Медея бежали из Колхиды с золотым руном, с ними бежал младший брат Медеи Абсирт (Апсирт). Видя, что войско царя Колхиды Ээта настигает их, Медея убила брата и разбросала куски его тела, чтобы убитый горем отец прекратил погоню, собирая останки сына для достойного погребения… Именем соперницы твоей Главки, отравленной тобой! — Дочь коринфского царя Главку, на которой собирался жениться Ясон, Медея не отравила, а сожгла при помощи заколдованной одежды.
… Твоими сыновьями Мермером и Фером, зарезанными матерью! — Так звали детей Медеи, которых она убила собственными руками, чтобы отомстить неверному мужу.
394… Зачем ты вызвала меня из глубины Финикии… — Согласно преда нию, Медея была перенесена на острова Блаженных (античный аналог рая) на далеком западе, где стала женой Ахилла; так что совсем непонятно, как она попала в Финикию.
… В горах Кавказа прикован к скале человек, вернее титан… — Ниже Дюма несколько изменяет миф о Прометее (см. примеч. к с. 67). Геракл, согласно преданию, все же освободил Прометея.
396… промелькнули далеко под ним острова Скиафос, Галонесс, Гиера, Лемнос, Имброс и Дардания… — Перечисляются острова северной части Эгейского моря в направлении от восточного побережья Греции на северо-восток: Скиафос (соврем. Скиатос), Галонесс, Гиера (вероятно, имеется в виду скалистый островок Гиура, или Гиара, между Скиафосом и Галонессом, известный как самое мрачное в Эгейском море место ссылки), Лемнос, Имброс (вблизи Фракийского Херсонеса).
Дардания — древнее название Троады, области на крайнем западе Малой Азии.
… от Фасиса до Палус-Меотиса. — Фасис — см. примеч. к с. 347. Палус-Меотис — Меотийское озеро (Азовское море).
Палус (лат. palus) — "болото".
397 Эол — греческий бог ветров, живущий на Эоловых островах (см. примеч. к с. 340) в пещере, где хранятся все ветры.
398… Этот бог должен сотворить новый мир из старого, где владычествовали Уран, Хронос и Зевс. — В представлениях античных народов даже боги не вечны и происходит смена поколений богов. Царь и владыка первого поколения — Уран, бог неба (римляне, насколько можно судить, не знали соответствующего божества и целиком заимствовали его у греков). Урана свергает его сын Кронос (его первоначальная небесная специализация неясна, позднее, по звучанию, его стали именовать Хронос (гр. "время") и считать богом времени: отождествлялся с римским Сатурном). Кроноса свергает его сын Зевс (рим. Юпитер).
399 Гиньо, Жозеф Даниель (1794–1876) — французский эллинист и археолог.
400… Океан — река рек, Тефида — праматерь пресных вод… — В античной мифологии Океан — сын Урана и Геи, божество одноименной реки, опоясывающей весь мир (позднее греки перенесли название Океан на внешнее — по отношению к Средиземному — море, но как метафору, ибо до конца античности Океан в собственном смысле понимался именно как река).
Тефида — его сестра и супруга, мать океанид (позднее воспринимавшихся как морские нимфы) и всех рек.
…Не доверяя своих детей их матери Рее… — Рея — в греческой мифологии жена и сестра Хроноса, мать Зевса, первоначально, видимо, высшее женское божество, Великая Мать.
… Напрасно Хронос проглотил поочередно Гестию, иначе Весту… — О Весте см. примем, к с. 37.
… Деметру, или Цереру… — См. примем, к с. 8.
… Геру, иначе Юнону… — См. примем, к с. 82.
… Лида, или Плутона… — Аид — брат Зевса, владыка подземного царства мертвых; другие его имена — Гадес, Плутос ("Богатый"). Римляне, не имевшие своего особого бога мертвых, заимствовали его у греков и называли обычно Плутон.
… и Посейдона — Нептуна… — См. примем, к с. 194.
… будущий бог богов, вскормленный козой Амалфеей, рос, мужал телом и духом… — По греческим мифам, Рея спрятала Зевса в пещере горы Ида на Крите, где его вскормила своим молоком коза Амал-фея; случайно сломанный рог козы Зевс превратил в рог изобилия.
… Зевс — он же Юпитер — привлек на свою сторону титанов. Вместе с Хроносом сражались гиганты… — В титаномахии (см. примем, к с. 362) — борьбе Зевса и Хроноса — титаны, кроме Океана и Прометея, сражались на стороне Хроноса; за Зевса выступали боги в узком смысле — т. е. его братья и сестры, а также их (и его самого) потомство.
Гиганты — смертные существа, потомки Урана и Геи (вариант: рожденные Геей от крови оскопленного Хроносом Урана), рожденные уже после титаномахии, ужасные на вид, косматые полулюди-полудраконы. Они представляли опасность для богов, и те задумали истребить их, но по велению судьбы победу одержать могли лишь с помощью смертного героя. Битва с гигантами (гигантомахия) произошла отдельно от титаномахии, и активную роль в ней сыграл Геракл. В титаномахии же Зевсу (не Хроносу) помогали сторукие дети Урана и Геи, три существа с пятьюдесятью головами и ста руками (см. примем, к с. 315); за страшный вид Хронос заточил их в Тартар, но Зевс освободил; в благодарность они помогли ему завершить десятилетнюю титаномахию и впоследствии стали сторожами титанов в Тартаре.
401… хотя был сыном Урана и Фемиды… — Выступавший в титанома хии на стороне Зевса Прометей был сыном титана Иапета (т. е. внуком Урана) и то ли океаниды Климены, то ли богини правосудия Фемиды.
… Вулкан с помощью Власти и Силы… — Вулкан — римский бог очистительного и разрушительного пламени — был отождествлен с Гефестом, но в римском культе его почитали не как кузнеца, а как охранителя от пожаров и сверхмощного мага: он мог на 10 лет откладывать исполнение велений судьбы.
Гефест — в греческой мифологии сын Зевса и Геры (вариант: сын только Геры, которая родила Гефеста без мужчины в отместку Зевсу за его многочисленные измены), бог-кузнец, покровитель ремесленников. Гефест приковывает Прометея неохотно, только повинуясь воле Зевса, ему в этом содействуют помощники — Власть и Сила (аллегорические фигуры, отсутствующие в народной мифологии и появляющиеся только в трагедии Эсхила "Прометей прикованный").
… потрясает огненными перунами! — Перун — в греческой мифологии оружие Зевса, с помощью которого он мечет молнии.
402… Текст пророчества почти дословно следует тому, что излагает Эсхил в "Прометее прикованном". — Имеются в виду стихи 915–927 трагедии:
Пускай же он упорствует,
Кичась громами в небесах и пламенем Пылающие стрелы с высоты меча.
Все это не поможет: от бесславного И страшного паденья не спасется Зевс:
Непобедимо сильного противника,
Врага на диво сам себе готовит он.
Противник этот пламя жарче молнии Придумает и грохот посильней, чем гром,
Трезубец Посейдона, что земную твердь Трепал, как лихорадка, в море бросит он,
И Зевсу будет худо, и узнает Зевс,
Как непохоже рабство на владычество.
(Перевод С.Апта.)
… клянусь Стиксом!.. — В античности клятва именем реки Стикс царства мертвых считалась нерушимой.
… Силы титана, что некогда позволяли ему сражаться со сторукими гигантами, силы, что сбросили Пелион с вершины Оссы, иссякали. — Прометей гору Пелион с горы Осса не сбрасывал. Внуки Посейдона, сыновья Алоя (Алоады) От и Эфиальт, обладавшие сверхъестественной силой, грозились овладеть Герой и Артемидой, для чего водрузили Пелион на Оссу, чтобы достичь Олимпа; были убиты стрелами Аполлона.
403… ветви терпентинного дерева… — Здесь: хвойное дерево. Терпентин (живица) — смола, выделяющаяся при ранении хвойных; используется для изготовления скипидара, хорошо горит.
Лхеронт — см. примеч. к с. 9.
404 …Их было девять, столько же, сколько и муз… — Согласно Гесиоду, океанид — три тысячи.
Асия — по одной из версий мифа, мать Прометея, Эпиметея и Атланта.
Калипсо — не дочь, а внучка Океана, повелительница острова Огигия; у нее семь лет жил Одиссей, возвращавшийся из-под Трои. Климена — жена бога солнца Гелиоса, мать Фаэтона; по другой версии — жена титана Иапета, мать Прометея, Эпиметея и Атланта. Диона — по одной из версий, мать Афродиты.
Дорида — мать морских нимф, нереид.
Эвдора — не океанида, а нереида, дочь предыдущей.
Ианира — видимо, опечатка: такой океаниды не существовало, но известна Деянира, тезка жены Геракла.
Плексавра — тоже не океанида, а нереида.
Фоэ — видимо, ошибка или опечатка: персонаж греческой мифологии с таким именем неизвестен.
… Брат твой Атлант осужден держать мир на плечах. — Атлант — титан, брат Прометея; за участие в титаномахии осужден поддерживать небесный свод на далеком западе.
… Менетий, твой брат, низвержен в пропасти Тартара… — Менетий — брат Прометея; за участие в титаномахии низвержен в Тартар вместе с другими титанами.
… твой брат Эпиметей взял в жены Пандору, источник всех зол. — Образ братьев-близнецов Прометея и Эпиметея восходит к древним мифам о двух близнецах, один из которых творит добро, другой — зло. Имя "Прометей" означает "глядящий вперед", "провидец", "Эпиметей" — "глядящий назад", "крепкий задним умом". После похищения Прометеем огня боги решили отомстить людям и создали женщину Пандору. Прометей неоднократно предупреждал брата не принимать никаких даров от богов, но Эпиметей не послушался и взял предложенную Зевсом Пандору в жены. Затем боги вручили Эпиметею ларец, в котором находились все несчастья, пороки и болезни, и тот, подстрекаемый любопытной Пандорой, невзирая на предупреждения Прометея, принял его, а Пандора открыла, и все беды разлетелись по миру. В ужасе Пандора захлопнула крышку, и на дне ларца осталась лишь надежда — даже ее люди оказались лишены. Ликург — см. примеч. к с. 357.
Солон (640/630 — ок. 599 до н. э.) — афинский законодатель, философ, поэт; провел реформу государственного и общественного строя Афин, в результате которой допуск к государственным должностям определялся не родовитостью, а имущественным цензом. Зевксис — см. примеч. к с. 334.
Апеллес — см. примеч. к с. 348.
Перикл — см. примеч. к с. 15.
Фидий (нач. V в. — ок. 432/431 до н. э.) — знаменитый афинский скульптор, автор статуй на афинском Акрополе, друг и приверженец Перикла. Его произведения дошли до нового времени лишь в копиях. Пракситель — см. примеч. к с. 334.
406… Через Трофониеву пещеру… — Трофоний — прорицатель (возможно, местное божество), дававший предсказания в Лебадейской (она же Трофониева) пещере. Каждый, узнававший в ней свою судьбу, погружался в состояние ужаса.
… порыв, подобный дыханию аквилона… — Аквилон — северо-восточный ветер.
407 Копаидское озеро — см. примеч. к с. 355.
Трохин — здесь: город в западной части Беотии, одноименный фессалийскому.
Амбрис — город на юго-западе Беотии.
Орхомен — см. примеч. к с. 356.
Лебадея (соврем. Левадия) — город в 12 км к юго-западу от Орхомена. Пермесс — см. примеч. к с. 353.
… они именовались ключами Леты и Мнемозины… — Лета — в греческой мифологии богиня забвения, Мнемозина (Мнемосина) — богиня памяти. Вступающий в Трофониеву пещеру, чтобы услышать предсказание оракула, должен был испить из обоих источников: из первого — дабы забыть все тревоги, из второго — дабы помнить, что ему было сказано в пещере.
408… царь Гириэй пригласил самых известных архитекторов того времени — ими были Трофоний и его брат Агамед. — Согласно греческим мифам, Трофоний и его брат Агамед, беотийские герои, по одной из версий мифа — сыновья Аполлона, построили для царя Гириэя храм Аполлона в Дельфах, сокровищницу там же и целый ряд знаменитых сооружений в Элладе.
… не осталось никаких следов, кроме изображения на беотийских монетах и описания, данного в "Ионе" Еврипида. — Трагедия "Ион" великого древнегреческого трагика Еврипида (ок. 408–406 до н. э.) посвящена судьбе Иона, родоначальника греческого племени ионийцев, сына Аполлона, воспитанного в святилище этого бога в Дельфах… Там-то и обосновался Трофоний. — По греческим преданиям, Трофоний не скрылся после чудовищного преступления, а земля расступилась и поглотила братоубийцу.
409 Лкрефиец — житель города Акрефии близ Копаидского озера. Пифия — жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах; сидя на треножнике, вдохновленная Аполлоном и находясь в состоянии экстаза, сообщала предсказания, которые жрец переводил в стихотворную форму.
410… храму… посвященному Фортуне и Доброму Гению. — Фортуна — см. примеч. к с. 316.
Гений — см. примеч. к с. 22.
414 …facilis descensus Avemi Вергилия… — По преданию, в Авернском озере (ныне Лаго д’Аверно) в Кампании был вход в царство мертвых.
В русском переводе этот стих Вергилия звучит так:
… в Аверн спуститься нетрудно,
День и ночь распахнута дверь в обиталище Дита.
("Энеида", VI, 126–127.)
Дит — кельтское божество загробного мира.
… трое страшных сыновей Урана… — Имеются в виду гекатонхейры, сыновья Урана и Геи: Бриарей (см. примеч. к с. 315), Гий и Котт, сторукие и пятидесятиглавые исполины.
415… изливающим на других людей, как благодатную росу, идеи Платона и Сократа. — Сократ (см. примеч. к с. 196) первым утверждал, что целью философии является познание не Вселенной, а человека; главное — понять, что есть добродетель, дабы правильно вести себя в мире.
416… Этот слой был создан потопом… — Мифы о периодическом уничтожении всего живого на Земле были распространены в древности у всех народов мира — от Китая до доколумбовой Америки, в том числе в древней Иудее и античной Греции. Эти же идеи возродились в конце XVIII — начале XIX в., поскольку возникла необходимость согласовать находки костей древних животных с отсутствием подобных существ в современном мире.
… Вот четвероногое, похожее на броненосца и на ленивца… — Имеются в виду жившие в Южной Америке от 30 млн. до 150–120 тыс. лет тому назад гигантские броненосцы — глиптодоны — высотой до 2 м и огромные наземные ленивцы — мегатерии — до 6 м длиной. Есть не очень надежные сведения о том, что мегатерии дожили в районе Патагонии чуть ли не до конца XIX в.
… это ящер в восемнадцать локтей длиной! — 18 локтей (локоть — античная мера длины, 44,4 см) ~ 8 м. Древние ящеры (динозавры) — были и больших размеров, например, бронтозавры — более 20 м.
… А вот олень, размером больше лося, рога у него с длиннейшими ветвями, в пять локтей каждая! — Имеется в виду большерогий олень, вымерший 10–12 тыс. лет назад; размах его рогов достигал 4 м.
… Это скелет гигантского слона: в нем четырнадцать локтей роста, а бивни длиной в восемь! — Неясно (может быть, и самому Дюма), какой из вымерших слонов имеется в виду: мамонт (наиболее поздние останки его насчитывают менее 10 тыс. лет), мастодонт (в Евразии вымер ок. 500 тыс. лет назад, в северной Америке сохранялся до появления там человека 40–25 тыс. лет назад), южный слон (вымер ок. 500 тыс. лет назад) или иные виды. Ни один из них не достигал 6,5 м (14 локтей) высотой; самый крупный — южный — был около 4 м в холке, мамонт, мастодонт (и современный африканский слон) — около 3,5 м. Наиболее длинные бивни были у мамонта — до 4,5 м (8 локтей ~ 3,6 м; самый большой известный бивень африканского слона — 3,3 м.
417… что-то вроде тапира, находящегося где-то между носорогом и лошадью… — Носороги, лошади и тапиры относятся к одному отряду млекопитающих — непарнокопытных — и имеют общих предков… зверь, от которого произойдут гиппопотам и лошадь, и еще один — промежуточное звено в цепи от верблюда к кабану. — Сказанное Дюма не вполне соответствует современной науке. Гиппопотамы относятся к отряду парнокопытных (лошади — непарнокопытные), подотряду нежвачных. Верблюды и кабаны — парнокопытные, но первые — жвачные, вторые — нежвачные. Некоторые исследователи отвергают родство надотряда копытных и считают, что непарнокопытные ближе к хищным, а не к парнокопытным.
418 Лигнит — бурый уголь.
… ее тяжелое тело на суше поддерживали четыре короткие толстые ноги, а в воде влекли вперед мощные плавники… — Животных с ногами и плавниками одновременно никогда не существовало.
… еще одна тварь с шеей, столь же длинной, как и все ее тело… — Вероятно, имеются в виду гигантские травоядные динозавры, жившие на мелководьях — бронтозавры и диплодоки. В действительности, впрочем, шея их все же была короче туловища, совершенно, кстати, непохожего на крокодилье, длина же достигала более 20 м; в последние годы были обнаружены останки еще более крупных динозавров — сейсмозавров, но точные их размеры установить пока не удается.
… нечто похожее на каймана, но в пять десятков локтей — совсем как библейский Левиафан. — Предками современных крокодилов, в т. ч. кайманов (см. примеч. к с. 69), были морские ящеры мозазавры, длиной, правда, не около 22,5 м (50 локтей), а около 10–12 м. Левиафан — см. примеч. к с. 136.
… гидру с крыльями летучей мыши. — Вероятно, имеется в виду какая-то разновидность летающих ящеров (птерозавров) — птеродактили, птеранодоны, рамфоринхи и др. Устройство их крыльев отличалось от крыльев летучей мыши и сходно лишь по отсутствию перьев.
… оцени размеры этого панциря: шесть локтей! — Вымершие гигантские морские черепахи достигали 3 м длины.
419 Плаун — представитель рода вечнозеленых травянистых растений, произрастающих в лесной зоне Северного полушария.
… ниже живых полипов можно различить зоофиты… — Полипы — здесь: живущие в воде кишечнополостные, прикрепленные ко дну; наиболее известная разновидность — кораллы.
Зоофиты — то же самое, что и полипы.
420… в эпоху Перикла… — Годы правления Перикла (444–429, кроме 430 до н. э.), т. н. "век Перикла", считается эпохой наивысшего расцвета Афин.
… зарубки современников Александра. — То есть Александра Македонского (356–328 до н. э.).
… в эпоху Эпикура… — Эпикур (341–270 до н. э.), греческий философ, родом с острова Самос, учил в Афинах. Его учение, пользовавшееся невероятной популярностью (последователи обожествляли Эпикура), гласит, что мир управляется по своим законам, боги не вмешиваются в жизнь людей, загробной жизни не существует, поэтому нечего бояться смерти; цель жизни — наслаждение, но не в смысле погони за удовольствиями, наоборот, следует избегать страстей, волнений, довольствоваться малым.
… во дни славы Аристарха… — Неясно, кто из известных в истории Аристархов имеется здесь в виду: Аристарх Самосский (ок. 320 — ок. 250 до н. э.), астроном, выдвинувший (или поддержавший — мнения ученых расходятся) гелиоцентрическую гипотезу (впрочем, первым заявившим, что Земля движется вокруг Солнца, был живший в V в. до н. э. пифагореец Филолай), или Аристарх Самофракийский (ок. 217–145 до н. э.), глава Александрийской библиотеки, посвятивший жизнь изучению и изданию трудов Гомера, Гесиода, Эсхила и др.
… в годы тирании Суллы… — См. примеч. к с. 35.
… и правления Августа. — См. примеч. к с. 9.
… ты увидишь, как все на ней погибнет от холода… — В XVIII–XIX вв. существовала гипотеза, что жизнь на Земле поддерживается внутренним вулканическим теплом нашей планеты, которое все уменьшается, что приведет к гибели всего живого; эта идея давно опровергнута.
421… В центре Земли существует сферическая пещера без входов и выходов, освещенная лишь двумя бледными лучистыми звездами, что зовутся Плутоном и Прозерпиной. — Английский математик и физик Джон Лесли (1766–1832) выдвинул экстравагантную и пользовавшуюся широкой популярностью гипотезу (Дюма излагает ее не очень точно) о том, что в центре Земли существует пустота, заполненная воздухом, и этот воздух светится под давлением, которое весьма высоко в центре Земли. На внутренней поверхности нашей планеты царит вечная весна, там необычайный растительный и животный мир, в самосветящейся атмосфере движутся две планеты — Плутон и Прозерпина, приближение которых к земной коре вызывает магнитные бури и землетрясения.
426… Галатее, ставшей из статуи женщиной… — Согласно античным мифам, царь Кипра Пигмалион чуждался продажных женщин и мечтал о чистой любви. Он сделал из слоновой кости статую прекрасной девы, влюбился в нее и молил Афродиту, чтобы богиня вдохнула жизнь в эту статую. Тронутая такой любовью, Афродита оживила скульптуру, и та под именем Галатея стала женой Пигмалиона. Мареотис — см. примеч. к с. 89.
427 Море Алкионы — см. примеч. к с. 315.
Арголида — см. примеч. к с. 356.
Миртосское море — часть Эгейского моря между Пелопоннесом и Кикладскими островами.
Внутреннее море — здесь: юго-восточная часть Средиземного моря между Критом и Египтом, называвшаяся Финикийским морем. Мемфис — см. примеч. к с. 76.
… Канон со своим каналом… — Этот канал из Канопы (см. примеч. к с. 89) связывал левый рукав дельты Нила с Александрией, так что столица Египта оказывалась не только средиземноморским, но и нильским портом.
Пантеон Августа — представлял собой могильную насыпь на беломраморном фундаменте у самого Тибра, увенчанную статуей императора; под насыпью находились гробницы его самого, его родственников и близких; за мавзолеем располагался большой парк с аллеями для прогулок.
Пантеон Агриппы — см. примеч. к с. 16.
… божественные иероглифы, на которых иступит зубы наука будущих веков. — С конца античности до XIX в. древнеегипетская письменность была забыта: еще греки считали иероглифы священными письменами (ieros glyphos — букв. гр. "священные вырезанные"), недоступными непосвященным. Начало их чтению положил в 1822 г. великий французский ученый, основатель египтологии Жан Франсуа Шампольон (1790–1832).
428 Серпентин — минерал; его разновидность офит используется в качестве поделочного камня.
… перстень с лазурным скарабеем… — Скарабей (жук-навозник) считался в Древнем Египте атрибутом солнечного бога Ра и залогом возрождения в будущей жизни; широко использовались амулеты в виде скарабеев: перстни, нагрудные украшения, ожерелья.
430… Мир потерял четырех императоров и обрел одного бога. — Имеются в виду Август (Октавиан), Тиберий, Калигула и Клавдий (см. примеч. к с. 8).
… Он умер, поев ядовитых грибов, приготовленных его женой Агриппиной. — См. примеч. к с. 447.
432 Брама, Вишну, Шива — триада высших богов Индии: создатель мира Брахма (так правильно), хранитель — Вишну и разрушитель — Шива. По представлениям философов, насколько это европейское слово применимо к мудрецам Древней Индии, все эти три божества являются ипостасями некой верховной безличной сущности — Брахмана. Осирис, Анубис — см. примеч. к с. 76.
Исида — см. примеч. к с. 8.
Молох, Астарта — см. примеч. к с. 82.
Ваал — грецизированная форма библейского "Баал" от семитского "Балу", "Бел" — "господин, владыка". Именем Баал — Ваал называли западносемитского (не только финикийского) бога грома и бури. Это же слово применялось как часть имени других божеств — например финикийского бога солнца Баал — Хаммона или женского божества Баалат.
Юпитер (гр. Зевс) — см. примеч. к с. 12.
Плутон (гр. Аид) — см. примеч. к с. 333.
Нептун (гр. Посейдон) — см. примеч. к с. 194.
Аполлон — см. примеч. к с. 55.
Марс (гр. Арей) — см. примеч. к с. 14 Вулкан (гр. Гефест) — см. примеч. к с. 401.
Диана (гр. Артемида) — см. примеч. к с. 54.
Минерва — см. примеч. к с. 211.
Юнона (гр. Гера) — см. примеч. к с. 82.
Церера (гр. Деметра) — см. примеч. к с. 8.
Кибела — греческое божество негреческого (малоазийского, видимо, фригийского) происхождения; Великая мать, в поздней античности покровительница благосостояния городов.
Венера (гр. Афродита) — см. примеч. к с. 82.
Один, Тор, Фрейя — скандинавские варианты имен германских богов. Об Одине и Торе см. примеч. к с. 58. Фрейя — богиня любви, красоты и плодородия у древних скандинавов. Ее аналог у континентальных германцев неизвестен, хотя до нас дошли сведения античных авторов, что германцы почитали Исиду (здесь явный намек на какое-то местное женское божество, ибо римляне и греки не колебались присваивать известные им имена богов разным туземным божествам), но подробных данных нет.
Тевтат — см. примеч. к с. 58.
433… как был погребен Самсон под руинами храма филистимлян! — Герой ветхозаветного предания Самсон (Судей, 13–16) прославился как великий борец с врагами народа Израиля — филистимлянами. Он обладал невероятной силой, ибо с детства был посвящен Богу; посвящение состояло в назорействе (см. примеч. к с. 128), одним из условий которого было не стричь волосы, причем нарушение обета даже и не по собственной вине вело к утрате силы. Филистимлянка Далила, коварная возлюбленная Самсона, выведала эту тайну и сообщила ее единоплеменникам. Ночью филистимляне с помощью Далилы тайком остригли волосы Самсона и, пользуясь тем, что он обессилел, ослепили его, заковали в цепи и заставили вращать мельничный жернов. Тем временем волосы несчастного понемногу отросли. Во время пира филистимляне привели Самсона в свой храм, чтобы поиздеваться над ним. Он попросил подвести его к главному столпу храма, вознес молитву Господу, сдвинул две главные опорные колонны и с криком "Умри, душа моя, с филистимлянами!" (Судей, 16: 30) похоронил врагов и себя под развалинами храма.
434… сын Агенобарба и Агриппины, Луций Домиций Клавдий Нерон… — Неточность: настоящее имя Нерона — Луций Домиций Агенобарб; после усыновления его Клавдием в 50 г. — Тиберий Клавдий Друз Германик Цезарь; после восшествия на престол в 54 г. — император Нерон Клавдий Цезарь Август Германик.
… Теперь меня зовут Тигеллин, а тебя Поппея! — Гай Софроний Тигеллин (ум. в 69 г.), человек темного происхождения, сумел войти в доверие к императору Нерону и был назначен в 62 г. на высшую должность в Империи — префекта претория (преторием первоначально в Риме называлась палатка командующего, префект претория был чем-то вроде коменданта военного лагеря и в этом качестве возглавлял личную охрану полководца, поддерживал порядок в лагере и мог по поручению командующего или в его отсутствие вершить военно-полевой суд; во времена Империи, т. к. император являлся верховным главнокомандующим, префект претория стал командующим привилегированными частями — преторианской гвардией, и вторым, после принцепса, высшим судьей римского государства). Молва и античные историки приписывали Тигеллину огромное и дурное влияние на Нерона, утверждали, что префект всячески потакал разврату и жестокости императора, подбивал его расправляться с неугодными. Происками Тигеллина объясняли и то, что Нерон в том же 62 г. развелся с добродетельной Октавией (см. примеч. к с. 492) и женился на дважды разведенной Поппее Сабине (ок. 31–65), которая считалась вторым (после Тигеллина) злым гением Нерона. В 65 г. Нерон, разгневавшись на Поппею, ударил ее, беременную, в живот; та родила мертвую девочку и скончалась. Раскаявшийся Нерон приказал обожествить Поппею и дочь.
Во время переворота 68 г., стоившего Нерону не только трона, но и жизни, Тигеллин не сделал ничего, чтобы спасти своего покровителя, и переметнулся на сторону его преемника, избранного сенатом императора Гальбы (см. примеч. к с. 480). Однако когда в 69 г. Гальбу сверг Отон (см. примеч к с. 494), бывший приближенный Нерона, то новоиспеченный принцепс повелел Тигеллину покончить с собой.
"Актея"
Роман Дюма "Актея" ("Acte") хронологически продолжает "Исаака Лакедема", хотя написан задолго до него и представляет собой самостоятельное произведение.
Героиня романа — гречанка Актея — имеет мало общего со своим историческим прототипом. Реальная Актея (годы жизни неизв.) была вольноотпущенницей Нерона и, вероятно, первой его любовницей — скорее всего до его восшествия на престол. Император привязался к ней и даже собирался на ней жениться. Актея платила ему взаимностью, не забыв царственного возлюбленного и после его смерти. Сама она, насколько можно судить, надолго пережила его. О ее характере почти ничего не известно, она старалась держаться подальше от государственных дел, хотя и принимала участие, возможно косвенное, в некоторых придворных интригах. По существу, все события в романе, касающиеся Актеи (но не Нерона) вымышлены Дюма.
Время действия — с 57 по 68 г.
Первые журнальные публикации романа:
под названием "История великого певца ("Histoire d’un tenor") — в "Парижском музыкальном обозрении и газете" ("Revue et Gazette musicale de Paris") c 22.10.1837 no 03.12.1837;
под названием "Ночь Нерона" ("Une nuit de Neron") — в газете "Пресса" ("La Presse") c 14.04.1838.
Первая книжная публикация во Франции: Paris, Dumont, 1839, 2 v., 8vo. Перевод, выполненный по тексту Calmann-Levy, 1874, сверен Г.Аддером как с этим изданием, так и с недавним изданием Paris, Presses Pocket, 1984, подготовленным К. Азиза (Claude Aziza).
Это первая публикация перевода романа на русский язык.
437 Диана-охотница — см. примем, к с. 54.
… вышла из западных ворот Коринфа… — Эти ворота Коринфа (см. примем, к с. 315) назывались Лехейскими и вели в одноименную гавань, откуда приплывали корабли из Италии.
… под сенью деревьев Минервы… — См. примем, к с. 211.
… ионическим носом… — Ионический (ионийский) нос — то же, что греческий: его линия идет ото лба прямо вниз.
… это была одна из прекраснейших дев Ахайи… — Ахайя — историческая область на севере Пелопоннеса; после римского завоевания в середине II в до н. э. вся Южная и Средняя Греция была объединена в римскую провинцию под названием Ахайя; административным центром ее был Коринф.
… напоминало статую Фидия, оживленную Прометеем. — Фидий — см. примем, к с. 404.
Согласно мифам, именно Прометей (см. примем, к с. 67) вдохнул душу людям.
… нимфа Пирена, предоставившая ей зеркало своих слез… — См. примем, кс. 315.
Померанец — см. примем, к с. 440.
… грива на шлеме Паллады… — Паллада — одно из прозваний богини Афины, произведенное от имени гиганта Палланта; во время гигантомахии Афина содрала с него кожу и прикрывалась ей в бою как щитом. Афина почиталась в Греции как покровительница и защитница городов, в т. ч. от военного нападения, поэтому ее обязательные атрибуты: щит, копье и шлем с высоким султаном из конского хвоста.
438… две сестры, нимфа и наяда, соединяются в нежном объятии… — См. примем, кс. 10.
… подгоняемая ветром с Делоса… — Делос — маленький остров в центре архипелага Киклады, торговый центр в Эгейском море; лежит к востоку от Коринфа. Непонятно, как восточный ветер мог подгонять судно к западному побережью.
Миля — см. примем, к с. 42.
Нептун — см. примем, к с. 194.
… фригийский лад, на котором сочинялись священные гимны… — Античная музыка резко отличалась от новоевропейской и была основана не на семи нотах, а на четырех нисходящих звуках — тетрахордах; соотношения этих тетрахордов образовывали лады. Всего было семь ладов, из них три основные (дорийский, фригийский и лидийский) и четыре смешанные. Дорийский лад считался самым спокойным, уравновешенным, усмиряющим чувства и употреблялся в гимнах Аполлону; фригийский (от области Фригия в Малой Азии) — возбуждающим, экстатическим и употреблялся в гимнах Дионису; лидийский был промежуточным между экстатическим и спокойным… непохожи на резкие голоса калидонских или кефалленийских рыбаков… — Калидон — город на северном берегу Коринфского залива (в Этолии).
Кефалления (соврем. Кефалиния) — остров к западу от входа в Коринфский залив.
Аполлон — см. примеч. к с. 55.
Флора — см. примеч. к с. 319.
Бирема — гребное судно с двумя рядами весел.
Корифей — здесь: предводитель хора в древнегреческой трагедии, вступающий в непосредственный контакт с актерами.
… на трехструнной кифаре… с которой ваятели изображают Эвтерпу, покровительницу гармонии… — Неточность: во-первых, минимальное число струн на кифаре — четыре; во-вторых, музы (см. примеч. кс. 14) — покровительницы гармонии не существовало. Муза лирической поэзии Эвтерпа изображалась с двойной флейтой, а кифара была атрибутом Эрато — музы любовной поэзии.
439… Коринф уже не был, как во времена Суллы, братом и соперником
Афин. — См. примеч. к с. 196.
… консул Муммий взял город штурмом… — См. примеч. к с. 196.
… картины, за одну из которых Amman некогда предлагал миллион сестерциев, служили подстилками римским солдатам… — Аттал — имя нескольких царей Пергама (см. примеч. к с. 100); здесь имеется в виду Аттал II (правил в 160–139 гг. до н. э.).
… Полибий застал их играющими в кости на творении Аристида. — Полибий (ок. 200 — ок. 120 до н. э.) — греческий историк и государственный деятель, один из руководителей Ахейского союза (см. примеч. к с. 316); после Третьей Македонской войны, в которой Ахейский союз не принял участия, был все же отправлен заложником в Рим. Там он сблизился с образованными и влиятельными римлянами и начал писать "Всемирную историю" (частично дошла до нас), охватывавшую события в Малой Азии, Греции, Македонии, Риме и других странах с 280 по 146 гг. до н. э. (упомянутый эпизод в этой книге и изложен: XXXIX, 13, 3); стал сторонником проримской ориентации греческих полисов, но всячески старался смягчить положение побежденных (за это коринфяне поставили ему статую). Здесь имеется в виду художник Аристид Старший (IV в. до н. э.); до нас дошло описание только одной его картины: изображена умирающая на поле битвы мать, к груди которой припал младенец.
… Восемьдесят лет спустя Юлий Цезарь выстроил город заново… — Цезарь дал указание отстроить Коринф (см. примеч. к с. 316) сто лет спустя после его разрушения, а не восемьдесят.
… римский проконсул объявил о проведении с десятого мая в Коринфе Немейских, Истмийских и Флоралийских игр… — После прихода к власти Август присвоил себе должность "постоянного проконсула" (о проконсулах см. примеч. к с. 37) и разделил провинции на две группы: императорские — там находились войска, оттуда доходы шли в собственную казну императора (фиск), и он правил там через назначенных им на неопределенный срок наместников (легатов); и сенатские, где войск не было, доходы поступали в сенатскую казну (эрарий) и власть осуществляли по-прежнему проконсулы (консулы уже, впрочем, не избирались народом, а назначались формально сенатом, фактически же — императором). Ахайя была сенатской провинцией.
Немейские игры — общегреческие игры, проводившиеся с VI в. до н. э. в Немейской долине в Арголиде (северо-восточный Пелопоннес); включали спортивные и музыкальные состязания.
Об Истмийских играх см. примеч. к с. 315.
Флоралии — римские празднества в честь богини Флоры; по преданию, учреждены в VIII в. до н. э., но известны лишь с 173 г. до н. э.; представляли собой веселый, даже разнузданный праздник, в котором состязания играли не главную роль.
… коснулось берега, который некогда оспаривали влюбленные в него Аполлон и Нептун. — См. примеч. к с. 315.
Хламида — здесь: плащ из плотной шерстяной материи, надеваемый поверх хитона; одежда солдат и путешественников.
440… мы прибыли сюда в девятый день нон… — В римском календаре ноны — седьмой день марта, мая, июля и октября и пятый день остальных месяцев.
… слова, произнесенные на ионийском наречии… — В Древней Элладе существовало несколько диалектов; основными из них были ионийский, распространенный в Малой Азии и в Аттике, эолийский — в Средней Греции, дорийский (спартанский) и ахейский. В основу литературного языка был положен аттический говор ионийского диалекта.
… вот померанец, яблоня Гесперид, золотые плоды которых даровали победу Гиппомену, замедлив бег Аталанты… — Весьма распространенный анахронизм. Померанцы — апельсины — не были известны в Европе в древности и появились лишь в эпоху крестовых походов (XI–XIII вв.).
Передавая предание об Аталанте, Дюма смешивает два мифа. Дочь аркадского (Аркадия — область в центре Пелопоннеса) героя Иаса (называются и другие имена) Аталанта славилась быстротой ног. Не желая выходить замуж, она заявила, что отдаст руку тому, кто победит ее в беге. Это удалось Гиппомену (вариант: Меланиону), который на бегу разбрасывал золотые яблоки, подаренные ему Афродитой; Аталанта замедляла бег, подбирая их, и проиграла состязание. Однако в дошедших до нас текстах ничего не говорится о том, что это были именно те, дарующие вечную молодость золотые яблоки, которые росли на далеком западе в саду, охраняемом драконом и нимфами Гесперидами.
442… будем молить Кастора и Поллукса быть к нему благосклонны ми… — Эти неразлучные братья (см. примеч. к с. 364) были гордостью Спарты: Кастор был знаменит как воин и укротитель лошадей, а Полидевк был непревзойденным кулачным бойцом; оба завоевывали призы на Олимпийских играх.
… А ты, девушка, не их ли сестра, не Елена? — Имеется в виду дочь Зевса и спартанской царицы Леды, сестра Кастора и Поллукса, жена царя Спарты Менелая, виновница Троянской войны Елена Прекрасная.
… Венера открыла эту тайну Парису, а Парис доверил ее тебе. — Парис — троянский царевич, похитивший Елену.
Гимнасий (от гр. gymnos — "обнаженный") — в античном мире помещение для физических упражнений; греки занимались спортом обнаженными (отсюда и название).
443… превратила Пирену в источник… — Миф изложен здесь неточно (см. примеч. к с. 315).
… создателем этих барельефов был Лисипп, ученик Фидия. — Лисипп (изв. во второй пол. VI в. до н. э.), придворный скульптор Александра Македонского, не мог быть учеником Фидия, жившего веком ранее… Это сражение Улисса с искателями руки Пенелопы… — См. примеч. к с. 57.
Атрий — см. примеч. к с. 12.
444… Меркурий, покровитель путешественников… — См. примеч. к с. 316… египетские папирусы… ливийские изделия из слоновой кости, киренские кожи, ладан и мирра из Сирии, карфагенские ковры, сидонские финики, тирский пурпур, фригийские рабы, кони из Селинунта, мечи кельтиберов, галльские кораллы и карбункулы. — Дюма заимствует приведенный список товаров из дошедшего до нас отрывка комедии афинского драматурга Гермиппа, а реалии V в. до н. э., времени Гермиппа, и I в. н. э., когда происходит действие "Акгеи", не совпадали. Так, Карфагена (см. примеч. к с. 77) как отдельного государства уже не существовало: в результате Второй Пунической войны он был в 146 г. до н. э. разрушен, его население было частью перебито, частью продано в рабство, и искусство ковроткачества пришло в упадок. Ливией в античности называли не только территорию, где находится ныне одноименное государство, но и всю Африку.
Кирена — см. примеч. к с. 284; главными продуктами экспорта оттуда были хлеб (климат там был тогда не столь засушливый, как ныне), лекарственное растение сильфий и бычьи кожи.
Мирра — см. примеч. к с. 287.
Сидон, Тир — см. примеч. к с. 77.
Фригия — см. примеч. к с. 197.
Селинунт — см. примеч. к с. 107.
Кельтиберы — обитатели Центральной и Западной Испании, образовавшиеся из смешения аборигенов-иберов и пришедших с севера во II тыс. до н. э. кельтских племен (ветвями кельтов были галлы и бритты); кельты и кельтиберы на Пиренейском полуострове после римского завоевания III–I вв. до н. э. растворились среди других народов, а потомки собственно иберов — баски — живут на севере Испании и юго-западе Франции доныне.
Карбункулы — драгоценный камень: красный гранат.
… миновали площадь, где некогда возвышалась статуя Минервы — дивное творение Фидия… — Неизвестно, то ли ее увез Муммий, то ли она сгорела.
… гость, которого посылает нам Юпитер. — См. примеч. к с. 321.
… возлежали в триклинии за празднично накрытым столом… — Триклиний — обеденный зал у греков и римлян. Название произведено от особой столовой мебели, также называвшейся триклиний (гр. tri kline — "три ложа"): столик, на который ставилась посуда, и три ложа с трех сторон этого столика (в античности сотрапезники возлежали); четвертая сторона оставалась свободной, чтобы мог подойти раб, разносящий кушанья и напитки.
… готовились бросить жребий, кому быть царем пира. — На античных застольях был обычай выбирать "царя" пира. Этот царь должен был, в частности, определять, сколько чаш вина надо выпить гостям. Выбор часто осуществлялся бросанием игральных костей.
… хозяева велели принести тали. — В античности употреблялись игральные кости двух видов: тессеры, во всем подобные современным, и тали (ед. ч. талус), у которых две грани были пустые, а на четырех остальных были нанесены греческие буквы, имевшие числовое значение. В игре участвовало от двух до шести костей; сочетания выпавших букв могли носить имена богов, предметов и известных гетер.
445… это был "бросок Венеры", лучший из возможных. — Так назывался такой бросок костей, когда их верхние грани показывают разные количества очков.
… Милон Кротонский на Пифийских играх был награжден шестью венками… — Вошедший в легенды знаменитый атлет из греческой колонии Кротон в Южной Италии многократно (в 532–516 гг. до н. э.) побеждал на Олимпийских, а также Пифийских играх (вторых по значимости играх в Древней Элладе, посвященных Аполлону и проводившихся в Дельфах раз в четыре года с VI в. до н. э.; основанные еще в VIII в. до н. э., проводились тогда раз в 8 лет; согласно мифам, были учреждены самим Аполлоном в память победы над чудовищным змеем Пифоном). До VI в. до н. э. Пифийские игры были исключительно музыкальными соревнованиями, а с VI в. до н. э. также и спортивными. Участие в подобных состязаниях считалось в Греции делом чести: победители получали не денежные награды, а венки из дубовых или лавровых листьев за победы в различных видах спорта: борьбе, бегу, прыжкам, метанию копья, диска и т. д… афинянин Алкивиад выставил на Олимпийских играх семь колесниц и завоевал четыре награды… — Алкивиад (ок. 450–404 до н. э.) — афинский политический деятель, полководец; во время борьбы Афин со Спартой переходил на сторону противника и обратно; известен как ученик Сократа; славился своим экстравагантным поведением, рассчитанным на то, что сегодня назвали бы политической рекламой. К этой же рекламе относилось и его участие в Олимпийских играх: в Греции почетные награды получали не только непосредственные участники состязаний, но и те, кто за свой счет снаряжал атлетов и возниц.
… Рим начиная с Цицерона посылал к нам своих сынов, чтобы отнимать у нас все наши награды… — Здесь имеются в виду не спортивные победы. Греция считалась отечеством непревзойденного ораторского искусства, но сами же греки признали, что Цицерон, занимавшийся сначала у греческих мастеров красноречия в Риме, а в 79–77 гг. до н. э. обучавшийся этому ремеслу в Элладе, превзошел своих учителей.
… Луций занял консульское место… — На каждом из лож триклиния было по три места (по высоте), и эти места различались как более или менее почетные. "Консульским" называлось почетное последнее место на среднем ложе.
… число сотрапезников, если верить одному из наших поэтов, должно быть не менее числа граций, но и не должно превосходить число муз. — Вероятно, имеется в виду Гораций.
О трех грациях см. примеч. к с. 345.
Число муз (см. примеч. к с. 14) — девять.
446 Остия — см. примеч. к с. 29.
Цезарь — здесь: император Цезарь Нерон.
… затворил врата в храме Януса… — Янус — римский бог входов и выходов, ворот и дверей и всякого начала; изображался с двумя лицами: одно из них смотрит в прошлое, другое — в будущее (выражение "двуликий Янус" как обозначение нравственного двуличия — новоевропейского, а не античного происхождения). В особой, посвященной Янусу бронзовой арке в Риме были навешены ворота, которые высшее должностное лицо (сначала это был царь, затем — консул, потом — император) отворял во время войн и затворял при установлении мира.
… он надел тогу совершеннолетнего на похоронах Британика… — Обряд совершеннолетия свободного римлянина состоял, кроме прочего, в том, что достигший 16 лет юноша посвящал домашним богам свою детскую тогу — у знати она была окаймлена алой полосой — и надевал тогу взрослого. Нерон провел этот обряд в возрасте 14 лет, в 51 г. (т. е. до смерти Британика — см. след, примеч.), с разрешения Клавдия и по наущению своей матери, Агриппины (см. примеч. к с. 198), жены Клавдия.
… Британик давно уже был приговорен к смерти Агриппиной. — У Клавдия от Мессалины (см. след, примеч.) был сын, Клавдий Тиберий Германик (ок. 42–55), получивший прозвище Британик, т. е. Британский, в честь побед (на самом деле вымышленных) Клавдия в Британии. Вслед за женитьбой на Агриппине Клавдий усыновил Нерона, и у него оказалось сразу два законных наследника. После смерти Клавдия Агриппина добилась провозглашения императором Нерона, но Британик сохранил права на наследство. Отношения Нерона с матерью постепенно портились, и однажды она в гневе заявила сыну, что, кроме него, есть еще и Британик. Опасаясь сводного брата, которому должно было исполниться 14 лет (а прецедент провозглашения 14-летнего совершеннолетним уже был), Нерон решил отравить его. Ниже (см. сс. 491–492 настоящего романа) Дюма излагает подробности этого отравления, следуя Тациту (см. примеч. к с. 74).
… Мессалина послала солдата убить Нерона в колыбели… — Мессалина (ок. 23–48) — третья жена императора Клавдия; снискала репутацию распутной, властной, коварной и жестокой женщины; была казнена с молчаливого согласия Клавдия за участие в заговоре против него.
Упомянутый эпизод скорее всего вымысел, распространявшийся Агриппиной с целью вызвать сочувствие к юному Нерону.
… из постели ребенка выползли две змеи и обратили центуриона в бегство. — Если верить Светонию (см. примеч. к с. 16), слух о том, что на центуриона напала змея (Светоний пишет только об одной), возник не случайно, поскольку около колыбели Нерона нашли сброшенную змеиную кожу, из которой он впоследствии сделал амулет… Нерон не дурак, как Клавдий… — Разговоры о глупости Клавдия (см. примем, к с. 8) распространялись Нероном и его окружением. На самом деле Клавдий, робкий, нерешительный и не обладавший государственным умом человек, был весьма образован и являлся, насколько можно судить, ибо его труды не дошли до нас, весьма способным историком.
… не безумец, как Калигула… — См. примем, к с. 8.
… не трус, как Тиберий… — См. примем, к с. 8.
… не гистрион, как Август. — Гистрион — актер в Древнем Риме. Август (см. примем, к с. 9) всю жизнь, с юных лет заботился только о власти и никому, никогда и ни при каких обстоятельствах не открывал своих подлинных мыслей и говорил и делал то и только то, что требовалось обстоятельствами; даже с женой он разговаривал лишь по заранее подготовленному конспекту.
447… разве не забавен бог Октавиан, который боялся жары и холода, боялся грома и явился из Аполлонии к старым легионам Цезаря, хромая, точно Вулкан! — Октавиан был физически слабым, болезненным человеком и, видимо, страдал каким-то заболеванием левой ноги, из-за чего слегка прихрамывал, отсюда и сравнение с Вулканом, греческим Гефестом (см. примем, к с. 401), который дважды — отцом Зевсом и матерью Герой — за непочтительность сбрасывался с небес на землю, отчего охромел на обе ноги; Октавиан не обладал военным мужеством, но в стремлении к власти проявлял немалую крепость духа. В 44 г. до н. э. Август — тогда еще Гай Октавий Фурин, — находясь в Аполлонии Иллирийской (см. примем, к с. 132), узнал об убийстве Цезаря и о завещании, в котором тот его усыновлял. Мать рекомендовала ему отказаться от опасного наследства, а находившиеся в Греции войска Цезаря советовали принять его. Октавий отправился в Италию, но не в Брундизий, главный порт, в который обычно прибывали корабли из Греции, а в небольшой городок Лупин. Там он собрал сведения о политическом положении в Риме и отправился в Брундизий, где стояли войска, и перед ними и с их одобрения объявил себя наследником Цезаря, приняв имя Гай Юлий Цезарь Октавиан.
… перед смертью спросил, хорошо ли он сыграл свою роль! — См. примем. к с. 17.
… Разве не забавен бог Тиберий с его капрейским Олимпом… — Затворившись на острове Капрее (см. примем, к с. 132), Тиберий требовал, чтобы осужденных доставляли к нему и жестоко пытали перед казнью.
… сидел… между Фрасиллом, заботившимся о его душе, и Хариклом, управлявшим его телом! — Около Тиберия находилось весьма немного людей, которым он доверял, и среди них — астролог Фрасилл и личный врач Харикл.
… Разве не забавен бог Калигула, кто от выпитого зелья помрачился в уме… — По преданию, жена Калигулы Цезония дала ему напиток, который должен был вызвать любовь к ней, но возбудил безумие (см. примем, к с. 494).
…он считал себя столь же великим, как Ксеркс, оттого что выстроил мост из Путеол в Байи… — Помимо явного садизма, в Калигуле была и мания величия. Он приказал перекрыть в Южной Италии залив между приморскими городами Байи (см. примем, к с. 480) и Путеолы (см. там же) плотным рядом судов, проложить на них мостики и все это засыпать землей. Современники объясняли такой экстравагантный поступок по-разному. По одной версии, Калигула хотел превзойти персидского царя Ксеркса, который построил во время похода на Грецию через Геллеспонт понтонный мост длиной в 2 км (см. примем, к с. 356): залив между Байями и Путеолами шириной 3,6 км. По другой версии, Калигула хотел опровергнуть астролога Фрасилла, заявлявшего, что Калигула скорее проскачет на коне Байский залив, чем станет императором.
… и столь же могущественным, как Юпитер, оттого что изображал грозу, катаясь в бронзовой колеснице по медному мосту… — Калигула требовал себе божеских почестей и объявил себя Юпитером Громовержцем.
… кто называл себя женихом Луны… — Калигула публично обращался к Луне, призывая ее разделить с ним ложе.
… и кого Херея и Сабин двадцатью ударами меча послали справлять свадьбу на небо! — Сумасшедший император был убит двумя трибунами (здесь: офицерами среднего ранга) преторианцев — Кассием Хереей и Корнелием Сабином. По одним сведениям, Херея ударил Калигулу мечом в затылок, а Сабин — в грудь; по другой — с Сабином и Хереей было еще несколько центурионов, и всего они нанесли Калигуле около 30 ударов. Заговорщики убили также жену Калигулы Цезонию и их двухлетнюю дочь Юлию Друзиллу. Херея и Сабин были казнены после воцарения Клавдия.
… Разве не забавен бог Клавдий, кого однажды искали на троне, а нашли за ковром… — Клавдий в царствования Тиберия и Калигулы, боясь этих подозрительных правителей, старался держаться как можно незаметнее и вообще не отличался храбростью. Во время убийства Калигулы он спрятался за занавеской и был обнаружен солдатом, который неожиданно для Клавдия приветствовал его как императора и отвел в лагерь преторианцев. Дело в том, что армия не относилась к Калигуле с такой ненавистью, как сенат и значительная часть жителей Рима, и заговор был делом узкого круга офицеров. После гибели Калигулы сенат собирался провозгласить республику, но римская чернь и войско были против и утвердили на престоле Клавдия, брата некогда весьма популярного в народе и армии Германика (см. примеч. к с. 8). Клавдий был человек нежестокий и крайне нерешительный, он не вызывал страха и потому возбуждал презрение.
… раб и игрушка четырех жен, самолично подписавший брачный договор своей супруги Мессалины со своим же вольноотпущенником Силием! — Клавдий был женат четырежды, с первыми двумя женами (Плавтией Ургуланиллой и Элией Петиной) развелся, третьей была Мессалина, четвертой — Агриппина.
Мессалина при живом муже совершила брачный обряд с Гаем Силием (ум. в 48 г.), который был не вольноотпущенником, а человеком знатным, красавцем, сенатором и консулом, но Клавдий ничего не знал об этом, не желал знать (даже будучи осведомленным обо всем, понимая, что за этим кроется заговор против него, он никак не хотел отдавать никаких указаний, и приближенные Клавдия взяли на себя труд схватить и казнить Мессалину и ее любовника, причем сообщили императору лишь о ее смерти, не добавив, что она была насильственной), и никакого брачного договора не подписывал… Потешный бог, у кого при каждом шаге подгибались колени, при каждом слове шла пена изо рта, у кого запинался язык и тряслась голова! — Сведения о внешности Клавдия не слишком достоверны; злые языки, особенно сам Нерон, явно преувеличивали его безобразие, хотя будущий император с детства был болезненным и не мог похвалиться особой красотой.
… умер, поев грибов, собранных Галотом, очищенных Агриппиной и приправленных Локустой! — Насколько известно, Агриппина, четвертая жена (и одновременно племянница) Клавдия, желая доставить престол своему сыну Нерону, отравила мужа при помощи грибов, причем помогали ей в этом приближенный евнух императора Галот и знаменитая отравительница Локуста (она же приготовит яд, которым отравят Британика).
… рядом с возницей Кастором и кифаредом Аполлоном… — Кастор (см. примеч. к с. 364) славился в античности как непревзойденный укротитель коней, а Аполлон считался покровителем искусств и изображался с кифарой.
… явился посланный от проконсула Гнея Лентула… — Гней Лентул — вымышленный персонаж: ни один из исторических деятелей по имени Гней Корнелий Лентул не занимал в указанном 57 г. должность проконсула Ахайи.
Ликтор — см. примеч. к с. 103.
… приказывал ему явиться во дворец префекта… — Префект — здесь: проконсул.
448… нацарапал острием стилета несколько строк… — Неточность: стилет — небольшой тонкий кинжал. Здесь имеется в виду стиль (стилос) — остроконечная палочка, чаще всего металлическая, с шариком на обратном конце. Для заметок, набросков древние использовали таблички, сделанные из дерева или слоновой кости, с невысокими бортиками по краям. Пространство между бортиками заполнялось воском; острым концом стиля писали текст, шариком — стирали. Иногда таблички соединяли в некое подобие записной книжки или блокнота.
… узнаю скрип фасций. — См. примеч. к с. 103.
Перистиль — см. примеч. к с. 111.
449… быть может, она… жрица Минервы, Дианы или Весты… — О Минерве см. примеч к с. 211; о Диане — к с. 54; о Весте — к с. 37.
… Коринф — город гетер…их заступничество спасло город от нашествия Ксеркса… — См. примеч. к с. 315.
… афиняне написали портреты своих полководцев после Марафонской, битвы… — О Марафонской битве см. примеч. к с. 316.
… мы покупаем их в Византии, на островах Архипелага и даже в Сицилии. — Византий — город на европейском берегу Босфора Фракийского (ныне — Босфорский пролив), основанный в первой половине VII в. до н. э. выходцами из Мегар (см. примем, к с. 337). В 324 г. император Константин I Равноапостольный (см. примем, к с. 7) повелел воздвигнуть на месте Византия город, ставший в 330 г. новой столицей Империи. Следует отметить, что новая столица до последних своих дней официально именовалась Новым Римом, в поэзии и нередко в быту — градом Константина (Константинополем) или Царствующим Городом (ср. рус. Царьград), но никогда — Византием. Название "Византийская империя" изобретено историками XVIII в., чтобы отличать "хорошую" древнюю Римскую империю от "плохой" средневековой.
Архипелагом в древности именовали острова Эгейского моря.
… могилу детей Медеи… — См. примем, к с. 194.
… место, где некогда Беллерофонт получил в дар от Минервы коня Пегаса. — См. примем, к с. 316.
450… Солнца, бога, которого первым стали почитать в Коринфе. — В
отличие от многих народов мира, греки и римляне большую часть своей истории (до начала активного воздействия восточной культуры в Греции в III в. до н. э., в Риме — во II в. н. э.) не имели развитого культа солнечных божеств. Бог Солнца Гелиос почитался мало в сравнении с другими божествами. В Коринфе его культ был связан скорее с почитанием его внучки, Медеи, которая после убийства детей улетела из Коринфа на колеснице Гелиоса.
… казалась Венерой, ведущей Энея по дороге в Карфаген… — Сцена из Вергилия: мать Энея, богиня Венера, приняв облик прекрасной девы-охотницы, провожает сына, высадившегося на незнакомом и безлюдном побережье, в Карфаген, по дороге рассказывая историю города и его царицы Дидоны ("Энеида", I, 314–405).
Сунийский мыс — см. примем, к с. 320.
Саронийский залив — см. примем, к с. 315.
… Соломин, где сражался Эсхил и где Ксеркс потерпел поражение…. — Эсхил (см. примем, к с. 323) принимал участие в битвах при Марафоне и Саламине (см. примем, к с. 316).
… Немея и лес, где Геркулес убил льва… — См. примем, к с. 327.
… Эпидавр, любезный Эскулапу… — Одним из самых почитаемых храмов бога врачевания Асклепия (рим. Эскулапа) был храм в городе Эпидавре на южном берегу Саронийского залива, к юго-востоку от Коринфа; именно оттуда была привезена змея (священное животное Асклепия), которую выпустили в основанном на одном из островов Тибра храме Эскулапа.
… Аргос, родина царя царей. — Царем царей в Элладе именовали Агамемнона, предводителя объединенных греческих войск в Троянской войне, но он был уроженцем (и царем) не Аргоса (расположенного к юго-западу от Коринфа), а Микен. Аргос был местом сбора войск, и поэтому у Гомера греки именуются также аргивянами.
Сикион — см. примем, к с. 337.
… на небосклоне виднеются, словно два завитка дыма, Сама и Итака… — Здесь Сама — это остров Кефалления (см. примем, к с. 438); так его именует Гомер.
Итака — см. примем, к с. 340.
… гора Киферон, где бросили на погибель новорожденного Эдипа… — См. примеч. к с. 354.
… Левктры, где Эпаминонд разбил лакедемонян… — См. примеч. к с. 316.
… Ллатеи, где Аристид и Лавсаний победили персов… — См. примеч. к с. 316.
451 Аттика — см. примеч. к с. 48.
Этолия — гористая местность в центральной части Греции, на северном берегу Коринфского залива.
Геликон — см. примеч. к с. 344.
Парнас — см. примеч. к с. 365.
Архипелаг — см. примеч. к с. 449.
Крисейский залив — см. примеч. к с. 329.
Лехея — см. примеч. к с. 321.
452… готов был бы сразиться со всеми чудовищами, которых победили Тесей, Геркулес и Кадм. — О подвигах Тесея см. примеч. к с. 194; Геркулеса — к с. 364; Кадма — к с. 355.
… встретили раба-нубийца… — См. примеч. к с. 13.
454 Ариадна — по греческим преданиям, дочь критского царя Миноса, влюбленная в Тесея; дала ему волшебную нить, благодаря которой он смог, победив Минотавра, выбраться из Лабиринта (см. примеч. к с. 194). Ариадна бежала с Тесеем, но тот, несмотря на свое обещание жениться на ней, покинул ее в пути. В дальнейшем Ариадну похитил влюбленный в нее Дионис и справил с ней пышную свадьбу. Вестибул — передняя в римском доме.
Кубикуларий (от лат. cubicula — "спальня") — спальник, слуга, провожающий гостей в спальню и готовящий постели.
455 Вомитории — выходы из античных амфитеатров: театральных зданий, цирков.
Веларий — см. примеч. к с. 346.
Сибарит — см. примеч. к с. 107.
… при виде этих двух Менехмов. — Менехмы — герои одноименной комедии римского драматурга Тита Макция Плавта (ок. 255 — 184 до н. э.) — два неразличимых близнеца.
457… подобные Кастору и Поллуксу… — См. примеч. к с. 364.
… два самых прекрасных типа античности — Геркулеса и Антиноя. — В античном искусстве Геракл изображался как мужчина средних лет, атлетического, тяжелого телосложения.
Антиной — один из женихов Пенелопы (см. примеч. к с. 57), самый знатный и самый сильный из них, первым убитый Одиссеем; изображался стройным сильным красавцем.
459… был собран на берегах Хрисорроэса… — Хрисорроэс, т. е. "златотекучий" — не название реки, а поэтическое наименование горы Тмол в Лидии (на западе Малой Азии). См. также примеч. к с. 318.
460… греки как будто вновь уидели борьбу Геракла с Антеем… — См. примеч. к с. 70.
… на этот раз Лаокоон поборол змея. — Согласно греческим мифам, троянский прорицатель Лаокоон, предупреждая соотечественников от коварства врага, уговаривал троянцев не ввозить в город огромного деревянного коня, оставленного близ Трои якобы отбывшими ахейцами (по совету хитроумного Одиссея греки изобразили мнимое отступление, но остались неподалеку, а внутри коня спрятали отряд, который должен был ночью открыть ворота Трои). Поскольку боги решили отдать победу грекам, они наслали на Лаокоона двух змей, задушивших его и его сыновей. По другой, менее известной версии мифа, этих змей послал Аполлон, поскольку Лаокоон, его жрец, дал обет безбрачия и нарушил его, не только вступив в брак и родив сыновей, но и сойдясь с женой в храме Аполлона. В этом варианте мифа гибнут только дети, а сам Лаокоон остается в живых, чтобы до конца дней оплакивать свою судьбу.
461… с уст готовы были сорваться имена Тесея и Пирифоя… — См. примеч. к с. 364.
462 Ристания — конные состязания.
… у Лехейских ворот, то есть в восточной части города… — Лехейскими назывались западные ворота Коринфа (см. примеч. к с. 437); восточные назывались Кенхрейскими, и здесь, судя по тексту, о них и идет речь.
… откуда открывался вид на крисейскую гавань. — Скорее всего имеется в виду западная, Лехейская гавань Коринфа.
… что соответствовало четырем часам дня по римскому отсчету времени… — См. примеч. к с. 111.
Чепрак — см. примеч. к с. 7.
Квадрига — беговая колесница с четырьмя запряженными в один ряд конями; применялась первоначально как боевая колесница, а с VII в. до н. э. — лишь для спортивных состязаний, приобретая одновременно значение почетной колесницы.
Фессалия — см. примеч. к с. 105.
Ахилл — см. примеч. к с. 89.
… афинянин, утверждавший, что он потомок Алкивиада… — См. примеч. к с. 445.
… голова у него, как у сынов Измаила, была повязана белым тюрбаном… — Согласно Библии, Измаил, сын праотца Авраама и рабыни Агари, был изгнан вместе с матерью своим отцом по наущению жены последнего, Сарры (но и по указанию ангела Господня), за насмешки над Исааком, законным сыном Авраама и Сарры. Агарь с отроком ушла в пустыню, где им явился ангел и сообщил волю Бога: он произведет от Измаила великий народ (Бытие, 17: 20). Потомками Измаила считаются арабы.
… словно снег на вершине Синая… — Вершина Синая имеет высоту 2228 м.
… арфисты и флейтисты, одетые сатирами и силенами… — Силены — первоначально, как и сатиры (см. примеч. к с. 318), — демоны плодородия; позднее считались реально существовавшими чудовищами, весьма схожими с сатирами, но отличавшиеся толстыми губами, глазами навыкате и страстью к вину. Сатиры и силены входили в свиту Диониса.
… сопровождаемые всадниками и патрициями… — Всадники — см. примем, к с. 36. Под патрициями здесь понимаются сенаторы (см. там же).
463 Ступня — см. примем, к с. 17.
"Спина" (лат. spina) — "шип", "кость" и "позвоночный столб", "хребет".
… возницы оделись в цвета различных партий… — В Древнем Риме и средневековой Византии существовали т. н. цирковые партии, или партии ипподрома, нечто вроде спортивных клубов, включавших возниц, служителей ипподромов и болельщиков. Эти партии являлись одновременно некими общественными организациями, обладавшими общей казной, которая расходовалась на совместные трапезы, погребения, помощь неимущим, вдовам и сиротам покойных сочленов и т. п. Партии различались по цвету одежд цирковых возниц: зеленый, синий, белый и красный. Первые две партии — "синие" и "зеленые" были более влиятельны, чем остальные, и конкурировали друг с другом. Поскольку указанные партии являлись немалой общественной силой, власти нередко покровительствовали той или другой.
464 Пульвинары — подушки, на которые помещали фигуры богов. Manna — сигнальное полотнище, сигнальный флаг на ристаниях. Кадуцей — см. примем, к с. 378.
465… они понеслись бы со скоростью самума… — См. примем, к с. 298… от гор Иудеи до Асфальтового озера. — Так называлось в античности Мертвое море (см. примем, к с. 109); в древности с его поверхности собирали асфальт, использовавшийся как вяжущее и клеящее средство.
… фракийские кони… — Фракия — см. примем, к с. 16.
… элидских скакунов… — Элида — область на северо-западе Пелопоннеса.
… в местности, где воспитывал своих коней Ахилл, — между Пенеем и Энипеем. — То есть в Фессалии: Пеней (см. примем, к с. 351) и несущий в него свои воды Энипей (см. примем, к с. 372) — фессалийские реки.
… коней той породы из Мизии, о которых Вергилий рассказывает, что их матерей оплодотворил ветер… — Мизия — см. примем, к с. 89. Здесь имеется в виду миф, изложенный Вергилием (см. примем, к с. 15) в его "Земледельческих стихах":
Грудью встречают Зефира и стоят на утесах высоких,
Ветром летучим полны, — и часто вовсе без мужа Плод зарождается в них от ветра — вымолвить дивно!
("Георгики", III, 273–275. — Перевод С. Шервинского.) Впрочем, Вергилий здесь следует за Гомером:
К ним не раз и Борей разгорался любовью на паствах; Многих из них посещал, набегая конем черногривым;
Все понесли, и двенадцать коней от Борея родили.
("Илиада", XX, 223–225. — Перевод Н.Гнедича.) 468… вручил ему ветвь идумейской пальмы… — См. примем, к с. 78.
… пас стада фессалийского царя Адмета. — См. примем, к с. 55.
… Венера, рожденная в морской пучине и влекомая тритонами к ближнему берегу, вышла на сушу у Гелоса. — Тритоны — см. примеч. к с. 337. Гелос — селение в Лакедемоне, на берегу Лаконского залива, против которого расположен остров Кифера.
… Она сама выбирала места для своих святилищ, и из всех краев предпочла Книд, Пафос, Идалий и Киферу. — О святилищах Афродиты в Книде, Пафосе и на Кифере см. примеч. к с. 337.
Идалий — город в центральной части Кипра, построенный, согласно преданию киприотов, героем Троянской войны Халканором, который основал в своей новой крепости 14 святилищ — Афродите, Афине и другим богам.
… жители Аркадии… утверждали что Юпитер родился на Ликейских горах. — По наиболее распространенной в Элладе версии, Зевс родился в пещере горы Дикта на восточной оконечности Крита; местная аркадская легенда называет местом рождения отца богов и людей (а также бога Пана) горную цепь Ликей в Аркадии (см. примеч. к с. 343).
469… Все вспомнили о судьбе Марсия, состязавшегося с Аполлоном… —
Согласно греческим мифам, сатир Марсий достиг высшего мастерства в игре на флейте и вызвал на состязание Аполлона; Аполлон, играя на кифаре, победил Марсия и содрал с него кожу.
… и Пиэрид, бросивших вызов музам. — По греческому мифу, девять дочерей некоего Пиэра носили те же имена, что и музы; они вызвали муз на состязание, были побеждены и превращены в сорок. Пиэридами греки называли и самих муз, объясняя это тем, что некий выходец из Македонии Пиэр прибыл во Фракию и дал свое имя местности Пиэрия, где обитали музы.
… поэма о Медее, написанная, по слухам, самим императором Цезарем Нероном. — Неронова поэма "Медея" — вымысел Дюма. Существовала трагедия "Медея" (это была классическая "трагедия для чтения", не предназначенная к сценической постановке), написанная философом-стоиком, воспитателем Нерона Луцием Аннеем Сенекой (ок. 4 — 65); впрочем, ряд исследователей считает, что Сенека-трагик не тождествен знаменитому философу.
… колдунья, которую Ясон похитил, привез в Коринф и там покинул… — См. примеч. к с. 194.
… привела к подножию алтаря двух своих сыновей, оставив их под защитой богов, а сама в это время сгубила соперницу отравленной туникой… — См. примеч. к с. 393.
… наподобие той, что была пропитана кровью Несса. — См. примеч. к с. 356.
… коринфяне, возмущенные преступлением матери, вытащили детей из храма и побили их камнями. — По одной, более распространенной версии мифа, Медея сама убила своих сыновей. По другой — она оставила детей молящимися у алтаря Геры, и коринфяне, мстя за убитую царевну Главку, убили их. Гера сочла это святотатством и предала проклятию Коринф.
… С тех пор минуло более пятнадцати веков… — По вычислениям древних, поход аргонавтов, а значит, и встреча Ясона с Медеей произошли поколением раньше Троянской войны, т. е. приблизительно за 13–14 веков до описанных событий.
470… гром, изобретение Клавдия Пульхра… — Публий Клавдий Пульхр, консул 249 г. до н. э., командуя флотом в Первой Пунической войне, желал дать карфагенянам морское сражение при порте Дрепаны (на западе Сицилии, в 25 км к северу от Лилибея). Предзнаменования (в Риме нельзя было ни начать битву, ни провести голосование и т. п. действий без соответствующих гаданий) оказались весьма неблагоприятными: священные куры не желали клевать предназначенную им пищу. По преданию, консул, сказав: "Не желают клевать — пусть пьют", выбросил птиц за борт, начал сражение и проиграл его. Привлеченный к суду за святотатство, он сорвал голосование в народном собрании, имитировав грозу, которая также считалась дурным знамением для принятия решений. В конечном счете он был все же осужден и покончил с собой.
… из настоя киликийского шафрана… — Киликия — см. примеч. к с. 89.
Шафран — растение с подземными клубнями; его цветы дают желтую краску и пряную приправу.
Хорег — состоятельный афинский гражданин, бравший на себя расходы по постановке драмы, содержанию актеров и хора, а также решавший технические и организационные вопросы. Здесь, возможно, просто руководитель хора.
… самый большой звуковой объем человеческого голоса, какой был известен со времен Тимофея. — Тимофей (450—до 360 до н. э.) — греческий музыкант и поэт; по преданию, усовершенствовал семиструнную кифару, сделав ее одиннадцатиструнной.
… Ясон на своем прекрасном корабле "Арго" приплывает к берегам Колхиды и встречает Медею, дочь царя Ээта… — См. примеч. к сс. 366 и 365.
471… для ионийского лада. — Ионийский лад — один из смешанных ладов (см. примеч. к с. 438).
… эфоры сочли их столь пагубно расслабляющими… — Возложенный на спартанских эфоров (см. примеч. к с. 357) контроль за неизменностью лакедомонских законов понимался и как надзор за истинно спартанским, не подверженным чуждым иноземным влияниям образом жизни, — за развлечениями, семейной жизнью, формой бород и мн. др. Исполнение их приговоров предполагало обязательную публичность, даже если это было символическое уничтожение изобретенной Тимофеем кифары.
Спартиаты — см. примеч. к с. 356.
… во времена битвы при Эгоспотамах… — Пелопоннесская война (431–404 до н. э.) между Афинами и Спартой за гегемонию в Элладе закончилась полной победой Спарты, причем решающее морское сражение, в котором афинский флот был практически уничтожен (на протяжении всей войны Спарта господствовала на суше, а Афины — на море) дал в 405 г. до н. э. спартанский военачальник Лисандр (ум. в 395 г. до н. э.) в устье реки Эгоспотамы, протекающей на полуострове Херсонес Фракийский (соврем. Галлипольский полуостров) и впадающей в Геллеспонт (Дарданеллы).
… сбылось пророчество Еврипида. — Вероятно, имеется в виду сцена из трагедии Еврипида (см. примеч. к с. 408) "Троянки": троянская
26-1204 царевна Кассандра после гибели родного города проклинает греков-победителей и сулит им страшные беды в будущем.
… повстречал Медею в храме Гекаты… — О Гекате см. примеч. к с. 392.
… оставил прежнюю лиру и взял лидийскую. — См. примеч. к с. 438… два громадных быка Вулкана с медными рогами и копытами, с огнедышащей пастью. — Чтобы получить руно, Ясон должен был запрячь двух огнедышащих медноногих (!) быков, сотворенных Гефестом (рим. Вулканом), вспахать поле, посвященное Арею (рим. Марсу), а затем засеять его зубами дракона, подаренными Ээту Афиной. Все это ему помогла совершить Медея в обмен на обещание жениться на ней и увезти в Аргос.
Арпан — см. примеч. к с. 28.
472… шкура золотого барана, принадлежавшего Фриксу. — История Фрикса и Геллы, детей царя Афаманта и богини облаков Нефелы, изложена в романе "Исаак Лакедем" (см. с. 365 настоящего издания).
473… чудесный корабль, который на верфях Иолка строила сама Минерва… — См. примеч. к с. 366.
… лишь дорийский лад способен был выразить все ее страдания и всю ее ярость. — Вряд ли с помощью дорийского лада (см. примеч. к с. 438) можно было выразить эти чувства.
… она находит временное убежище у феаков… — Миф об аргонавтах содержит непреодолимое противоречие, связанное с недостаточными географическими знаниями греков в эпоху его создания: отправляясь в Колхиду с восточного побережья Греции, аргонавты в конце путешествия неизвестно каким кружным северным путем приплывают к феакам (см. примеч. к с. 350) — т. е. к острову Керкире, который находится у западного побережья Греции.
… возлюбленный покидает ее, чтобы взять в жены Креусу, дочь царя Эпирского. — Разные источники по-разному именуют дочь коринфского (не эпирского) царя Креонта, из-за которой Ясон бросил Медею: ее называют либо Главка, либо Креуса.
… певец, вслед за Еврипидом, обвинил в убийстве детей их собственную мать… — В трагедии "Медея" Еврипид следует той версии мифа о Медее, согласно которой она сама убивает своих детей.
474 Орхестра — в греческом театре площадка между сценой и сидениями для зрителей, предназначенная для хора.
… может задохнуться под всеми этими венками, словно Тарпея под щитами сабинских воинов. — По римскому преданию, во время войны римлян с сабинянами некий Спурий Тарпей оборонял цитадель Города — Капитолий. Его дочь Тарпея соблазнилась на обещания сабинян подарить ей то, что они носят на левой руке (подразумевались золотые браслеты), и открыла ворота крепости. Войдя в крепость, сабиняне забросали ее щитами, которые они тоже носили на левой руке. (По имени Тарпей римляне назвали известную скалу, с которой сбрасывали преступников.) Существовала, однако, и оправдывающая Тарпею версия: девушка имела в виду именно щиты, надеясь оставить сабинян без оборонительного вооружения, но те разгадали этот замысел и умертвили ее.
… покачалась на гребне волн и пропала, подобно нырнувшему алкиону… — См. примем, к с. 316.
476 Иония — здесь, видимо, Ионическое море с Коринфским заливом… казалось, будто это сирены Палинурского мыса летят над кораблем нового Улисса. — О сиренах и Одиссее (рим. Улиссе) см. примем, к с. 380.
Странствия Одиссея современные ученые помещают в Западное Средиземноморье, но античные мифы не локализуют местопребывание острова сирен, и мыс Палинур на тирренском побережье Южной Италии (к северо-западу от залива Поликастро) в них не упоминается.
479… обогнув Элидский мыс, прошел между Закинфом и Кефалленией… —
Элидский мыс — крайняя западная точка Пелопоннеса; Закинф и Кефалления — острова у выхода из Коринфского залива в Ионическое море.
… аромат розовых садов Сомы… — См. примем, к с. 450.
… чтобы твоя молния не испепелила меня, как случилось с Семелой. — Семела, финикийская царевна, возлюбленная Зевса, мать Диониса, встречалась со своим божественным любовником лишь под покровом ночи. Ревнивая Гера внушила Семеле мысль попросить Зевса явиться ей в подлинном виде. Тот предстал перед Семелой в пламени молний и испепелил ее. Родившегося при этом недоношенного шестимесячного младенца Зевс выхватил из пламени и зашил себе в бедро, откуда и родился Дионис.
… ее мне хватило бы на двенадцать подвигов Геркулеса. — См. примем. к с. 364.
… Локры — город, построенный воинами Аякса. — Л окры — город на юге Италии, на побережье Ионического моря; был основан не ранее VII в. до н. э. выходцами из Локриды в Средней Греции; легендарным царем Локриды был участник Троянской войны (по преданиям, живший где-то за полтысячелетия до основания Локр) Аякс Оилид.
… Мессина, прежде называвшася Занкла… — Мессина — город в Сицилии на берегу Мессинского пролива, отделяющего остров от материка. Первоначально носил название Занкла, но в первой половине V в. до н. э. тиран (единоличный правитель) города Регий Анаксилай захватил Занклу и заселил ее новыми жителями, назвав Мессеной (римляне переделали название в Мессану).
… Регий, у которого тиран Дионисий потребовал себе жену и который предложил ему дочь палача. — Регий (соврем. Реджоди-Калабрия) — город на итальянском берегу Мессинского пролива. В 387 г. до н. э. его взял и разрушил создатель мощного государства на большей части Сицилии и в некоторых областях Южной Италии Дионисий I (или Старший; ок. 422–367 до н. э.), захвативший в 406 г. до н. э. власть в крупнейшем городе Сицилии — Сиракузах. Официально Дионисий именовался стратегом-автократом (т. е. военачальником-самодержцем).
… проплыв между бурлящей Харибдой и лающей Сциллой… — Харибда и Сцилла (см. примем, к с. 69) находились на берегах узкого пролива, не локализованного древними, но начиная с XIX в. отождествлявшегося учеными с Мессинским проливом.
26*
… вошли в Тирренское, освещаемое вулканом Стронгилы… — См. примеч. к с. 340.
480… перед ними вставали сначала Элея: подле нее еще можно было раз глядеть развалины гробницы Палинура… — Палинур — кормчий Энея; был низвергнут с корабля в море и выброшен волнами к гавани греческого поселения Элея (рим. Велия; соврем. Кастеллам-маре ди Велия) в Кампании, к северо-западу от мыса Палинур ("Энеида", V, 840–870; VI, 327–383).
… Неаполис, прекрасный сын Греции, вольноотпущенник Рима… — Неаполис (букв. гр. Новый город) — имеется в виду Неаполь (см. примеч. к с. 10).
… Пестум с его тремя храмами… — Пестум (гр. Посидония) — город на берегу Салернского залива, к югу от Неаполя.
… Капрея с ее двенадцатью дворцами. — О Капрее см. примеч. к с. 132… справа от него находились Геркуланум, Помпеи и Стадия — двадцать лет спустя им предстояло исчезнуть в лавовой могиле… — Геркуланум, Помпеи (см. примеч. к с. 42) и Стабия — города близ Неаполя, погибшие при извержении Везувия в 79 г. н. э.
… Путеолы с их огромным портом… — Путеолы (соврем. Пуццоли) — приморский город в Кампании, вблизи Неаполя, к западу от него; прежде греческая колония Дикеархия; значительный торговый порт древности — с искусственной гаванью, позволявшей принимать большие грузовые корабли.
… Байи, так страшившие Проперция… — Байи — город в Кампании, к западу от Путеол; был известен как курорт с серными источниками; место отдыха римской знати, известное распущенностью нравов, гнездилище пороков.
Секст Проперций (ок. 50–15 до н. э.) — римский поэт, автор элегий, в которых он воспевал древний золотой век с его простотой и чистотой нравов и предрекал будущую гибель Рима от богатства. Дюма, видимо, намекает на строчки Проперция, где поэт говорит о возможности измены его возлюбленной — Коринфии, отдыхающей без него на модном курорте: "Но ведь на Байях всякий соперник страшит" (Элегии, I, И, 18. — Перевод Л. Остроумова).
… Бавлы — их вскоре должно было сделать знаменитым матереубийство Нерона. — Бавлы — селение на берегу Путеоланского залива, между Байями и Мизенами; там располагался императорский дворец… пифийский венок из лавра. — То есть завоеванный на Пифийских играх (см. примеч. к с. 445).
Фунды — город на Аппиевой дороге, в 90 км к северо-западу от Неаполя.
… после африканской войны он был удостоен овации и трех жреческих званий. — Овация — малый триумф в Древнем Риме. Во время овации чествуемый двигался пешком, а не на колеснице. Овация присуждалась за победы, недостаточные для полного триумфа. Так, овацию получил Красе за победу над Спартаком: Красе спас Римское государство, но все же сражался, с точки зрения римлян, не с достойным противником, а с взбунтовавшимися рабами.
… Поговаривали, будто старый Гальба и есть этот потомок. — Гальба, Сервий Сульпиций (5 до н. э. — 69 н. э.) — римский император с 68 г. из старинного патрицианского рода; в 39–41 гг., в должности наместника провинции Верхняя Германия сражался с германскими племенами; в 45–46 гг. был проконсулом провинции Африка (район нынешнего Туниса и Западной Ливии) и укрепил ее, измученную набегами варваров; с 60 г. был наместником провинции Испания Тарраконская (северная, центральная и восточная части Иберийского полуострова); опираясь на испанские легионы, принял участие в восстании против Нерона и после его свержения был провозглашен императором; свергнут восстанием преторианцев, поднятым Отоном; убит на римском Форуме.
В описываемое время сенатору Гальбе было уже за шестьдесят — более чем почтенный возраст по тем временам.
… Ливия так любила его, что завещала ему пятьдесят миллионов сестерциев… — Имеется в виду Ливия Друзилла (57 до н. э. — 29 н. э.), третья жена Августа и мать Тиберия.
481… Однако, поскольку величина дара была обозначена только цифрами, Тиберий сократил его до пятисот тысяч. — Согласно принятой у римлян системе, число 50 000 000 записывалось как |D| с чертой сверху, а 500 000 — как D с чертой сверху. Таким образом, чтобы превратить первое из этих чисел во второе, достаточно было устранить вертикальные черточки по бокам цифры D. Светоний, впрочем, говорит о пяти миллионах.
Насколько известно, даже эти пятьсот тысяч Гальбе не были выплачены.
Сатрап — полновластный наместник персидского царя.
Гора Альбано — см. примеч. к с. 12.
Аппиева дорога — см. примеч. к с. 7.
Калабрия — область на крайнем юге Италии, в "носке" итальянского "сапожка".
Альбано — см. примеч. к с. 18.
482… выделялась древностью могила Аскания… — См. примеч. к с. 19.
… почиталась также гробница Горациев… — По римским преданиям, во время войны Рима с Альба Лонгой при царе Тулле Гостилии (правил в 672–640 гг. до н. э.) командующий альбанскими войсками предложил решить дело поединком. Со стороны римлян были выставлены трое братьев-близнецов Горациев, с альбанской — их двоюродные братья, тоже близнецы, трое Куриациев (матери Горациев и Куриациев также были близнецами). В конце концов двое Горациев пали в сражении, а троих раненых Куриациев сразил последний оставшийся в живых римлянин. После этого Альба Лонга добровольно подчинилась Риму. Сестра Горациев была помолвлена за одного из Куриациев и, узнав о смерти жениха, начала оплакивать его. Тогда Публий Гораций пронзил сестру мечом, заявив, что не следует скорбеть о неприятеле. За убийство римской гражданки Гораций был арестован (по подобному обвинению ему грозила смертная казнь), судим народным собранием и оправдан, как говорит ант тичный историк, "скорее из восхищения доблестью, нежели по справедливости". Общей гробницы Горациев не было — могилы двух убитых в бою Горациев были поставлены на поле боя рядом, трех Куриациев — поодаль, гробница сестры Горациев — на месте ее гибели.
… мавзолей Цецилии Метеллы поражал царственным великолепием. — См. примеч. к с. 34.
… возлежали в носилках… — Средством передвижения знатных римлян были специальные носилки в виде ложа с балдахином; чем большее число рабов несло их, тем престижнее это считалось. По обычаю, носилками могли пользоваться лишь относительно слабые — женщины, старики, больные, тогда как для здоровых и сильных молодых и среднего возраста мужчин это рассматривалось как признак изнеженности. В действительности уже как минимум в I в. до н. э. этот обычай не соблюдался.
Пенула — см. примеч. к с. 13.
… Одним предшествовали нумидийские всадники… — См. примеч. к с. 12… другие пускали впереди свору молосских псов… — См. примеч. к с. 13… копыта у лошадей подкованы серебром… — Ковка лошадей серебряными подковами была признаком демонстративного расточительства, похвальбой богатством не только в Римском государстве, но и в средние века.
… жрецы приносили жертвы Ларам отчизны. — Лары — в римской религии покровители коллективов и их земель; существовали семейные лары, лары сельских общин и римской общины в целом. Культ последних отправлялся особой коллегией жрецов — арвальских братьев, которые здесь и имеются в виду.
Большой цирк — см. примеч. к с. 57.
Велабр — в долине Велабра (см. примеч. к с. 16) были расположены две пары одноименных улиц и площадей, застроенных продуктовыми и гастрономическими лавками: Большой Велабр между Капитолием и Палатином, Малый — у подножья Эсквилина.
Форум — см. примеч. к с. 15.
Священная дорога — улица в Риме, проходившая через Форум, мимо Палатинского холма к Капитолийскому.
Капитолийский холм — см. примеч. к с. 17.
Фламины — в Древнем Риме жрецы важнейших богов. Если название этой жреческой должности приводилось без упоминания божества, то подразумевались фламины Юпитера.
483… два либурнийскихраба… — См. примеч. к с. 13.
… У подножия Капитолия, между Табуларием и храмом Конкордии… — Табуларий — римский государственный архив, располагавшийся в разное время в разных храмах; после пожара Капитолия в 83 г. до н. э. находился в особом здании за храмом Сатурна на Капитолии. Конкордия — римское божество, олицетворявшее согласие между гражданами Рима. Первый храм Конкордии был воздвигнут на Форуме в 387 г. до н. э. в честь примирения патрициев и плебеев. Здесь имеется в виду построенный Цезарем в 44 г. до н. э. на Капитолии храм Согласия в ознаменование окончания гражданских войн. Палатин — самый знаменитый из семи римских холмов и самая древняя часть Рима; здесь находились дворцы императоров, в том числе и Нерона.
… между храмами Фебы и Юпитера Статора… — Феба — иное название богини Дианы; здесь имеется в виду храм Дианы на Авентине.
Храмов Юпитера Статора ("Останавливающего") в Риме было два. Древний, по преданию, дал обет основать еще Ромул, если Юпитер остановит бегущих от сабинян римлян. Вторично тот же обет принес Юпитеру в 294 г. до н. э. консул Марк Атилий Регул в битве с самнитами. Тогда же был воздвигнут храм у северной оконечности Палатинского холма (именно этот храм здесь имеется в виду). Второй храм был построен в 146 г. до н. э. полководцем Квинтом Цецилием Метеллом.
… над улицей Субура и Новой дорогой. — См. примеч. к сс. 16 и 7.
484… источника Ютурны… — См. примеч. к с. 101.
Янитор — привратник в Древнем Риме.
485 Тепидарий — в римских банях теплое помещение, где не мылись, а только прогревались.
… они пели о том, как Гилас ходил за водой на троадских берегах… — Легенду о Гиласе см. роман "Исаак Лакедем" (сс. 366–367 настоящего тома).
… нимфы реки Асканий манили к себе любимца Геракла… — Гилас исчез в реке Асканий, впадающей в Мраморное море.
486 Кальдарий — в римских банях горячее отделение, где мылись в горячей воде и обмывались горячим душем.
488… массаж — приятный обычай, который обитатели Востока заимствовали у рим/гян… — Массаж был с древности известен в Индии и в Китае — задолго до римлян, которые сами заимствовали его у греков (в V в. до н. э. лечебный массаж описывал основатель медицины Гиппократ, но неизвестно, было ли это его собственное открытие или сведения о массаже пришли с Востока. Приемы массажа жители Ближнего Востока восприняли у грекоязычных подданных востока Римской империи, а в Европе это было прочно забыто; увлечение массажом начинается в 60-е гг. XIX в., так что для Дюма в массаже было нечто экзотическое.
Муслин — см. примеч. к с. 335.
489 Стола — см. примеч. к с. 13.
490… Луций был рожден вдали от трона: он приблизился к нему благодаря брачному союзу и взошел на него в результате преступления. — Луций Домиций Агенобарб, будущий император Нерон, по отцовской линии не принадлежал к правящему роду (однако мать его — Агриппина — была сестрой Калигулы, племянницей Клавдия и даже правнучкой по женской линии самого Августа); наследником трона оказался благодаря браку Агриппины и Клавдия, а своему — с Октавией, дочерью Клавдия от первого брака; императором стал вследствие убийства Клавдия и Британика.
… прах Британика занял место рядом с прахом Клавдия, и на этот раз убийцей был Нерон. — См. примеч. к с. 446.
491… Энний, древний наш поэт, вложил в уста Астианакса… — Квинт Энний (239–169 до н. э.) — римский поэт, автор исторического эпоса "Анналы", не дошедшего до нас, и 22 драм, от которых сохранились лишь незначительные отрывки. Одна из них, повторяющая сюжет "Троянок" Еврипида, посвящена горестной судьбе Астианакса, сына Приама и брата Гектора. Этот малютка, получивший при рождении имя Скамандрий, но из уважения к брату прозванный Астианакс ("Владыка города"), был после взятия ахейцами Трои приговорен к смерти и сброшен с городской стены.
Поллион Юлий (правильнее: Юлий Поллион) — трибун преторианской когорты.
492 Марсово поле — см. примем, к с. 14.
… Но Бурр! Но Сенека! — По предложению Агриппины воспитанием юного Нерона занимались префект претория (см. примем, к с. 434) еще при Клавдии (и сохранивший первое время эту должность при Нероне) известный юрист Секст Афраний Бурр (ум. в 62 г.) и знаменитый философ Луций Анней Сенека (см. примем, к с. 469). После восшествия Нерона на престол они во многом определяли политику страны, но молодой император стремился освободиться от их опеки. В 62 г. Бурр умер (или был убит?), а Сенека отошел отдел. Позднее близкий друг Нерона сенатор Гай Кальпурний Пизон (ум. в 65 г.) организовал заговор против императора, заговор был раскрыт, репрессии обрушились на заговорщиков. Неясно, был ли действительно в их числе Сенека, но Нерон заподозрил его и приказал ему покончить с собой.
… Нерон стал настоящим сыном Агенобарбов, достойным потомком этого племени людей с медной бородой, железным лицом и свинцовым сердцем. — Агенобарб значит "рыжебородый". "Человеком с медной бородой, языком <не лицом! — Комм.> из железа и сердцем из свинца" был прозван прапрапрадед Нерона, Гней Домиций Агенобарб, консул 122 г. до н. э.
… он развелся с Октавией, которой был обязан троном… — Октавия (42–62) — дочь императора Клавдия и Мессалины; в 53 г. вышла замуж за Нерона, который развелся с ней в 62 г. и сослал; в том же году по его приказу она была убита.
… и сослал ее в Кампанию… — Кампания — область на юго-западе Италии; главный город — Неаполь; считалась самой благодатной землей на Апеннинском полуострове.
… в колпаке вольноотпущенника. — В Древнем Риме, когда отпускали раба на волю, на него надевали особый, т. н. фригийский колпак с загнутым верхом, но это не означало, что надо было постоянно его носить.
Мульвиев мост — самый северный из римских мостов через Тибр, место кабаков и притонов; через него идет Фламиниева дорога в Этрурию.
… под кимвал жреца Кибелы… — Кимвал — см. примеч. к с. 82. Участие в обрядах восточных культов, например богини Кибелы (см. примеч. к с. 432), считалось неподобающим для римлянина.
493… возвращается в свой Золотой дворец… — Одержимый манией величия, Нерон построил в центре Рима дворец около километра длиной, в вестибюле которого стояла статуя императора высотой 36 м. Дворец сгорел, был перестроен в 64 г. и только тогда назван Золотым домом.
… Агриппина, дочь Германика! Сестра, вдова и мать императоров! — Агриппина, дочь полководца Германика (см. примеч, к с. 8), была сестрой Калигулы, вдовой Клавдия и матерью Нерона.
… Дочь отрекшаяся от отца, жена предавшая мужа… Сабина Поппея… — Отец Сабины Поппеи (см. примем, к с. 434) был квестор Тит Оллий; дочь позаимствовала свое имя у деда со стороны матери, поскольку отца погубила дружба с Сеяном, всесильным временщиком при Тиберии.
494… покинула своего мужа Криспина и ушла к любовнику Отону? — Поппея Сабина была замужем за Руфрием Криспином (ум. в 65 г.), префектом претория (до 51 г.) при Клавдии, затем за Марком Сальвием Отоном (ум. в 69 г.), другом Нерона и будущим недолговечным (с 15 января по 16 апреля 69 г.) императором (после Гальбы)… любовник во время ужина продал ее Цезарю за должность наместника в Лузитании… — Отон по приказу Нерона развелся с женой и был отправлен им в качестве почетной ссылки наместником в Лузитанию — нынешнюю Португалию.
… какой-то проклятый гиппоман… — Гиппоман — слизистое выделение половых желез кобылицы, использовавшееся для приготовленния приворотных снадобий. Ср.:
Тут-то тягучий течет, называемый меж пастухами Верным названьем его, "гиппоман", из кобыльей утробы, — Мачехи злые тот сок испокон веков собирали,
Всяческих трав добавляли к нему и слов не безвредных. (Вергилий, "Георгики", III, 280–284. — Перевод С. Шервинского.)… Цезония опоила Калигулу! — См. примеч. к с. 447.
495 Елисейские поля — см. примеч. к с. 8.
… большие белые птицы с крыльями цвета пламени… — Имеется в виду розовый фламинго.
Индийское море — см. примеч. к с. 17.
496 Брундизий — см. примеч. к с. 10.
… Христиане, обреченные умереть в цирке. — Массовые гонения на христиан начались в 64 г.
497… статуя высотой в сто двадцать футов, изваянная Зенодором… — Зенодор (I в. н. э.) — римский скульптор, грек из Малой Азии; прославился дошедшими до нас лишь в уменьшенных копиях гигантскими статуями Меркурия Арвернского (в Галлии, близ нынешнего города Пюиде-Дом) и Нерона (в вестибюле Золотого дома).
499… гибели Юлия Монтана… — Нерон любил переодетым бродить по
Риму, бражничать в самых сомнительных компаниях, нападать на прохожих и т. п. В 56 г. некий молодой сенатор Юлий Монтан сильно оттолкнул набросившегося на него Нерона, но узнав императора, упал перед ним на колени и стал молить о прощении. Нерон приказал Монтану покончить с собой.
… изгнана за развратное поведение своим братом Калигулой, а ведь он не отличался большой строгостью нравов! — Калигула активно предавался кровосмешению то ли из-за извращенности натуры, то ли из желания подражать богам. Он состоял в связи со своими тремя сестрами; одна — Друзилла — умерла в 38 г., двух других, в т. ч. Агриппину, он сослал по обвинению в разврате.
… она стала женой Криспа Пассивна… — Гай Саллюстий Крисп Пассиен (ум. в 44/48 г.), консул 44 г., был женат сначала на Домиции, сестре отца Нерона (мужа Агриппины), а с 41 г. — на Агриппине. Отравление Криспа Пассивна весьма вероятно, но не доказано… Октавия, дочь императора, была помолвлена с Силаном. — Луций Юний Силан (ум. в 49 г.), правнук Августа, был помолвлен с Октавией (см. примеч. к с. 492), но Агриппина, желая выдать замуж Октавию за Нерона, чтобы еще более приблизить его к трону, уже как зятя императора, добилась интригами того, что Силан был обвинен, совершенно безосновательно, в кровосмешении с сестрой, лишен сенаторского звания и всех должностей и принужден покончить жизнь самоубийством.
500… выдвинули против Лоллии Павлины обвинение в колдовстве… —
Лоллия Павлина (ум. в 49 г.) славилась своей красотой. Прослышав об этом, Калигула вызвал ее к себе, развел с мужем, военачальником Гаем Меммием Ре гул ом, взял в жены, но вскоре развелся, запретив ей с кем-либо вступать в связь (тем более — в брак). После падения Мессалины некоторые придворные предлагали Лоллию в жены Клавдию, но Агриппина оттеснила соперницу. Осуждена Лоллия была уже после брака Клавдия и Агриппины, причем обвинена она была в гадании о действиях императора, что приравнивалось не к колдовству, а к государственному преступлению. Лоллия была приговорена к ссылке с конфискацией большей части имущества, а уже в ссылке ее по требованию Агриппины принудили к самоубийству (о пытках, которые упоминает далее Дюма, ничего не известно).
… на ней, имея примером Ромула и Августа, женился Калигула… — Ромул взял в жены Эрсилию, а Август — Ливию, хотя обе они были замужем.
… сенат дал Агриппине имя Августы. — Имя-титул Август (см. примеч. к с. 9) имел женское соответствие — Августа. Впервые это имя получила жена Августа Ливия, которую он по завещанию удочерил. В 50 г. сенат по требованию Клавдия нарек Августой Агриппину, что означало включение ее в императорскую фамилию. Позднее титул августы автоматически давался супругам императоров.
… Этот приговор заставил задрожать Агриппину и Палланта. — Паллант (ум. в 62 г.) — грек-вольноотпущенник, управляющий финансами Клавдия. Во время инцидента с Мессалиной держался в стороне, но после ее убийства стал активно склонять Клавдия в пользу брака с Агриппиной и после этого брака достиг множества почестей и богатства.
В конце жизни Клавдий стал раскаиваться в женитьбе на Агриппине и прислушиваться к разговорам (вполне возможно, справедливым) о том, что Паллант — любовник императрицы. Вероятно, именно это послужило побудительным мотивом к тому, что Агриппина отравила Клавдия.
Нерон после восшествия на престол стал тяготиться влиянием Палланта и в 55 г. отрешил его от должности управляющего финансами; в следующем году Паллант был обвинен в заговоре против императора, но оправдан; наконец в 62 г. Нерон приказал отравить Палланта, чтобы заодно наложить руку на его колоссальное состояние.
… Его отведыватель Галот подал ему грибы, приготовленные Локустой. — См. примеч. к с. 447.
… и Агриппина овдовела в третий раз. — Первым мужем Агриппины был Луций Домиций Агенобарб, отец Нерона; вторым — Гай Саллюстий Крисп Пассиен.
… приговорила к смерти вольноотпущенника Нарцисса… — Нарцисс (ум. в 56 г.) — приближенный вольноотпущенник Клавдия; сначала был союзником Мессалины, но затем именно он рассказал императору о поведении его жены, именно он добился казни Мессалины и ее любовника и впоследствии противился браку Клавдия с Агриппиной, именно он настраивал императора против его последней жены и сообщил ему о связи Агриппины с Паллантом. Заболев, он уехал из Рима на лечение; воспользовавшись его отсутствием, Агриппина отравила мужа; не спрашивая даже разрешения сына-императора, она приказала бросить Нарцисса в темницу, где он вскоре, еще до суда, умер.
… приказала отравить проконсула Юния Силана. — Имеется в виду Марк Юний Силан (ум. в 54 г.), проконсул провинции Азия, отравленный на пиру по приказу Агриппины (опять же без ведома Нерона) только за то, что этот безвольный и безвредный человек был родным братом жениха Октавии Луция Юния Силана (см. примеч. к с. 499).
501… и Парис, и Фаон — все они там были. — Парис (ум. ок. 62 г.) —
актер, вольноотпущенник Домиции, тетки Нерона по отцу, участник увеселений молодого императора, ярый противник Агриппины. Существует версия, что Нерон приказал убить Париса, завидуя его актерскому мастерству.
Луций Домиций Фаон (ок. 17 — после 68) — раб отца Нерона, родом из Греции; был освобожден в честь рождения Нерона (при освобождении раб получал родовое имя бывшего хозяина) и приставлен к нему в качестве дядьки; всю жизнь оставался верен Нерону, и именно в усадьбе Фаона Нерон нашел свою кончину.
… Мой дядя задушил своего опекуна подушкой, а тестя убил в бане. — Имеется в виду брат Агриппины Калигула, не просто подопечный, а приемный сын Тиберия (впрочем, последнее оспаривалось: утверждали, что официального усыновления не было, что соответствующий документ — поддельный, составленный уже после смерти Тиберия). По одной из версий, когда Тиберий умирал (или от отравления, или от болезней и старости) и наследник уже принимал поздравления, император вдруг очнулся, и тогда префект претория Невий Серторий Макрон по приказу Калигулы задушил умирающего то ли подушкой, то ли ворохом одежды, то ли еще и сам стиснул ему горло.
Отца своей жены, Юнии Клавдиллы (ум. в 37 г.), сенатора Марка Юния Силана (ум. в 38 г.) Калигула приказал казнить по совершенно смехотворному обвинению: тот отказался сопровождать его в морской поездке, якобы надеясь, что император утонет.
… Мой отец на Форуме выбил жезлом глаз всаднику. — Имеется в виду родной отец Нерона, Луций Домиций Агенобарб (см. примеч. к с. 198), человек невероятно жестокий.
… во время путешествия на Восток, куда он сопровождал молодого Цезаря… — Имеется в виду Калигула, подлинное имя которого было Гай Юлий Цезарь.
… сам я, последний в роду… — Нерон действительно оказался последним императором из т. н. династии Юлиев-Клавдиев, потомков — по женской линии и/или по усыновлению — Юлия Цезаря… последний раз пел "Ореста"… — То есть некую трагедию о матереубийце Оресте (см. примеч. к с. 67).
502 Капитель — см. примеч. к с. 29.
Аникет — вольноотпущенник Нерона, его воспитатель в детстве; в описываемое время — префект (начальник) военного флота, базировавшегося в Мизенском заливе (одного из двух флотов, находившихся в подчинении лично императору).
Локуста — см. примеч. к с. 447.
503… В других сосудах хранилась кровь василиска… — См. примеч. к с. 391. Генокриз (henocrysos) — неясно, что за растение имеется в виду.
504… Спроси у Тесея, помнит ли он преисподнюю. — См. примеч. к с. 364… Смерть, глухое и слепое порождение Сна и Ночи… — См. примеч. к с. 9.
506… люди, сделавшие себя неуязвимыми для яда, как Митридат… — Царь Понта Митридат VI Эвпатор (см. примеч. к с. 37) всю жизнь боялся, и не без основания, отравления и потому приучил себя к яду. Когда, потерпев поражение от Рима, он решил отравиться, яд не подействовал, и Митридат приказал рабу заколоть его мечом.
… Даже на Эсквилин? — На этом холме Рима находилось кладбище бедняков.
Велабр — см. примеч. к с. 482.
507… этрусские скелеты. — То есть скелеты обитателей Этрурии (см. примеч. к с. 16).
…На некотором расстоянии от головы, словно вокруг Тантала, были расставлены блюда с кушаньями…. — Тантал — в греческой мифологии сын Зевса. Пользуясь благосклонностью богов, он принимал их у себя, но затем разглашал услышанные тайны. Чтобы испытать их всеведение, в качестве кушанья подал богам мясо убитого им своего сына Пелопса. Боги оживили Пелопса, а Тантал за свои преступления был наказан: в подземном царстве, стоя по горло в воде, он не может напиться, т. к. вода тотчас отступает от губ; с окружающих его деревьев свисают спелые плоды, но ветви тут же взмывают вверх, стоит лишь Танталу протянуть к ним руки (т. н. "танталовы муки"); над его головой нависает скала, ежеминутно грозящая падением.
… окропив весь дом водой из Авернского озера… — См. примеч. к с. 414.
… травы, собранные в Иолке и в Иберии. — Речь идет не об Иберийском полуострове, а о Кавказской Иберии, т. е. территории современной Грузии (места, связанные с именем Медеи).
509… колдунья Канидия, о которой рассказывает Гораций и Овидий. —
Об образе Канидии у Горация см. примеч. к с. 330; Дюма использовал в главе IX романа сюжет эпода Горация "Против Канидии". У Овидия упоминаний о Канидии найти не удалось.
Праздник Минервы (Большие Квинкватры) — праздновались с 19 по 23 марта.
… третий Цезарь, Гай Калигула… — Имеется в виду, что Калигула был третьим, после Августа и Тиберия, главой Империи. Античные авторы расходились во мнении, кого считать первым императором — самого Гая Юлия Цезаря как основателя династии, либо все же Августа, реформировавшего государственное управление в монархическом духе.
… от оконечности Павсилиппы до Мизенскогомыса… — Павсилиппа (соврем. Позилиппо) — мыс, восточная граница Путеоланского залива.
Мизенский мыс — западная граница Путеоланского залива; на нем расположен город Мизены.
510… соперницы лазурных вод Киренаики. — Киренаика — восточная часть нынешней Ливии.
… Энарию, Прохиту… — Энария (соврем. Искья) и Прохита (соврем. Прочида) — острова у входа в Неаполитанский залив, к юго-западу от Мизенского мыса.
… напротив садов Гортензия… — Знаменитый римский оратор, друг-соперник Цицерона Квинт Гортензий Гортал (114—50 до н. э.) разбил роскошные сады в Кампании; эти сады унаследовал его сын и полный тезка, сторонник Цезаря. Однако после убийства диктатора Гортензий-младший примкнул к Бруту, сражался при Филиппах, попал в плен к цезарианцам и был казнен; имущество же Гортензия отошло к Октавиану и его потомкам.
… гигантским обломком какого-то исчезнувшего Вавилона. — Здесь в переносном смысле — "великого погибшего города". Вавилон, известный с конца III тыс. до н. э., был столицей по древним меркам огромной империи, завоеванной в 539 г. до н. э. персами; после распада державы Александра Македонского и особенно после крушения государства Селевкидов стал приходить в упадок и окончательно был заброшен после арабского завоевания в VII в. н. э.
… увешанной цветочными гирляндами триремы… — Трирема — гребное судно с тремя рядами весел.
512 Лукринское озеро — мелководный залив близ Байев, отделенный от Путеоланского залива насыпью в 8 стадий; славился своими устрицами.
519… триерарх Геркулей и флотский центурион Обарит. — Участника ми убийства Агриппины были триерарх (командир триеры — то же, что и триремы) Геркулей и флотский центурион Обарит.
521… в доказательство приводил имена Валерия Капитона и Лициния
Габола, бывших преторов, а также высокородной Кальпурнии и Юнии Кальвины… — О причинах ссылки бывших преторов и их судьбе после возвращения из ссылки ничего не известно.
Кальпурния же удостоилась гнева Агриппины за то, что Клавдий похвалил красоту этой знатной матроны; лишь убедившись, что никакой задней мысли у него не было, Агриппина решила ограничиться изгнанием Кальпурнии, а не ее казнью.
Юния Кальвина, сестра Луция Юния Силана была обвинена в кровосмесительной связи с братом (см. примеч. к с. 499).
523 Низида — остров в восточной части Путеоланского залива.
524… Тимофей… позови сюда Силу. — Тимофей — соратник апостола
Павла, адресат двух его посланий, кратко упоминаемый в других посланиях; Сила — также соратник Павла (Деяния, 15: 22 и др.).
525… Это оратор, вроде Демосфена? — См. примеч. к с. 15.
… Или философ, как Сенека? — См. примеч. к с. 469.
… в доме почтенного старика Тита Иуста? — Некий Иуст, "которого дом был подле синагоги", упоминается в Новом завете (Деяния, 18: 7)… они отвели тебя к Галлиону, проконсулу Ахайи и брату Сенеки. — См. Деяния, 18: 12-1,7. Старший брат Сенеки, сын ритора Луция Аннея Сенеки-старшего (ок. 55 до н. э. — ок. 39 н. э.), Марк Анней Новат (до 4 до н. э. — 65 н. э.) был усыновлен другом Сенеки-старшего, известным оратором Луцием Юнием Галлионом (подобное усыновление при живых родителях было обычным в Древнем Риме и считалось укрепляющим дружеские узы) и получил то же имя — Луций Юний Галлион.
Он был проконсулом Ахайи (см. примеч. к с. 437) в 52–53 гг.; отказался судить апостола Павла то ли из симпатии к нему, то ли из нежелания вникать в религиозные дрязги чуждых ему евреев. После раскрытия заговора против Нерона и самоубийства Сенеки покончил в собой.
526… родился в городе Тарсе, в Киликии. — См. примеч. к с. 318.
… принадлежал к секте фарисеев… — См. примеч. к с. 113.
… к Гамалиилу, высокоученому и строгому наставнику в законе Моисеевом. — Об отношении Гамалиила (см. примеч. к с. 209) к христианам см. Деяния, 5: 34–39.
… В то время я звался не Павел, а Савл. — Согласно традиции, апостол первоначально звался Саул (то же имя, что и у библейского царя Саула; в синодальном переводе — Савл), но, став христианином, переменил свое имя. Однако это не совсем точно. Получивший при рождении иудейское имя Саул, апостол был урожденным римским гражданином, и в этом качестве должен был иметь и римское имя, состоящее из трех частей (см. примеч. к с. 9). Местные жители провинций (не римские поселенцы) обычно принимали имя видных римских военачальников, правителей провинций, которые считались покровителями — патронами — местного населения. Павел — семейное имя (когномен) в роду Эмилиев, так что иудей Савл мог быть одновременно римским гражданином Эмилием Павлом. Другое дело, что апостол, порвав с ортодоксальным иудаизмом и, более того, проповедуя идею о том, что "несть ни Еллина, ни Иудея" (Коллосянам, 3: 11), мог демонстративно пользоваться не иудейским именем, знаменующим принадлежность к одному народу, а римским, символизирующим вхождение в более широкую общность.
… Иисус, что значит "Спаситель"… — См. примеч. к с. 74.
… Эта перепись была первая в правление Квириния Сирией. — Наместника Сирии звали Публий Сульпиций Квириний (Квиринин; не позднее 47 до н. э. — 21 н. э.).
527… Тир и Сидон рухнули по слову пророка… — Ср. Исайя, 23. Финикийские города-государства Тир и Сидон (см. примеч. к с. 77) были завоеваны сначала Персией, потом — Александром Македонским, а затем вместе с Селевкидской Сирией отошли к Риму.
… Карфаген был разрушен… — См. примем, к с. 77.
… Греция была завоевана… — См. примем, к с. 100.
… Галлия покорена… — См. примем, к с. 107.
… Александрия стала добычей пламени. — Имеется в виду т. н. Александрийская война 47 г. до н. э., экспедиция Цезаря в Египет с целью установления там дружественного диктатору режима. Войско Цезаря было осаждено на острове Фарос, соединенного молом с Александрией. Римлянам удалось спастись лишь после того, как десантный отряд поджег Александрию. Осаждающие бросились тушить пожар, и армия Цезаря вырвалась из окружения.
… Один человек через своих проконсулов повелевал ста провинциями. — 101 провинция насчитывалась в Римской империи к концу III в. н. э. К моменту рождения Христа в Римской державе было 42 провинции (не считая материковой Италии, которая тогда в их состав не включалась), в т. ч. 35 управляемых императором через легатов и 7 — сенатом с помощью проконсулов.
… Когда я прибыл в Иерусалим… — По Писанию, Павел никогда не видел Христа при его жизни и в Иерусалим прибыл, чтобы встретиться со святым Петром, впервые после смерти Спасителя. При описанных ниже событиях, заимствованных Дюма из евангелий, апостол Павел не присутствовал.
Генисаретское озеро — см. примеч. к с. 144.
528… возвратил в Иерихоне зрение слепому, а в Наине воскресил мертвого. — Возможно, имеется в виду исцеление слепого в Вифсаиде (Марк, 8: 22–26).
О чуде в Наине см. Лука, 7: 11–17.
529 …Но народ возмутился против одного из них, по имени Стефан. — См. Деяния, 6–7. Именно в связи с убиением святого Стефана Первомученика Савл — Павел впервые упоминается в Писании.
530… ехал вдоль берега Иордана от реки Иахер до Капернаума. — Об Иордане см. примеч. к с. 109, о Капернауме — см. примеч. к с. 117… достиг горной цепи Ермон. — Ермон (Хермон) — горный массив на юге нынешней Сирии и Ливана; максимальная высота 2814 м.
531… обошел всю Иудею от Сидона до Арада, от горы Сеир до речного потока Безор. — О горе Арад и Сидоне см. примеч. к с. 77.
… Я побывал в Азии… — Азией в древности называли нынешнюю Малую Азию, омываемую с севера Понтом Эвксинским, с запада — Эгейским морем, а с юга — Финикийским морем.
Вифиния — область на северо-западе Малой Азии.
532 Ателла (соврем. Сант’Арпино) — город в Кампании, в 20 км к северо-западу от Неаполя.
534… о христианах говорили лишь как о секте философствующих безум цев, недавно влившейся в число разнообразных мелких школ, где спорили об идеях Пифагора, о морали Сократа, о философии Эпикура или о теориях Платона. — В античном мире религия представляла собой учение о правильном обращении с богами, дабы те обеспечили человеку благополучное существование. Духовные потребности и моральные наставления обеспечивала чрезвычайно широко распространенная среди горожан философия. Учения Пифагора (см.
примем, к с. 317), Сократа (см. примем, к с. 196), Эпикура (см. примем. к с. 420) и Платона (см. примем, к с. 143) рассматривались в первую очередь как правила добродетельной и достойной жизни — отсюда и отнесение христианства не столько к религии, сколько к философии.
… обогнули Капую, которая из-за оплошности Ганнибала стсиш не менее знаменита, чем другие города — благодаря славным победам. — Античные авторы и историки XVIII–XIX вв. считали одной из причин поражения Ганнибала в борьбе с Римской республикой то, что после победы при Каннах в 217 г. до н. э., когда римская армия была практически уничтожена, он не пошел на Рим, а занял Апулию, сделав своей основной базой богатую Капую, перешедшую на сторону Карфагена в 216 г. до н. э. По мнению древних историков, войско Ганнибала совершенно разложилось и утратило боевой дух под влиянием мягкого климата и обилия даров цивилизации. Большинство современных исследователей снимают с великого пунийца обвинение в ошибке и полагают, что у него не хватало материальных и людских ресурсов для активных действий против врагов. Вольтурн (соврем. Вольтурно) — река в Кампании; впадает в Тирренское море.
538 Неофит — см. примем, к с. 198.
… вышли из Велитр, древней столицы вольсков, где погиб Кориолан и родился Август. — Гай (или Гней) Марций Кориолан (кон. VI — нач. V в. до н. э.), легендарный римский герой, отличившийся в битвах с италийским племенем вольсков, живших к югу от Лация. В 494 г. до н. э. благодаря ему был взят крупный город вольсков — Кориолы, давший Марцию прозвище. В распрях между патрициями и плебеями Кориолан был безоговорочно на стороне первых, из-за чего оказался не избран на консульских выборах; обидевшись, требовал ограничения прав плебеев и отмену должности народных трибунов. Трибуны возбудили против него обвинение в расхищении военной добычи, и в 490 г. до н. э. Кориолан был осужден народным собранием на вечное изгнание. Разгневанный Марций перешел на сторону вольсков и возглавил их войско в походе на Рим в 489–488 гг. до н. э. Однако мать Кориолана, Волумния, явившись к нему в лагерь, уговорила его не поднимать оружие на отечество, и Марций увел войска. По одной версии, он дожил в изгнании до глубокой старости, по другой — был растерзан толпой вольсков за измену. Однако, если верить свидетельствам древних, это произошло не в Велитрах (соврем. Веллетри; в 40 км к юго-востоку от Рима), городе, где родился Гай Октавий, будущий Август, а в Анции.
… у гробницы Аскания он остановился… — См. примем, к с. 19.
… среди полей между Латинской дорогой и Аппиевой… — Латинская дорога лежит к северу от Аппиевой.
… той, что ведет к Марине у Альбанского озера… — Марина — город в 15 км к северо-западу от Велитр, на берегу Альбанского озера в Альбанских горах; расположен на Озерной дороге, ответвлении виа Аппиа.
… к храму Нептуна близ Анция. — Анций (соврем. Анцио) — приморский город к югу от Альбанских гор.
Долина Эгерии — овраг в священной роще в северной части Рима вне древних стен; по этому оврагу протекал ручей, из которого весталки брали воду для священных обрядов. По преданию, в этом ручье жила нимфа Эгерия, возлюбленная второго царя Рима, Нумы Помпилия (правил в 715–673 гг. до н. э.), помогавшая ему в управлении Городом мудрыми советами.
Альмон — вероятно, приток реки Анион (соврем. Аньене), впадающей в Тирренское море.
541… лоно, породившее город Ромула и Сципиона. — То есть Город времен царей и Республики.
… с тех пор как при Октавиане на смену камню пришел мрамор… — См. примеч. к с. 16.
Травертин — пористая легкая горная порода, декоративно-строительный камень.
… порфир — из Вавилона, гранит — из Фив, бронзу — их Коринфа. — О порфире см. примеч. к с. 224; о коринфской бронзе см. примеч. к с. 316.
542… если неофит превращался в мученика… будь он удавлен в Туллиевой темнице, или обезглавлен на городской площади, или сброшен вниз с Тарпейской скалы, или, наконец, распят на вершине Эсквилина… — Христиане, если это были римские граждане, подвергались удушению в Туллиевой темнице, построенной при царе Сервии Туллии (см. примеч. к с. 194), сбрасыванию с Тарпейской скалы (см. примеч. к с. 474) и обезглавливанию; распятию (но никогда на одном из холмов Рима — Эсквилине, т. е. в черте Города, а на Аппиевой дороге) подвергались рабы или провинциалы.
543… семисвечник, горевший в храме Иерусалимском… — См. примеч. к с. 205.
… Христос простил Магдалину… — См. примеч. к с. 151.
544… Что касается богов, то, если верить Тациту… они оказались не столь уступчивы и наслали на нераскаявшегося преступника бессоницу. — Убийство Агриппины и поведение Нерона после этого описаны Тацитом (см. примеч. к с. 74) в главе XIV его "Анналов". Но о бессонице Нерона повествует Светоний ("Нерон", 46). Пандатария (соврем. Понца) — вулканический островок в Тирренском море, у берегов Кампании, в виду города Минтурн; в императорскую эпоху место ссылки.
545… напрасно взывала к памяти Германиков, их общих предков… — Октавия, дочь Клавдия, и Агриппина, дочь его старшего брата Германика (см. примеч. к с. 8), были двоюродными сестрами, внучками Друза Старшего (см. примеч. к с. 34), первого из носивших почетное прозвище Германик, т. е. Германский.
… Затем случился пожар, полгорода выгорело дотла… — См. примеч. кс. 198.
546… Естествоиспытатель Плиний утверждает… — Имеется в виду римский государственный деятель, писатель и ученый Плиний Старший (23/24—79), создавший свод естественно-научных знаний античности — "Естественную историю".
Мирра — см. примеч. к с. 287.
547… известные ей примеры: Ганнибала, выпивающего яд… — См. примеч. к с. 104.
… Катона, бросающегося на свой меч… — См. примем, к с. 19.
… Брута, вонзающего в себя кинжал. — См. примем, к с. 16. Метронийские ворота — восточные ворота Города.
… жаркое утро пятнадцатого дня перед июльскими календами… — Римляне не знали порядкового счета дней в месяце. Счет велся по числу дней до определенного момента внутри месяца; одним из таких дней были календы (мн. ч.) — 1-й день месяца. Так, 1 июля — июльские календы, 30 июня — канун июльских календ, 29 июня — 3-й день от июльских календ, 17 июня — 15-й день от июльских календ.
548 Палатин — см. примем, к с. 483.
… улице, пролегавшей между Целием и Авентином. — Целий — один из семи холмов Рима, расположенный на юго-востоке города, Авентин — на юге.
Храм Ромула и Рема — см. примем, к с. 17.
Храм Фебы, храм Юпитера Статора — см. примем, к с. 483.
… полог из атталийских тканей… — То есть произведенных в малоазийском городе Аттала (Памфилия).
Храм Юпитера Капитолийского — см. примем, к с. 586.
549 Рика — головной платок, косынка.
Храм Конкордии — см. примем, к с. 483.
Фламин — см. примем, к с. 482.
550… в память о похищении сабинянок… — Согласно римским преданиям, Рим был основан группой молодых воинов во главе с Ромулом, и среди них почти не было женщин. Соседние племена отказали жителям нового города в соглашениях о браках. Тогда римляне устроили празднество, на которое пригласили соседей, в т. ч. племя сабинян, и римские юноши во время этого празднества похитили сабинских девушек. Разгневанные сабиняне пошли на Рим войной, длившейся несколько лет. В конце концов сабиняне уже почти захватили Рим, но туг в битву вмешались некогда похищенные женщины, у которых в одном войске сражались мужья, а в другом — отцы и братья, и добились примирения. Оба племени объединились в одно государство, а царь сабинов — Тит Таций — стал соправителем Ромула. Фламмеум — см. примем, к с. 343.
… супруге фламина, которой законы запрещали развод. — Римский брак был трех видов. Первый (он здесь имеется в виду) — конфарреация — был исключительно патрицианским, совершался торжественным образом в присутствии жрецов и являлся практически нерасторжимым; некоторые жреческие должности могли заниматься людьми, рожденными от такого брака, и для тех, кто занимал такие должности, иной брак не был дозволен. Второй вид брака — коэмпция — совершался посредством покупки невесты; первоначально являлся плебейской формой брачного союза, а впоследствии стал наиболее распространенным. Третий вид — узус, сожительство; впрочем, римские законы и за таким видом семейных отношений признавали определенные права, в частности рожденные в таком браке дети не считались незаконнорожденными.
Тигеллин — см. примем, к с. 434.
Тусская улица — находилась на юго-западе от Форума; один из беднейших кварталов города.
Велабр — см. примем, к с. 482.
Аргилет — часть Рима между Субуром и Форумом.
… Словно в праздник сигиллариев… — Речь идет о Сатурналиях, одном из самых популярных римских праздников, посвященном Сатурну; являлся воспоминанием о "золотом веке" всеобщего равенства, существовавшего, по римским поверьям, до того как Юпитер сверг Сатурна; учрежден либо в середине VII в. до н. э., либо в 497 г. до н. э.; праздновался 17 декабря, видимо, в честь освящения храма Сатурна; первоначальный характер празднества неизвестен. В 217 г. до н. э., в разгар войны с Ганнибалом, праздник был реформирован и приобрел всенародный веселый характер. Устраивались угощения, пиры; в знак воспоминания о всеобщем равенстве в царстве Сатурна социальное устройство как бы переворачивалось: рабы на время Сатурналий получали свободу, а господа прислуживали своим слугам за трапезой. Древние Сатурналии отмечались один день, с 217 г. до н. э. — три дня, в императорскую эпоху — семь дней; последний день — сигилларии — был посвящен обмену подарками, среди которых обязательно должны были быть глиняные фигурки (sigillaria). Театр Помпея — см. примеч. к с. 61.
Портик Октавии — см. примеч. к с. 373.
Садовый холм — располагался в северной части города; там располагались сады Лукулла и Саллюстия.
Форум Цезаря — построенный Юлием Цезарем новый форум к северо-востоку от старого.
… прислонившись к статуе диктатора. — Имеется в виду Гай Юлий Цезарь.
551 Кальвия Криспинелла (ум. после 69 г.) — ненавидимая народом устроительница оргий Нерона. Во время междуцарствия (68–69) после гибели Нерона народ требовал казни Кальвии, но ее спас император Отон (см. примеч. к с. 494), против которого она тут же попыталась поднять мятеж в провинции Африка. В конце концов она вернулась в Рим, сумев сохранить богатство и положение в обществе и даже приобрести уважение сограждан.
552… Ты Сабина или Спор… — Реальное событие. По свидетельствам древних, Нерон отличался весьма разнообразными сексуальными пристрастиями (гомосексуализм в античности осуждался не столь решительно, как в христианском обществе; кроме того, императоры считали себя богами в полном смысле, и потому им было даже как бы предписано отклоняющееся сексуальное поведение — гомосексуализм, кровосмешение, — не дозволенное простым смертным: Зевс ведь вступал в брак и связи со своими сестрами, племянницами и другими родственницами, а также с мальчиком Ганимедом). Он сделал евнухом своего раба мальчика Спора и торжественно вступил с ним в брак, одевал как императрицу, появлялся вместе с ним публично на торжествах (неясно, состоялось бракосочетание во время поездки в Грецию или в самом Риме; во всяком случае в Городе Нерон официально выехал вместе с ним как раз на сигиллариях; двойничество Сабина — Спор вымышлено Дюма). Позднее Нерон вступил в брак, но уже в качестве жены, со своим вольноотпущенником Дорифором, которого приказал затем убить. Брак со Спором имел место ранее описываемых событий (62 или 64 г.).
554… Павел предстал перед судом… — По преданию, апостол Павел был обезглавлен в 65 г.
Мартовские иды — один из отмеченных дней в римском календаре (см. примеч. к с. 547) — 15-е число в марте, мае, июле и октябре, и 17-е в остальных месяцах.
… Празднества были приурочены к годовщине смерти диктатора Юлия Цезаря. — Речь идет о 103-й годовщине.
… угощали римский народ его эдилы, преторы и цезари… — Высшие должностные лица Римского государства — императоры, консулы, преторы — должны были, по обычаю, устраивать на собственный счет угощения, празднества, театральные представления, конные состязания и гладиаторские игры. Для эдилов — четырех должностных лиц среднего ранга, наблюдавших за городским благоустройством, снабжением и поддержанием порядка — это входило в обязанности, поэтому им выделялись из казны определенные суммы, которых, впрочем, всегда не хватало, и эдилы нередко расходовали собственные средства.
556… Помпею пришло в голову объединить их: в его второе консульство,
в день праздника по случаю освящения храма Венеры Победительницы… — Помпей был консулом трижды: в 70, 55 и 52 гг. до н. э., причем в последнем случае часть годичного срока (с января по август) являлся — в нарушение неписаной римской конституции, но по решению сената — единоличным (без коллегии) консулом. Храм Венеры Победительницы — см. примеч. к с. 322.
Гетулы — то же, что и геты (см. примеч. к с. 88).
… если верить Титу Ливию…в цирке в один день убили сто сорок два слона. — Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк; его "История Рима от основания Города", охватывающая период от 753 г. до н. э. до 9 г. н. э. (дошла до нас не полностью) является основным источником по истории царского и раннереспубликанского Рима (до 167 г. до н. э.). Однако случай травли 142 слонов в цирке описан не у Ливия, а у Полибия (см. примеч. к с. 439) под 249 г. до н. э.
… восемьдесят лет спустя, в пятьсот двадцать третьем году от основания Рима, Сципион Назика и Публий Лентул выпустили на арену шестьдесят три африканские пантеры. — Эдилы Публий Корнелий Сципион Назика и Публий Корнелий Лентул устроили упомянутые игры в 169 г. до н. э., т. е. в 584 г. от основания Рима.
… Сергий, решив перенести знакомое зрелище в иную стихию, наполнил арену амфитеатра водой… — Указанную травлю речных животных устроил претор 202 г. до н. э. Луций Сергий.
… Сулла, будучи претором… — Добившись претуры (в 93 г. до н. э.), Сулла (см. примеч. к с. 35) привез из Африки не только зверей, но и охотников и впервые в Риме травил зверей, не привязанных к столбам, а свободных, как на настоящей охоте.)
… Август…от своего имени и от имени внука устраивал празднества… — Насколько известно, Август давал игры от имени двух внуков — Гая и Луция Цезарей (см. примем, к с. 132).
Тит — см. примем, к с. 34.
557… подобно пифийскому богу, вооружился луком и стрелами… —
Пифийский бог — Аполлон, убивший змея Пифона и учредивший в Дельфах Пифийские игры (см. примем, к с. 445).
Бестиарий — гладиатор, сражавшийся со зверями.
… первыми будут сражатьсяретиарий имирмиллон… — Гладиаторы сражались парами: либо оба с мечами и щитами, либо один с мечом и щитом, а другой — с сетью и трезубцем. Этот последний назывался ретиарий, или лаквеатор (лат. "опутывающий"): сетью он должен был поймать противника, трезубцем — убить. Противник его назывался мирмиллоном, иначе — галлом, т. к. у него было галльское вооружение: шлем с плоским (вопреки сказанному дальше Дюма) забралом, с рыбой на навершии шлема, меч (не дубина), наголенники на обеих ногах (наголенник только на левой ноге носили т. н. "самниты", т. е. гладиаторы в самнитском вооружении). Иногда вместо мирмиллона сражался секутор (лат. "преследователь") в гладком шлеме.
Димахарии — гладиаторы, сражавшиеся как конными, так и пешими.
Андабаты — гладиаторы, сражавшиеся в глухом шлеме, с забралом без глазных отверстий; сражение бившихся вслепую андабатов, раскаленными прутьями направляемых друг к другу служителями цирка, представляло собой любимое римлянами кровавое развлечение.
559 Фест — возможно, имеется в виду Валерий Фест, впоследствии командир легиона в провинции Африка, вначале поддерживавший Виттелия, а затем переметнувшийся на сторону Веспасиана.
560 Весталки — см. примеч. к с. 37.
Подиум — здесь: балкон для почетных зрителей в цирке. Весталки имели право на особые места во время общественных церемоний… подобно нашим дуэлянтам времен Фронды, выходившим на поединок с дагой и кинжалом. — Фронда (букв. фр. "праща"; название дано противникам этого движения и намекает на его несерьезность) — антиабсолютистское течение во Франции в 1648–1653 гг., направленное против регентши при малолетнем Людовике XIV (см. примеч. к с. 208), его матери Анны Австрийской (1601–1666; королева с 1615 г., регентша в 1643–1651 гг.) и кардинала Джулио Мазарини (1602–1661; первый министр с 1643 г.). Во Фронде слились два направления: горожан, выступавших за вольности своих коммун, и аристократов, стремившихся к восстановлению своей независимости от монархов. Фронда привела к расстройству государственного управления, к дворянской вольнице (запрещенные ранее дуэли снова широко распространились), но в конечном счете была подавлена. До середины XVII в. дуэлянты сражались со шпагой в правой руке и простым кинжалом либо дагой (кинжалом с широким эфесом, предназначенным для отбивания ударов) — в левой.
563 Ладонь — мера длины в античности — 7,4 см.
Сполиарий — место в амфитеатре, где добивали тяжело раненных и раздевали убитых гладиаторов.
… один был одет Меркурием, а другой Плутоном. — О Меркурии см. примеч. к с. 316, о Плутоне см. примеч. к с. 333.
566… Персей, готовый защитить Андромеду… — Согласно греческим мифам, эфиопская царевна Андромеда была отдана в жертву морскому чудовищу, которое наслали на Эфиопию Посейдон и морские нимфы нереиды за то, что мать Андромеды хвасталась перед ними своей красотой. Победитель горгоны Медузы герой Персей (см. примеч. к с. 333) убил чудовище и спас царевну.
Кордубский бык — т. е. из иберийского города Кордуба.
568 Атласский лев — иначе берберийский; самый крупный подвид львов, длиной более 2 м, весом свыше 300 кг; обитал в Северо-Западной Африке (в Атласских горах); истреблен в XIX в.
… в пустыне, простирающейся от Асфальтового озера до источников Моисея. — Асфальтовое море — см. примеч. к с. 465.
Моисеевы источники — родники на берегу Красного моря, в 13 км от города Суэц. К ним, вероятно, привел Моисей евреев после Исхода из Египта (Исход, 15: 27), отсюда их название. Согласно Библии, источников было двенадцать.
569… словно конь преисподней, вырвавшийся из упряжки Плутона… — У Плутона была золоченая колесница, запряженная четверкой черных коней.
571 Храм Дианы — см. примеч. к с. 483.
Целла — внутренняя часть храмов, в которой находилось изображение божества.
572… сообщалось о восстании испанских и галльских легионов под предводительством Галъбы и Виндекса. — Дюма несколько смещает события. Массовое преследование христиан со всеми описанными выше жуткими подробностями (освещение ночных игр путем сожжения живых людей и т. п.) происходило в 64 г. В 66 г. в Риме вспыхнула эпидемия (неясно, какой болезни), и Нерон, покинув Город, отправился в Грецию, оставив управление государством в руках верных вольноотпущенников. Во время пребывания в Греции Нерон выступал в состязаниях певцов и поэтов, а также колесничих на Олимпийских играх и везде, разумеется, получал высшие награды — общим счетом 888 венков. Он вернулся в начале 68 г. в Рим, причем возвращение обставил как триумф.
Еще до торжественного прибытия в Рим он получил вести о том, что наместник в пропреторском ранге провинции Белгика (см. примеч. к с. 371), уроженец Аквитании (см. там же) Гай Юлий Виндекс (жители Аквитании получили римское гражданство от Цезаря, потому приняли его родовое имя) поднял восстание.
К восстанию примкнул Гальба (см. примеч. к с. 480), наместник провинции Испания Тарраконская.
Номентанские ворота — располагались на Номентанской дороге, ведущей в город Номент (соврем. Ментана), в 20 км к северо-востоку от Рима.
Соляная дорога — ведет от Холмовых ворот у Квиринала в сторону города Реата (соврем. Риети); расположена к северу от Номентанской дороги.
… это были преторианцы, покинувшие свои римские лагеря… —
К мятежу против Нерона примкнул в 68 г. префект претория Нимфидий Сабин (в следующем году он попытается выступить и против нового императора Гальбы, но будет убит); это и побудило Нерона бежать из Рима.
573… Что слышно об Лгенобарбе? — Выступавший против императора Виндекс в своих прокламациях и обращениях к сенату называл Нерона "дрянным музыкантишкой" и именовал родовым именем Агенобарб, тем самым как бы отрицая его наследственные права на престол. В ответ Нерон заявил, что вновь принимает родовое имя, которым его все попрекают, а данное при усыновлении — отвергает.
Гастаты — копейщики, легковооруженная пехота в римских войсках.
574 Декурион — см. примеч. к с. 102.
Фламиниевы ворота — располагались на въезде в Рим с севера, на Фламиниевой дороге (см. примеч. с 8).
Арка Клавдия — триумфальная арка в честь побед Клавдия в Британии; до нас не дошла.
575… Фонтей Капитон в Нижней Германии, Виндекс в Галлии, Гальба в Испании, Отон в Лузитании, Клавдий Макр в Африке, Веспасиан в Сирии — все они с вверенными им легионами соединились в грозное полукружие, ожидающее лишь условного знака, чтобы сжаться вокруг столицы. — Дюма излагает события не совсем точно. Гай Фонтей Капитон, наместник Нижней Германии, и Луций Клавдий Марк, наместник Африки, поддержали антинероновское восстание, но не собирались помогать Гальбе и, когда тот утвердился на троне, решили (совместно или каждый сам по себе — неясно) свергнуть его; заговоры обоих были раскрыты, и оба они были казнены в 69 г. Наместник Лузитании Марк Сальвий Отон (см. примеч. к с. 494) сначала примкнул к Гальбе, рассчитывая, что тот усыновит его и сделает наследником престола, но, разочаровавшись в своих надеждах, восстал против него и захватил престол сам.
Тит Флавий Веспасиан (9—79), наместник Сирии, усмирял восстание в Иудее и не поддержал ни Гальбу с Виндексом, ни Нерона, предпочитая выжидать; в итоге именно он утвердился на императорском троне в 69 г., основав императорскую династию Флавиев.
… Один только Вергиний, пропретор Верхней Германии, решил сохранить верность… — Восстание Виндекса было поддержано легионами галльских провинций и наместником Верхней Германии Луцием Вергинием Руфом (14–98); Руф, впрочем, колебался, заявлял о верности сенату и народу Рима, не претендовал на престол и от Нерона не отступился.
Из-за несогласия между Виндексом и Руфом мятеж в Галлии потерпел неудачу, и Виндекс покончил с собой.
576 Клермон — галльский город к северу от Лютеции (нынешнего Парижа).
… коронованный певец упивался недостойной его славой гладиатора и гистриона. — В гладиаторских боях Нерон не участвовал.
… зачем чтить его титулами Цезаря, государя и Августа… — См. примеч. к с. 8.
… мерзостногоАгенобарба следует наречь Эдипом и Орестом… — См. примем, к с. 67.
577… мы бросим на чашу весов не меч нашего стародавнего Бренна… —
События, связанные с выплатой Римом выкупа галльскому вождю Бренну (см. примем, к с. 104), Тит Ливий описывает так: "Эта сделка, омерзительная и сама по себе, была усугублена другой гнусностью: принесенные галлами гири оказались фальшивыми и, когда трибун <здесь: римский военачальник — Комм.> отказался мерить ими, заносчивый галл <Бренн — Комм.> положил еще на весы меч. Тогда-то и прозвучали невыносимые для римлян слова: "Горе побежденным!""("История Рима от основания Города", V, 48). Прокуратор — см. примем, к с. 109.
… один из гостей, по имени Т. Виний, что был решительнее других… — Имеется в виду Тит Виний Руф, флотский центурион, затем начальник преторе кой когорты, легат Гальбы во время его наместничества в Испании; после провозглашения Гальбы императором его советник, фаворит и консул 69 г.; приведенная речь Виния — пересказ текста Плутарха ("Гальба", 4).
Новый Карфаген (соврем. Картахена) — город в Испании, на юго-восточном побережье Средиземного моря.
579… секваны, эдуи и арверны… перешли на сторону Виндекса. Вскоре к ним примкнули и аллоброги… — Названы галльские племена: секваны, населявшие область бассейна реки Дубис (соврем. Ду), притока Арара (соврем. Соны); эдуи — область между рекой Лигером (Луарой) и Араром, к северу от города Лугдунум; арверны — нынешнюю Овернь; аллоброги — земли к западу от Лугдунума, между Валенсией (соврем. Баланс), Кулароном (Греноблем) и Генавой (Женевой). Лугдунцы — жители Лугдунума (ныне Лиона), главного города кельтского племени амбарров.
… отряды белгов и батавская конница. — О белгах см. примем, к с. 371. Батавы — германские племена, обитавшие на левом берегу Рейна в нижнем его течении, в пределах нынешнего Нидерландского королевства (Голландии).
Везанций (соврем. Безансон) — главный город области секванов. Центурия — см. примем, к с. 57.
… голоса военачальников потонули в оглушительных воплях, которые издавали галлы, приставив щит к губам… — По сведениям античных писателей, галлы шли в атаку беспорядочной толпой, громко крича и приблизив к лицу верхнюю часть щита; видимо, кромка натянутого кожаного щита резонировала, отчего звук делался еще страшнее.
580 Клуния — город в Северной Испании на реке Дурий (соврем. Дуэро) на дороге между Цезаравгустой (Сарагосой) и Палланцией (Паленсией).
Богиня Победы — имеется в виду римская богиня победы Виктория, весьма популярная в императорскую эпоху.
581… в городе Дертоза на реке Эбро… — Река Эбро, которая впадает в Средиземное море и недалеко от устья которой расположен город Дертоза (соврем. Тортоса), в римское время именовалась Ибер.
Гидравлические музыкальные инструменты — духовые инструменты, в которых звук создается движением воздуха, вытесняемого водой. Трибы — см. примем, к с. 102.
582… призывает на них Мстителя. — Мститель — один из эпитетов имени Юпитера.
… Представление в театре начиналось с ателланы… — Ателлана — исконная италийская (не заимствованная из Греции) фарсовая комедия со стандартным набором персонажей (нечто вроде позднейшей комедии дель’арте — "Комедии масок", импровизированного театрального представления); название произведено от города Ателла (см. примем, к с. 532).
… ее священные куры погибли. — Римляне были весьма привержены разного рода гаданиям, причем определенного рода гадания входили в официальный культ: без благоприятных знамений не начиналось ни одно официальное мероприятие или важное государственное действие: войны, голосования, заседания сената и т. п.
583… Ливия Друзияла, после брака с Октавианом получившая имя Августы… — Неточность: Ливия Друзилла (см. примем, к с. 480) получила имя Юлия Августа не после брака с императором, а после его смерти, когда он по завещанию объявил ее своей приемной дочерью (см. примем, к с. 500).
Вейи — см. примем, к с. 104.
… Она обратилась за разъяснениями к гаруспикам… — Для гаданий существовали особые жрецы — авгуры. Основных видов гаданий было два: ауспиции — гадания по птицам, по их полету, крику, по тому, как они едят корм, и т. п.; гаруспиции — гадания по внутренностям жертвенных животных. Так что Дюма неточен: Ливия должна была обратиться не к авгурам-гаруспикам, а к авгурам-ауспикам (в позднереспубликанскую и императорскую эпохи их именовали просто авгурами).
… вышел на орхестру… — Орхестра — см. примем, к с. 474 (именно это здесь имеется в виду). Следует отметить, что в Риме орхестрой называли нечто иное — особые места перед сценой, предназначенные для сенаторов.
Палатинский дворец — императорская резиденция на Палатинском холме.
584… четырнадцать статуй, воздвигнутых Копонием и изображавшие четырнадцать народов… — Эти статуи, изображавшие народы, покоренные Помпеем, были установлены по приказу претора 49 г. до н. э. Гая Колония, ревностного помпеянца, участника гражданских войн.
Мавзолей Августа — см. примем, к с. 427.
Парасит — в античном мире прихлебатель, приживальщик; свободный бедняк, зарабатывавший на жизнь тем, что набивался в гости к богатым людям; развлекал их, в т. ч. и тем, что позволял глумиться над собой.
… блистали красотой гадитанские танцовщицы… — Имеются в виду танцовщицы из древнего финикийского, потом карфагенского города Гадир (лат. Гадес, соврем. Кадис) в Южной Испании.
585… весенние божества, которые в мае сопровождают Флору и Зефира, посещающих свои владения. — О Флоре см. примем, к с. 319; о Зефире см. примем, к с. 340.
… заново открыты во времена Регентства… — Регентство — во французской истории период 1715–1723 гг., когда ввиду малолетства Людовика XV (1710–1774; король с 1715 г.) правил в качестве регента герцог Филипп Орлеанский (1674–1723), племянник Людовика XIV, прадеда и непосредственного предшественника Людовика XV (последний был объявлен совершеннолетним в феврале 1723 г., но Филипп сохранил власть в качестве первого министра до своей смерти в декабре того же года). Эпоха Регентства отличалась распущенностью нравов, жаждой наслаждений и безумными финансовыми спекуляциями.
… нисхождение Прозерпины в подземное царство. — См. примем, к с. 333.
586… патриция из славного и знатного рода… — Здесь слово "патриций" употреблено в буквальном смысле (см. примем, к с. 13): Гальба принадлежал к патрицианскому роду Сульпициев.
… правнук Квинта Катула Капитолина, самого бесстрашного и честного магистрата своего времени. — Квинт Лутаций Катул (ум. в 60 г. до н. э.) — знаменитый оратор, консул 78 г. до н. э.; завершил строительство храма Юпитера Капитолийского и освятил его; за это получил прозвище Капитолин ("Капитолийский").
Магистратами в Древнем Риме называли высших государственных должностных лиц.
…он пренебрегал своими обязанностями префекта анноны. — Аннона — лат. "ежегодный урожай", а также вообще "продовольствие". Префект анноны — начальник продовольственного снабжения Рима. Со времен Августа императоры возлагали эту должность на себя, чтобы жители Города были обязаны своим питанием лично принцепсам.
Элийский порт — торговый причал и склады на берегу Тибра в Риме. Икел — имеется в виду Икел Марциан (ум. в 68 г.), вольноотпущенник и наложник Гальбы, его советник; после провозглашения того императором возведен во всадническое достоинство; вслед за приходом к власти Отона был казнен.
587 Паллиум — здесь: просторный греческий плащ.
… Нимфидий Сабин был префектом претория… — Нимфидий Сабин (см. примем, к с. 572) и Тигеллин (см. примем, к с. 434) отправляли эту должность совместно и одновременно.
Сады Сервилия — по-видимому, находились на южной окраине Рима, по дороге в Остию.
588 Драхма — см. примем, к с. 126.
589 Храм Весты — см. примем, к с. 61.
… императорский писец Эпафродит… — Эпафродит — вольноотпущенник Нерона, его советник по прошениям; роль Эпафродита описана в "Актее" точно, поведение же Спора (а он действительно был с Нероном во время его бегства) — вымысел Дюма.
… сходить за гладиатором Спикулом… — Спикул — реальное историческое лицо, раб-телохранитель Нерона.
590 Священная гора (соврем. Монте Сакро) — возвышенность приблизительно в 5 км к юго-западу от границ Древнего Рима на реке Анион.
592 Минтурнские болота — располагались в области города Минтурны — поселения аврунков в южном Лации, близ устья реки Лирис.
… словно Кака в его пещере? — Римская мифология знает несколько персонажей по имени Как (Какус). Здесь имеется в виду Как — беглый раб царя латинов Эвандра, живший в пещере. Он похитил стада, принадлежавшие Гераклу, и спрятал их в своей пещере. Геракл обнаружил вора в этой пещере и убил его.
593 Тантал — см. примеч. к с. 507.
… заставил вскрыть себе вены, как Сенеку… — См. примеч. к с. 469.
596… в каморку вошла женщина… — Икел (см. примеч. к с. 586) обещал Спору, Фаону и Эпафродиту, что труп Нерона будет сохранен нетронутым и выдан для кремации слугам погибшего, и сдержал свое слово. Реальная Актея добилась разрешения похоронить прах Нерона в родовой усыпальнице Домициев.
… надгробие, увенчанное алтарем из лунского мрамора и окруженное оградой из фасосского. — Лунский мрамор, белый, с голубыми прожилками, добывался (и добывается ныне) в городе Луна (соврем. Каррара) в Италии, фасосский — на острове Фасос (см. примеч. к с. 347).
… Спора и Эпафродита нашли мертвыми… — В действительности об их судьбе ничего не известно.
597… приносили на трибуны изображения Нерона в претексте… — Претекста — затканная красным по краям тога свободнорожденных мальчиков и юношей (до 16-летнего возраста); из взрослых ее носили только высшие жрецы и магистраты, в т. ч. императоры.
… через двадцать лет юный Светоний… слышал о каком-то загадочном человеке, выдававшем себя за Нерона. — См. "Жизнь двенадцати цезарей" ("Нерон", 57).
Святой Иероним — Софроний Евсевий Иероним (ок. 340–419/420), христианский писатель и аскет, один из отцов церкви, святой в католичестве, блаженный в православии.
Сульпиций Север (365–425 или 363–406) — церковный историк, автор "Священной истории".
… устами святого Мартина… — Имеется в виду святой Мартин, епископ Турский (ум. ок. 396 г.).
Святой Августин — Аврелий Августин (354–430), святой в католичестве, блаженный в православии, епископ Гиппонский, богослов и философ, один из отцов церкви. Наиболее известные его произведения: "О граде Божием" (первая попытка изложения христианской философии истории) и "Исповедь".
598 Виа Сторта — дорога, ведущая из Рима в северо-западном направлении; проходит мимо могилы Нерона.
… канули в забвение имена Тита и Марка Аврелия. — Тит (см. примеч. к с. 34) и Марк Аврелий (см. примеч. к с. 37) считались образцовыми правителями, особенно в XVIII в.
Примечания
1
Сделал при жизни (лат.).
(обратно)2
Поставил себе при жизни (лат.).
(обратно)3
При жизни повелел возвести (лат.).
(обратно)4
Кладбище (ит.).
(обратно)5
Ломать хлебы (лат.).
(обратно)6
Городу и миру (лат.).
(обратно)7
Во исполнение обета (лат.).
(обратно)8
"Воспевая языком" (лат.).
(обратно)9
"Заповедь новую даю вам" (лоъ.;.
(обратно)10
Да позволят нам читатели вести счет времени так, как принято ныне, а не так, как это делают еще и сегодня римляне. (Примеч. автора.)
(обратно)11
Матерь, исполненная горечи (лат).
(обратно)12
"Следует сорвать одежду, связать и отстегать лозами Иисуса из Назарета, человека, склонного к бунтарству, нарушителя закона Моисеева, обвиненного священнослужителями и начальниками его племени.
Ступай, ликтор, и действуй" (лат.). (Примен. автора.)
(обратно)13
Се человек! (лат.)
(обратно)14
Латинский текст приговора, каким его сохранила древняя традиция, выглядит так:
"Jesum Nazarenum, subversorem gentis, comtemptorem Ccesari,falsum Messiam, ut majorum suce gentis testimonio probatum est, ducite ad communis supplicii locum, et eum in ludibriis regice majestatis, in medio duorum latronum cruci affigite.
1, lictor, expedi cruces". (Примеч. автора.)
(обратно)15
Vera icon — "истинное изображение" (Примеч. автора.)
(обратно)16
"Слеза Христова" (лат.).
(обратно)17
Римляне переименовали их в Урана, Сатурна и Юпитера. (Примеч. автора.)
(обратно)18
О теогонии Гесиода, основы которой излагает здесь Прометей, см. прекрасную работу г-на Гиньо. (Примеч. автора.)
(обратно)19
Текст пророчества почти дословно следует тому, что излагает Эсхил в "Прометее прикованном". (Примен. автора.)
(обратно)20
"Легкое нисхождение в Аверн" (лат.). — "Энеида", VI, 126.
(обратно)21
Нарезатель кушаний. (Примеч. автора.)
(обратно)22
Клавдий Пульхр придумал этот прием, сохранивший его имя. (Примеч. автора.)
(обратно)23
"Поражай чрево!" (лат.)
(обратно)24
Название бронзового наголенника. (Примеч. автора.)
(обратно)25
Выход для живых (лат.).
(обратно)26
Galli означает и "петухи" и "галлы". (Примеч. автора.)
(обратно)27
По-латыни Vindex значит "мститель". Эти каламбуры, непонятные для нас, были совершенно ясны Нерону. (Примеч. автора.)
(обратно)28
"Куриное" (лат.).
(обратно)29
Гомер, "Илиада", X, 535. — Перевод Н.Гнедича.
(обратно)
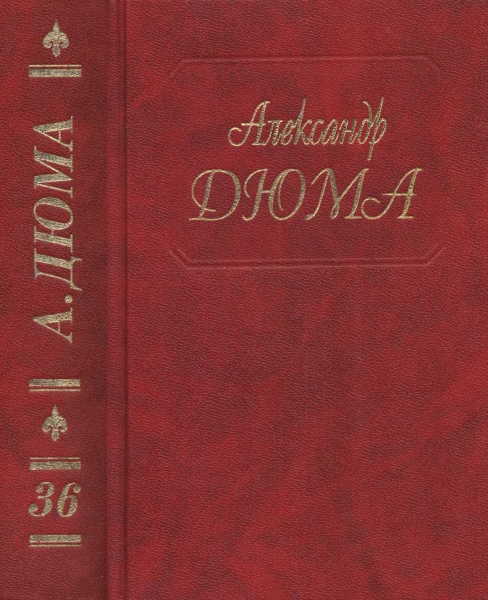

Комментарии к книге «Исаак Лакедем. Актея», Александр Дюма
Всего 0 комментариев