Первая часть Аномалии графа де Кельмарка
I
В тот год первого июня Анри де Кельмарк, молодой «Дейкграф», владелец замка Эскаль-Вигор, пригласил к себе большое общество по образцу радостного приезда, чтобы ознаменовать своё возвращение в колыбель своих предков, на Смарагдис, самый богатый и обширный остров, находящийся в этих обманчивых и героических северных морях, заливы и фьорды которых обременяют и врезываются в берега самыми прихотливыми и многочисленными архипелагами и дельтами.
Остров Смарагдис находится в зависимости от полугерманского и полукельтского королевства Керлингаландии. При образовании восточной торговли, здесь основалась колония ганзейских купцов. Род Кельмарков считал своими предками морских королей или датских викингов. Как банкиры, имевшие некоторые сношения с пиратами, как деятельные и опытные люди, они следовали за Фридрихом Барбароссою в его походах в Италию, и выказали глубокую привязанность и верность своему королю, из дома Гогенштауфенов.
Один из Кельмарков был даже любимцем Фридриха II, этого страстного императора, самого одарённого из романтического дома Швабии, отличавшегося глубокими мужественными мечтами севера среди светлой, залитой солнцем страны. Этот Кельмарк погиб в Беневенте вместе с Манфредом, сыном своего друга.
Большое панно бильярдной комнаты в замке Эскаль-Вигор до сих пор изображает Конрадина, последнего из Гогенштауфенов, целующим Фридриха Баварского перед тем, как взойти вместе с ним на эшафот.
В XV веке в Антверпене отличался своим богатством один из Кельмарков, в качестве королевского казначея, подобно таким лицам, как Фуггер и Сальвиати, и показывался среди этих знаменитых ганзейцев, которые приходили в собор или на биржу в сопровождении музыкантов, игравших на флейтах и виолах.
Замок Эскаль-Вигор, историческое и даже легендарное жилище, оставшееся от какого-нибудь тевтонского замка или итальянского палаццо, возвышается на восточном краю острова при пересечении двух очень высоких укреплённых набережных, откуда он кажется господствующим над всей страной.
С незапамятных времён, род Кельмарков считался владыками и покровителями острова. Охрана и поддержка знаменитых укреплённых набережных выпадала на его долю в течение целых веков. Одному из предков Анри даже приписывали устройство этих обширных земляных валов, которые навсегда предохранили страну от наводнений, именно от этих ежегодных наводнений, во время которых вода поглощает несколько соседних островов.
Только однажды около 1400 года, в одну ночь настоящего потопа, морской воде удалось прорвать часть этой цепи искусственных холмов, и её бешеные волны проникали в самую середину острова; по рассказам, замок Эскаль-Вигор был достаточно обширен и снабжён съестными припасами, чтобы служить убежищем и оплотом для всего населения острова.
В течение всего времени, пока воды покрывали страну, Дейкграф держал у себя свой народ, но когда воды удалились, он не только исправил на свой счёт набережную, но и заново выстроил жилища своим вассалам. Впоследствии эти почти пятисотлетние набережные приняли вид природных холмов. Они были обсажены на своём хребте густыми рядами деревьев, немного наклонёнными от западного ветра. Кульминационным пунктом было то место, где два ряда холмов соединялись и образовывали нечто вроде площади, выступавшей в море, как шпора или нос корабля. Как раз на конце этого мыса возвышался замок. Со стороны океана, словно высеченная из камня набережная представляла из себя гранитную стену, которая напоминала величественные скалы Рейна, и из которой казалось был создан украшавший её замок.
При сильном приливе, волны омывали подножие этой крепости, сооружённой против водяных ужасов. Со стороны замка, обе набережные превращались в тихую равнину, и по мере того, как они удалялись, их разветвления образовывали долину, всё увеличившуюся и представлявшую из себя чудесный парк с рощицами, прудами, пастбищами. Деревья, никогда не подрезаемые, открывали широкие опахала, всегда колебавшиеся от порывов ветра. Бег ланей казался дикою молниею среди компактных зелёных луговин, где коровы щипали сырую и сочную траву оттенка текущей зелёной краски, от которой остров получил своё название Смарагдиса или Изумруда.
Несмотря на популярность рода Кельмарков в стране, за последние двадцать лет их владение оставалось необитаемым. Родители настоящего графа, два молодых и красивых существа, любили друг друга до такой степени, что не могли пережит один другого. Анри родился за несколько месяцев до их кончины. Его бабушка по отцу приняла в нём участие, но она не желала переезжать в эту страну с вредными воздухом и климатом, которым она и предписывала преждевременную кончину своих детей. Кельмарк был воспитан на континенте, затем, по совету докторов, его послали учиться в один интернациональный пансион в Швейцарии.
Там, в Боденбергском замке, где протекла юность Анри, он долгое время представлял из себя изящного блондина с лёгким оттенком малокровия и истощения на задумчивом и сосредоточенном лице, с большим выдающимся лбом, с щеками розового увядавшего цвета, преждевременным блеском в больших синих глазах, отличавшихся лиловатым оттенком аметиста, или пурпурных облаков и волн при закате солнца; очень большая голова давила под его воротничком опущенные плечи; у него были слабые члены и впалая грудь. Хрупкое сложение юного графа обрекало его на издевательства со стороны товарищей, но он избёг этого благодаря престижу его ума, престижу, который он внушал даже профессорам. Все уважали в нём его стремление к одиночеству, мечтаниям, его желание избегать общие скучные сборища, гулять одному в глубине парка, взяв книгу любимого автора, или даже, чаще всего, удовлетворяясь только собственными думами. Его болезненное состояние усиливало ещё его чувствительность. Мигрени, перемежающая лихорадка часто приковывали его к постели и отделяли от других на несколько дней. Однажды, когда ему было пятнадцать лет, он чуть не утонул во время одной прогулки по воде, так как один из его товарищей опрокинул лодку. В течение нескольких недель он был между жизнью и смертью, затем по какой-то странной прихоти человеческого организма, оказалось, что случай, который чуть не унёс его в могилу, закончил спасительный кризис его тела и наступила реакция, так долго желаемая его бабушкой, которая обожала его и вкладывала в него последнюю надежду. Вместе с опекунами молодого графа, она сама выбрала этот отдалённый пансион, так как он одновременно представлял из себя образцовый коллеж и настоящий Kurhaus, построенный в самой здоровой части Швейцарии. Прежде, чем обратиться в космополитическую гимназию, предназначенную для юных аристократов, Боденбергский замок был просто водолечебным заведением, местом сборища богатых больных Швейцарии и южной Германии. Бабушка Анри надеялась на здоровый климат долины реки Аар и на гигиену этого воспитательного заведения, чтобы привлечь к жизни, возродить единственного потомка знаменитого рода. Разве этот обожаемый внук не был единственным ребёнком её детей, умерших от сильной любви.?
Кельмарк запасся там не только здоровьем, но и был награждён новым телосложением; быстрое выздоровление восстановило не только его прежние силы, но он неожиданно вырос, окреп, набрался мускулов, широкой груди, здорового тела и крови. С этим притоком юности, в Кельмарке появились горячность, наивность нежного оттенка которых до сих пор не знала его слишком задумчивая и углублённая в себя душа.
Прежде он наблюдал только за атлетическими упражнениями товарищей, теперь он стал принимать в них участие и кончил тем, что усовершенствовался сам. Далеко от того, чтобы казаться не довольным, как прежде, передвижениями страстных игроков, он выделялся теперь своею настойчивостью и увлечением; он, который часто, желая избегнуть усталости от восхождения на юрский хребет, скрывался в гротах, в глубине старинных ванн, теперь блистал среди самых неутомимых экскурсантов по горам.
Он оставался одновременно усердным чтецом и прилежным учеником, как и большим любителем физических упражнений и декоративных игр, – напоминая в этом отношении законченных людей, гармонических существ эпохи Возрождения.
После смерти своей бабушки, которую он обожал, он приехал на родину, о которой в течение лет проведённых в коллеже, сохранил сыновнее воспоминание; к тому же впечатлительные, несдержанные жители острова должны были понравиться его душе, увлекавшейся преувеличиваниями и искренностью.
Жители Смарагдиса принадлежали к той кельтской расе, которая создала Бретонцев и Ирландцев. В XVI веке снова возобновились там смешанные браки с Испанцами, и словно укрепили преобладание тёмной крови на бледной коже Кельмарк знал этих жителей острова, отличавшихся нервною сложною организацией, которая резко выделялась среди бледных и розоватых народов, окружавших их, – кроме этого, они составляли исключение во всём королевстве, так как проявляли глухое упорство христианской, в особенности, протестантской морали. Несмотря на обращение в христианство этих стран, дикие жители Смарагдиса приняли крещение только после истребительной войны, которую объявили им христиане, желая отомстить за своего апостола святого Ольфгара, замученного всевозможными каннибальскими пытками, которые изображены до мельчайших подробностей на декоративных фресках в Зоутбертингской приходской церкви одним из учеников Тьерри Бутса, художником жестокой резни. В легенде женщины из Смарагдиса принимали особенное участие в этом убийстве, даже до такой степени, что прибавляли прелюбодеяние к жестокости и обращались с Ольфгаром, точно вакханки с Орфеем.
Много раз, в течение веков, чувственные и пагубные ереси возбуждали эту страну, отличавшуюся бурным темпераментом и полнейшей автономией. В королевстве Керлингаландии, ставшей почти протестанской, где лютеранство распространялось, как государственная религия, скрытое и иногда страшное бесчестие населения Смарагдиса внушало консистории много хлопот.
Таким образом епископ епархии, от которой зависел остров, принуждён был послать туда одного ретивого протестантского священника, лукавого, злобного и желчного сектанта, по имени Балтуса Бомберга, который сгорал от желания отличиться и отправился на Смарагдис, точно в крестовый поход против новых Альбигойцев.
Разумеется, он действовал в своих интересах. Несмотря на правоверное давление, остров сохранил свою первоначальную распущенность и паганизм. Ереси антверпенских Таншелена и Пьерра Ардуазье, которые, пять веков тому назад, были распространены на соседних странах Фландрии и Брабанта, пустили большие корни на Смарагдисе и сохранили свой первоначальный характер.
Всевозможные традиции и костюмы, забытые другими провинциями, существовали там, несмотря на проклятия и уговоры. Деревенские ярмарки происходили там в сопровождении телесных мук, более диких и разнузданных, чем в Фрисландии или Зеландии, уже достаточно известных по бешенству их празднеств, и можно было подумать, что женщины каждый год в это время бывали одержимы этой телесной истерией, которая когда-то заставляла так страдать епископа Ольфгара.
По этому странному закону контрастов, из-за которого противоположности сходятся, эти жители острова в настоящее время без определённой религии оставались суеверными фанатиками, как большинство туземцев других стран, наделённых призрачным туманом и воображаемыми явлениями. Их вера в чудеса словно происходила из отдалённой теогонии, мрачных и роковых культов Тора и Одина; но резкие аппетиты смешивались с их фантастическими воображениями, и последние возбуждали их любовь так же хорошо, как и их ненависть.
II
Анри, благодаря своей странной натуре и смелой философии, убедил себя не без некоторого основания, что из-за сходства своей души с этой дикой и первобытной обстановкой, он прекрасно будет себя чувствовать там.
Он ознаменовал даже своё появление в качестве «Дейкграфа» таким нововведением, против которого пастор Балтус Бомберг принуждён был изливать сильный гнев с высоты своей кафедры.
Действительно, чтобы польстить первобытному чувству жителей острова, Анри пригласил к обеду не только нескольких дворян и крупных земельных собственников, двух или трёх художников из среды своих городских друзей, но позвал также в огромном количестве простых фермеров, мелких судохозяев, низшего разряда владельцев шаланд и парусных лодок, сторожа на маяке, шлюзного пристава, представителей рабочих партий на плотинах, вплоть до простых землевладельцев. На своё новоселье он пригласил не только всех этих туземцев, но и их жён и дочерей.
По его нарочному приказанию, все гости, мужчины и женщины, оделись в национальный костюм или форму. Мужчины показывались в куртках из светло-коричневого или ослепительно рыжего цвета, открывая на своих шерстяных рубашках вышитые атрибуты их профессии: якоря, земледельческие орудия, головы быков, инструменты землекопов, подсолнечники, чайки; – эта пёстрая, почти восточная живопись красиво выделялась на синем фоне, точно герб на каком-нибудь щите. На широких красных поясах сверкали пряжки из старого серебра одновременно совсем дикой и трогательной работы: другие хвастались дубовою красивою ручкою на своих широких ножах; моряки парадировали в высоких толстых сапогах, с кольцами из тонкого металла в ушах, столь же красных, как и раковины; землекопы были одеты в панталоны того же бархата, как их куртки, и эти панталоны, узкие вверху, расширялись от икр вплоть до самой ступни. Их небольшая шляпа напоминала головной убор судейских в эпоху Людовика XI. Женщины сооружали головные уборы из кружев под коническими шляпами с широкими лентами, одевали очень старинные корсажи с ещё более фантастическими арабескими, чем жилеты мужчин, широкие юбки такого же бархата и того же светло-коричневого цвета, как куртки и шаровары, а золотые цепи из колец три раза окутывали их шейки; подвески к серьгам отличались древними, почти византийскими рисунками, кольца имели столь большие камни, точно пастырское кольцо.
Это были большею частью здоровые представители брюнетов этой пламенной, но всё же полной расы чёрных и нервных Кельтов, с вьющимися и беспокойными волосами. Загорелы крестьяне и моряки, вначале обеда немного стеснявшиеся быстро овладели собой. С неловкими, но естественными движениями, даже иногда очень изящными, они употребляли ножи и вилки, о мере того, как обед приближался к концу, языки развязывались, смех, иногда какое-нибудь ругательство вырывались на их гортанном живописном наречии, с неожиданными ласками и объятиями.
Хозяин их, логично отменивший всякий этикет, и всякое первенство, очень удачно рассадил гостей; рядом с кем-нибудь из аристократов сидела какая-нибудь фермерша, или владелица шлюпки или торговка рыбою, и подобно этому, рядом с какой-нибудь соседкой замка, садился какой-нибудь юный содержатель дойных коров с отважною наружностью или хозяин шлюпки с узловатыми мускулами на руках.
Друзья Кельмарка заметили, что почти все гости были в расцвете своих сил или кипучей зрелости. Точно это был подбор красивых женщин и пластических, здоровых мужчин.
Среди приглашённых находился один из главных землевладельцев страны, Мишель Говартц, хозяин фермы Паломников, вдовец, отец двух детей, Гидона и Клодины.
После владельца Эскаль-Вигора, фермер Паломников был самым важным лицом в Зоудбертингском селении, на территории которого возвышался замок Кельмарков.
В течение детства и отсутствия молодого графа, Говартц даже заменял его в качестве председателя wateringue’а или совета для поддержания и сохранения наносных земель, под названием польдерсов, – совета, первым лицом которого был Дейкграф. И без некоторой обиды для своего самолюбия, после возвращения Кельмарка, фермер был низведён в число простых членов совета. Но приветливость молодого графа заставили вскоре забыть Говартца об этом небольшом унижении. Затем, в wateringue’е он считался теперь заместителем Дейкграфа, в то время как в качестве судьи он имел по статуту право инициативы и свободный голос. К тому же, разве после этого он не был избран бургомистром прихода? Толстый крестьянин, 40 лет, с красивой осанкой, не злой, но тщеславный, слабого характера, он был очень польщён приглашением посетить замок и сесть вместе с дочерью во главе стола. Поддерживаемый своими кумовьями, в особенности, подбиваемый и подстрекаемый своей дочерью, не менее его тщеславной, но более умной Клодиной, он не нарушал прерогативов и гражданских льгот и гордо обращался с пастором Бомбергом. Одно время он боялся, что граф де Кельмарк употребит своё влияние, и его выберут магистратом селения. Но Анри ненавидел политику, соперничества, связанные с нею низкие поступки, интриги, компромиссы, на которые она побуждает общественных деятелей. С этой стороны Говартцу нечего было опасаться. Он решил поэтому стать другом и союзником знатного сеньора, чтобы лишить пастора всякой власти. Этот приём посоветовала ему Клодина, как только стало известно о приезде владельца замка Эскаль-Вигор.
Чтобы воздать честь бургомистру, граф пригласил Клодину Говартц сесть по правую руку возле себя.
Клодина, главная хозяйка в доме, была высокой и здоровой девушкой, с темпераментом амазонки, с большими грудями, мускулистыми руками, гибкою и здоровой талией, с бёдрами коровы, с властным голосом, – тип бой-бабы и валькирии. Пышные, тёмно-золотистые волосы окаймляли её гордую голову и распространяли свои пряди на короткий лоб, почти вплоть до её смелых и гордых глаз, карих и прозрачных, точно текущая бронза, а прямой и широкий нос, жадный рот, зубы кошки, подчёркивали быстрое возбуждение и грубость её натуры. Вся во власти тела и инстинктов и сильного желания властвовать, она оставалась до сих пор целомудренной и неизнасилованной, несмотря на горячность натуры, только из упорного тщеславия. У неё не было тени чувствительности или деликатности. Какая-то железная воля сковывала её и заставляла без всяких колебаний идти к цели. Со смерти матери, т. е. с её семнадцатилетнего возраста – теперь ей было уже 22 года, она управляла фермой, хозяйством, и до некоторой степени даже приходом. С ней должен был считаться пастор. Её брат, Гидон, восемнадцатилетний юноша, и даже её отец, бургомистр дрожали, когда она возвышала свой голос. Она считалась одной из лучших партий острова, перед нею очень заискивали, но она отсылала самых богатых претендентов, так как мечтала о таком браке, который мог бы вознести её над другими женщинами округа. Такова была и причина её добродетели. Своим красивым и трепетным телом, столь же заманчивым, как и способным увлечься, она приводила в отчаяние самцов с самыми серьёзными намерениями, хотя сама готова была отдаться, замереть в их объятьях, ответить страстным поцелуем на поцелуи, кто знает, может быть даже вызвать их или, по мере необходимости, взять силою.
Чтобы покорить и заглушить эти требования тела, Клодина в течение недели, изнуряла себя тяжёлой работой, утомительными хлопотами, а во время деревенских ярмарок, она отдавалась бешеным танцам, вызывала странные выходки, возбуждала бешеные крики и ссоры между своими кавалерами, но, обольщая победителя, укрощала его по мере надобности, выказывала ещё больше грубости, чем он сам, доходя до того, что била его, обращалась с ним, как он обращался с своими соперниками, затем, невинная, скрывалась. Если же ей случалось с каким-то безумием ответить на чью-либо ласку, допустить какое-нибудь вольное обращение, она овладевала собой в критический момент, вспоминая о благоразумии из-за своей тщеславной мечты.
Как только она увидела Анри де Кельмарка она поклялась в душе стать владелицей замка Эскаль-Вигор.
Анри был красивым кавалером, холостым, неимоверно богатым, судя по рассказам, и столь же благородным, как король. Чего бы это ни стоило этой гордой самке, он должен был жениться на ней. Не было ничего легче, как заставить его полюбить себя! Разве она не кружила головы всем молодым деревенским парням? На что бы ни решились самые знатные, чтобы победить её? Можно было предвидеть, что бы произошло в случае отказа какого-нибудь мужчины, если б она согласилась связать свою судьбу с его судьбой.
Клодине было уже известно, так как она встречала графа в парке и на морском берегу, что его сопровождала на остров одна молодая женщина, его гувернантка или, скорее, его возлюбленная. Эта связь переполнила даже чашу презрения пастора Бомберга! Но Клодина не очень беспокоилась о присутствии этой особы. Кельмарк не должен был придавать этому большого значения. Доказательством того служило то обстоятельство, что барышня не показалась за столом. Клодина льстила себя надеждой, что прогонит её, и, если понадобится, займёт её место, в ожидании брака; она была в достаточной мере уверена в себе, чтобы отдаться Кельмарку и затем заставить его жениться. К тому же, такая самка в духе художника Йорденса почти не считалась с этой маленькой, бледной малокровной и худой особой, лишённой здоровых и деревенских прелестей.
Нет, граф де Кельмарк не может долго выбирать между этой жеманницей и красавицей Клодиной, самой блестящей из всех самок Смарагдиса и даже Керлингаландии.
Во время обеда она смеривала молодого человека с головы до ног с взорами и чутьём сладострастной вакханки, одновременно изучая обстановку и сервировку глазами оценщика. Что касается цены всей собственности, она давно уже составила о ней понятие, как и о всех других собственностях. Эта обширная треугольная долина, ограниченная с двух сторон плотинами, а с третьей, решёткой и широкими рвами, представляла из себя вместе с возделанными полями и примыкавшими к ней лесами, около десятой части всего острова. Кроме того, рассказывали ещё о владениях Кельмарка в Германии, Нидерландии и Италии.
Рассказывали также, что его старая бабушка оставила ему около трёх миллионов гульденов, в доходных бумагах. Больше ничего не надо было, чтобы положительная Клодина сочла Кельмарка своим женихом, очень подходящим мужем. Может быть, если б он не был так богат и знатен, она предпочитала бы его немного более полным и здоровым. Но она не переставала восторгаться его изяществом, его аристократическими чертами лица, его девическими руками, красивыми синими глазами, тонкими усами, и заботливо подстриженной бородкой. То, что Дейкграф казался немного сдержанным или конфузливым, временами почти томным и меланхолическим, могло только нравиться крестьянке не потому, чтобы она впадала в сентиментальность; напротив, этого не было вовсе в её слишком материалистическом характере, но потому, что эти минуты задумчивости Кельмарка, казалось, выдавали у него слабую натуру, пассивный характер. В силу этого она могла бы только ещё легче руководить им и его состоянием. Да, этот аристократ не мог быть более податливым и гибким. Как иначе объяснить его долгое терпение этой «особы», этой барышни, которую проворная Клодина сейчас же сочла за непрошенную гостью? Рассуждение которое придумала девица, не было лишено логики: «Если эта нахалка могла покорить его и распоряжаться им, то как легко победить его настоящей женщине!»
Приёмы Анри не были совсем таковыми, чтобы могли разочаровать её. Он выказывал всё время какую-то лихорадочную весёлость, близкую почти к той весёлости, которой отдаётся мыслитель чтобы забыться; он ухаживал за своей соседкой и занимал её с такою настойчивостью, что она вообразила, что уже достигла цели. Эта непринуждённость Кельмарка, в конце концов, возмутила некоторых дворянчиков, приглашённых на это странное пиршество, но они не показывали ничего и удивлялись в душе на это нелепое соединение всех сословий, но уступая ему только ввиду ранга и состояния Дейкграфа, в его присутствии они продолжали находить его идею необыкновенно эстетическою и восторгались ею. Мы можем себе представить, в каких выражениях они рассказывали об этом непристойном маскараде пастору и его жене, так как они вместе с двумя или тремя святошами составляли всю его паству. Один за другим они потребовали свои экипажи и быстро удалились с их жеманными жёнами и наследницами. После их отъезда все веселились гораздо свободнее.
Граф, умевший рисовать и писать красками, как настоящий художник, захотел за кофеем набросать очень лестный медальон Клодины, который он приподнёс ей после того, как он всех обошёл, вызвав большой восторг у этих простых душ, которые радовались простоте их молодого графа. Мишель Говартц, в особенности, был вне себя от восторга, так как ему льстило внимание графа к его любимому ребёнку. Анри всё время чокался с Клодиной, и не переставал восторгаться её костюмом:
– Он очень идёт к вам, – говорил он. – Насколько естественнее кажетесь вы в нём, чем вот та дама, которая заказывает свои туалеты в Париже! – Он указал ей на одну очень сдержанную баронессу, дурно одетую, сидевшую на другом конце стола; с самого начала обеда она не переставала делать гримасу и хранить гробовое молчание, так как по обеим сторонам от неё сидели два непринуждённых морских волка.
– Пфуй! – отвечала Клодина, – вы хотите смеяться, граф. Хорошо, что вы просили явиться нас в национальных костюмах, иначе я была бы одета, как наши дамы из Ипперзейда.
– Умоляю вас, – отвечал граф, – берегитесь подобных шутовских костюмов. Это было бы равносильно измене!
И он отдаётся восхвалению костюма, наивно сохранившегося в этой местности, в отличие от других стран и народов.
– Костюм, – заявляет он, – довершает человеческий тип. Мы должны иметь наши собственные одежды, как мы имеем нашу флору и фауну. Его фантастические слова, казалось, рисовали высокие красивые человеческие формы, облечённые в гармонические ткани.
Во время его этнографической лекции он заметил, что молодая крестьянка слушала его, не понимая и без всякого восторга.
Чтобы развлечь её, он принимался показывать ей различные комнаты в замке, заново отремонтированные, полные воспоминаний и реликвий. Клодина взяла под руку графа, и он открывая шествие, пригласил других гостей следовать за ним из одной амфилады комнат в другую. Глаза Клодины, точно два горячих уголья, поглощали золото на рамах, мрамор и лампы, феодальные ковры, редкие доспехи, но оставались бесчувственными к искусству, вкусу, порядку этих роскошных аксессуаров. Благородные обнажённые тела, нарисованные, или высеченные из мрамора, среди которых копии молодых людей Буонаротти окаймляли отдельные группы Сикстинского плафона, поражали её только их видом in naturalibus. Она, откидываясь, заливалась шутливым смехом, или закрывала себе лицо, представляясь поражённой, с волнующейся грудью; Кельмарк чувствовал, как её тело дрожит и трепещет возле его ног. Мишель Говартц шествовал за ними с целою бандою весёлых и удивлённых гостей. Шутники комментировали картины художников, увлекаясь ими, и среди мифологической наготы указывали глазами и даже жестами на свой выбор. Несколько раз бургомистр просил их быть поскромнее.
И так как он тщетно взывал к ним, то заговорил с графом:
– Кто не доволен видеть вас среди нас, граф, это наш пастор, дон Балтус Бомберг.
– Ба! – отвечал Дейкграф. – В чём я его прогневал? Я не хожу в церковь, согласен, но я имею понятие, как и он, о религии, и что касается настоящей, вечной добродетели, то я схожусь хорошо с добрыми поклонниками всех культов… Действительно, Дон Балтус отказался от моего приглашения на сегодняшнее празднество, давая понять, что подобные смешения возмущают его душу… Вот так евангелическое учение!.. Он, кажется, приветлив с прихожанами…
– Знаете ли вы, что он уже касался вас в своей проповеди? – спросила Клодина.
– Неужели? Он делает мне много чести.
– Он не нападал открыто на вас и остерегался назвать вас, – снова заговорил бургомистр, – но присутствовавшие всё же поняли, что дело шло о вашей светлости, когда он говорил о каких-то красивых владельцах замков, которые приезжают из столицы, выказывают нечестивые идеи, и отрицая всякий долг, подают дурной пример бедным прихожанам, издеваясь, своими развратными нравами, над священным таинством брака! И то, и другое! Этого хватило на добрую четверть часа, по крайней мере, нам рассказывали нам наши сёстры, потому что ни я, ни моя семья не вступают ногою в церковь!..
Услышав о намёке на его ложное семейное положение граф слегка изменился в лице, и его ноздри высказали даже нервный порыв гнева, который не избег взгляда Клодины.
– Разве мы не будем иметь чести быть представленными г-же… или, не знаю, как назвать… мадемуазель?.. спросила крестьянка с каким то вкрадчивым шёпотом.
Новое выражение тайного неудовольствия показалось на лице Кельмарка. Это облако снова не исчезло от взоров хитрой деревенской девушки. «Тем лучше, – подумала она, – жеманница, кажется надоела ему!»
– Вы хотите сказать о мадемуазель Бландине, моей экономке, – проговорил Кельмарк весёлым тоном. – Извините её. Она очень занята, к тому же она чрезвычайно конфузливая… Ей доставляет большое удовольствие приготовлять всё и направлять за кулисами, мои приёмы… Она является чем-то вроде моим церемонмейстером, главным управителем в Эскаль-Вигоре…
Он засмеялся, но Клодина нашла этот смех немного принуждённым и намеренным. Напротив, с каким-то искренним выражением он прибавил: «Это почти моя сестра… Мы вместе закрыли глаза моей бабушке».
После паузы Клодина спросила: «Вы приедете к нам на ферму, граф?» – немного обеспокоясь за свои матримониальные планы, из-за этой горячей искренности в последних словах Анри.
– Да, граф, вы окажете нам большую честь этим посещением, – настаивал бургомистр. – Не хвастаясь, «ферма Паломников» не имеет себе равной во всём королевстве. Мы держим только породистых животных, превосходных коров и лошадей, как и свиней и ягнят…
– Рассчитывайте на меня, – сказал молодой человек.
– Разумеется, графу известна вся страна? – спросила Клодина.
– Почти. Внешний вид очень разнообразен. Ипперзейд произвёл на меня впечатление красивого городка с памятниками и даже любопытным музеем… Я нашёл там прекрасную картину Франса Гальса… Ах, какой-то толстенький маленький игрок на свирели; самая чудесная симфония тела, и воздуха, которым этот чрезмерный и мужественный художник оживил полотно… За этого чудесного молодца я отдал бы всех венер, даже кисти Рубенса… Я должен ещё вернуться в Ипперзейд.
Он остановился, понимая, что говорит на непонятном языке с этими людьми.
– Мне нравятся также и дюны, и вереск в Кларваче… Послушайте. Не там ли находятся странные жители?..
– Ах, дикари! – сказал бургомистр, с протестом и презрением. – Собрание спорщиков! Единственные бродяги и туземцы страны!.. Наш Гидон, наш негодный сын, навещает их! Грустно сказать, что он мог бы очутиться в их компании.
– Я попрошу вашего сына проводить меня когда-нибудь туда, бургомистр! – сказал Кельмарк, провожая своих гостей в другую комнату. Его глаза сверкали, при воспоминании об этом маленьком игроке на свирели. Теперь они затуманивались и его голос слегка задрожал, отличался выражением непонятной меланхолии, вслед за скрытым в кашле рыданием. Клодина продолжала смотреть направо и налево, вычисляя цену всем безделушкам и и редким вещам.
В билльярдной комнате, куда они вошли, вся стена была занята, как известно, картиною самого Кельмарка «Конрадин и Фридрих Баварский», согласно очень популярной гравюре в Германии. Страстный поцелуй двух юных принцев, жертв Карла Анжуйского, придавал их лицам выражение сильной любви, носившей какое-то божественное значение, намеренно подчёркнутое Анри.
– Вот… два юных принца. Предводители моих очень отдалённых предков… Им отрубают головы!.. – объяснял он, с намеренным смехом обращаясь к Клодине, которая стояла перед этою картиною со взорами ротозейки…
– Бедные дети! – заметила толстая девушка. – Они целуются, как влюблённые…
– Они глубоко любили друг друга! – прошептал Кельмарк, точно сказал аминь. И он повёл дальше свою спутницу. Пока она наивно замечала обилие картин и мраморов, Кельмарк ответил: «Действительно, это огромные полотна, вроде тех, которые находятся в Ипперзейде и в других музеях!.. Это украшает комнаты! За неимением моделей я копирую их!» – и в его словах на этот раз заключался какой-то равнодушный, недовольный тон, каким он хотел подделаться к окружавшим его людям.
Смеялся ли он над своими гостями или анализировал ли он себя самого?
По деревенскому обыкновению, сели за стол в 12 часов дня.
Теперь было уже девять часов и начинало темнеть.
Вдруг раздались громкие звуки медных труб. Приближались факелы под звуки серенады, и бросали в полумрак гостиных красноватый цвет северной зари.
III
– Что это? измена, ловушка! – вскричал Кельмарк, принимая загадочный вид.
– Наша молодёжь Гильдии св. Сецилии, наш оркестр, явился приветствовать вас, граф! – торжественно объявил фермер «паломников».
Глаза Кельмарка заблестели каким-то таинственным огнём и он сказал: «В другой раз я вам покажу мою мастерскую… Пойдёмте к ним навстречу!» и он поспешил спуститься по главной лестнице, казалось, очень счастливый этой переменой, против которой хитрая Клодина восставала в глубине души.
Говартцы и другие гости последовали за ним вниз в обширную оранжерею, широкие стеклянные дверцы которой были раскрыты по приказу всё же не показывавшейся Бландины.
Музыканты Гильдии расположились полукругом у балкона.
Они дуют со всех сил в трубы с широкими крыльями и бьют сильно в барабаны…
Все были одеты в красивый национальный костюм только с некоторыми вариациями. У многих смешной наряд, изношенный и даже заплатанный, показывал больше медной окиси и примеси, чем слишком новые наряды гостей. Некоторые из них были небрежно одеты, без курток, с рукавами рубашки, или матросской блузы, которая показывала их здоровую шею.
Это были почти все высокие и сильные парни, хорошо сложенные брюнеты, собранные со всех домов острова, как со всех ферм Зоудбертинга, так и с лачуг Кларвача. Гильдия, вполне демократического происхождения, насчитывала в своём составе сыновей благородных родителей наряду с мужественными детьми грабителей остатков кораблей и бродяг морского берега.
Самые младшие потомки лиц, потерпевших кораблекрушение, мальчики с взъерошенными волосами, блестящими, но жестокими глазами, с смуглым лицом, как у ангелов Гвидо Рени, уже полные, подвязав панталоны с разрезами у колен, верёвкою вместо помочей и украсив их ветвями и сухими листьями, исполняли за несколько динарий обязанность носителей факелов. Под предлогом увеличить освещение, но, в действительности, чтобы забавиться, во всё время пути, они опрокидывали свои фонари, проводили по земле пламенными языками смолы, которые они сейчас же затаптывали ногами, не боясь сжечь себе голые ноги, подошва которых стала тверда, как копыто.
В честь Дейкграфа, Гильдия св. Сецилии исполняла очень старинные народные песни, которые словно накладывали непонятную гармоническую дымку на ароматный тёплый вечер. Одна песня в особенности захватила и приятно удивила Анри своей жалобной мелодией, точно морской отлив, порыв ветра среди вереска или звукоподражание на плотинах рабочим, вбивающих сваи. Эти рабочие, или скорее их надсмотрщики, в действительности распевают её, чтобы придать себе силы во время труда. Запряжённые каждый за верёвку, они одновременно поднимают на воздух тяжёлую бабу и опускают её. Ноги сжимаются, тело вытягивается и зад сгибается в такт. Можно услыхать эту песенку и возле рыбацких лодок. Моряки вместе с нею берутся за свои инструменты, и с помощью мелодий и пастушеских песен они проводят иногда так скучные часы полного затишья моря или сливают свою жалобу и томность с трепетным ритмом волн.
Один из молодцов, ученик музыкальной школы в Ипперзейде, переложил эту песенку для трубных инструментов. Маленькая труба передавала эту немного грубоватую мелопею с модуляциями под аккомпанемент больших труб и тромбонов, изображавших глубокий рёв волн.
Кельмарк внимательно рассматривал этого юношу, игравшего на маленькой трубочке, более красивого и рослого, чем его сверстники. С стройной талией, с цветом лица амбры, с бархатными глазами, но длинными чёрными ресницами, с мясистыми и очень красными губами, расширенными ноздрями из-за таинственных ощущений обоняния, чёрными густыми волосами, он был очень красив в своём дурном костюме, который облегал его формы, точно шерсть на эластических членах кошек. Тело, нежно раскачивавшееся и переваливавшееся, казалось, следовало за музыкальными переходами и исполняло на месте очень медленный танец, похожий на трепет осени в летние ночи, когда нежный ветерок колышет растения. Точно высеченная из мрамора фигура этого молодого крестьянина, который выделялся по музыкальности из среды своих собратьев, как раз напомнила Кельмарку игрока на свирели Франца Гальса. Этот юноша казался ему чудесною живою картиною сообразно полотну из музея Ипперзейда. Его сердце сжалось, он затаил дыхание от слишком пламенной радости.
Мишель Говартц заметил внимание, которое уделил граф молодому солисту, воспользовался паузою, чтобы подойти к нему и подвести его к Кельмарку довольно грубо за ухо, с риском оторвать его.
Ничто не могло передать выражения одновременно жалкого, испуганного и восторженного, маленького игрока на трубе, грубо подведённого к Дейкграфу. Казалось, что в его глазах и на его устах вылилась вся высшая мука мученичества.
– Граф, вот мой сын Гидон, негодяй, о котором я только что рассказывал вам, заговорил грубый бургомистр, заставляя вертеться мальчика кругом себя самого: вот товарищ спорщиков Кларвача, отъявленный лентяй, дурная голова, – который, может быть, отличается всеми достоинствами пения зяблика и жаворонка, но не имеет ни одного из тех достоинств, которых я надеялся найти в своём сыне. Ах! мечтать, свистеть, нежничать попустому, следить за ласточками, валяться на спине или греться на солнце, точно какой-нибудь тюлень на песке, вот что он любит! представьте себе, что с самого его рождения он ни в чём не был нам полезен. Так как он никогда не помогал нам на ферме, я решил сделать из него матроса и завербовал его в качестве юнги на рыбацкую барку… Напрасно! После трёх дней, лодка, возвратившаяся в порт, привезла его обратно… Посреди работы он вдруг останавливался и смотрел на облака и волны… Его небрежность и забывчивость навлекли на него несколько тяжёлых наказаний, но удары не имели большего значения для этого дурного юнги, чем уговоры и просьбы. В конце концов, мне пришлось взять его и определить на скучную работу: он стережёт коров и овец в равнинах Кларвача с этими маленькими вшивыми ребятами, которые носят сегодня факелы Гильдии… Разве это не позор, граф, когда он так сложен, как вы видите! Плакса! Он начинает кричать, не может видеть, чтобы убивали свинью во время деревенской ярмарки или чтобы мясник отмечал красным крестом спины овец, предназначенных на бойню!.. Гидон похож на девушку… Мой настоящий сын, это моя Клодина… Вот она делает дело!..
– Жаль, так как у него всё же умненький вид! – заметил Дейкграф с намеренным равнодушием. – Он чудесно играет на трубе. Почему вы не сделаете из него музыканта?
– Ах, нет! Вы изволите шутить, граф. Он неспособен отдаться чему-нибудь, что могло бы принести пользу. Ей-богу, чтобы избавиться от него, я хотел отдать его в паяцы. Может быть он сделал бы там карьеру. В ожидании этого он приносит мне только расходы и огорчения. Разве он не пытался чертить углём на заново оштукатуренной стене фермы под предлогом изобразить наших животных!
– Нет ли у него способностей к живописи? – прошептал скучающим тоном Кельмарк, принимая вид человека, удерживающего зевоту.
Товарищи Гидона окружили семью Говартца и Кельмарка, забавляясь смущением маленького пастуха, которого осуждал сам отец. Товарищи переминались, подталкивали друг-друга локтем, подчёркивая смехом и шёпотом жалобы бургомистра на своего сына.
Анри понял, что Гидон является прицелом для шуток всех этих хитрецов. Клодина смотрела на брата жестоким и злым взглядом. Анри угадывал, что бургомистр унижал и обижал сына, чтобы польстить Клодине, своей любимице. Между этой грубой, почти мужественной девушкой и этим маленьким, более утончённым крестьянином разница вырисовывалась очень резко. Проницательный Анри представлял себе бурные ссоры в доме Говартца, и ему становилось очень грустно. К тому же Клодина казалась ему обиженной тем вниманием, которое оказывал Дейкграф этому отверженному ребёнку, подвергнутому изгнанию, живущему почти вне семьи.
– Послушайте, бургомистр, мы поговорим об этом! – сказал Кельмарк. – Может быть, мы найдём возможность сделать что-нибудь из этого фантазёра!
Это были очень неясные слова, ничего не обещавшие, но, произнося их, Анри не мог удержаться, чтобы не взглянуть на пастуха, и последний прочёл или, по крайней мере, подумал, что прочёл в этом взгляде более серьёзное обещание, чем то, которое можно было угадать в этих словах. Бедняжка ощутил от этого взгляда радостное чувство, полное надежды и возможного спасения. Никогда никто не смотрел на него таким взглядом, или скорее никогда он не прочёл столько доброты в человеческом лице. Но непослушный юноша, разумеется, ошибался! Граф был бы безумным, если б заинтересовался молодцом, так дурно отрекомендованным фермером «Паломников». Кому придёт в голову связываться с этим дикарём, дурным мальчишкой?
«Только бы Клодина её наговорила бы слишком много дурного про меня!» – подумал маленький пастух, страдая при виде, что Дейкграф удалился с его жестокой сестрой. Но Кельмарк вышел, чтобы отдать приказания Бландине. Музыкантам предложили выпить. Когда граф показался снова и захотел чокнуться с ними, почему вышло так, что он протянул свой стакан к другому, протянутому так преданно к нему, стакану сына бургомистра Говартца? Юноша на одну минуту ощутил грустное чувство, но сейчас же вспомнил ласковый взгляд графа. Он отошёл от пившей компании, желая поблуждать по залам и, в свою очередь, полюбоваться картинами. Анри, занятый настойчивым ухаживанием за толстой Клодиной, невольно часто взглядывал на юного трубача Гильдии. Он заметил его выражение, одновременно задумчивое и восторженное перед изображением Конрадина и Фридриха, на которых едва взглянула его сестра с точки зрения любопытства.
Дейкграф был прав, что предложил выпить грубоватым исполнителям серенады. Им казалось даже, что он сам немного выпил, что не могло смутить их, туземцев Смарагдиса, истинных любителей пить, как все северные жители.
Вся компания, жаждавшая прогулки, разбрелась по садам и по морскому берегу, откуда раздавалось грубое веселие и громкий смех. Крик испугал даже парочку чаек, находившихся в деревьях плотины, и Кельмарк, гулявший с Клодиной по террасе со стороны моря, видел, как птицы несколько раз с жалобными криками вертелись вокруг фонаря маяка и внушили ему порыв поэтического сострадания, о котором его спутница и не подозревала. Что было общего между их полётом и его собственными тревогами? Затем он начал снова шутить с дочерью бургомистра.
Между тем члены Гильдии потребовали своего трубача, и так как он всё ещё находился в комнатах, перед картинами, они отправились за ним и увели его, несмотря на его протесты, в глубину парка. Анри, разумеется, преувеличивал их шутки с юным Говартцем, потому что вместе с Клодиной направился по какому то таинственному влечению, в сторону их шумных групп. Его приближение смутило их и прекратило быстро мучения, которым они хотели подвергнуть юношу. Однако, что-то вроде целомудренного чувства или уважения помешало Кельмарку прямо вмешаться и защитить мальчика; он отворачивался от него и удерживался даже, чтобы не сказать ему ни слова; но шутя с Клодиной, он возвышал голос и Гидон наивно воображал, что граф хочет, чтобы он его слышал…
Наконец, компания решила вернуться в селение. Раздались звуки барабана. После того, как все собрались на траве, босоногие малыши Кларвача побежали зажигать свои факелы. Музыканты выстроились во главе шествия. Граф проводил их до главной калитки и смотрел, как они, под красивые звуки, исчезали в большой роще, находившейся между замком и селением.
Клодина, опираясь на руку отца, восхваляла графа или, скорее, его состояние и роскошь, но не доверяла ещё фермеру главного плана, который она составила в своём уме.
Юный Гидон, выпрямив голову, исполнял свою партию с необыкновенным мужеством. Его трубочка, казалось, взывала к звёздам. В её время Гидон думал о владельце Эскаль-Вигора. В отзвуках трубы, он надеялся найти снова оттенок сострадательного голоса Дейкграфа, и в туманном воздухе он искал его глубокого взгляда. Странная противоположность: несмотря на этот восторг, бедняжка чувствовал сердце переполненным, горло сжатым, глаза готовыми заплакать – можно было угадать иногда его отчаянные призывы, возгласы на помощь, с которым его труба обращалась к далёкому покровителю, может быть, и не слыхавшему ещё их, но тем не менее охваченного симпатией, – после того, как они затихали под необыкновенно торжественными вязами.
IV.
Бландина, молодая женщина, причинявшая неприятность тщеславной Клодине, та, которую граф не без насмешки называл экономкой, режиссёром Эскаль-Вигора, приближалась к тридцатилетнему возрасту. Кто увидел её, бледную, нежную, с сдержанными приёмами, с чертами лица, казавшимися необыкновенно благородными, меланхолическим и гордым лицом, красиво одетую, тот не мог допустить её низкой обязанности.
Старшая дочь совсем мелких крестьян, молочников и огородников, родом из одной фламандской страны, которую разделили между собою Франция, Голландия и Бельгия, вплоть до шестнадцати лет она могла соперничать в полноте и грубых приёмах с молодой фермершей «Паломников». Её отец женился во второй раз, и точно для того, чтобы увеличить несчастье крошки, единственного ребёнка от первого брака, он умер, оставив целую массу братьев и сестёр. Мачеха Бландины изнуряла её работою и битьём. Она оставалась доброй и стоически относилась к своим страданиям, точно настоящее домашнее животное: она не только помогала своей второй матери по хозяйству, занималась стиркой и смотрела за младшими детьми, но она работала и в огороде, пасла коров, каждую неделю отправлялась пешком в город, нагруженная кувшинами молока и корзинами овощей.
Впоследствии часто, в часы уединения, наклонившись над шитьём, Бландина уносилась в своих мечтах к родной стране, именно, к отцовской хижине.
Последняя покрывается не больше растениями и мохом; старые стены скрывают трещины за ветвями жимолости и дикого винограда. Во дворе свиньи роются в навозе, куры пугаются их, и белые голуби улетают на крыши с жалобным шумом их крыльев; чёрная собака, с короткой шерстью, из породы шпицев, одновременно храбрый сторож и прекрасный пёс для упряжки, зевает в своей конуре, а через открытую дверцу снова показываются две коровы, которые жуют свежий клевер.
Бландина долгие годы ещё будет вспоминать в Смарагдисе свой родной домик в Кампине. Река Нете течёт недалеко оттуда и вырисовывается среди красивых кустарников; один из её мёртвых рукавов теряется позади палисадника, в болотистых пастбищах. Зелёные небольшие аллейки из мохнатых ольх и выпуклых ив, которые в известное время года покрываются пахучею жимолостью, как будто бережно опоясывают течение серебристой реки, где на краю селения вертится водяная мельница к большой радости ребят.
Управительница Эскаль-Вигора помнит, что позади лугов и полей находилась мрачная равнина, покрытая вереском, посреди которой поднимается холмик, где чёрные и бесформенные можжевельники показывались, точно тайное сборище демонов пустырей – вокруг одинокого дуба, – столь редкого дерева в этой местности, что всякая перелётная птица должна бы уронить там зёрнышко.
Это чудесное дерево, очевидно, привлекло к себе одну из тех небольших фигурок Богородицы, скрываемых под стеклом, в каком-то миниатюрном алтаре, которые простые люди вешают по скрытому инстинкту на самых романтических местах своего прихода. Этот холм напоминал тот дуб, под которым Жанна Д’Арк слушала «голоса»…
Маленькая Бландина с раннего возраста представляла из себя странную смесь восторженности и разума, чувства и рассудительности. Она была воспитана в католической религии, но после первого причастия она отклонила от себя мёртвую букву, чтобы отдаться только живому уму. По мере того, как она вырастала, она сливала представление о Боге с своей совестью. Довольно того, что она долго считала себя верующей, и её религия не имела ничего общего с религией ханжей и лицемеров, но была благородной и рыцарской религией. Поэтические наклонности, фантазия, сливались у Бландины с широким и чистым взглядом на жизнь. Храбрая и ловкая, она отличалась воображением доброй феи, но владела умелыми пальцами.
Сделавшись взрослой женщиной, руководившей экономией такого большого владения, Бландина вспоминала себя маленькой девочкой, коровницей, которая сидела под тенью дуба среди обширной кампинской равнины… В своих мыслях она слушает, как кричат лягушки в лужах и наслаждается, как и прежде, превосходным ароматом сожжённых ветвей, который доносит к ней ветерок! Отдых пастуха, в сумерки разводившего огонь, который ночью превращался в бледную густую дымку, как бы душу бесконечной равнины! Дикий аромат, предвестник этой местности, который никто не забудет, кто только раз вдохнул его!..
Эта поэзия, немного жестокая и грустная, но приятная и сильная, вдохновительница долга, даже жертвы, даже героизма охватила навсегда душу Бландины, в то время ещё маленькой полевой крестьянки, но находившей время мечтать и восторгаться, несмотря на тяжёлые и постоянные работы, которым подвергала её мачеха.
В особенности, одна пора лета вливала прежнюю тоску в душу псевдо-владелицы Эскаль-Вигора: это было при приближении 29 июня, дня Петра и Павла, когда заканчиваются условия между господами и слугами.
Эти перемены слуг служат каждый год предлогом для празднества, о котором Бландина вспоминает всегда съетрастною и нежною меланхолией. В Смарагдисе ей достаточно было запаха сирены и бузины, чтобы представить себе обстановку и актёров этих деревенских торжеств:
Яркое солнце усиливает запах живых изгородей и рощ. Перепёлка, спрятавшись во ржи, нежно кричит. Никто не работает на нивах. Мужчины, в их стремлении отдаться удовольствию, побросали местами косы, серпы и бороны. Если поля опустели, то, напротив, вдоль соединительных дорог тянется целая процессия экипажей огородников, покрытых белым полотном, нагруженных, не так, как по пятницам, овощами и молоком, но заново расписанных красками, убранных цветами, лентами, управляемых большим количеством нарядных рабочих, не менее весёлых крестьянок, разодетых во всё лучшее.
Эти слуги отправлялись утром, самым церемонным образом, за крестьянками в их прежнее жилище, и так как мужчины должны поступать на новое место только вечером, то они пользуются длинным летним днём, чтобы познакомиться с их будущими товарками по посеву, полевым работам и жатвою.
Часто подённые рабочие из одного и того же прихода, служащие у мелких крестьян, выпрашивают телегу для сена у богатого фермера и складываются между собою для найма лошадей. Все виды рабочих: молотильщики, веяльщики, жнецы, коровницы, жницы, садятся в телегу, превращённую в роскошный сад, где красные и полные лица блестят в ветвях, как спелые яблоки.
Сетка в виде попоны покрывает сильных лошадей, так как мухи безумно кусаются вдоль дубовых рощ; но петли сетки исчезают под золотыми бутонами, маргаритками и розами. Образовываются кавалькады. Экипажи, отправлявшиеся в те же деревни, или возвращавшиеся оттуда, трясутся вереницей, унося компанию нового легиона служанок.
Происходит блестящее и шумное дефилирование, апофеоз произведений земли, исполненный её членами. На их пути воздух обдаёт их ароматом, светом и музыкой!
Пастухи и рабочие, синяя куртка с отделкою блестящей ленты, фуражка в венке из густых листьев, ветка вместо палочки, находятся во главе шествия, подобно почтальонам или гарцуют вдоль дороги; никто не держится на стремени, ноги у одних раздвинуты, так как у лошадей широкие спины; другие сидят на седле, болтая ногами, как их можно встретить в сумерки на дорогах после работы.
Их громкие голоса передаются из одной деревни в другую.
Вот ещё rozenland! «страна роз!» говорят мальчики, когда их приближение вызывает удивление у собравшихся возле церкви; так как эти весёлые телеги подвергаются общему осуждению из-за припева баллады, которую товарищи поют только в тот день:
Nous irons au pays des roses, Au pays des roses d’un jour, Nous faucherons comme foin les fleurs trop belles Et en tresserons des meules si hautes et sí odorantes Qu’elles éborgneron la lune Et feront éternuer le soleil…[1]Сарабанды поглощаются у дверей кабаков.
«Страны роз» – название перешло с телег на людей, едущих в них, – заполняют залу, производя шум, точно, какой-то шабаш. При каждой остановке они наполняют пивом и сахаром огромную лейку и после того, как отвяжут её от ветвей, пускают её кругом, от одной парочки к другой.
Девушка в сопровождении своего кавалера первая прикасается губками к питью, затем с каким-то жестом, напоминающим героические времена, она сгибается, её обнажённая рука, почти такая же здоровая, как рука кавалеров этой компании, схватывает за край оригинального корабля, размахивает им, поднимает его над своей головой и, в конце концов, нагибает его к своему кавалеру.
Встав на одно колено, пьющий касается ртом крана и без отдыха пьёт со спокойным выражением лица, которое Бландина сравнивала невольно с экстазом причастников в большие праздники. Партии сопровождаются всегда одним скрипачом или шарманщиком, которые не обращают внимания на мелодию и ритм, пиликают или дребезжат один и тот же танец исполняемый весельчаками в деревянных башмаках под один и тот же хор громких голосов:
Nous irons au pays des roses…Крепостные рабочие обращаются в господ, а бедняки в богачей.
Заработная плата, полученная за весь год, позванивает о колонку в их глубоком кармане, точно в сеялке.
День попойки, день деревенской ярмарки, когда пастыри земли становятся революционерами! Тёплые утра возбуждают идиллии: грозовые вечера подстрекают к кровопролитию!
Не без основания жандармы наблюдают издали за «странами роз».
Жандармы бледны и нервно дёргают свои усы, так как позднее, в час разгула, жестокие люди и ревнивцы покажут им, что такое кровь. Эти добряки, которые безумно чокаются, готовы из-за пустяка броситься друг на друга с кружками вина и подраться, как петухи. Желая обнять соседа, какой-нибудь восторженный кум, в конце концов, так тесно прижимает его к груди, что тот пугается и чуть не задыхается.
Не все эти гуляки так шумно выражают свою радость, но все напиваются. Они топят свои заботы в пиве и заглушают их в шуме. Они пьют: одни, чтоб забыться, может быть, чтобы заглушить сожаление о потерянном крове и близких лицах, с которыми они расстаются: другие, напротив, чтобы ознаменовать своё освобождение от прежнего ига, полные доверия, готовы приветствовать новый очаг.
Большинство рабочих сразу сходятся между собою и объясняются в любви тотчас же крестьянкам, нанятым вместе с ними.
Эти красивые работницы, эти безответные существа, которые утомились бы от обдумывания чего-либо, наслаждаются без всякой осторожности и удержа, доходя до полной распущенности, отдаваясь всем телом могучему очарованию отдыха, когда они свободны в словах, жестах и теле. Они отличаются неистовством собаки, которую выпускают на волю, головокружением птички, которую выпускают из клетки на волю; беспредельность их счастья делает его летучим вплоть до страдания. Нельзя понять минутами, плачут ли они или смеются до слёз, трепещат ли от радости или извиваются в конвульсивных муках?
Путешествие бывает долгим, а день длинным, поэтому около полудня все останавливаются перед главным постоялым двором села и распрягают лошадей. Блузники усаживаются на скамейки большой залы, перед горячими блюдами. Но, несмотря на их внезапный голод и опьянение свободою, которая выдаёт себя в течение дня вызовами жестокой суровости по отношению к Богу, Богородице и святым, они всё же крестятся несколько раз, прежде чем приблизить к кушаньям свои широкие мозолистые руки.
Позднее Бландина отдавала точный отчёт всем этим чувствам и ощущениям, вспоминая о том, что она сама переживала и испытывала в один из этих несчастных дней св. Петра и Павла. Хотя ей было только тринадцать лет в то время, она была больше изнурена в родном доме, чем самая несчастная прислуга. Её мачеха, сжалившись неожиданно, или, может быть, желая унизить её, соединяя с работниками и наёмниками, позволила ей отправиться в одной телеге, нанятой в складчину обширной «страной роз». Маленькая девочка, розовая и полнощёкая, с глазами опалового оттенка, переходившего из небесного голубого до зелёного морёного, с благодарностью приняла участие в празднестве; хорошее восторженное настроение этих бедняков радовало и её; она чувствовала наивное удовольствие, взобравшись на колыхавшуюся и убранную цветами телегу, и выпивая подслащённого пива на остановках, указанных председателем телеги. Мужчины платили за пиво, а девушки за сахар; Бландина в свою очередь внесла свою долю на сахар. Она смеялась, пела и веселилась, как её товарищи и товарки. Не подозревая ничего дурного, она не пугалась вольностей, которые она допускала, точно это было вспархивание птиц в ветвях или танец насекомых при лучах солнца. В обеденный час она разделила обед с другими «rozenlands»; затем последовала за ними, увлекаемая их раздольем и ласками, чувствуя себя их маленькой подругой и не имея сил покинуть их.
Между тем, к вечеру усталость, изнеженность, смущение охватывали её. Поцелуи и объятия, которые она видела вокруг неё, внушали ей странные мечты. Ничто не пугало её. Она одобряла вполне всё, что происходило вокруг неё.
Ночь наступила. Никто больше не интересовался Бландиной. Каждая служанка была пристроена. Но Бландине надо было ещё подождать, по крайней мере, три сезона, чтобы какой-нибудь честный молодец обратил на неё внимание. Её очередь ещё придёт! Вот о чём говорят ей, с преждевременным вниманием, мимолётные, затуманенные, или блестящие взгляды и задеваемые её тела молодцов. Девочка видит в этих глазах и ощущает в этих телах только немного грубую симпатию, вот и только! Вокруг неё тепловатый воздух словно щекочет и колет согревшуюся кожу. Возбуждаемые в течение целых часов, жгучие желания празднующих людей усиливаются. Вскоре Бландина не будет больше помнить о последних выпивках и танцах, в которых она принимала участие. Впрочем, брожение здоровой молодости опьяняет её сильнее, чем аромат роз и подслащённое пиво. Почти в сомнамбулическом, полусознательном состоянии, она садится снова на «Rozenland» или сходит с неё вместе с другими; всё время повторяемый припев подходит к её состоянию полусна.
Между тем, телеги, с цветами и белым полотном, гораздо медленнее двигаются по деревне. Рабочие и работницы чувствуют, как по их затылку пробегает точно возбуждающий ветер равноденствия. Это тёплое дыхание парочек, опустившихся на скамейки позади их. Они вздыхают; они задыхаются. Девушка кончила тем, что заснула, убаюканная этой атмосферою, ещё сильнее действующей, чем нора сенокоса. Никто не предлагал ей проводить её домой, а ей надо было бы спуститься на землю и отправиться домой, в то время как другие и не думают о возвращении, и «страна роз» далека от последней остановки своего путешествия по кабакам. Для мужской половины настоящее веселье только началось.
Наконец, все присутствующие решили разбудить свою младшую подругу. Один из работников хотел указать ей дорогу и догнать «страну роз» на следующей остановке. Но девочка поблагодарила этого молодца. Напрасно он будет беспокоиться. Она одна прекрасно найдёт отцовскую хижину. Сколько раз в дни рынка она возвращалась гораздо позднее, и в какую погоду и по каким дорогам! Любезный весельчак ограничивается только тем, что указывает ей ближайшую дорогу.
– Послушай, крошка, ты минуешь эту равнину, покрытую вереском, которая проходит справа налево; ты дойдёшь до сосновой рощи, которую оставишь по правую руку…
Бландина вовсе не слушает его, его голос даже не доходит больше до неё, так как она удалилась скорым шагом. «Прощайте все!» – крикнула она им твёрдым голосом. Их ответ теряется среди щёлкания бича и грохота пускающейся в путь «страны роз».
Никогда Бландина не ощущала страха. К тому же в тот вечер, разве не всё кругом веселилось? Кто мог бы захотеть обидеть ребёнка?
Сейчас только, за столом, рассказывали, однако, об ужасных или печальных случаях. Таким образом, кто-то удивлялся, что некоторый Ариан, по прозванию король веяльщиков, долгое время находившийся в услужении у приходского фермера, не принимал участия в веселье, на что один из товарищей отсутствующего оповестил общество, что молодец дурно себя вёл со времени последнего праздника, даже настолько дурно, что его хозяин не счёл нужным ждать нового праздника св. Петра или положенного срока и прогнал его. Несмотря на его способность, король веяльщиков был уволен за то, что конкурировал с хорьками, ласками и прочими любителями кур. Не найдя хозяина, к кому он мог бы поступить на место, разумеется, он должен был поместиться в каком-нибудь приюте, который предоставляет милосердно государство бродягам.
Все сидевшие за столом пожалели, не без зевоты и вытягивания, о сладкой водке, которою угощал их прежний товарищ, забавник и остряк! Но довольно! – заметил один из молодцов, зажигая трубку, теперь не время было предаваться меланхолии, и присоединяясь к его мыслям, все поспешили переменить разговор.
Почему же Бландина, переходя через равнину с вереском, настойчиво вспоминает о неудачной судьбе короля веяльщиков? Хотя Ариан и не совсем чужой для неё человек, – он не является для неё притягательной силой.
Он жил один сезон недалеко от их дома. Через дверь риги Бландина украдкой видала его за работой, обнажённого до пояса, красного и влажного, показывавшегося иногда из полумрака. Его мозолистое колено отбивало такт веялки, и его тиковые панталоны в конце концов всегда требовали заплаты на одном и том же месте.
Бландина, двигаясь, повторяет, напевая, припев этого дня, чтобы вспомнить веяльщика.
Van! Vanne! Vanvarla!Если её сердце всё же немного сжимается в то время, как она прибавляет шагу, это происходит не от тревоги за себя самое, но от чего-то вроде участия к несчастному. Темноватая ночь способствует этим неясным мыслям. Прозрачный мрак напоминает мрачные драгоценности. Темнота блестит, точно её ароматы, слишком пылкие, которыми она напоена, неожиданно зажглись. Прерывистые огоньки светлячков сливаются с треском кузнечиков…
Вдруг, в то время, как маленькой запоздавшей спутнице кажется, что насекомые повторяют свою беспокойную мелодию, Бландина, чувствует себя грубо схваченной, опрокинутой на землю каким-то человеком, который скрывался позади кустов. Нападающий подбирает её юбки, ощупывает её юное тело, схватывает его со вздохом, энергично, но не грубо, и овладевает им.
«Ариан»! Имя, которое она хотела бы крикнуть, узнав короля веяльщиков, застряло у неё в горле, от страха. Она испытает какую-то короткую боль, точно ей нанесли рану в живот, затем сейчас же за этим следует странное наслаждение. Стало ли её существо двояким? Охваченная какой-то новой симпатией, она отдавалась, не владея собой, чтобы растаять в каком-то бесконечном блаженстве.
В то время как он держит её под собой, она чувствует, как глаза веяльщика умоляют её и она сливает эту мольбу глаз с бледным блеском светлячков, с прерывистым трещанием кузнечиков, замирающими нотками припева «страны роз», и ритмом прежней песенки Ариана:
Van! Vanne! Vanci! Vanla!Бродяга поднялся, ещё вздыхая, дыша усиленнее, чем во время прошлогодних работ, и помогая встать ей, в свою очередь, он держит её несколько секунд в объятиях, смотрит на неё с благодарностью и раскаянием, и удаляется, вполне успокоенный, немного пошатываясь. Она никогда не забыла его загорелого лица, и те зигзаги, которые отмечал его силуэт на неподвижном пространстве, в конце концов поглотившем его…
Бландина поплелась, скорее огорчённая, чем негодующая, к своему дому, и, ложась спать, решила про себя никому не рассказывать, что с ней произошло. Какой-то инстинкт взаимной ответственности скорее, чем чувство целомудрия внушало ей молчание. В сущности, она вовсе не сердилась на этого грубияна, сначала столь властного, затем покорного, почти смущённого, она даже была убеждена, что он готов было просить у неё прощенья, если б посмел, но какая-то нежность и благодарность делали его настолько робким, насколько захватил его бешеный порыв. Несколько дней спустя Бландина узнала, что знаменитый Ариан был арестован в окрестностях, схвачен жандармами, когда он переплывал реку Нете. Её несчастный изнасилователь стал ужасным рецидивистом. Она поклялась больше, чем когда-либо, молчать, желая избавить его от новых неприятностей, ещё большей вины.
Но бедняжка не рассчитывала на оговоры природы.
Она стала беременной.
Мачеха, представляясь добродетельной, разразилась страшными криками, рвала на себе волосы, делала вид, что приходит в отчаяние, но она была в сущности, обрадована, что нашла благовидный предлог издеваться над своей жертвой, предоставить свободу своим невозможным инстинктам. Может быть даже, посылая этого ребёнка со «страною роз», она надеялась на какое-нибудь унижение!
– День суда и приговора! – гневалась эта мегера. – Стыд и тройной скандал! Вот чем покрыто наше доброе имя! Распутница из распутниц! Какой пример для твоих братьев и сестёр! К твоему счастью скончался твой честный отец. Он задушил бы тебя, как собаку.
Она требовала от неё объяснений.
– Его имя? Скажешь ли ты мне его имя?
– Никогда, позвольте мне не послушать вас!
– Его имя! Скажешь ли ты? Вот тебе!
Пощёчина одна, затем другая.
– Его имя?
– Нет.
– А, ты отказываешься… Мы увидим… Его имя! Ведь должен же он жениться на тебе.
– Вы не захотите такого зятя…
– Негодяйка! Ты стоишь этого подлеца!.. Твой кавалер так низок, что мы, паршивые, слишком чисты для него!.. Но тебе необходимо выйти замуж! Подлец, который тебя изнасиловал, скорее попадёт в тюрьму, так как ты, хотя и зрелая и преждевременно развившаяся, всё же ты ещё молода, точно кошка на крыше!.. Послушай, это один из среды этих «стран роз», тот или другой пьяный свинопас, который взял тебя, думая о своей любимой свинье?… Не надейся спасти его, так как судьи вырвут у него согласие или товарищи кончат тем, что выдадут его!
На этот раз она ответила горячо и не без сострадания:
– Нет, этот человек вовсе не из «страны роз». Это бедняк, бродяга, более несчастный, чем самый низкий из них; до этих пор я никогда не видала его, он даже не из нашей стороны… Мне показался он очень печальным… одним из тех, кому охотно подают милостыню… Я ни в чём не могла бы отказать ему, и я не знала даже до этих последних дней о том, что для него сделала…
– Низкая, глупая! Ты врёшь!
Фурия набросилась снова на девочку, заставляя пощёчинами её молчать, затем, так как Бландина продолжала упрямиться, она начала бить её кулаками и ногами.
Чтобы придать себе бодрости, во время ударов Бландина с улыбкой на устах, вспоминала высокого молодца с бронзовым цветом лица, грустными, умоляющими глазами. Ей было приятно терпеть муку за этого гонимого и опозоренного человека.
Мачеха волочила её по земле, приходя в отчаяние от её скрытности.
Тогда, равнодушная к страданиям, настойчивая в своей преданности, Бландина принялась петь Ave Maris Stella, один из майских псалмов. Затем в ударах, сыпавшихся на неё, девочка начинала представлять себе резкий звук веялки по колену Ариана. Потерявшая чувства, но непреодолимая в моральном отношении, она смешивала обе мелодии, религиозный псалом и звуки веялки; закрывая глаза, она сливала в каком-то фанатическом воспоминании дымки ладан и пыль, поднимавшуюся над веялкой, аромат церкви и пот крестьянина:
Van!.. Vanne!.. Vanvarla! Balle!.. Vole!.. Vanci! Vanla! Vanne!.. Ave!.. Maris!.. Stella!..Видя её всю в крови, злая мачеха утащила её в хлев для свиней, заперла её там, и прислала ей через одного из детей кружку воды и кусок хлеба. На другой день мачеха старалась снова приняться за дело, но она сама изнемогала раньше, чем могла вытянуть у Бландины то, чего добивалась узнать.
Утомившись в борьбе, добродетельная крестьянка решила покорить свою дочь при помощи священника.
– Что такое, крошка Бландина, должен ли я верить тому, что рассказывает мне ваша достойная матушка?.. Вы не желаете покориться!.. вы не слушаетесь? После совершения греха, вы отказываетесь назвать сообщника… Это дурно, это очень дурно!..
– Мой отец, я призналась в своём проступке моей матери, я готова исповедовать его вам, но донос возмущает меня…
– Прекрасно, дочь моя! Как мы волнуемся! Если я, ваш пастор, нахожу нужным, назвать имя этого негодяя…
– Я всё же отказываюсь, господин пастор.
И так как священник, возмущённый этим непослушанием, бросил на неё суровый взгляд, Бландина зарыдала:
– Да, я отказываюсь, господин пастор, так как это имя я не сказала бы даже Богу, если б Ему не было известно! Этот человек и так достаточно несчастен! Назвать его, это значит, навести на него новое осуждение. Его ещё дольше продержали бы в тюрьме из-за меня!
Милая девочка много обдумывала в течение этих последних дней о человеческих законах и о понятии, что справедливо и что нет.
– Но, заметил священник, – вы, значит, любите этого негодяя!
– Я не знаю, люблю ли я его, но я не чувствую к нему ненависти.
– Однако, он дурно поступил с вами, моё дитя!
– Может быть… Я хочу даже верить в это, потому что вы убеждаете меня в этом, но разве не сказано в Законе Божьем, что мы должны прощать нашим врагам, любить даже тех, кто нас ненавидит!..
Священник проклинал её, но не настаивал больше…
Крестьянка, любопытная и циничная, изменив тактику, желала, по крайней мере, узнать, была ли изнасилована девушка или отдалась добровольно.
Бландина, чтобы лучше отвратить поиски правосудия и скрыть вину бедняка, одно время делала вид, что не противится его задержанию.
Но мачеха почему-то стала подозревать того или другого участника «страны роз», и бедная Бландина испытывала страшную муку. Отказываясь выдать настоящего виновника, разве она не заставляла беспокоиться этих добрых молодцов, может быть, могущих подвергнуться осуждению? К счастью, им всем было легко восстановить свою невинность.
Хорошие ребята были чрезвычайно поражены этим случаем, в особенности тот, который предлагал проводить Бландину, и который был теперь недоволен, что не проводил её против её воли.
Сколько раз маленькая девочка желала отправиться на розыски того, кто её опозорил, того, который не осмелился бы исправить своей вины, не только потому, что он совершил преступление в глазах людей, но потому, что в глазах толпы, положение незаконного дитяти и девушки-матери были бы предпочтительнее положению законного сына и законной подруги вора и бродяги. Бландина, всё более и более восторженная, чувствовала в себе силы побороть все несправедливые условности, религиозные или социальные.
Со времени этого рокового праздника Петра и Павла, какое-то непонятное призвание преданной любви и самопожертвования царило упорно и жестоко в её сердце.
Она решилась; она хотела отправиться в тюрьму. Она повидалась бы с Арианом, чтобы простить его. Она оправдала бы его высшею ложью, сказав, что сама отдалась ему и скрыла от него свои юные года. Ариан мог бы поверить, так как она была сложена, как совершеннолетняя. Этим бы всё кончилось. Она согласилась бы стать женой вора, заключённого в тюрьму…
Но непонятное таинственное предчувствие удерживало юную девушку от этого благородного порыва и заставляло её думать, что её час ещё не пришёл, и что какое то существо, тоже несчастное и опозоренное, как этот известный вор кур, ждёт её где-то…
Однако, она ещё колебалась, глухие сомнения роились ещё в её душе, когда жизнь сделала ненужной всякую жертву. Бландина родила мёртвого ребёнка.
Эта развязка обезоруживала приходское осуждение и прекращала сразу всякий скандал. Вина была искуплена таким образом, и даже мачеха с меньшею жестокостью обращалась с бедняжкой. Братья и сёстры перестали оскорблять Бландину и сторониться от неё, как от зловонного животного. Они принимали её услуги, и она получала милость снова работать на благо семьи. Через некоторое время скончалась её мать. Бландина, тогда пятнадцати лет, выказала себя, действительно, героиней, хотя и вполне простого характера. Она принялась за хозяйство, за все дела, всем заведовала, растила детей без отдыха, пока не устроила выгодно одних из них в мастерские, других на работы. Храбрая юная мать работала так хорошо, что добилась лучшего, чем реабилитации. Священник, первый, не вспоминал ни о чём; к его поклонению присоединилось что-то вроде удивления. Храбрость и характер этой крошки смущали его…
V
Около этого времени старая графиня Кельмарк, отказавшись от роскошного образа жизни с множеством слуг и желая поселиться в кокетливом домике аристократического городского квартала, нуждалась в каком-нибудь доверенном лице, в какой-нибудь компаньонке и камеристке. Одна из её старых приятельниц, проводившая лето в деревне Бландины, расхвалила ей даже по просьбе священника эту храбрую девушку, не скрывая от неё случая, жертвой которого она была когда-то. Оказалось, что это даже способствовало тому, чтобы получить симпатию бабушки Анри, которая её сейчас же и наняла.
Но какой милой и сговорчивой была эта крестьянка! Она дышала здоровьем и прямотой. Точно это была греческая модернизованная статуя, оживлённая розовыми щёками; блестящие и доверчивые глаза отличались очень светлым сапфиром, рот имел красивую и меланхолическую складку; пепельные волосы, немного волнистые, разделялись на безупречно белом лбе. Она отличалась тонкой талией, была чудесно сложена, в своих крестьянских одеждах, точно это была аристократка, переодетая в пастушку.
С своей стороны, Бландина была увлечена этой семидесятилетней аристократкой, которая не отличалась гордостью или напыщенностью, и которая, благодаря своему широко философскому уму, была бы на месте в век энциклопедии и Дидро. Это была женщина благородной культуры, без всяких предрассудков, и если она и оставалась до некоторой степени заражённой аристократизмом происхождения, это происходило от того, что она сравнивала себя с окружавшими её пролазами, и принуждена была убедиться в высоте чувств, тона и образования всё более и более отдалённой касты, и снова более изгнанной и униженной финансовыми мезальянсами, благодаря гильотинам и сентябрьским убийствам. Напротив, она рассматривала, как действительно аристократическое достояние, эти высокие качества души и разума, которые можно встретить на каждой ступени общества; владение ими было равносильно для неё неоспаримым документам и принадлежности к какому-нибудь генеалогическому дереву. Мальвина де Кельмарк, наделённая когда-то красотою, которую около 1830 г. «альманахи муз» называли Оссиановской, имела быстрые глаза сероватого оттенка с жемчужными жилками, носила английские букли, отличалась носом с горбинкой, умными устами; она была высокого роста, сухая и нервная, с осанкой королевы, наделённая тем, что художники зовут линией, ещё более торжественная от длинных чёрных бархатных или шёлковых платьев, широких гипюровых рукавов, головных уборов в духе Марии Стюарт, – роскошного и сурового туалета, на котором сверкали кольца и брошки; точно это была голова сфинкса, высеченная из оникса и убранная бриллиантами и рубинами.
Эта владелица замка не имела никакого педантизма и высокомерия; она не умела жеманиться, не была вульгарна, она отличалась добротой без изнеженности, даже бывала иногда сурова и ворчлива, хотя умела быть любящей, честной, бесконечно чувствительной; она вовсе не была фарисейкой, хотя и ненавидела измену, лживость и низость души.
Эта евангелическая атеистка должна была неразрывно слиться с этой христианкой, очень расходившейся с этим учением. Старая владелица замка без злобы смеялась над тем, что она называла притворством Бландины, но ни в чём не раздражала её в отношении обрядов, которых, впрочем, та мало и придерживалась. Г-жа де Кельмарк, по своему весёлому настроению, оптимистическому характеру, гордости являлась полною противоположностью не по летам рассудительному характеру этой молодой девушки, которую она называла своей маленькой Минервой, Афиной-Палладой.
Старушке нравилось заниматься её образованием; она научила её так хорошо читать и писать, что та сделалась её лектрисою и её секретарём.
Но прежде всего она внушила ей сильную любовь к своему внуку, своему Анри, который обучался в то время в Боденбергском замке, и которого г-жа де Кельмарк наивно называла своим единственным предрассудком, суеверием, фанатизмом. Она беспрестанно беседовала с своей компаньонкой об этом маленьком феномене, об этом преждевременно развившемся и утончённом ребёнке. Она читала и заставляла прочитывать письма ученика коллежа; Бландина отвечала на эти письма, под диктовку бабушки, но очень часто она первая находила слова и даже оборот нежной речи, который искала старушка. Она кончила тем, что сразу писала всё письмо, сообразуясь с тем, что указывала её госпожа; последняя уверяла, что стиль Бландины отличался большим материнством, чем её собственный.
Владелица замка показывала ей также портреты молодого графа; обе женщины не переставали рассматривать в течение целых часов изображения своего любимца: начиная с даггеротипа, представлявшего его непокойным младенцем с ножкою без башмака, на коленях матери, и кончая самой последней карточкой, на которой он, слабенький, был изображён после первого причастия с большими, глубокими глазами.
Сначала Бландина только представлялась, что интересовалась всем, что касалось юного Кельмарка, и сама заговаривала о нём единственно с целью понравиться чудесной женщине и польстить её трогательной привязанности; но бессознательно она вдруг начала разделять этот культ к отсутствовавшему. Она любила его глубоко прежде, чем его увидала.
Впоследствии можно было понять, что в этой привязанности было более высокое влияние, точно шедшее от Провидения, чем простое явление самовнушения.
– Каким он большим должен теперь быть! И сильным, и красивым! – Беседовали обе женщины. Они до мелочей описывали его, причём одна прибавляла лестные черты к тем которыми наделяла его другая. Как Бландине хотелось увидеть его! Она тосковала даже от ожидания его приезда. Вдруг печальное известие пришло из Швейцарии, в то время, когда он должен был приехать на каникулы к бабушке: Анри заболел. Никогда ещё Бландина так не терзалась. Она полетела бы на крыльях к изголовью ученика, если бы её не удерживала обязанность ходить за старушкой, которая тоже находилась между жизнью и смертью, пока её внук вполне не оправился. Затем, какая была радость, когда Бландина узнала о полном выздоровлении молодого человека.
Перспектива возвращения на родину этого столь любимого юноши, заставляла волноваться Бландину не меньше самой бабушки. Она считала дни и по детски вычёркивала их на календаре, как и ученик должен был делать тоже, там в коллеже.
Когда Анри позвонил у калитки виллы, то Бландина открыла ему. Ей показалось, что она увидела перед собою юного бога. Вся кровь бросилась ей в сердце. Она сразу начала его обожать, с полным уважением, без всякой надежды, без всякой тщеславной мечты, только ради него самого, и поняла, что все её желания, все её стремления будут сходиться к одному – жить всегда возле юного Кельмарка. Позднее, она могла лучше разобраться в том, что произошло в её душе с первой, но решительной встречи. Она могла бы передать это сложное впечатление только в виде последовательного рассказа. В общем, Анри странным образом импонировал благочестивой Бландине. Точно по мановению молнии, подготовленной целым потоком чувств, симпатии, в её душу врывалось смешение страха, сердечного страдания и поклонения, может быть, даже немного этого оккультического благочестия, которое мы испытываем перед редкими предметами, явлениями, почти непонятными для обыкновенной жизни…
– Ах! вы, разумеется, m-elle Бландина! Маленькая фея, которую так расхваливала бабушка! – сказал юноша, протягивая руку камеристке, я вам очень, очень благодарен за ваши заботы о ней! – прибавил он с некоторым смущением.
Оба они очень скоро подружились. Под своим весельем Бландина скрывала глубокую и страстную любовь. Не потому ли, что она чувствовала себя привлечённой к Кельмарку на всю жизнь, она не прибегала ни к каким приёмам, благодаря которым женщина привязывает к себе возлюбленного? Это отсутствие кокетства способствовало даже тому, чтобы расположить к себе этого робкого и капризного юношу, не имевшего понятия об изяществе манер. Бывали дни, когда он был очень любезен с нею; иногда же, он бросал на неё странные взгляды, или, казалось, избегал её, даже скрывался от неё.
Прошло три года. Был май месяц, вечерело. Старушка де Кельмарк обедала одна у своей старой приятельницы, г-жи де Гастерле, как это она делала каждый месяц. Бландина должна была отправиться за нею к этой даме около десяти часов. Анри ушёл в свою комнату, где он работал, – или, скорее, делал вид, что работал, так как это время дня и года располагали его к мечтам, любопытству, возбуждению нерв.
Через открытое окно молодой граф слушал звуки аккордеона и шарманки, доносившиеся из рабочего квартала, от которого его отделяли несколько гектаров весёлых садов, расположенных между виллой бабушки и домом соседей, и отделявшихся между собою живою изгородью. В течение нескольких вечеров, печальные порывы щеголеватых медных инструментов в артиллерийских казармах, расположенных у края предместья, доходили до Кельмарка вместе с запахом сирени, которая двигала свои ветви до самого окна.
По соседству где-то шла постройка; большое здание вскоре должно было покрыться крышею, и каждый день юный аристократ слушал, как каменщики производили серебристую музыку кирпичей, которые они били своими лопаточками. Много раз, привлечённый этим, он вытягивался вперёд и видел белых и рыжих рабочих, толстых деревенских молодцов, с ковшами на плечах, бессознательных эквилибристов, поднимавшихся по лесам и пренебрегавших головокружением. Иногда листва загораживала ему их, затем вдруг они показывались среди ветвей, в драматическом отблеске действующей силы на равнодушном голубом небе…
Почему его сердце наполнялось непонятной тоской, когда после захода солнца он видел их проходившими, с деревенской синей курткой на плече, столь же испачканной, как какая-нибудь палитра? Его состояние должно было стать ещё хуже, через несколько дней, когда они должны были окончить работу; он уже привык к их гармонической деятельности перед своими глазами, и он предчувствовал, что ему будет недоставать этих рабочих; в особенности, одного живого блондина, лучше других сложенного, более стройного, который принимал без всякого намерения такие позы тела, которые могли бы привести в отчаяние скульптора. «Есть среди этих подмастерьев некоторые, которых похитит у их декоративного ремесла казарма», думал де Кельмарк, прислушиваясь к призывам трубы, замиравшим в ветвях и трепетных ароматах весны. Рабочие, крестьяне, покинувшие свои деревни, солдаты, находящиеся в казармах, дорогие и далёкие сёла, высокие колокольни, внушают всегда тоску по родине: эта ассоциация переходных идей обратилась у Кельмарка в навязчивые мысли о деревне, среди которых вдруг символически вырисовывался образ Бландины, не той Бландины, которая жила теперь возле него, но маленькой крестьянки, которую он себе рисовал в своём воображении, поэт, влюблённый в силу и природу!
– Она там наверху одевается! – подумал он, так как приближалось время идти за бабушкой.
Точно во сне, с глазами, опьянёнными деревенским бегом и бешеными объятиями, он поднялся в комнату Бландины.
Хотя она была в одной рубашке, но она едва ощутила лёгкую дрожь, когда он вошёл. Точно она ждала его. Она хотела причёсывать свои роскошные волосы, растрепавшиеся по плечам, и пахнувшие лавандою и ароматическими травами её родины; она обернулась к нему с доверчивой улыбкой. Он взял её за руки, но почти не глядя на неё, представляя себе что-то отсутствующее, потустороннее, закрывая даже глаза, чтобы насладиться этою безумною перспективою, он подтолкнул её, покорную, безмолвную, к постели, наскоро открытой. Она, трепещущая и обрадованная, продолжала улыбаться и отдалась, точно новому бродяге.
Почему он вспоминал, перед тем, как отдаться экстазу, вечернюю мелодию аккордеона, сирени в цвету, и юных молодцов, тащивших синюю куртку по сухим листьям? Не потому ли, что эти юные рабочие могли быть соотечественниками его возлюбленной? Обрадованный, он сливал в ней всё деревенское население; в этот брачный вечер он наслаждался в Бландине силою, радостью, грубыми и телесными жестами, самой землёй, деревенским соком… В этот раз и в последний раз он владел ею, точно теми желаниями, которые она могла бы зажигать в здоровых деревенских рабочих, на жёлтой соломе, зловонной и спутанной во время шумной ярмарки…
На одну минуту Бландина встретила взгляд его полуоткрытых глаз. Какую пропасть открыла она в них? Пропасть притягивает, а любовь заключает в себе что-то головокружительное. Не отдаваясь вполне тому наслаждению, на которое она надеялась, но забываясь так, как она забылась среди вереска в объятиях короля веяльщиков, она ощутила по всему телу какую-то более трагическую нежность к молодому графу де Кельмарку. Это произошло потому, что она подсмотрела во взгляде Анри бесконечную тревогу, в его объятиях точно засепку утопающего, в его поцелуе удушье убиваемого, призывающего на помощь.
Она отдалась ему, чувствуя себя во власти его превосходства; она всегда вкладывала чувства уважения и унижения в их отношения. Ариан, – здоровая и красивая Бландина теперь была убеждена в этом, – не переживал никогда таких эротических замираний, как те, которые содрагали тело и воображение этого юного, слишком развитого и наблюдательного аристократа. Обожая его, она приближалась к нему всегда с некоторым беспокойствием, точно страхом пловца в первую минуту вторжения в воду.
Она находила его необыкновенным человеком, фантастом, почти внушающим страх. Временами он ощущал печаль о позорных зрелищах; он был мрачен и суров, точно канал, прорезывающий предместие, которое полно мусора и тины. Сумрак, охватывавший периодами его мысли, показывался точно бельмо на его красивых синих глазах. Вслед за приступом доброты и нежности наступали обратные переживания, охлаждения, внезапные неудовольствия. Продолжительные перерывы разрывали на части его характер. Всё равно, с первого же появления Кельмарка, она почувствовала себя точно перед таинственным существом, в котором говорил незнакомый голос, навсегда встревоживший её душу: она отдалась ему, без надежды на спасение, точно божеству, которое навеки уведёт её от рая, и когда она смотрела на него, в её взглядах было выражение мучеников, которые тщетно ищут в облаках полёт ангелов, опаздывающих спуститься их спасти. Впрочем, она ещё не видала обрядов и худших испытаний той религии любви, которой она себя посвятила.
VI
Их телесная близость была непродолжительна. Когда физические влечения ослабели, затем исчезли, Бландина не огорчалась и едва ли была поражена. Однако она любила графа более сильной страстью, чем когда-либо, и сохранила к нему в своей душе какое-то благодарственное поклонение за ту честь, которую он ей оказал, чувствуя себя счастливой и гордой от его близости.
Старая аристократка подозревала об их связи, но никогда не узнала наверное, до каких границ дошла их любовь. Она улыбалась на эту дружбу, так как привыкала всё больше и больше смотреть на Бландину, как на свою внучку, как на сестру, если не на жену Анри.
Г-жа де Кельмарк тоже обожала своего внука, но, как рассудительная женщина, она угадывала в нём исключительное, вплоть до аномалии, существо; что-то в душе говорило ей, что молодой граф будет несчастным человеком, если уже не был им. Она огорчалась этой быстротой, или скорее этим беспокойством его таланта. Он занимался какими-то вспышками, запирался в своей комнате, оставался дома в течение целых недель, не показываясь на улицу, читал, писал стихи, сочинял мелодии, услаждая душу Бетховеном, Шуманом и Вагнером, пробовая писать красками, разбирая рукописи; затем после этих чрезмерных занятий наступали такие периоды, когда он ощущал бешенное желание забыться, когда он с наслаждением посещал кварталы контрабандистов, кабачки матросов и рыбаков, отдаваясь необузданному ночному разгулу, исчезая на несколько дней; он проводил целый карнавал так, что не ложился в постель, и когда, наконец, он утомлялся, то наподобие выброшенных остатков корабля на берег или загнанного и израненного зверя, имеющего силы только добраться до своей берлоги, весь разбитый, снова проводил много дней дома и спал, и спал, и опять спал!
Можно представить волнения, которые переживали в то время обе женщины. Чаще всего, они не имели понятия, где он находился. Исчезая в свои странствования, он никогда не говорил, куда уходил, подобно тому, как по возвращению, умалчивал о своём времяпрепровождении и характере своих влечений. Как соединить эти порывы с сыновней любовью, которую он выказывал к бабушке! По возвращению из своих странствований, он плакал, как ребёнок, просил прощения у доброй бабушки, но, по его словам, это было сильнее его; он нуждался в этой перемене, в этих таинственных развлечениях; ему необходимо было забыться, насладиться движением и шумом, чтобы избавиться от неизвестно какой тревоги; что касается последней, он отказывался даже объяснить её. Или же он ставил предлогом головные боли, невралгию, как последствия его прежней болезни в пансионе.
Однажды, ему пришлось, по настоянию г-жи де Кельмарк, сопровождать Бландину на самый шумный бал сезона. Перед зарёю, он увлёк её при помощи домино в самые плохие кабачки, заманивая её вместе со встречными масками, заставил её принять участие в позорном веселье, в такой обстановке, которая опьяняла его, как дурной алкоголь, но не доставляла ему радости или даже иллюзии радости. В городе все стали замечать, что он вовсе не сближался с людьми своего круга и что, напротив, он искал дружбы с художниками и нуждавшимися литераторами или даже несчастными паразитами. Не признававший ни этикета, ни светского кодекса, он не показывался ни в одном салоне.
Его вкусы и влечения страдали странными противоположностями. Таким образом как дилетант-покупщик редких картин и любитель дорогих переплётов, он коллекционировал также всякие старые и бедные орудия, ножи матросов, противные входные билеты на бал в окрестностях.
После сильного волнения, молодой Кельмарк забивался в угол в каком-то ужасном страдании. Его радость была беспорядочной и резкая интонация голоса выдавала в нём иногда мрачную скрытую мысль, до такой степени, что Бландина долгое время сомневалась, испытывал ли он когда-нибудь настоящее успокоение. Его удовольствие заставляло его делать гримасу, его смех вызывал скрежет зубов. Он имел вид, точно носит в себе этот едкий огонь, о котором говорится у Данте: portando dentro accidioso fummo. Казалось, точно он хочет потопить в себе тайную муку, заглушить непонятные угрызения совести!
В его больших глубоких глазах часто чувствовались возбуждение и обида, но когда он переставал носить на себе маску, его глаза затуманивались безграничным страданием, которое подсмотрела Бландина, и которое захватило её на всю жизнь; это страдание было сходно с смертельными муками поражённого зверя, с мольбою человека, поднимающего на эшафот, или скорее с взглядом, одновременно печальным и гордым какого-нибудь Прометея, похитителя запрещённого огня.
Благородный до расточительности, страстно отдававшийся чувству справедливости, возмущавшийся порочными поступками толпы, чрезвычайно чувствительный, Анри не выносил противоречия и набрасывался часто на тех, кто желал с ним спорить. Так однажды, когда Бландина хотела взять у него одного красивого ребёнка бедных родителей, пришедших в гости к г-же де Кельмарк, и которого очень полюбил Анри, он забылся до такой степени, что бросился на свою подругу с кинжалом и ранил её в плечо. Мгновенно он пришёл в себя, и обезумев от душевной муки, он укорял себя, угрожая нанести себе рану тем же кинжалом.
Старая бабушка, вполне справедливо озабоченная этим, устроила для него, без его ведома, чтобы не произвести неприятного впечатления, свидание с знаменитым врачом, который приехал на виллу под предлогом просить у Кельмарка какого-то разъяснения по библиографии. Доктор долгое время изучал молодого человека, благодаря продолжительной беседе о литературе на научном основании.
Когда доктор увидел снова графиню, он констатировал сильное расстройство нерв у молодого человека, но они оба тщетно старались найти причину. На всякий случай, он прописал лечение водой, плавание, фехтование, катание на коньках, верхом и объявил к тому же, что не нашёл никакого органического повреждения, никакой болезни. Напротив, он заявил, что никогда не встречал более утончённого интеллекта, и столь здорового суждения, подобных широких взглядов в разнообразной натуре; и в конце концов, он приветствовал бабушку, говоря с профессиональным грубым добродушием: «Или я набитый дурак, или этот восторженный юноша прославит ваше имя. У вашего внука талант; он принадлежит к тем людям, из среды которых выходят художники, завоеватели или апостолы!»
«Лучше было бы, если б он был из среды счастливцев!» – вздохнула графиня, совсем не тщеславная, но всё же чувствительная к этим предсказаниям славы.
VII
В ожидании того, чтобы оправдались эти блестящие предсказания, Кельмарк снова принялся за гимнастические упражнения, в которых он отличался в пансионе. К несчастью, он вносил какое-то лихорадочное волнение в этот спорт, крайность, которую он вкладывал в свои слова и поступки. Ему нравилось подвергать себя опасным упражнениям, переплывать слишком широкие реки, отправляться на парусе в сильные волны, объезжать упрямых и норовистых лошадей. Однажды его лошадь закусила удила и скакала вдоль железной дороги перед скорым поездом, рядом с локомотивом, до тех пор, пока не свалилась в ров унося с собой всадника. Кельмарк отделался только вывихом. В другой раз та же лошадь, чрезмерно пугливая, запряженная в экипаж, испугалась тачки каменщика, брошенной посреди дороги, и после страшного прыжка в сторону принялась бешено нести по скверу, засаженному деревьями, пока она не упала, ударившись о фонарь. Кельмарк вместе с грумом выскочил через её голову, но сейчас же встал на ноги без единой царапины. Лошадь осталась тоже невредимой. Что касается экипажа, опрокинутого и сломанного, то какой-то зевака, за известное вознаграждение, взялся прикатить его до каретника. Один торговец этого квартала поспешил предложить свою лошадь и экипаж в распоряжение г. де Кельмарка. Приближался вечер, и графиня ожидала Анри к обеду, а он находился далеко от дома. Грум обратил внимание своего хозяина на чрезвычайное возбуждение лошади, которая настораживала уши, фыркала, всё ещё продолжала дрожать, и советовал ему принять предложение этого буржуа. Но граф согласился воспользоваться только экипажем. Слишком горячая лошадь была запряжена в экипаж почётного гражданина. Кельмарк взялся за вожжи, грум, очень недовольный, вспрыгнул на своё место. Против их ожидания, лошадь, казалось, утихла и побежала обыкновенным аллюром.
Но, вступив на виадук недалеко от вокзала, они заметили у решётки толпу людей, собравшихся перед керосиновыми вагонами, которые горели высоким с целый дом пламенем.
– Тише, господин граф, она снова может понести! На вашем месте, я объехал бы это место – предложил слуга, Ландрильон.
И он хотел соскочить.
Но Анри помешал ему, ударив лошадь и отдавая ему вожжи, так что испуганная лошадь помчалась рысью через толпу.
– С милостью Бога! – сказал граф с презрительной улыбкой.
Точно смеясь над тревогою слуги, эта лошадь, которую могли напугать кончик бумаги, или сухой листок, осторожно прорезала толпу, проехала, не выказывая ни малейшего страха, среди огня, поливки воды паровыми машинами, криков и шума зрителей.
– Всё равно, граф, на этот раз мы прекрасно проехали! – сказал Ландрильон, когда они миновали страшное место.
Но он, злопамятный, пропустил сквозь зубы: «В подобных случаях он свернёт себе шею, в конце концов; это его дело, но какое имеет он право рисковать моей шкурою?»
Можно было, действительно, сказать, что граф искал случая навлечь на себя несчастье. Что у него было за горе, если он презирал до такой степени жизнь, которую обе любящие женщины старались сделать ему столь блестящей и приятной?
Теперь графиня и Бландина переживали ещё более глубокие тревоги, чем раньше. Бедная бабушка надеялась умиротворить его существование, удовлетворить его самые разорительные фантазии, но при такой жизни, какую он вёл, он мог, в конце концов, разориться совершенно. «Что станется с ним, когда я умру? спрашивала себя графиня. Он будет нуждаться в любящей и благоразумной подруге, порядочной женщине, точно ангеле-хранителе, который был бы ему предан глубоко и беззаветно!»
По какому-то остатку предрассудка, г-жа де Кельмарк не могла рекомендовать вступить в брак тем, кого она считала своими детьми, но она и не противилась бы этому. Когда она оставалась одна с Бландиной, она высказывала ей свои заботы о будущем молодого графа. «Необходимо было бы, говорила она, найти настоящую святую, защитницу для этого больного фантастического ребёнка, чтобы руководить им в жизни, кого-нибудь, кто, не отклоняя его грубо от его мечтаний, повёл бы его нежно за руку по пути реальной жизни!»
Бландина обещала от глубины души своей благодетельнице всегда заботиться о молодом графе и расстаться с ним только в том случае, если он этого пожелает. Графиня хотела бы сделать их союз нерасторжимым, но она не смела касаться с Анри этого деликатного вопроса и выразить ему своё самое заветное желание. Из-за этих сердечных страданий, её крепкое здоровье пошатнулось и её состояние с каждым днём внушало опасение. Она сознавала, что смерть приближается, с таким гордым благоразумием, которое она почерпнула в сочинениях её любимых философов: быть может, она встретила бы её с радостью, которую выказывает рабочий, измученный усталостью тяжёлой недели, при мысли о воскресном отдыхе, если бы судьба её дорогого сына не внушала ей тревоги.
Анри и Бландина находились у её изголовья; обманутые спокойствием умирающей, и не могли допустить мысли о роковом конце.
Очевидно, что близость смерти наделяет умирающих даром глубокого прозрения и пророчества. Предвидела ли графиня де Кельмарк непристойное будущее своего внука? Боялась ли она просить Бландину слить навсегда свою судьбу с жизнью Анри? Она так и не высказала своего главного желания. С улыбкой, полной глубокой мольбы, она только соединила торжественно их руки, и, казалось, печалилась о том, что покидает своих детей, а не о том, что умирает.
По завещанию она оставила Бландине очень большую сумму денег, чтобы подтвердить её независимость и возможность устроиться. Но разве та не обещала дорогой умершей, что она останется на всю жизнь возле Анри де Кельмарка?
Когда, через несколько месяцев после смерти бабушки, граф, всё более и более пресытившийся банальным и однообразным обществом, высказал Бландине свой проект поселиться в Эскаль-Вигоре, далеко от столицы, на непристойном и диком острове, она просто ответила ему:
– Это мне очень нравится, господин Анри.
Несмотря на их близость, очень редко она не прибавляла к имени молодого человека этого почтительного обращения.
Кельмарк, ещё не вполне сознавший беззаветной преданности Бландины, воображал, что она воспользуется щедротами умершей и вернётся в свою родную Кампину, чтобы там найти себе приличного жениха.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил он её, смущённый мучительной неожиданностью, которая отразилась на лице молодой женщины.
– С вашего позволения, господин Анри, я последую за вами всюду, где вы захотите устроиться, если только моё присутствие не будет вам в тягость…
Слёзы упрёка дрожали на её ресницах, хотя она сделала усилие, чтобы улыбнуться ему, как всегда.
– Простите меня, Бландина, – прошептал граф. Вы знаете хорошо, что ни одно общество, ни чьё присутствие не могло бы быть мне дороже вашего… Но я не хочу пользоваться вашим самопожертвованием… Вы и так употребили несколько лет вашей юности на заботы о моей дорогой бабушке, и я не могу согласиться, чтобы вы похоронили себя там, в пустыне, со мною, чтобы вы очутились в ложном положении, вызывая презрение к себе грубых крестьян; тем более, я не могу допустить этого теперь, когда вы свободны, так как дорогая умершая, зная вашу преданность, оставила вам достаточно, чтобы вы могли ни от кого не зависеть… Вы могли бы прекрасно устроиться…
Он хотел прибавить; «и найти мужа», но выражение всё более и более безутешное, глаз его возлюбленной, заставило почувствовать, что эти слова были бы жестоки.
– Да, – продолжал он, взяв её за руки и смотря ей в её загадочные глаза, в которых было одновременно и страдание, и восторг, – вы заслуживаете того, чтобы быть счастливой, очень счастливой, моя дорогая Бландина!.. Вы были такой любящей для дорогой бабушки, относились к ней лучше, чем я, её внук… Ах, я ей причинял много забот, – вы это знаете, так как она была откровенна с вами, – я заставлял её много страдать, невольно, но всё же жестоко… Может быть, моим неровным характером и моими многочисленными шалостями я ускорил её конец… Но поверь мне, Бландина, это была не моя вина; нет, нет, я никогда не делал ничего нарочно… Было что-то, что никто, даже я, не мог бы понять и представить себе; здесь участвовало что-то роковое и необъяснимое…
При этих словах его взгляд стал ещё печальнее, и обшлагом рукава, он обтёр пот со лба, сожалея, разумеется, что не может в то же время избавить себя от какого-то навязливого образа.
– В то время как вы, Бландина, – прибавил он, – вы были только её успокоением, улыбкою и ласкою… Ах, оставьте, бедная крошка, настала минута разлуки… Так будет лучше для вас, если не для меня…
Он отвернулся, сильно потрясённый, готовый сам зарыдать, и удалился, делая вид, точно отталкивает её, но она с жадностью припала к этой руке, которая хотела удалить её:
– Вы не сделаете этого, Анри! – воскликнула она с такой мольбой, которая тронула сердце молодого графа. – Куда я пойду? После вашей святой бабушки, мне остаётся только любить вас. Вы являетесь целью моей жизни. В особенности, не говорите мне о жертве. Годы, которые я имела счастье провести возле г-жи де Кельмарк, не могли бы никогда быть более счастливыми!.. Я всем обязана вашей бабушке, граф!.. О, предоставьте мне униженно воздать вам долг, который я чувствовала по отношению к ней… Вам нужен будет управляющий, распорядитель, чтобы заниматься вашими денежными делами, заведовать ими, руководить домом… Вы наделены слишком блестящими, слишком благородными мыслями, чтобы входить вам самим в эти прозаические и материальные подробности. Считать, составлять счета не ваше дело; а в этом вся моя жизнь… Я умею только это! Послушайте, господин художник, – (она сказала очень ласково) – проявите хороший поступок, не отсылайте меня на этот раз; согласитесь, чтобы я осталась у вас на том же положении, которое я занимала у графини… Если б она была здесь, она сама вступилась бы за меня… Если только вы не думаете жениться?
– Я жениться! – воскликнул он. – Я, я жениться!
Не возможно было бы передать интонации этих слов. Граф де Кельмарк, действительно, не мог бы подчиниться брачному договору.
Бландина могла с трудом скрыть свою радость; она рассмеялась до слёз.
– И так, Анри, я не покину вас. Кто будет заведовать вашим огромным замком? Кто будет заботиться о вас? Разве кто-нибудь лучше меня знает ваши вкусы и захочет так смиренно угождать вам? Нет, Анри, разлука невозможна… Вы не можете прожить без меня, как и я не могу без вас… Послушайте, даже, если б вы женились, я хотела бы остаться жить у вас, в тени, молчаливая, покорная, точно ваша последняя прислуга… Да, если вы хотите, я буду только вашим верным заведующим… Ах, господин Анри, возьмите меня с собою, вы увидите, я не буду вам помехой, я не буду надоедать вам, я буду скрываться, насколько вы пожелаете… К тому же, могу уверить вас, Анри, это было желание вашей бабушки; оставьте меня, по крайней мере, из милости к дорогой умершей.
Бландина, глубоко взволнованная, принялась снова плакать; Кельмарк тоже был растроган до глубины души.
Он нежно привлёк к себе молодую девушку и по-братски поцеловал её в лоб.
– Хорошо, пусть будет по твоему желанию! – прошептал он, – но сможешь ли ты никогда не раскаяться в этом, никогда не упрекнуть меня за это роковое согласие?
Когда он произносил эти последние слова его голос дрожал и становился глухим, точно под угрозою какой-то роковой катастрофы.
VIII
Вместе с Бландиной граф де Кельмарк привёз в Эскаль-Вигор своего единственного слугу, того самого, который сопровождал его во время происшествия с экипажем.
Тибо Ландрильон, сын арденнского лесничего, был малорослым, коренастым, хорошо сложенным молодцом. Он провёл несколько лет в казармах, и сохранил с тех пор тип и приёмы «любителя пирушек», «спорщика и сердцееда», как он выражался на своём солдатском жаргоне. У него было круглое лицо, карие весёлые глаза с влажным похотливым выражением, небольшой приплюснутый и подвижной нос, большие губы с красным оттенком, признаком одновременно жестокости и чувственности; тонкие, точно запятая, усы; щёки с пробивавшимися угрями; небольшие в рубцах и волосах уши сатира, густые и запутанные волосы, грубый и насмешливый разговор, закруглённые бёдра, красивые ноги. Мелкий вивер, он скрывал под внешним добродушием наглое нахальство, хитрую и лукавую душу.
Его непристойное обращение, его народные и острые выходки, отличались даром забавлять и развлекать задумчивого и всегда занятого и озабоченного владельца замка Эскаль-Вигор, подобного тому, как придворные клоуны и шуты обольщали и рассеивали некогда ипохондрию или скрытые укоры совести какого-нибудь тирана. Порочный развратник, изведавший все ямы разврата, конюх с головы до ног, усвоивший мораль из навоза, подобно своему балахону и сапогам, этот молодец был весь пропитан духом цветка черни. Его фуражка, сдвинутая на ухо, продолжала представлять из себя солдатскую фуражку. Спрятав всегда руки в карманы панталон, с трубкою в углу рта или разжёвывая табак с одной щеки на другую, он окружал себя большими кругами слюны или удушливым дымом, которыми, казалось, наполнялся и окрашивался его разговор.
Ни одно благодеяние не могло захватить или растрогать его. По отношению к своему хозяину, который подобрал его в грязи, несмотря на неблагоприятные отзывы, он проявлял зависть, дурное отношение, ненависть бедного к богатому и никуда не пригодного человека против аристократа, произносил жестокую брань, скрытую под молодцеватым хвастовством. Его бескорыстные приёмы отмечали тонкое стремление к тривиальным наслаждениям, так как подобные темпераменты ценят в роскоши и богатстве исключительно физические приятные ощущения, которые могут себе доставлять богачи. Что касается умственных удовольствий, которыми наслаждался Кельмарк, Ландрильон презирал их.
Граф относился с большой терпимостью к этому человеку. Он улыбался, слушая разговоры этого посетителя кабачков и мансард. Где Ландрильон выказывал себя, в частности, неотразимым, это в области ненавистничества женщин, в парадоксальных и унизительных тирадах против того пола, который, если ему верить, выражал ему всё же свои симпатии.
Пока они все жили на вилле, Ландрильон не помещался у графини, но жил возле их конюшен, на некотором расстоянии от виллы; г-жа де Кельмарк никогда не могла привыкнуть к гримасам этой обезьяны.
Теперь молодец был на своём месте, и если, как говорят солдаты, скрывал свою игру, то, по крайней мере, наметил её план. Он не мог удовлетвориться в течение всей только жизни этими наживами и скрытою неверностью слуг. Планы грума носили иной серьёзный характер! Если грубая Клодина льстила себя надеждой стать графиней де Кельмарк, то Ландрильон поклялся жениться на управительнице замка. Само собой понятно, что он угадывал сразу связь между Анри и Бландиной; но пренебрегая всем, он мог удовлетвориться вполне остатками хозяина. Управительница Эскаль-Вигора представляла из себя довольно заманчивую женщину в глазах этого любителя, но он готов был жениться на ней из любви к состоянию, которое удалось ей выманить у старухи. С своей стороны, нашему сердцееду удалось вытащить недурной номер в лотерее природных наслаждений; к тому же он сберёг кое-что.
Впрочем, скромная Бландина продолжала интересовать хоть немного этого замарашку. Подозрительная особа напоминала настоящую даму! Наверно, она могла бы оказать честь ему, если б восседала позади кружек какого-нибудь важного спортивного ресторана, где встречались бы какие-нибудь дельцы и глупые аристократы!
Но необходимо было молодчику приступить к делу, чтобы добиться внимания этой особы. До сих пор разделяя отвращение умершей графини, она не выказывала ему никакой симпатии, но Тибо-сердцеед не был человеком, который мог бы унывать. К тому же, не к чему было спешить, у него было время.
Может быть, она обольщала себя какой-нибудь иллюзией брака по отношению к Кельмарку? Тибо был неимоверно удивлён, когда узнал, что она, получив деньги, готова сопровождать Кельмарка на остров Смарагдис. Это обстоятельство даже побудило и его последовать за ними.
Какое несчастье, думал он, если она остаётся возле этого буржуа, если она льстит себя надеждою заманить его! Однако, это напрасный расчёт. Он уже насладился игрою с ней! «Надейся, что он женится на тебе!» – «Но я здесь, ворчал он, потирая себе нос, что было у него признаком удовлетворения, дворняжка надеется закруглить свою наживу, принимая на себя ведение хозяйства! Хорошего аппетита! Мы ещё лучше поймём друг-друга!»
Чудак мерил всякого на свой аршин. Эти хитрецы действительно лишены чутья, когда должны открыть благородные мотивы.
В замке Эскаль-Вигор он решил начать действовать без всякого колебания. Г-жа управительница, покинутая Дейкграфом, от скуки, может быть, могла бы отнестись с большею склонностью к словам галантного кучера. Если жеманница будет продолжать прятаться от него под маской важности или добродетели, молодец решил добиться своего при помощи других аргументов. Если он потеряет терпение и ничего не добьётся, он поклялся взять её неожиданностью и силою. Кто был бы виноват в этом. Чёрт возьми, она могла бы встретить более холодного молодца. В деле любовных похождений кучер считал себя, по крайней мере, равным своему господину. Красавица ничего не потеряет от перемены.
Кельмарк продолжал привыкать к тону и приёмам этого весёлого шута, о характере и душе которого он имел превратное понятие. Граф пытался даже поверить, что эти вольности и этот намеренный цинизм являются выражением откровенности, широкого, почти философского взгляда, близкого к его собственным понятиям.
Анри был также тронут готовностью слуги покинуть столицу, чтобы последовать за ним на Смарагдис.
– Ты тоже желаешь удалиться со мною в это гнездо чаек, мой бедный Тибо! Это хорошо!
Он был далёк от того, чтобы сознаться в побуждениях развратника, и он был ослеплён даже до такой степени, что сливал его верность и преданность с чувствами благородной Бландины. Откровенно говоря, он, может быть, с большим трудом лишил бы себя присутствия этого буйного и шумного паяца, чем ласки и любви, которую выказывала ему молодая женщина.
Впоследствии можно будет лучше понять, почему насмешка, постоянный сарказм и богохульства этого парня нравились опечаленной душе Дейкграфа. Можно будет объяснить себе, почему эта любящая, тонкая и страстная душа терпела так долго соседство этого простого борова, неспособного понять какую-либо любовь и испытавшего обыкновенную близость с женщиною только в атмосфере публичных домов или среди продажи кишок.
Вторая часть Самопожертвование Бландины
I
Через день после новоселья, Дейкграф отправился на ферму «паломников». Он приехал туда верхом, в сопровождении трёх красивых сеттеров-гордонов, которые лаяли и покрывались пылью. Фермер, работавший на соседнем поле, бросил далеко свою лопату, и только успел накинуть куртку сверх своей красной фланелевой рубашки; но его дочь не потрудилась даже спустить рукавов, которые показывали её красные и мускулистые руки. Они оба, задыхаясь, подбежали к почтенному гостю и, после любезных приветствий, сочли своим долгом показать ему ферму.
Мишель Говартц вовсе не хвастал. Все постройки, начиная с дома до последнего флигеля, конюшни, стойла, кладовые, гумно, чёрный двор, говорили о порядке, богатстве и комфорте.
Анри снова выказал себя очень любезным по отношению к Клодине, интересуясь богатствами фермы, останавливаясь с любезностью и без всякой скуки перец запасами картофеля, свёклы, мелких бобов и злаков, которые ему показывали в тёплых амбарах или сырых и тёмных сараях. Он несколько раз останавливался перед работами слуг фермы, восторгаясь, например, движениями двух молодцов, занимавшихся полевым трудом; один стоял на телеге с клевером, другой находился при входе в ригу и схватывал на вилу снопы, как бы кровавых цветов, которые ему бросал его товарищ. Они отличались сильно загорелым цветом лица, с голубыми глазами оттенка распространённой посуды, детскою улыбкою на их толстых губах, открывавших здоровые дёсны, и имели утомлённый вид. Клодина окликнула их гортанным и весёлым голосом, и они увеличили свои пластические и сильные движения. Она подогнала их почти так же, как она подогнала бы своих здоровых домашних животных.
Кельмарк осведомился о молодом Гидоне однако, вполне развязным тоном, точно из простой вежливости. Негодяй находился там, где-то, в стороне Кларвача. Клодина показала на другой конец острова с каким-то скучным видом, пожимая плечами, и стараясь перевести разговор.
Клодина словно захватывала гостя, и казалось, что он обращал внимание только на неё, смотрел только туда, куда она ему указывала. Он погладил, по её примеру, блестящие спины коров, он был принуждён попробовать парное молоко, которым мужественная коровница наполняла глиняные кувшины. В соседней комнате другие женщины сбивали масло. Сильная приторность в воздухе вызывала тошноту у Анри, и он предпочитал вдыхать едкие запахи конюшни где его лошадь жевала свежий клевер вместе с здоровыми лошадьми фермы. В саду она сорвала ему веточку из сирени и левкоя, который она сама, близко прикасаясь к нему, воткнула в петлицу жилета.
– Скоро поспеют ягоды! – сказала она ему, нагибаясь, под предлогом показать ему поспевавшие ягоды, но, в действительности, чтобы возбудить его привлекательными формами своего тела.
– Уже двенадцать! – воскликнул Кельмарк, вынимая часы, когда на колокольне Зоудбертинга прозвонили часы.
Фермер, смеясь, предложил ему разделить с ними деревенский суп, не надеясь на то, чтобы он мог согласиться.
– Охотно, – отвечал граф, – с условием есть за столом слуг и даже из их блюда!
– Какая фантазия! – воскликнула Клодина, однако, польщённая этой простотой. Это снисхождение казалось ей даже понятным, из-за желания перейти очень далёкое расстояние между аристократом и простой крестьянской девушкой.
– Все эти люди дышат здоровьем! – констатировал Кельмарк, осматривая всех сидевших за столом. – Они столь же аппетитны, как и то, что они едят, и их приятные лица точно прибавляют пару в кушанья.
По деревенскому обычаю, женщины прислуживали мужчинам и ели только после них. Они принесли какую-то густую похлёбку с салом и овощами, в которую Анри первый опустил свою оловянную ложку. Его соседи, два рабочих, убиравших клевер, весело последовали его примеру.
– А ваш сын не возвращается к обеду? – спросил Кельмарк бургомистра.
– О, он каждое утро уносит с собой хлеб и говядину! – ответила Клодина.
После обеда Анри ещё оставался. Клодина, убеждённая, что она так сильно увлекала его, снова повела его по владениям Говартца.
Очень искусно она рассказывала ему об их благосостоянии. Их поля доходили очень далеко, дальше ветрянной мельницы. «Смотрите, до того места, где вы видите белую берёзу!» Она давала понять Дейкграфу, что они и теперь уже очень богаты, без всяких побочных планов. Обе сестры Мишеля, обе старые святоши, хотя и поссорившиеся с бургомистром, всё же обещали оставить после смерти свои богатства его детям.
Кельмарк тянул так время, пока не наступил вечер и он велел оседлать свою лошадь. Граф надеялся увидеть юного музыканта и в минуту, когда он собрался ехать, он снова осведомился о нём. «Часто он возвращается только ночью, сказала Клодина, нахмуриваясь при одном упоминании о противном мальчишке. Иногда он и ночует там. Его нравы бродяги больше не беспокоят ни меня, ни отца. Нас ничто не удивит!»
С скорбным сердцем граф представлял себе юношу, скрывавшегося в подозрительных краях.
– Кстати, бургомистр, – сказал он в то время, когда фермер подводил ему лошадь, – я хочу сделаться членом вашего оркестра.
– Это очень приятно, граф, сделайтесь нашим президентом, нашим покровителем.
– Хорошо. Я согласен.
Думая о Гидоне, граф вспомнил серенаду в тот день, и был убеждён, что ему было бы приятно послушать чаще эту меланхолическую и красивую песенку, которую так хорошо исполнял юноша.
Поставив ногу в стремя, он опять задумался; что-то удерживало его. Неужели он уедет и не скажет настоящей цели своего приезда?.
– Возможно, – решился он проговорить скромно бургомистру, – что у вашего сына большие способности к музыке и живописи. Пришлите его ко мне… Может быть, найдётся средство сделать из него, что-нибудь. Я хочу попытаться приручить этого маленького дикаря.
– Граф очень добр! – прошептал Говартц, – но, откровенно говоря, я уверен, что вы будете трудиться напрасно. Негодяй не сделает вам чести.
– Напротив, граф, – вмешалась сестра юноши, – он только огорчит вас. Он ничем и никем не интересуется или скорее, у него очень странные привязанности и наклонности, он считает белым то, что другим кажется чёрным…
– Пускай, я хочу попытаться! – снова заговорил граф де Кельмарк, сбивая хлыстом пыль с своих сапог и вкладывая наиболее незначительные выражения в свои слова. – К тому же, признаюсь я, я люблю трудные задачи, которые требуют некоторого напряжения, даже, мужества. Я приручал и дрессировал с успехом ретивых лошадей. Я даже откроюсь вам, и это не к моей чести, что иногда довольно побиться о заклад, чтобы я принялся за дело. Препятствие возбуждает меня, и опасность даёт наслаждение. У меня мания игроков. Доверив мне этого блудного сына, этого непокорного юношу, вы доставите мне только удовольствие… Послушайте, – прибавил он, – очень возможно, что я отправлюсь завтра гулять в сторону Кларвача, чтобы найти этого молодчика. Я поговорю с ним, и увижу, чего он стоит…
– Как вам угодно, граф, – сказала Клодина. – Во всяком случае, вы оказываете нам большую честь. Мы будем очень благодарны вам за него. Но не сердитесь на нас, если мальчишка не воспользуется ни вашими советами, ни вашими заботами.
На следующий день Дейкграф отправился до равнины Кларвача, покрытой вереском. Очень скоро он узнал юношу в одной группе оборванцев, собравшихся вокруг костра из сучьев и корней, на которых пеклась картошка. При приближении всадника все встали и, исключая Гидона, бросились с испуга бежать в кусты. Молодой Говартц, приложив руку к глазам, храбро взглянул на Кельмарка.
– А, это – ты, молодец!.. – спросил его Кельмарк. – Подойди сюда, подержи минутку лошадь пока я исправлю стремена…
Юноша подошёл, доверчиво, и взял поводья. Подтягивая ремни, – что Анри придумал только в виде предлога, средства завести знакомство, он наблюдал его углом глаза, не зная как вступить в разговор, в то время как юноша, с своей стороны, не терял из вида ни одного движения графа, и чувствуя себя непонятно взволнованным, одновременно боясь и желая того, что должно было произойти между ними. Их глаза встретились и, казалось, вопрошали вполне определённо и ясно друг-друга. Тогда Кельмарк, чтобы покончить с этим, коснулся юноши, взял его за руку, и, пристально смотря ему в глаза, повторил ему предложение, которое накануне высказал его родным.
– Ты понимаешь… ты будешь приходить в замок каждый день. Я сам буду учить тебя читать и писать, рисовать карандашом, писать красками, создавать такие картины, которыми ты восторгался в тот вечер. И мы будем также заниматься музыкой, и очень много! Ты увидишь! Мы не будем скучать!
Ребёнок слушал его молча, столь поражённый, что он принял глупый вид, открыл рот, вытаращил глаза, точно обезумел.
Граф замолчал, удивлённый, думая, что избрал дурной путь, но продолжал изучать его. Вдруг Гидон изменился в лице, и залился нервным смехом. В то же время, к глубокому поражению Кельмарка, он отстранился и хотел вырвать свою руку из руки графа; можно было бы подумать, что он отказывается, что он торопится догнать своих товарищей, очень занятых этой сценой. Граф, разочарованный, покинул его.
Маленькой дикарь рванулся к другим коровникам, но вдруг остановился, перестал смеяться, закрыл глаза руками, упал на траву, где стал кататься от рыданий, кусая вереск, ударяя по земле босыми ногами.
Граф, всё более и более ошеломлённый, бросился поднимать его:
– Ради Бога, мальчик, успокойся! Ты меня, значит, не понял! Напрасно ты огорчаешься. Я никогда себе не прощу, что заставил тебя плакать. Напротив, я желал тебе добра. Я надеялся заслужить твоё доверие, стать твоим большим другом. А ты так огорчаешься! Предположим, что я ничего не сказал! Будь покоен… Я не хочу брать тебя насильно! Прощай…
И граф хотел соскочить на седло. Но молодой Говартц слегка поднялся, пополз на коленях, взял его руки, поцеловал их, обмочил их слезами, и, наконец, заговорил, облегчая свою душу целым потоком слов, точно он задыхался и вдруг, получил возможность говорить:
– Ах, граф, простите, я обезумел, я не знаю, что со мною, что у меня в душе, я так опечален, но я так счастлив, я чувствую, что умираю от радости, слушая вас! Если я плачу, то это от вашей доброты… Сначала я не хотел верить… Вы ведь не смеётесь надо мной? Это правда, что вы возьмёте меня к себе?
Дейкграф, увлечённый этим впечатлительным юношей, не мог себе представить, что встретит подобную любящую душу. Он уговаривал его нежно, рассказывая о том счастье, которое он испытает, и, в конце концов, покинул его, радостного, с улыбавшимся лицом, после того, как они обещали друг-другу встретиться на другой же день в замке Эскаль-Вигор.
II
После этого соглашения Гидон приходил каждый день в замок. Кельмарк проводил с ним долгое время в своей мастерской. Юный крестьянин выказывал в занятиях рвение и горячность неофита, достойные какого-нибудь creato, или ученика итальянских художников эпохи возрождения. Они не знали никакого отдыха в своих занятиях. Гидон был одновременно и моделью, и учеником и помощником Кельмарка. Когда они утомлялись писать, читать или рисовать, Гидон брался за свою трубочку, или распевал, своим громким, точно металл, голосом, героические и первобытные песенки, которым он научился у рыбаков Кларвача.
Кельмарк, казалось, не мог жить без своего ученика, и посылал за ним, если тот опаздывал. Всегда их видели вместе. Они стали неразлучны. Гидон, обыкновенно, обедал в Эскаль-Вигоре, так что возвращался домой только к ночи. По мере того, как Гидон усовершенствовался, развивал свои необыкновенные природные данные, сильная любовь Кельмарка к ученику становилась исключительной, даже подозрительной и почти эгоистичной. Анри счёл своей привилегией образовывать этот характер, наслаждаться этой превосходной натурой, которая стала бы его наилучшим произведением, вдыхать в себя эту чудесную душу. Он бережно культивировал её, точно какие-нибудь необузданные садовники, которые могли бы убить любопытного или временного конкурента, желавшего проникнуть в их сад. Между ними образовывалась нежная дружба. Они удовлетворяли друг друга. Гидон, очарованный, не мечтал об ином рае, как о замке Эскаль-Вигор. Слава, забота об известности не представляли значения в их жизни настоящих художников.
К тому же Кельмарк видел достаточно социальную и поверхностную жизнь так называемых художников. Он знал тщету художественных репутаций, проституцию славы, несправедливость успеха, мерзкие поступки критики, соперничества между врагами, более жестокие и ужасные, чем соперничества между скупыми торговцами.
Бландина, немного недоверчивая, любезно отнеслась к этому товарищу графа. Довольная тем счастьем, которое юный Говартц доставлял Анри, она приветливо встречала его, хотя иногда не обнаруживала большого восторга. В глубине души, не испытывая определённой антипатии к этому мелкому крестьянину, она иногда должна была быть оскорблена до глубины души, всем существом, и несмотря на своё доброе сердце, здравый разум, величие души, она, разумеется, должна была испытывать частые порывы негодования против этого умственного сближения, этой тесной дружбы, этого непонятного союза двух мужчин. Она доходила даже до того, что ревновала графа к таланту и темпераменту молодого художника, этим двум умственным дарам, которые сближали его с душою Кельмарка сильнее, чем вся её глубокая любовь простой женщины и хранительницы его счастья. Доброе существо ничего не высказывало в эти столь человеческие минуты слабости, за которые её разум упрекал её инстинкт.
Что касается Клодины, то вначале и затем ещё долгое время, она совсем не была оскорблена этой сильной дружбой, которую выказывал Дейкграф юному Гидону. Она видела в этом известный, хотя и не прямой, приём ухаживания графа за сестрой, словно он вводил брата в свои интересы. Разумеется, Кельмарк откроется маленькому пастуху в своей любви к молодой фермерше. – «Он очень робок, чтобы прямо открыться мне, – думала она; – сначала он откроется мальчику и постарается через него узнать мои чувства. Он избрал довольно жалкого посредника. Впрочем, у него не было выбора. В ожидании этого близость, которую граф выказывает дрянному шалуну, скорее касается меня».
Слишком сильно размечтавшаяся крестьянская девушка наслаждалась этою глубокою дружбою между Дейкграфом и негодяем, которого так долго отталкивала, почти не считала своим братом. Она перестала даже обращаться с ним грубо, бранить его. Теперь она берегла его, заботилась о нём, смотрела за его одеждою, починяла бельё, – ко всему этому он не привык. Чтобы объяснить эту перемену, девушка поверила Говартцу свой большой план о браке с графом. Бургомистр, не менее тщеславный, приветствовал эти честолюбивые мечты и ни на одну минуту не сомневался в успехе. По примеру своей любимицы он перестал грубо обращаться с сыном.
Когда, после нескольких месяцев так называемого испытания, Дейкграф заявил бургомистру, что он окончательно решил заняться негодяем, Клодина убедила Мишеля Говартца принять это предложение.
Бургомистр, очень тщеславный, немного поколебался, потому что, как он понимал, положение Гидона в замке было бы подчинённым, немного выше какого-нибудь слуги, вроде Ландрильона, но всё же слуги.
В то время как он долго так, под собственной крышей унижал сына, ставя его ниже всяких рабочих, поручая ему самые неприятные обязанности на ферме, его отцовское тщеславие могло бы страдать, видя его в зависимости от другого авторитета, чем его.
Чтобы оправдать своё вмешательство, Кельмарк показал им уже очень порядочные рисунки юного ученика, но ни дочь, ни отец не могли судить об обещаниях этих первых опытов.
– Согласимся на предложение Дейкграфа, – настаивала Клодина, – встречая препятствие отца. Во первых, для нас это прекрасное освобождение. Затем, будьте уверены, что граф занят этим негодяем и берёт его только для того чтобы сделать нам приятное, выразить мне своё расположение. Не будем ему мешать, поверьте мне, нарушая его добрые намерения по отношению к мальчику. Это одно из способов открыть перед мною двери Эскаль-Вигора. Между нами говоря, он не придаёт никакого значения этому негодяю или, по крайней мере, он преувеличивает его небольшие достоинства…
В первое время, когда Гидон вечером возвращался из замка, она спрашивала его о том, что они делали в течение дня, что происходило в замке Эскаль-Вигор, что говорил и делал граф. «Спрашивал ли он обо мне. Что он тебе рассказывал? Скажи, он очень интересуется нами. Говори же, не скрывай ничего. Наверно, он признался тебе в некоторой слабости к твоей сестре?»
Гидон отвечал неясно, но так, чтобы не скомпрометировать себя. Действительно, граф спрашивал о ней, как и об отце и даже о слугах, даже о животных на ферме. Но без известной настойчивости. В действительности, Клодина интересовалась очень мало разговорами графа с учеником, всецело увлекавшаяся своими занятиями и работами.
Гидон становился всё более скрытным. С минуты первого соглашения он проявлял своему покровителю столь же верную и глубокую преданность, как и Бландина. К его фанатической любви прибавлялось ещё что то острое и сверкающее, чем наделяют ум и утончённая культура всякое чувство. Гидон, известный под названием безумца, простяка, негодяя, представлял из себя моральную ценность в теле, в чудесной оболочке, которая укреплялась и хорошела с каждым днём.
С тактом, иным взглядом на вещи, с инстинктом любящих натур, он подозревал о расположении его сестры к графу, но был вполне уверен, что граф никогда не ответить ей тем же. Гидон слишком хорошо знал сестру и он чувствовал лучше, чем кто-либо, что огромная пропасть всего вульгарного и взаимного непонимания существовали между ею и Кельмарком.
Ученик вскоре понял даже, что его учитель отдаёт ему предпочтение перед «госпожой управительницей», перед этой благородной Бландиной. Всегда граф, казалось, был больше занят им, чем своей возлюбленной. Гидон в глубине души гордился этим предпочтением, предметом которого он являлся, и можно было бы подумать, что своими любезностями к молодой женщине он хотел искупить то преобладание, которое он занимал в жизни своего учителя.
Гидон угадывал, чувствовал вполне верно: Анри не выказывался определённо перед своим учеником. С другими он держался очень сдержанно, но его любезные слова не противоречили ласке и сильной симпатии к ученику.
Никогда Бландина не видела его столь весёлым, радостным, как с тех пор, как он принялся за воспитание и судьбу этого юного босоножки. Каким сговорчивым и любезным он ни являлся бы по отношению к ней, – он всё же не мог скрыть радости, что сделался главною и постоянною заботою владельца Эскаль-Вигора. Он не проявлял никакой хитрости, нет, он восторгался наивно, иногда чувствовал себя растроганным, при виде немного заброшенной женщины, и в своём эгоизме балованного ребёнка, неофита, избранника, он не замечал безмолвия и скрытности Бландины, когда граф оставлял его обедать, или странного выражения глаз, которое она бросала на того и другого, когда они беседовали, с горячностью и восторгом, отдавались какому-то лиризму, не замечая даже её присутствия, как немого свидетеля.
Деревенские жители Зоудбертинга не видели ничего дурного в этой определённой любви графа к сыну Говартца.
Так же мало, как бургомистр и его дочь, они верили в талант и призвание мальчика.
«Это доброе и милосердное дело, говорили они. Отец ничего не сумел сделать хорошего из этого ужасного и невозможного ротозея, который столько же презирал всякую работу, сколько и развлечения учеников его возраста».
Неуклюжие крестьяне удивлялись даже, что граф сумел добиться и этого из такого мальчишки, который до сих пор мог научиться только хорошо играть на трубе.
К тому же, чем больше сходились учитель с учеником, тем больше Кельмарк выказывал себя приветливым, благородным, даже расточительным к другим, устраивал всякие празднества, увеличивая случаи обильного угощения и гимнастических упражнений.
Он придумывал гонки на парусах вокруг острова и катался сам с Гидоном на яхте, украшенной различными цветами, при чём выказал себя чуть ли не лучшим знатоком этого дела в стране. Он обновил на свой счёт инструменты гильдии св. Сецилии; он постоянно присутствовал на репетициях, выездах и пикниках всей общины юных молодцов; ему случалось даже не раз во время чудных летних ночей, когда сумерки и заря, казалось, сливаются, после долгого бдения, проведённого в атлетических представлениях и шутовских танцах, уводить всю банду в глубину острова и пускать пошляков домой, в отцовские и супружские жилища, только на другой день вечером, после живописного шествия, выпивки, объедения и изящных подвигов под соломою и сеном.
Кельмарк тратил без счета свои деньги. Можно было бы подумать, что он хотел искупить чрезвычайными щедротами и добрыми делами своё право на таинственное и огромное счастье; что он хотел заплатить за ту ненависть, которую могло внушить другим его завидное и хрупкое счастье.
Эти безумства лежали, конечно, на попечении Бландины; однако, она не рисковала даже уговаривать его и не осмеливалась напоминать о таких неуместных расходах.
Естественно, что граф добился популярности, к которой примешивались лесть, прибыль и жадность; но если большинство крестьян любило его в грубой форме, то всё же они любили его по-своему. Бедняки Кларвача, в особенности, готовы были отдать жизнь свою за молодого господина.
В числе открытых своих врагов граф насчитывал только пастора Балтуса Бомберга и нескольких робких святош. Каждое воскресенье пастор метал громы против бесчестия и беспутства графа и грозил адом овцам, которые привязывались к этому бездельному, этому жадному волку; он жаловался, в особенности, на временных посетителей Эскаль-Вигора, этого дьявольского замка, наполненного скандальными изображениями обнажённых тел…
Хотя этот желчный, сердитый, узкий сектант рассорился на смерть с бургомистром, в своём фанатическом рвении, он всё же решился отправиться на ферму, чтобы убедить отца в том риске, которому он себя подвергает, отдавая молодого Гидона на воспитание этому дурному богачу, известному в округе своею безобразною и бесчестною жизнью. Как все закоренелые кальвинисты, Балтус был ещё членом секты, которая отвергала иконы. Если б он не боялся бешеного гнева крестьян, столь привязанных к этой древней реликвии, которая напоминала чрезмерные чувства их предков, он готов был даже стереть фрески мученичества св. Ольфгара.
Кельмарк был вдвойне ему противен, как язычник и как художник. Чтобы запугать бургомистра, Балтус уговаривал его вырвать сына из рук соблазнителя, под страхом лишить Клодину и Гидона наследства почтенных их тёток. Мишель и Клодина, всё более и более привязывавшиеся к графу, прогнали пастора восвояси с насмешками и шутками. Гидон, которого он встретил однажды в окрестностях парка Эскаль-Вигора, не захотел даже слушать его, повернулся к нему спиной и, пожимая плечами, убежал с ещё более вольным жестом.
Между тем дела Клодины, казалось, не двигались вперёд. «Послушай, сонливец, ты ничего мне не рассказываешь, – говорила она тому, кого считала посредником между собою и Кельмарком. – Разве граф не поручил тебе передать мне словечко?» Гидон придумывал какой-нибудь вздор, но чаще всего, недовольный, он прекращал разговор или молчал. Девушка выходила из себя тогда от глупости посредника и начинала даже бранить и грубо обращаться с ним, как прежде.
Из тактичности граф продолжал усиленно посещать их ферму и ухаживать за молодой фермершей. Она выказывала себя более милостивой к нему. Он слишком много употреблял времени на решительное объяснение.
Он почти не дотрагивался до неё пальцем и ни разу не поцеловали её.
Как только она заслышит стук копыт лошади и бег его сеттеров, Клодина выбегала на порог фермы, принимая удовольствие даже в выказывании ему любви, настолько она была уверена в успехе.
Начинали много поговаривать о посещении и долгом засиживании на ферме графа.
Хотя граф был занят исключительно маленьким Гидоном, он намеренно любезно встречал каждого. Он выказывал великодушие до какого-то кокетства. В ответ на желчную критику и проклятия ядовитого пастора, он расточал милости, разорялся на подарки одежд и существование бедняков, поддерживаемых исключительно приходом. Пастор разделял деньги и другие милости, но не забывал и себя при этом.
Сколько раз друзья Анри, рыбаки креветок и бездельники из Кларвача, предлагали ему проучить пастора; пятеро из них беспрестанно назначались в замок, в качестве телохранителей Кельмарка. Граф очень часто заставлял позировать себе маленьких сыновей потерпевших кораблекрушение, постоянных посетителей набережных, пиратов того, что выбрасывает море, забавлялся их борьбою и нападением с ножами, или откровенно беседовал с ними, и вместе с Гидоном наслаждался их грубым языком, занимательными рассказами об их проделках. Эти беспорочные мальчики, неисправимые бродяги, которые нигде не умели ужиться и были выгнаны повсюду, эти чудесные человеческие ростки, первые учителя маленького Гидона, бредили только Анри и Эскаль-Вигором.
– Скажите только слово, предлагал то один, то другой Кельмарку, и мы разрушим священнический дом; и мы повесим быстро и высоко этого болтуна псалмов; или лучше, не содрать ли кожу с него, как наши предки Смарагдиса содрали с апостола Ольфгара, этого непрошеного гостя?
И они поступили бы так, как говорили, по одному жесту, по одному слову своего господина, вместе с ними все набросились бы на надоедливого проповедника.
Много раз, проходя мимо священника, музыканты гильдии св. Сецилии издавали свист. В один весёлый вечер они даже выбили ему окна. На праздник св. Сильвестра они приставили к двери пастора ужасное чучело из соломы с просфорой на голове, представлявшее его достойную подругу и его приговорённую душу, и, так как после этого ругательства снова посыпались проклятия на Дейкграфа и Бландину, шалуны Кларвача вымарали испражнениями заново разрисованный фасад священнического дома.
Пастор, пожелтевший от негодования и злобы казалось, находился один против всего прихода и даже всего острова.
– Как образумить этого гордеца Кельмарка, – думал Балтус Бомберг. – Как уничтожить его престиж, отклонить от него этих заблудших и ослеплённых грубиянов, навлечь их на своего идола, заставать их сжечь то, чему они поклоняются?
Но никто его не слушал, и почти не ходил в церковь. В конце концов, он проповедовал перед пустыми скамейками. Около дюжины старых ханжей, в числе которых были его жена и обе сестры бургомистра, только одни поддерживало его.
В сильном поклонении, которое вызывал к себе юный граф, чувствовалось что-то вроде восторженного культа римского народа к Нерону, милосердного и расточительного поставщика хлеба и зрелищ.
III
Увеличивая внимание к себе окружающих и всей общины, Кельмарк усиливал своё снисхождение к Ландрильону. Он обращался с ним с большим добродушием, казалось, принимал большое удовольствие в его обязанностях своего – телохранителя.
Но негодяй вовсе не поддавался этой милости. Ничего не показывая, он не переставал следить за влиянием маленького Гидона Говартца на Анри де Кельмарка и, может быть, он подглядел смутный свет – нет ничего более наблюдательного, как зависть, – той силы любви, которую питали друг к другу эти два существа. Пусть только представят себе низкое чувство какого-нибудь шута, который видит, что успех и слава покидают его и направляются к более серьёзному и более возвышенному артисту, тогда можно себе вообразить глухое и затаённое чувство кучера против этого юного крестьянина.
Кельмарк почти всегда брал с собою Гидона на прогулку в экипаже, а Ландрильон управлял лошадьми. Во время одной поездки в Ипперзейд, с целью побывать в музеях и снова взглянуть на произведения Франса Гальса, молодой Говартц помещался в одной комнате с учителем, в то время как Ландрильон был отправлен на чердачок под крышу. Кроме того, слуга должен был служить за столом этому босоножке, шалуну, когда-то много терпевшему от рабочих Смарагдиса, а теперь чрезвычайно важному, балованному, изнеженному, ставшему неразлучным другом господина. Подумать только, что этот важный барин, казалось, не мог жить без общества этого противного мальчишки, который портил у него прекрасную бумагу, дорогое полотно и краски!
Если б кучер не мечтал сделаться супругом Бландины, может быть, он был бы ещё больше настроен против этого проклятого пастуха. С одной стороны, слуга не сердился на чрезвычайное внимание, которое оказывал граф молодому Говартцу. Ландрильон поклялся, что в важную минуту для него он воспользуется этою дружбою двух мужчин, чтобы отвлечь Бландину от её господина. Заброшенная, и даже покинутая Кельмарком, бедная женщина всё же не казалась способной заинтересоваться новым кавалером.
Пользуясь минутою, когда Бландина спустилась в кухню, чтобы заняться каким-то делом по хозяйству, Ландрильон осмелился однажды объясниться с нею:
– У меня есть некоторые сбережения, – проговорил он, – и если это правда, что старуха оставила вам большой куш, мы с вами составим чудесную парочку, как вы думаете, мадемуазель Бландина, скажите?.. Если вы лакомый кусочек, то согласитесь, что и я не дурён. Много девчонок вашего пола доказывали нам это на деле! – прибавил соблазнитель, покручивая усы.
Бландина, очень недовольная этим объяснением, холодно и с достоинством отклонила честь, которую он хотел ей предложить, и даже не указала ни одного мотива своего отказа.
– Да, мадемуазель! Это ещё не последнее ваше слово. Вы подумайте. Я не хвастаюсь, но такие женихи, как я, такие кавалеры с добрыми намерениями встречаются не каждый день.
– Не настаивайте, господин Ландрильон. Стоит мне сказать только одно слово.
– Значит, вы рассчитываете на кого-нибудь другого?
– Нет, я никогда не выйду замуж.
– Значит, всё же вы любите другого.
– Это уже моя тайна и дело моё и моей совести.
Немного разгорячённый, так как он выпил несколько стаканчиков можжевёловой водки, чтобы придать себе храбрости, он захотел обнять её за талию, привлечь к себе, даже поцеловать её. Но она оттолкнула его, и так как он снова, захотел проделать то же, она ударила его по щеке, угрожая, что пожалуется графу. Пока он остановился на этом.
Эта сцена происходила в первые дни их переезда в Эскаль-Вигор.
Но Ландрильонь не сдавался. Он снова возвращался к этому вопросу, пользуясь каждой минутой, когда он находился один с ней, чтобы надоедать ей сальностями и вольными выходками.
Каждый раз, когда он выпивал, она подвергалась опасности. Всегда, когда граф удалялся в мастерскую с Гидоном или когда они отправлялись на прогулку, Ландрильон пользовался этим и тревожил молодую женщину. Он следовал за нею из комнаты в комнату и чтобы избегнуть его преследования, она должна была запираться у себя в комнате. Он даже грозил выставить дверь.
Как и в городе, при старой графине, Анри держал у себя из прислуги только Бландину и Ландрильона. Пятеро мальчиков из Кларвача, стороживших его, не ночевали в замке. Таким образом бедная экономка часто оставалась почти во власти этого негодяя.
Жизнь становилась нестерпимой для молодой женщины. Если она удерживалась от жалоб Кельмарку, то это происходило от того, что она считала ещё этого тривиального шута, этого низменного весельчака необходимым для оживления Анри. Её преданность графу была так сильна что благородная крошка колебалась лишать его малейшего предмета, способного отвлечь его от его меланхолии и от упадка духа. Она смотрела так же с стоицизмом и самоотречением на влияние, которое оказывал младший Говартц на душу учителя и старалась сама даже улыбаться и нравиться любимцу своего возлюбленного.
Она выносила таким образом надоедание и насмешки сатира, желая только скрываться от его безумных выходок. Отказы, презрение Бландины только усиливали желания грубияна. Однажды, когда он объяснялся с ней по поводу своей страсти, она схватила кухонный нож, забытый на столе и грозила ему распороть живот.
Затем, когда он отстранился, она вся в слезах побежала к лестнице, решившись войти в комнату графа и сказать ему о недостойном поведении негодяя.
– Прекрасно! – отвечал Ландрильон, бледный от гнева и вожделения, готовый тоже идти до крайностей. – Но на твоём месте я бы ничего не сделал. Я не думаю, чтобы тебя там хорошо встретили, наверху. Он даже рассердится, что ты его беспокоишь. Если ты ещё влюблена в него, то он давно потешается над тобой, твой прежний возлюбленный!
– Что вы хотите этим сказать? – протестовала молодая женщина, останавливаясь на первой ступени лестницы.
– Бесполезно разыгрывать из себя святошу.
Что мы знаем, то знаем!.. Ты была его любовницей, не отрицай, пожалуйста.
– Ландрильон!
– Это известно всем в Зоудбертинге и даже по всему Смарагдису. Пастор Балтус Бомберг не перестаёт трезвонить в церкви против развратницы графа.
Раздумав идти по лестнице, она вернулась, села на стул, совсем лишаясь чувств, почти умирая от мук и позора.
Звуки рояля нарушили безмолвие, которое они оба хранили.
Гидон исполнял там наверху своим простым, искренно взволнованным и ещё немного неустановившимся голосом, но с необыкновенным оттенком – балладу о потерпевшем кораблекрушение, а Кельмарк аккомпанировал ему на рояли.
Тело Бландины, потрясаемое рыданиями, с какой-то мукой, отвечало на ритм песни. Можно было бы подумать, что голос молодого крестьянина, в конце концов, опечалил её.
Слушая мальчика, слуга двусмысленно улыбнулся и с каким то ироническим взглядом посматривал на несчастную Бландину.
– Послушайте, – сказал он любезным тоном, дотрагиваясь до её плеча, – не надо больше ссориться. Выслушайте лучше меня. Вам желают добра, чёрт возьми! Вы напрасно ещё до сих пор любите этого презренного и легкомысленного аристократа. Какая глупость! Разве вы не видите, что он уже остыл к вам…
И когда она подняла голову, он сделал ей знак, положив палец на уста, приглашая её послушать романс, чрезвычайно страстный, который распевал ученик своему учителю и после новой паузы, во время которой они оба слушали, он продолжал вполголоса:
– Видите, наш хозяин занят гораздо больше этим малышом, чем вами и мною! На вашем месте, я бросил бы его и предоставил ему заниматься этим шалуном и другими грубиянами… Здесь, Бландина, вы будете только страдать, вы иссохнете от горя. Ваша красота поблекнет без всякой пользы для кого бы то ни было на свете… Если вы мне доверитесь, моя дорогая, мы оба вернёмся в город. С меня довольно сельской жизни в Смарагдисе. Трудно поверить, но с тех пор, как этот юный крестьянин появился в замке, он занят только им! Вы и я, мы теперь на заднем плане. Какая внезапная любовь! Два пальца на одной руке не столь неразлучны.
– А что вам до этой любви? – сказала Бландина, стараясь ещё раз понять его намерения. – Этот Гидон Говартц хороший малый, нелюбимый в семье, так как превосходит, как нам и доказано, умом и чувством общую массу этих грубых жителей острова…
Граф вполне в праве поступать так с мальчиком, который становится всё более и более достойным его доброты…
– Да, согласен, но господин наш преувеличивает своё покровительство. Он не замечает уже границ; он выказывает, действительно, слишком много нежности этому сопляку. Граф Кельмарк не может афишировать себя таким образом, чёрт возьми! с каким-то пастухом коров и свиней…
– Ещё раз, что вы хотите этим сказать? – Вместо всякого ответа, Ландрильон опустил руки в карман и начал насвистывать, смотря по сторонам, какую-то пародию на романс маленького пастуха.
Затем он вышел, воображая, что пока он сказал достаточно.
Бландина, оставшись одна, начала плакать. Не думая ничего дурного, она не могла никак успокоиться и постоянно огорчалась по поводу сильной близости графа с его любимцем. Она напрасно уговаривала и убеждала себя радоваться на перемену, происшедшую в Кельмарке, на его деятельность, жизнерадостность. Она всё же сожалела, что это моральное выздоровление совершилось не благодаря ей, но по какому-то чуду, совершённому этим юным непрошенным гостем.
– Ну-с, – сказал через несколько дней Ландрильон молодой женщине, – наш господин хорош, мамзель Бландина!.. Наши художники всё лучше и лучше сходятся между собою!.. Вчера они целовались, – что тебе ещё надо!
– Ты рассказываешь глупости, Ландрильон, – сказала она с намеренной улыбкой. – Повторяю тебе, граф привязан к этому юному крестьянину, потому что он делает честь его урокам… Что же здесь дурного? Я тебе уже говорила, он любит этого юного Говартца как младшего брата, как умного ученика, которого он воспитывает…
– Так… так… – стал напевать Ландрильон с противной двусмысленной гримасой.
Порочный до мозга костей, прошедший через самые худшие смешения в солдатской среде, он умел шпионить, заниматься проституцией и шантажом. Он не был способен понять всё то, что было благородного и глубокого в обыкновенных отношениях, ещё менее он был способен схватить и признать простую любовь одного человека к другому.
Бландина молчала, ничего не понимая в его инсинуациях, а он продолжал: «Каждый думает по-своему. Моё мнение таково, что наш господин не обращает больше внимания на женщин, я даже думаю, что он никогда и не занимался ими… Вы должны были бы иметь об этом понятие, да? Отказался ли он? Однако, ведь он ещё молод.
– Ландрильон! – протестовала Бландина, – бросьте пожалуйста, эти разговоры… Вы не можете судить графа. Что он делает, он хорошо делает, слышите ли вы?
– Извините, мадемуазель, я замолчу… Это не помешает нам, если наш господин такой таинственный! Он ведёт странный образ жизни!.. постоянно он с своими крестьянами, в особенности, с этим маленьким негодяем… Он считается с нами не более, как со своими лошадьми и собаками… Право, я приклоняюсь перед вашей снисходительностью к его проказам… Вы знаете лучше чем я, что он совсем вас бросил! Если б ему нужна была перемена – хм! я тоже люблю вкушать различные плоды! – он мог только оглянуться вокруг себя и пожелать. Самые красивые девушки из Смарагдиса, Зоудбертинга и Кларвача могли бы быть в его распоряжении. Я даже знаю одну – (и он не без досады проговорил эти слова, так как позондировал почву на этот счёт), – которая сгорает до мозга костей от желания – как это выразиться? – стать ему близкой. Послушайте, это, именно, толстая Клюдина, сестра этого юноши… Хотя он и бывает несколько раз в течение недели на их ферме, я никогда не поверю, чтобы граф не интересовался гораздо больше шароварами негодяя, чем юбками его сестры!
– Ещё раз, молчите! – проговорила Бландина, с сжатым сердцем при мысли о любви этой здоровой девушки к Кельмарку, так как она знала, что та до такой степени ненавидела её, что никогда не кланялась, когда они встречались на дороге.
Что касается любви Кельмарка к Говартцу, то, если она невольно и страдала от этого, она всё же не видела в этом ничего ненормального; подозрительного.
– Поживём-увидим, мамзель Бландина, случай представится вскоре, вразумить вас о характере этой близости двух художников! – отвечал Тибо, восторгаясь своей шуткой.
– Довольно! Ни слова больше! – воскликнула Бландина… – Я не знаю, что меня останавливает рассказать сейчас же графу ваши ужасные поступки… или, скорее, я слишком много наслушалась их, и я умерла бы со стыда, если б осмелилась повторить перед ним всё то, что вы мне сказали!
IV
Однажды вечером, сидя на скамейке набережной, господствующей над страной, Анри де Кельмарк и Гидон Говартц, обнявшись, вели долгие, бесконечные разговоры, прерываемые столь же красноречивым и страстным, как и их слова, молчанием…
Это происходило в одно из тех времён года, которые способствуют созданию легенд среди цветущего вереска и неба, покрытого блуждающими облаками. Вдали, по направлению к Кларвачу, через тенистый парк, наши друзья созерцали зелени огромный весёлый ковёр, который ещё сильнее сверкал от блестящего солнца. Местами сжигались груды очищенного леса; запах горелого распространялся в сыром воздухе. Было очень тепло, и вечер словно замирал от утомления, нежный ветерок напоминал прерываемое дыхание рабочего или возлюбленного, страдающего от сильного возбуждения.
При виде красноватого облака, фантастической формы, друзья вспомнили легенду об «Огненном пастухе», известную по всему северу. Кельмарк некоторое время хранил молчание; казалось, он был охвачен какою-то глубокою думою, связанною с этими удивительными верованиями. С тех пор, как молодой Говартц узнал его, он никогда не замечал у него такого мучительного, огорчённого вида.
– Вы страдаете, учитель? – спросил он.
– Нет, дорогой мой… пустое неприятное воспоминание… это пройдёт. Может быть, это вследствие чудесного вечера… Не находишь ли ты… Знаешь ли ты настоящую историю об огненном пастухе, о котором ты сейчас только говорил… Я имею основание думать, что её рассказывают неверно… Я угадываю и представляю себе более точно весь рассказ… Я выспрашивал у гулявших крестьян в такие вечера, как настоящий, по этим уголкам вереска, где печаль разлита сильнее, чем где либо, где равнина и горизонт сливают свою тяжёлую меланхолию и свой мрачный сон. Некоторые подробности пейзажа нарушают, – ты должен был бы заметить, когда стерёг овец, – острое, почти роковое знамение. Природа словно страдает от угрызений совести. Облака останавливают и увеличивают свой мрачный полдень над каким-нибудь прудком, предназначенных для наяды, для какого-то театра преступления и убийства…
– Дорогой мой, сколько благих решений погибло в такую пору… Гораздо легче подвергнуть себя опасности, когда думаешь о катастрофах других… Я кончил тем, что стал относиться снисходительно к судьбе приговорённого брата Каина. Его я жалею, а не его жертву… Я нахожу его чудесным, привлекательным, хотя и печальным… Но я рассказываю тебе глупости, выдумки, которые могут пугать по вечерам…
– Нет, нет; продолжайте; вы рассказываете так хорошо и вы вкладываете столько интереса в простые слова; часто ваша речь вызывает у меня слёзы и заставляет меня страдать.
– Пускай. Сейчас время благоприятное для рассказа. И так как нам здесь так хорошо, я должен передать тебе, до какой степени я разделяю страдание пламенного пастуха. С давних пор он сильно захватывает печальный и мрачный оттенок моей души… Я чувствую в душе, как блуждаю вокруг него, среди его серных овец, возле его красного от огня посоха, как кусает меня за ноги его чёрная собака, иногда совсем красная, точно наполовину сохранившаяся головня из вечной печи; собака разделяет судьбу своего хозяина, и половина её тела начинает гореть, когда он принимает снова человеческий облик…
Вот всё то, чему научили меня эти призраки… Давно, очень давно Жерар был пастухом у одной крестьянской четы, старой и скупой, которая одиноко проживала в какой-то глуши Брабанта, наполненной пустырями и степями, как здесь в Кларваче. Никто не знал, откуда он явился. Когда его увидели в первый раз, ему могло быть лет пятнадцать; он бегал почти неодетый; его движения напоминали молодого фавна, и его пришлось учить говорить, точно ребёнка. Совершенно случайно скупые старики окрестили его и, взяв его к себе на службу, принудили пасти овец. Им стоила только его более, чем умеренная пища, но подобрав его, они сделали вид, что совершили доброе дело.
Разумеется, природа-мать берегла этого свободного ребёнка, так как он, созданный неизвестно какими лесными существами, был оттолкнут людьми, и казалось, не старился, а становился всё более и более здоровым и красивым. Это был высокий мальчик, столь покрытый шерстью, что рыжие локоны постоянно падали ему на лоб и на божественные глаза, в которых, казалось, сливались бесконечность и вечность.
Напрасно его обучали религии, он не придавал никакого значения нашим притворствам и нашей узости взглядов. Простая природа оставалась его образцом и советницей. Словом, он следовал только своим инстинктам.
Между тем, у его хозяев, хотя и очень старых, напоследок, родился ребёнок, хрупкий мальчик, которого они назвали Этьеном. Так как родители были очень стары, чтобы заботиться о нём, то Жерар стал воспитывать его, сделав его кормилицею двух своих любимых овец. Мальчик рос, становился толстощёким, розовым, красивым, как херувим. Жерар продолжал отдавать ему лучшее молоко от своих овец, ароматические плоды, яйца от вяхирей и фазанов. Он обожал его, как ни одно человеческое существо не может обожать другого, и его бедное сердце дикаря никогда не могло израсходовать все богатства любви, которые оно заключало в себе. Мальчик щебетал, как птичка, он был столь же белокур, как тот чёрен; и крошка командовал над большим наводящим страх юношей. Старые эгоистичные родители и маньяки предоставили им блуждать и жить вместе.
Эта идиллия продолжалась до того дня, пока родителей Этьена не навестила одна родственница в сопровождении Ванны, маленькой блондинки, ровесницы мальчика, весёлой и пикантной, точно начало свежего морозца, привлекательной, как лесная ягода. Старики с обеих сторон согласились обручить детей, которые сразу понравились друг-другу.
С приезда маленькой Ванны Жерар сильно затосковал из-за того внимания, которое маленький Этьен оказывал своей красивой родственнице. Юноша, как балованный ребёнок, любил Жерара так, как мог бы любить какую-нибудь верную и послушную собаку, приветливого товарища игр, готового исполнять все его капризы. Жерар смотрел на Ванну мрачными глазами убийцы, но блондиночка потешалась над дикарём, и чтобы раздражить его, она, ловкая шалунья, уводила очень часто Этьена, или пряталась, чтобы он находил её далеко от ревнивца.
Жерар, терявший терпение, умолял друга не жениться. Этьен смеялся ему в лицо.
– Ты с ума сошёл, дорогой мой? Это закон природы. Взгляни на животных нашей фермы, взгляни на диких зверей в лесу!..
– Имей сострадание! я не знаю, что я чувствую, но я хочу иметь тебя безраздельно моим… Зачем подражать зверям и поступать так, как они? Разве мы не удовлетворяем друг-друга? Думаешь ли ты, что тебя кто-нибудь будет любить так, как твой Жерар? Откажемся мы с тобой от того, чтобы иметь потомство. Разве и так не достаточно нарождается человеческих существ? Будем жить только для нас обоих. Этьен, умоляю тебя; я хочу тебя, чтобы ты был только моим. Я не знаю, что ты за существо такой ли ты человек как другие; но для меня ты несравненный мальчик… О! зачем она явилась между нами. Нет, я дурно объясняю тебе… Твои удивлённые глаза убивают меня. Послушай, у меня болит всё тело, когда я знаю, что ты находишься возле неё. Сильный жар охватывает меня всего. Ваши соединённые руки нежно проникают в мою грудь и разрывают ногтями моё сердце. О, мой Этьен, я умираю, при мысли, что она поцелует тебя в уста, что она увезёт тебя далеко отсюда и что мне придётся уступить тебя навсегда этой похитительнице моей жизни.
Этьен улыбался, немного всё же, смущённый, старался образумить пастуха:
– Ты с ума сошёл, мои чувства к тебе не изменятся. Посмотри, разве я переменился к тебе? Мы будем дружны, как и прежде. Ты отправишься за нами.
Но бедняк не мог успокоиться.
По мере того, как приближался роковой день, Жерар чахнул, лишался аппетита, оставался недовольным всем, чем восторгался раньше, пренебрегал стадом, и его обращение стало столь необычайным, что его хозяева послали его к священнику. Может быть, кто-нибудь сглазил его! пастухи все немного колдуны и могут подвергнуться сами недоброжелательности им подобных. Правдивый Жерар по простоте поведал о своём горе священнику. При первом же слове, которое услыхал от него святый человек, он заворчал: – Уходи, проклятой человек. Твоё присутствие неприятно мне. Я не знаю что меня удерживает отдать тебя в руки судьи, герцога Брабантского… и сжечь тебя на площади, как это делали с тебе подобными… ты должен сейчас же удалиться. Твоё преступление выключило тебя из общины моих верных прихожан… Никто не в состоянии простить тебя, кроме папы в Риме! Бросься к его ногам… Пока ты согрешил в мыслях. Вот почему я не призываю на твоё проклятое тело огня очистительного костра!
Жерар вернулся к хозяевам, без всякого стыда, но в более сильном отчаянии. Он не стал рассказывать подробно о том, что произошло между слугою Бога и им, но он ограничился заявлением, что отправится в далёкое паломничество с целью искупить страшный грех… В ту же ночь он должен был отправиться в путь, когда все заснут, чтобы не встретить ни любопытных, ни спрашивавших его… Точно высшую милость, он упросил Этьена проводить его до известного места от их хижины. Ванна хотела удержать своего жениха, но тот сжалился над своим другом, и перед перспективой, может быть, вечной разлуки, он вспомнил об их долгой любви в прошлом.
– Брат, что это за такой важный проступок, который изгоняет тебя? – спрашивал несколько раз Этьен, шагая рядом с своим другом. Но тот молчал и только пристально смотрел на него и качал головой.
Они долго шли, с сжатым сердцем, не обмениваясь ни словом; но когда они достигли перекрёстка, где должны были обнять друг друга в последний раз, вдруг Жерар обернулся и показал другу на красное зарево на горизонте, с той стороны, откуда они вышли.
Затем с каким то диким смехом он сказал; – Смотри, это горит дом стариков, и Ванна, твоя Ванна сгорает там!.. Теперь ты мой навсегда!
И он с бешенством обнял юношу, который отстранялся от него.
– Жерар! Ты пугаешь меня! На помощь! Это домовой. Он душит меня.
– Ты мой; я тебе даровал жизнь. Я для тебя больше, чем родная мать, слышишь; больше, чем кто-либо из женщин мог бы стать для тебя!.. Ты спрашивал о тайной причине моего отъезда. Ты узнаешь её. Их священник проклял меня. Я предан вечному огню. Хорошо, пока я брошусь в этот огонь, я выпью всю твою жизнь, я сорву все сладости с твоих уст, я хочу насладиться плодом, который утолит на веки мою жажду в пропасти адского огня!.. Ко мне, ко мне!..
Внезапно разразилась гроза, в то время, как несчастный взывал о мщении к небу.
– Ах, – радовался он, – огонь наказания, будь моим радостным огнём! Природа, сожги меня, пожри меня! Приходить ли ты от Бога, как они думают, или ты послан дьяволом, мне всё равно! Приходи, соедини нас в смерти!.. Разразись, чудная гроза избавления! Мне нечего терять, огненные языки будут свежими и чистыми ручейками для моего тела, подобно пожирающей и приводящей меня в отчаяние любви!.. Разразись!..
И проклятый пастух прижал Этьена к своему сердцу, так сильно, точно желал задушить его, припал своими губами к его устам, и не отвёл их, пока огненный огонь не истребил их обоих…
В этом месте патетической импровизации голос Кельмарка обратился в какой-то шёпот, похожий на хрипение.
– О, моё нежное дитя, – застонал он, падая к ногам юноши, – я безумно люблю тебя, я люблю тебя так же сильно, как Жерар любил Этьена.
– Я тоже люблю вас, дорогой учитель, и изо всех сил, – отвечал Гидон, обнимая его за шею. – Я отдал вам себя всего, вам одному безраздельно… Разве только сейчас вы узнали это? Делайте со мной всё, что хотите!..
– Я хочу только видеть тебя, – вздыхал Кельмарк, – чтобы сливаться с твоей непонятной и девственно гордой красой. Моя любовь зарождается от этой близости.
– А я, мой дорогой учитель, – прошептал юный Говартц, – мне довольно только взглянуть на вас, чтобы угадать вас грустным и страдающим, и моя преданность усиливается от моей тревоги.
– Вымышленная клевета, которую распространял о тебе твой отец, – снова заговорил граф, – возбудила мою симпатию, и презрительная гримаса твоей сестры, её недовольный взгляд, осветили тебя отныне в моих глазах беспрерывным светом! Я не смел заявить об этом, прежде чем я снова не увидел тебя, и я притворялся равнодушным, чтобы обольстить твоих родных и слишком грубых товарищей, которым я в тот же вечер, одним своим приближением мешал мучить тебя, моё дитя, избранник моей всей жизни!..
Молния не ударила в них, но они услыхали глухой крик, рыдание, шорох в кустах, позади них. Два неясных силуэта удалялись во мраке.
– Нас подслушали! – сказал Кельмарк, соскочивший и желавший различить кого-нибудь в темноте.
– Пускай, я весь ваш, – прошептал Гидон, обнимая его и нежно прижимаясь к его груди. – Вы для меня всё, и я не верю в небесный огонь. До тебя никто не сказал мне ни одного доброго слова… Я знал только злобу и грубости… Ты мой учитель и моя любовь. Делай со мной всё, что хочешь… Дай твои уста!..
V
Через несколько дней после этого эпизода в саду Бландина пришла к Кельмарку, собиравшемуся писать в одиночестве в своей мастерской.
Долгое время она колебалась, пока решилась на тот шаг, который она считала неминуемым, и огромное значение которого она не отрицала.
Однако, хотя она страшно мучилась, она хотела только предостеречь Кельмарка, предупредить его против последствий его чрезмерной любви к этому противному бродяге.
Она отказывалась ещё верить своим собственным ушам о необыкновенном оттенке этой страсти; она старалась видеть в ней только некоторую неумеренность увлечения, в особенности, потому, что знала экзальтированность графа, любознательность, экспансивность, какое-то безумие, которое он вносил во все свои предприятия, в малейшие дела, при своей чрезмерно впечатлительной натуре.
Когда она вошла, её бледность и её расстроенное лицо поразили графа де Кельмарка.
После того, как он попросил её присесть, и осведомился о причине её прихода, она проговорила без всяких ораторских предосторожностей, но с сжатым сердцем, следующее:
– Я сочла своим долгом предупредить вас, граф, что в округе все очень заняты продолжительным пребыванием сына Говартца здесь, в Эскаль-Вигоре. Если б он только бывал в замке, это было бы ещё ничего, но, Анри, я боюсь, что вы, действительно, афишируете себя напрасно с этим маленьким крестьянином перед ему подобными, вне дома…
– Бландина, – сказал Кельмарк, отстраняя свои бумаги, бросая перо и соскакивая с места, возмутившись смелостью этого вмешательства.
– О, простите меня, господин Анри, – отвечала она, – я знаю хорошо, что ваши поступки меня не касаются. Но всё равно, люди так болтливы! Они видят, что этот юноша неразлучно находится с вами, и это заставляет работать их фантазию и их нерасположение…
– Вот ещё о чём я стану беспокоиться! – воскликнул граф, с намеренным смехом. – Что вы думаете, какое мне дело до всего этого? В самом деле, Бландина, вы меня удивляете, обращая внимание на эти вульгарные сплетни… Действительно, вы выказываете слишком много чести этим несчастным завистникам…
– Однако, господин Анри, – продолжала она с немного меньшею уверенностью, я смиренно сознаюсь вам, что считаю удивление деревенских жителей довольно основательным. Откровенно говоря, несмотря на достоинства этого маленького Гидона, он вовсе не подходящее общество для вас… Согласитесь сами! Вы видаетесь только с ним, или вы удаляетесь с этими бродягами, из Кларвача на другой конец острова… Вы никого больше не приглашаете в замок из ваших прежних друзей… Всё это неестественно и даёт пищу всяким сплетням… К тому же, недоброжелательные и мрачные крестьяне могли бы иметь право удивляться…
– Бландина! – прервал её граф, ледяным и высокомерным тоном. – С которых пор вы начинаете контролировать мои поступки, и вмешиваться в мои приёмы гостей?
– О, не сердитесь, господин Анри, – сказала она, охваченная сильным страданием от этого холодного тона и уничтожающего взгляда, – я знаю, что я только ваша бедная служанка, но я вас сильно люблю, – продолжала она в слезах, – я вам так предана. Я не хотела бы раздражать вас пустяками… но ваша репутация, ваше знаменитое имя для меня дороже и священнее, чем моя собственная совесть… Моя сильная любовь к вам внушает мне эти слова. Ах, Анри, если б вы знали.
Рыдания мешали ей продолжать.
– Бландина, – проговорил с большею нежностью граф, сочувствуя её страданию, – что с вами? Повторяю вам, я не понимаю вас… Объяснитесь, наконец…
– Хорошо, граф, деревенские жители не только смеются над вашею странною любовью к этому маленькому пастуху, но некоторые доходят до того, что, считают, как будто вы отстраняете его от его обязанностей по отношению к своим… И чего только не придумывают. Словом, все дурно смотрят на вашу близость с каким-то несчастным маленьким коровником…
– А вы сами, разве вы не стерегли тоже коров? Какая вы стали гордая! – с жестокостью произнёс граф.
– Я горжусь тем, что принадлежу вам, граф, затем графиня…
Бландина колебалась.
– Моя бабушка? – спросил граф.
– Ваша святая бабушка, моя покровительница, воспитала меня до вас, но в особенности, она научила меня любить вас! – Прибавила она с какою-то мукою в голосе, которая потрясла сердце Кельмарка.
– Да, да, я знаю это, моя бедная Бландина, я тоже люблю тебя и я предан тебе!.. Вот почему я очень удивляюсь, что ты заодно с этими завистниками и недоброжелателями… Я ни в чём не могу упрекнуть себя, понимаешь ли. Покровительство, которое оказывала тебе моя бабушка, я теперь переношу на этого юношу. И это ты теперь упрекаешь меня в том добре, которого я желаю этому несчастному и обиженному ребёнку?
Ах, Бландина, я тебя больше не узнаю… Гидон очень привязчивый мальчик, с необыкновенной натурой… Он заинтересовал меня с того самого дня, когда я увидел его в первый раз…
– В этот проклятый вечер серенады!
Граф сделал вид, что не слышал этих горьких слов и продолжал:
– Мне понравилось воспитывать его, учить, создавать из него сына моего разума, разделить с ним мои знания. Что же в этом дурного? Я люблю его…
– Вы любите его слишком!
– Я люблю его, как мне нравится любить его…
– О, Анри! братья – близнецы не так сильно привязаны один к другому, как вы обожаете этого нехорошего пастушка… Но, послушайте меня, не сердитесь на то, что я вам скажу: я даже не думаю, что бы вы когда-либо любили какую-нибудь женщину так, как вы любите этого противного мальчишку… Вы узнаете всё… В тот вечер, я прокралась в кусты позади скамьи, где вы сидели вдвоём…
Я услыхала страстные и ужасные слова, которые вы произносили ему голосом… ах, таким голосом, который разрывал мне душу на части!.. Я ещё оставалась там, когда вы целовали его долго в уста, когда после того, как вы опустились перед ним на колени, он страстно прижался к вашей груди…
– Ах, – с бешенством произнёс Кельмарк, – как вы низко пали, Бландина!.. Вы шпионите! Поздравляю вас!
И, боясь отдаться сильному гневу, бросив на неё враждебный взгляд, он хотел выйти из комнаты.
Но она бросилась к его ногам и взяла его за руки:
– Простите меня, Анри, но я больше не могла, я хотела знать!.. Сначала я отказывалась верить моим глазам и ушам… О, сжальтесь! Будьте милосердны к себе, граф! Вы имеете врагов.
Пастор Бомберг следит за вами и сгорает желанием погубить вас! Не ждите того момента, когда какая-нибудь неосторожность поможет ему. Перестаньте компрометировать себя. Другие, кроме меня, могли бы проследить за вами в тот вечер. Откажитесь от этого несчастного юноши; отошлите его в его коровник и стойло! Ещё есть время… Побойтесь скандала! Освободитесь от этого шалуна прежде, чем все вслух заговорят о том, что приходит многим в голову, и о чём шепчутся втихомолку.
– Никогда! – воскликнул Кельмарк, с какою-то почти дикою силою. – Никогда, слышите ли? Повторяю вам, я ничего не сделал дурного, напротив, я хочу только добра этому ребёнку. К тому же, я никогда не перестану любить его!
– Хорошо, в таком случае, я уеду, – сказала она, поднимаясь. – Если этот негодный пастух вступит ещё раз в Эскаль-Вигор, я покидаю вас.
– Как угодно! Я не удерживаю вас!
– О, Анри, – взмолилась она снова, – возможно ли это? Вы не испытываете ко мне ни малейшего доброго чувства! Он прогоняет меня! Боже мой!
– Нет, я не прогоняю вас, но я не хочу, чтобы мне ставили условия. Если те, которые думают, что любят меня, не соглашаются жить мирно, соперничают между собою, я расстаюсь с той, которая высказала угрозы и устроила враждебный заговор против другого, для меня дорогого существа. Вот и всё. Я жил и всегда буду жить свободным в своих симпатиях и чувствах! К тому же, – продолжал он, взяв её за руку и смотря на неё с неясным выражением гордости и презрения, – вспомните, о чём я предупреждал вас, прежде чем зарыться здесь. Я хотел расстаться с вами. Разве вы забыли ваше обещание: «я буду только вашей верной управительницей и ни в чём не буду надоедать вам». Я уступил вашим мольбам, но я предвидел, что вы когда-нибудь раскаетесь, что связали свою судьбу с моей… То, что произошло, подтверждает мои слова. Я думаю, достаточно такого объяснения… Послушайте, Бландина, не сердитесь, но на этот раз мы должны расстаться.
Что прочла она столь мучительного и обидного во взгляде графа?
– Нет, нет, я не хочу, – воскликнула она. – Я повторяю моё прежнее обещание. Ты увидишь Анри. Я сдержу своё слово… О, не лишай меня навеки твоего присутствия и твоего сердца!
– Хорошо! – согласился Кельмарк, – попытаемся ещё раз, но ты должна сблизиться с Гидоном Говартцем. Это существо, которое я люблю больше всего на свете; юноша необходим мне, как воздух, которым я дышу; он один примирил меня с жизнью… В особенности, никогда ни одного намёка перед ним на то, что происходило между нами. Берегись высказать малейшую ненависть, сделать малейший упрёк этому ребёнку. Если б с ним случилось несчастье, и я потерял бы его, если б он изменил мне тем или другим способом, я покончил бы с собой. Поняла ли ты меня?
Она махнула головой в знак покорности, решая подвергнуть себя худшим пыткам, но из его рук и перед его взором.
VI
С внешней стороны, условия жизни в замке Эскаль-Вигор, отношения между Кельмарком, Бландиной, юным Говартцем и Ландрильоном ни сколько не изменились.
Слуга, не подозревая объяснения Бландины с графом, считал её вполне солидарной с своими планами и не переставал изображать в какой-нибудь непристойной форме отношения графа и его любимца. Она принуждена была выслушивать его ужасные шутки и должна была притворяться до такой степени, что вторила негодяю. К тому же Ландрильон торопил её отдаться ему. Отказы Бландины возмущали его и он говорил: «будь миленькой, послушай, я обещаю не нарушать его идиллии с юным Говартцем, иначе я ни за что не ручаюсь!»
Бландина старалась отвлечь его, выиграть время. Она дошла даже до того, что обещала ему выйти замуж за него, при условии, чтобы он молчал. «Я согласен на это, говорил он, но ты должна расплатиться сполна! – Ба! нечего спешить, – заключила Бландина, – останемся ещё здесь некоторое время, чтобы увеличить наше состояние!»
Эта честная женщина, если надо было, могла показаться в глазах этого негодяя большой плутовкой, и он ещё сильнее восторгался ею, не встречая никогда подобного лицемерия и скрытности. Эта покорность радовала его, хотя и пугала немного. Не слишком ли потворствовала ему девушка?
К несчастью Бландины, он всё сильнее и сильнее увлекался ею. Ему так хотелось бы попробовать лакомый кусочек прямо из печки, как он говорил. Бландина отстранялась только наполовину, она наслаждалась своей жертвою, но не могла долго выносить её. Ландрильон удвоил свои вольности.
В действительности, Бландина никогда ещё так сильно не любила Анри де Кельмарка. Можно себе представить её страдания: с одной стороны, она принуждена была выслушивать планы отвратительного человека и потворствовать его ненавистному чувству к графу; с другой стороны, она должна была присутствовать при близости, тесной дружбе Кельмарка с юным Говартцем.
Ужасные муки! Иногда природа и инстинкт предъявляли свои права. Она готова была выдать слугу своему господину, но Ландрильон, выгнанный, мог бы отомстить Кельмарку, рассказав всем то, что он называл его низостями. Временами Бландина теряла силы, находясь в этом мучительном выборе: или отдаться Ландрильону, или потерять Кельмарка, решала бежать, покинуть эту страну; она желала даже смерти, мечтала о том, чтобы броситься в море; но её любовь к графу мешала ей привести этот план в исполнение. Она не могла предоставить его во власть врагов; она хотела оберегать его, служить ему защитою против него же самого…
Как сильно она должна была владеть собой, чтобы не выказывать слишком много холодности по отношению к молодому Говартцу; она избегала попадаться ему на глаза и, насколько было возможно, не показывалась к столу. Она отговаривалась мигренями.
– Что такое с г-жей Бландиной? – осведомлялся у своего друга юный Гидон. – У неё такой странный вид…
– Она слегка нездорова, это пустяки. Пройдёт. Не беспокойся.
Часто бедная женщина ходила взад и вперёд по дому, как потерявшая рассудок, хлопая дверьми, громко переставляя мебель, точно желая разбить что-нибудь, крикнуть о своём нестерпимом страдании, но если она в такую минуту встречала Кельмарка, то утихала от одного его взгляда.
Однажды, когда Ландрильон особенно взволновал её, угрожая ей не пощадить Кельмарка, если она не отдастся ему, она скрыла ещё раз эту ужасную муку, и теряя голову, ворвалась неожиданно в мастерскую, где граф находился с своим учеником. Это было сильнее её. Она не могла удержать себя, чтобы не бросить на юного крестьянина оскорбительного взгляда. Оба друга приготовлялись читать. Никто из троих не сказал ни слова. Но никогда безмолвие не было столь угрожающим. Она сейчас же вышла встревоженная последствиями этого вмешательства.
– Бландина, вы забываете наши условия: сказал ей Кельмарк, в первый же раз, как очутился с нею вдвоём.
– Простите меня, Анри, я больше не могла. Я слишком понадеялась на свои силы. Вы любите только его. Всё остальное на свете перестало существовать для вас. Вы почти не дарите мне ни одного взгляда, ни одного слова…
– Да, хорошо, отвечал он решительно, с некоторою торжественностью, но с храбростью стоика, который противопоставляет кулак пламени костра, – да, я люблю его больше всего на свете. Вне его я не вижу для себя спасения…
– Полюби другую женщину; да, если я тебе надоела, возьми эту, Клодину, которая жаждет тебя всем существом, но…
– Если я клянусь тебе, что с меня довольно этого мальчика…
– О, это невозможно!
– Я не люблю и не полюблю никого так сильно, как его!
Кельмарк знал, что наносил ужасный удар своей подруге, но он сам был выведен из терпения; оружие, которым он наносил ей удар, он обращал в свою собственную рану; надо было верить ему, что он испытывал ужасные пытки, точно находился в положении приговорённого к смерти, жаждал разделить его участь.
– Ах, – снова заговорил он, – ты хочешь разлучить меня с этим ребёнком! Тем хуже для тебя! Ты увидишь, как я расстанусь с ним. И для начала вот мой ответ на твои мольбы. Отныне, Гидон больше не покинет меня. Он переселится в замок.
– Берегитесь… Я так страдаю, что я могу нанести вам бессознательный вред. Бывают минуты, когда я чувствую, что теряю рассудок и не отвечаю за себя!
– А я! – отвечал граф. – Я теряю терпение. Ты сама захотела, ты сама заставила меня идти до крайности. Я избегал тебя, я замыкался один с своим страданием; чтобы не оскорблять тебя, я скрывал мою муку, мою тайну. Несчастная Бландина, я сдерживал тебя, уверенный, что ты сама не сможешь понимать меня и оттолкнёшь меня… Ты хотела знать, ты узнаешь всё. Будь покойна, я ничего от тебя не скрою. Видишь, даже я не прощу тебя больше уезжать. Отныне, довольно скрытничать. Твоя ревность не обманула тебя: я люблю маленького Гидона настоящею глубокою любовью… Я обожаю его.
Она испустила ужасный крик. Возлюбленная и христианка одинаково были затронуты в её душе.
– О, Анри, помилосердствуй! ты лжёшь, ты не мог так опозорить себя!..
– Опозорить себя! Напротив, я горжусь этим.
Между ними происходили всё чаще и чаще бурные сцены. Бландина уступала, покорялась, разрываясь между бесконечным ужасом и состраданием, которые, соединившись, принимали одну из самых мучительных форм любви.
Теперь Гидон ночевал в замке. Бландина избегала его, но иногда она показывалась на глаза Кельмарку, и выражение её лица было таково, что граф при виде её набрасывался на неё с упрёком:
– Берегитесь, Бландина! – говорил он ей, – вы затеяли опасную игру. Не чувствуя любви, я питал к вам нечто вроде культа, основанного на глубокой благодарности. Я уважал вас, как не уважал никого из женщин после бабушки.
Но я, в конце концов, возненавижу вас. Считая вас постоянным препятствием для моих желаний, я готов относиться к вам, как к палачу, который стремится лишать меня сна и пищи! Ах, вы исполняете этим хорошую и милостивую обязанность, святая, честная ангельская женщина!
С твоим выражением немого укора, с твоим видом Богоматери, ты можешь хвастаться, если я сойду с ума и умру, что ты была главной угасительницей моего духа…
Вот около года ты шпионишь за мной, раздражаешь меня, мучаешь и сжигаешь моё сердце на медленном огне под предлогом, что любишь меня.
– Зачем вы соблазнили меня? – спросила она его.
– Соблазнил тебя? Ты не была тогда девушкой! – со злобой ответил он.
– Фи, сударь! Говоря так со мной, вы поступаете ещё грубее, чем бедняк, злоупотребивший моею чистотою. Вы виновны более его, так как вы владели мною без наслаждения и доброты!
– О, зачем?
– Я хотел перемениться, победить себя, покорить мои закоренелые отвратительные чувства… ты единственная женщина, которой я владел; единственная, которая возбуждала моё тело.
VII
После таких сцен Кельмарк часто сердился сам на себя. «Никто никогда не будет любить меня, как эта женщина!» – думал он. Он вспоминал их прежнюю близость в доме бабушки. Всегда он был для неё оракулом, богом. Она защищала его перед бабушкой, скрывала его проказы, доставала ему денег, когда он нуждался в них. Где найти подобную верность и преданность? Разве она и теперь не страдала от его страсти к юному Говартцу?
Затем, точно происходил переворот в его добрых намерениях. Из-за одного слова, интонации голоса, взгляда, если он подмечал суровость или удивлёние на лице Бландины, он начинал снова сомневаться в ней, даже ненавидеть её, усматривая в её преданности только мучительное и нездоровое любопытство, только утончённость мести и презрения. Она изловчалась как он воображал, смущать его, мучить своим отречением. Этот ангел представлялся ему только мучительницею.
При первом же случае, несчастный обрушивался на неё в всё более и более ужасных ругательствах.
В этот период красота Бландины отражала сверхчеловеческий мученический оттенок её чувств; эта красота граничила с величием смерти. Но отдых, успокоение не столь абсолютные, как отдых могилы, внедрялись в её сердце.
Измученная Ландрильоном, она, в конце концов, отдалась ему. Она пожертвовала своим бедным телом, чтобы спасти душу того, которого она считала богохульником и преступником; как христианка, она разумеется, молилась за него, чтобы он избегнул осуждений, рвалась всем своим сердцем к неблагодарному в ту самую минуту, когда она приносила себя в жертву в объятиях ужасного «сердцееда». Жертва возобновлялась после каждого требования негодяя. Но Бландина вздохнула спокойно. Ландрильон ничего не мог предпринять против репутации графа. Она рассчитывала также на чудо. Кельмарк должен был одуматься. Небо исполнит мольбу святой.
Проходили недели. «Уже давно мы наслаждаемся, детка, – говорил ей Ландрильон, – но этого не достаточно; надо подумать о серьёзных делах. Для начала, мы должны повенчаться».
– Ах, разве это необходимо? – сказала она с намеренным смехом.
– Что за вопрос! Разве это необходимо? Ты моя возлюбленная и отказываешься стать моей женой?
– Зачем, если ты овладел мною.
– Как зачем? я хочу быть твоим мужем. На что ты ещё надеется, оставаясь здесь?
– Ни на что!
– Тогда что! уедем. Довольно наживаться, пора соединить наши небольшие сбережения, отправиться к нотариусу, затем к священнику. И прощайте, граф де Кельмарк.
– Никогда! – сказала она с какою-то жестокостью, думая о тех двух, устремив глаза далеко, от своего собеседника.
– Ах, что с тобою? А наше условие, что будет с ним? Я хочу стать твоим законным мужем. У тебя есть деньги. Мне они нужны. Или ты предпочитаешь, чтобы я открыл Балтусу Бомбергу и Клодине Говартц тайны Эскаль-Вигора?
– Ты не сделаешь этого, Ландрильон.
– Это мы увидим!
– Подожди, – сказала она, – я дам тебе денег; я отдам тебе всё, что у меня есть, но оставь меня жить здесь и ищи себе другую жену.
– Неужели ты ещё любишь этого негодяя? – спросил шутник. – Тем хуже. Тебе надо решиться покинуть его и стать г-жей Ландрильон. – Довольно глупостей. Даю тебе два месяца на размышления…
Покинуть Эскаль-Вигор! Не видеть больше Кельмарка.
Судьба захотела к тому же, чтобы Анри де Кельмарк встретил несчастную и, раздражённый её расстроенным лицом, снова обрушился на неё:
– Опять у тебя похоронное лицо! Согласен, я самый чудовищный из всех людей! Но тогда, Бландина, сама ты разве не чудовище, если привязана к такому существу, как я?
– Кто знает, – продолжал несчастный с язвительною мольбою, – не моя ли исключительность, не моя ли мнимая аномалия захватывает твою фантазию! Кто поручится, что в твоей преданности нет доли природной испорченности, как говорят учёные; немного той мучительной страсти, которую они называли этим красивым именем мазогнизма! В таком случае, твоё красивое самоотречение представляется для иных только безумием и болезнью, для других преступлением и позором? О, добродетель! О, здоровье! где вы?
Никогда он не говорил с ней с таким доверием.
– Увы! – шептала она, – подумать, что это я привожу его в такое отчаяние! Я не знаю просто, что ещё сделать для него; я, чтобы добиться его покоя, согласилась на такую жизнь, мой создатель!
– Анри, мой Анри, – умоляла она его, – замолчи ради Бога, замолчи! Скажи, чего ты хочешь от меня?
Я только твоя слуга, твоя раба. В чём ты можешь меня упрекнуть?
– В твоём презрении, недовольствии, твоём виде святой мученицы, – покинь меня. Расстанься с зачумлённым человеком. Я не хочу больше твоего упорного сострадания… Ты – мои угрызения совести, мой живой упрёк! Что бы ты ни делала, ты кажешься мне зеркалом, в котором я вижу себя привязанным постоянно к позорному столбу, под красным пламенем палача.
И он так сильно схватил её за руки, что сделал ей смертельно больно; он крикнул ей в лицо:
– О нормальная, образцовая женщина, я ненавижу тебя, понимаешь ли, ненавижу! Уходи, с меня всего этого довольно. Всякая крайность лучше этого ада. Избавь меня, Иуда. Возмути наших добродетельных соседей и целый остров. Беги, к пастору. Расскажи им, кто я такой! Ах, мне всё равно…
Эта постоянная ложь, эта вечная скрытность душит меня и тяготит над моей душой. Я предпочитаю всё этой пытке. Если ты будешь молчать, то я, я заговорю!
Я им всё расскажу!.. Ах, я казался тебе недостойным; но ты, Бландина, в таком случае, не достойнее меня, если ты привязана к человеку, которого ты презираешь; подумай, что этот отверженный человек тебя кормил, содержал, и ты терпела долго его пороки, потому что он широко платил тебе!..
– Анри, дорогой мой! Ты веришь, действительно, этому. О, как бы ты рассердился, в какой ужас ты бы пришёл, если б узнал всю правду!
Ах, да, он был очень не прав. Несправедливость, жертвою которой он считал себя, делала его безумным и ослеплённым, жестоким, как сама судьба.
Он причислял к толпе, к недоброжелательной и похожей на себя массе, эту чудесную женщину, эту великодушную, иногда неловкую или бессильную возлюбленную, которая надеялась слишком на свои, хотя и героические, силы, которая была доведена до крайности, но черпала в своей любви новую силу поклоняться всё более и более, божеству, исключавшему её из его неба.
– Да, я так и думаю, действительно! – настаивал несчастный, заблуждавшийся человек.
Ты бережёшь меня, заботишься обо мне, потому ты здесь хозяйка замка, потому что ты считаешь себя необходимой для этого блудного сына, этого мота, который никогда не сумел ничего сохранить. Ты представляешь себе, что я не могу избавиться от тебя. Ты воображаешь!
Убирайся. Предоставь мне разориться телом, состоянием и жизнью. Ты достаточно богата.
Избавь меня от твоего присутствия!.. Я даже дам тебе ещё денег! Но ради Бога, удались поскорее! Что-то непоправимое произошло между нами… Отныне мы внушаем друг другу взаимный ужас.
– О, мой Анри! – рыдала бедная женщина…
Она хотела говорить, но она могла бы смутить, уничтожить его, и она удалилась; чтобы не чувствовать искушения высказать ему всю правду.
VIII
Оставшись один, Кельмарк в первый раз вздумал просмотреть книги счетов, самому вникнуть в положение своих денежных дел. Он предоставил всё Бландине. Она заведовала его деньгами.
Он знал, где она прятала бумаги, относившиеся к его бухгалтерии. Ключа не было однако в ящике. Без всякого колебания он сломал замок. И вот он начал разглядывать бумаги, просматривать колонки цифр, нотариальные акты… Прежде чем он дошёл до конца поверки, он ясно понял, что он был уже разорён. Эскаль-Вигор являлся почти единственною, ещё незаложенною собственностью.
Но в таком случае, откуда же появляются деньги, благодаря которым поддерживаются его фантазии, затеи, его королевский образ жизни? Какой благородный банкир снабжал его значительными суммами без всякой гарантии, без малейшего шанса, что ему отдадут когда-нибудь?
Вдруг он понял.
Бландина! Бландина, с которой он обращался так грубо. Роли переменились. Это он оказался на содержании! Вместо того, чтобы успокоить его, в том состоянии души, в каком он находился, это открытие только раздражило его.
В том состоянии души, в котором он находился, ничто не могло уравновесить несправедливости, на которую он жаловался.
Он набросился на молодую женщину.
– Чем дальше, тем лучше, – говорил он.
Я знаю всё. Ты покупаешь меня, ты содержишь меня; у меня нет ни гроша. Эскаль-Вигор должен перейти к тебе. Едва ли он даже представляет из себя ту сумму, которую ты мне подарила. Но, дорогая моя, вы дурно рассчитали, надеясь таким образом привязать меня к вам, сделать меня своей собственностью. Нет, нет, я не продажный. Я уеду отсюда. Я оставлю вам замок. Я ничего не хочу от вас…
Затем, – снова заговорил он, ужасно насмехаясь над нею, точно искажая свою душу, – после всего того, что я тебе сказал, ты могла бы жалко осудить меня! Ах! ах! ах!
Наше взаимное положение ещё хуже, чем я предполагал… Ты ещё не получила отвращения. Но, дурочка, с такими деньгами, которые тебе оставила бабушка, ты могла бы найти хорошего мужа, настоящего самца. Послушай, я даже думаю, что ты не должна была бы искать далеко… Вот Ландрильон…
Несчастный Кельмарк!
В своём желании возмутиться и оскорбиться, он причинял Бландине самую ужасную обиду. Ах, несчастный! Он даже не подозревал о самой большой жертве, которую она ему принесла! Лишение состояния не имело ничего сходного с этой другой жертвой! Какой демон вложил в проклинавшие уста графа последнее имя, которое он только что произнёс.
Кельмарк не должен был никогда узнать, до какой степени он был ужасен в этот момент, но едва только имя Ландрильона слетело с его уст, как какая-то слабость охватила его, так как бледное лицо Бландины, её умоляющие глаза объяснили ему отчасти, какой удар он нанёс ей.
Он подхватил её, лишавшуюся чувств.
– Дорогая моя, это не я говорил. Прости меня. Это какое-то мучительное прошлое, позорная тайна, мои чрезмерные чувства мстят за себя.
И чтобы вымолить её прощение, он произнёс большую исповедь, или вернее нарисовал целую картину своей внутренней жизни.
Вспоминая мрачные состояния своей души он становился жестоким и властным, как ещё незадолго до этого, затем снова начинал ласкать её, и его насмешливая экзальтация сливалась временами с каким-то безумием.
– Ах, Бландина! Бландина! Сколько я страдал, как я страдаю сейчас, никто никогда не узнает, если не пройдёт через такие же муки!
Бедная моя, ты думала, что я сержусь на тебя, и что мне нравилось делать тебе больно…
Послушай, будь благоразумна. Представь себе кого-нибудь, привязанного к костру и сжигаемого на медленном огне; и ты упрекаешь его за то ужасное зрелище, которое он доставляет своей пыткою чувствительным душам! Ах, это зрелище невольно представилось тебе!
Эту страдающую жертву, этого терпеливого мученика, всё существо которого является постоянною пыткою, страшною болью, этого заживо сжигаемого, ты называешь с упрёком своим палачом.
Отныне, моя сестра, не делай больше недовольного лица, не показывай твоего добродетельного осуждения.
Ах, с меня довольно! Если я причинил невольное зло тебе, лучшей из всех женщин, я спрашиваю себя, почему я скрывал бы от тебя чувства толпы. Далеко от того, чтобы унижать себя, я возвышаюсь…
Неужели ты будешь осуждать меня, проклинать, как другие? Как тебе угодно. Я даже предоставляю тебе право простить меня. Я не больной, не преступник. Я ощущаю своё сердце более широким и возвышенным, чем самые хвалёные апостолы. Не выказывай себя фарисейкой по отношению ко мне, о, моя безупречная Бландина!
В особенности, не правда ли, не надо больше надоедливых бесчестных слов в разговорах о нашей любви, о наших возможных единственных чувствах?
Эти слова, мой ангел, заставят тебя потерять сразу всё то, что ты приобрела за твою жизнь, полную доброты и сочувствия. Довольно этой преданности, которая жжёт, как раскалённое железо… Довольно прижиганий!
– Анри, – рыдала бедная женщина, – не будем вспоминать прошлого; разорви мне сердце, но не говори так со мною… Довольно. Я далека от того, чтобы порицать тебя, я делаю ещё больше, чем извиняю тебя, я одобряю. Этого ли ты хочешь от меня? Я хочу быть проклятой вместе с тобою!
Он почти не слушал её, так как сердце его было переполнено и словно выливалось наружу.
Она, словно переродившись, нежно усадила его в кресло; она ласково обняла его за шею, и прижавшись своей щекой к его щеке плакала вместе с ним. Она соглашалась, что отчаяние Кельмарка имело перевес над её страданием и она хотела показать ему только материнскую ласку.
– Скажи мне, Бландина, – продолжал он, – кому мне случалось наносить зло? тебе? Но это было бессознательно; я вовсе не такой человек, о котором ты мечтала, или, по крайней мере, такой, какого ты могла бы себе желать. Я не могу ничего поделать. Я первый страдаю от твоего отчаяния. Ты плачешь от моих слов; ты права, Бландина, если ты льёшь эти слёзы от зрелища моего отчаяния от моих долгих Страстей… Твоё сочувствие делает мне честь и облегчает мою душу. Но если ты плачешь от стыда за меня, дорогая, если ты осуждаешь меня, отталкиваешь, если ты разделяешь предрассудок этого западного и протестантского света… тогда, покинь меня, утри слёзы, меня не трогает твоё стыдливое участие.
Да, с нынешнего дня, Бландина, я не буду пользоваться людским уважением и трусливой чистотой.
Настанет время, когда я заявлю о моей правоте в лицо всему миру.
Пора. Моё адское состояние души длилось достаточно. Оно началось с минуты моей возмужалости. В коллеже мои товарищи нарушили всю живость и самую нежную меланхолию моих чувств. Во время купанья зябкая нагота моих товарищей вызывала во мне сильный экстаз. Срисовывая античные произведения, я наслаждался благородными мужскими академиями; по призванию язычник, я не понимал добродетели, без того чтобы не облечь её в гармонические формы какого-нибудь атлета, юного героя или юного бога, и я страдал, сливая мечты и стремления моей души в гимн мужскому телу. В то же время я находил петухов и фазанов более красивыми, чем их самки, тигров и львов чудеснее тигриц и львиц! Но я молчал и скрывал мои симпатии. Я пытался даже обманывать свои взгляды и чувства; я призывал душу и тело к презрению и, отрицанию их склонностей. Таким образом, в пансионе, я питал безнадёжную любовь к Вилльяму Перси, юному английскому лорду, тому самому, который меня чуть не утопил, и я никогда не смел выразить ему хотя бы братским расположением ту горячность, которую чувствовал к нему.
По выходе из Баденбергского замка, когда я тебя встретил, Бландина, я подумал, ощущая любовь к тебе, что становлюсь таким, как все. Но к несчастью для нас обоих, эта встреча была только случайной в моей половой жизни. Несмотря на честные и героические успехи, титаническую сосредоточенность страсти на лучшей и самой привлекательной из женщин, мои телесные влечения вскоре отвернулись от тебя и тебя Бландина, я любил отныне одной душой! В то время, остатки христианских сомнений, или скорее библейских, внушали мне ужас к самому себе. Я был противен самому себе, я чувствовал себя, действительно, проклятым, одержимым, предназначенным для огня Содома!
Затем несправедливость, беззаконие моей судьбы примирили меня невольно с самим собою. Я начал считаться только с собственною совестью и моим внутренним сознанием. Сильный моей абсолютной правдивостью, я отстранялся от влюбчивых стремлений большинства людей. Чтение окончательно подтвердило мою правоту и законность моих наклонностей. Художники, мудрецы, герои, короли, папы, даже боги оправдывали и как бы возбуждали собственным примером культ мужской красоты. Во время моих колебаний и угрызений совести, чтобы погрузиться снова в мою веру и чувственную религию, я перечитывал пламенные сонеты Шекспира к Вилльяму Херберту, графу де Пемброку, сонеты не менее страстные Микель-Анжело к рыцарю Томмазо ди Кавальери; я набирался сил, вспоминая отрывки из сочинений Монтеня, Теннисона, Вагнера, Уитмана; я представлял себе молодых юношей на банкете Платона, возлюбленных Фивского божественного отряда, Афила и Патрокла, Дамона и Пифия, Адриана и Антиноя, Харитона и Меланина, Диоклеса, Клеомаха, я разделял все эти благородные страсти античной жизни и эпохи Возрождения, о которых нам грубо говорят в коллеже, умалчивая о чудесном эротизме, как вдохновителе абсолютного искусства эпических движений и высшей гражданской добродетели.
Между тем моя внешняя жизнь продолжала течь в каком-то противоречии, постоянной скрытности. Я достиг, ценою нечестивой дисциплины, умения лгать. Но моя прямая и честная натура не переставала восставать против этой клеветы. Представь себе, мой несчастный друг, этот ужасный антагонизм между моим открытым и экспансивным характером, и неестественною маскою, скрывавшей мои влечения и способности! Ах, теперь я могу тебе признаться, что не раз моё равнодушие к женщинам грозило превратиться в настоящую ненависть. И ты сама, Бландина, ты присуждена была возбуждать меня против всего твоего пола, ты, лучшая из женщин! В тот день, когда ты надеялась разлучить меня с Гидоном Говартцем, я почувствовал, что моё почти сыновнее поклонение тебе превращается в настоящее отвращение. В этих условиях ты поймёшь, что я, изгнанный и одинокий, предположительно проклятый, часто думал, что теряю рассудок!
Сколько раз я катился вниз к моим уклонениям, я говорил себе, что если меня считают чудовищем, если я потерян, отвергнут обществом, я могу насладиться моим позором.
Помнишь ли ребёнка, которого ты однажды вырвала из моих рук? Безумец, я нанёс тебе удар ножом, а между тем ты не поняла моей скрытой мысли! В другой раз, когда мы ещё жили в городе, я встретил юного бродяжку из порта, оборванца, подобно маленьким жителям Кларвача. Возбуждённый ужасною порочностью, я увёл его в сторону; мальчик улыбался во весь рот, он не ощущал страха, хотя в тот момент я должен был иметь лицо человека, пострадавшего от апоплексического удара. Но я вдруг вспомнил моё детство! бабушку, тебя, Бландина, моего ангела! Нет, нет. Я поставил на ноги мальчика и убежал. С тех пор я отклонял эти мрачные видения, взлелеянные католическою верою. Нет, не надо нарушать невинности или, по крайней мере, избегать слабости, думал я. Дыши только тем ароматом, который распространяется вокруг тебя! Не злоупотребляй ребёнком, который ещё ничего не сознаёт или ещё будет мужчиною!
Через некоторое время умерла моя бабушка. Я решил отправиться на поиски существа, которого я мог бы полюбить, согласно моей натуре, вот почему я уехал на этот остров; я имел предчувствие, что встречу там моего избранника. Стоило только показаться Гидону, как моё сердце целиком устремилось к нему. Я угадал в нём способности к живописи, которую я люблю, гордость и определённые понятия, другую жизнь, чем у толпы слуг. Впрочем, как остаться бесчувственным к немой и нежной мольбе его глаз? Он угадал так же хорошо то, что я его понял. Он первый и единственный, внушал мне жажду жизни. Если наше тело поступило дурно, то самая настоящая духовная любовь была нашей соучастницей. Наши чувства слились с нашими желаниями!..
Бландина, ты понимаешь теперь, как я жил, и почему я могу говорить тебе с такою гордостью, несмотря на твоё величие души!
Ты знала прежде некоторых моих друзей из моего общества, превосходных людей, избранное меньшинство, способное всё простить и всё понять, мыслителей, первовестников умов, которые, казалось, не могли бы удивиться ни на какую, хотя бы самую смелую, выходку. Ты помнишь, как они заискивали передо мной. Ну, а ты помнишь мою внезапную тоску в их дружеской беседе, мои продолжительные дурные настроения, моё внешнее неудовольствие? Какая причина была всему этому? Среди самого оживлённого разговора, во время самой откровенной беседы и симпатии, я спрашивал себя, как отнеслись бы эти самые друзья, если б прочли в душе, если б сомневались в моём равнодушии. При одной этой мысли я внутренне возмущался против этого позора, который они не показывали мне, так как считали себя выше и смелее меня. Самые благородные из них удержались бы от осуждения, но старались бы избегать меня как одержимого проказой. Сколько раз в этом культурном обществе, когда я слышал, как клеймили, с ужасными жестами и кличками, подобных мне любовников, я готов был признаться во всём, заявить о моей солидарности с так называемыми нарушителями и плюнуть в лицо всем этим безупречным честным людям!
Как я страдал тоже, когда начинался разговор о галантности и большом состоянии! Я принуждён был смеяться, вмешиваться в эти смешные истории и даже рассказывать в свою очередь какую-нибудь вольную шутку и свободную сальность, и моё сердце разрывалось на части, и я упрекал себя в трусливом соучастии.
Огненный пастух, легенду которого ты слышала, как я рассказывал тогда, отказался отправиться в паломничество в Рим, чтобы броситься к ногам папы и вымолить себе прощение. Этот грешник отвергал всякого судью между своей совестью и толпой. Я был гораздо несчастнее. Однажды я написал одному известному революционеру, одному из этих носителей факелов, которые находятся во главе каждого века и которые мечтают о мире братства, счастья и любви. Я просил у него совета по поводу моего состояния души, под видом состояния одного из моих друзей. Человек, от которого я ждал утешения, мирных слов, признака терпимости, ответил мне письмом анафемы и запрещения. Он крикнул рака на перебежчика духовной любви, выказывая себя столь же безжалостным для избранных существ, как папа из легенды о рыцаре Тангейзера. Ах! ах! Этот папа революции обрёк меня на жизнь в гроте Венеры или, ещё лучше, Урании.
Это высшее непонимание, которое могло бы привести меня в отчаяние, внушило мне чувства индивидуального достоинства, даже по отношению к природе. Я черпал жизненные силы сообразно с моей совестью, нуждами, в единении, которое предоставляло мне человечество; но, одинокий, я испытывал приступы отчаяния и возмущения, и ты теперь поймёшь, моя дорогая бедняжка, мои странные настроения, мои чудачества, волнения, вспышки. Да, я всегда стремился к забвению, и не раз жаждал смерти!
– Ты страдал больше меня, отвечала ему Бландина, когда он остановился, успокоенный, с какою-то чистотою, с лицом, освещённым откровенностью, – но, по крайней мере, ты не будешь больше страдать из-за меня!..
Ты обратил меня в твою религию любви, я отрицаю мои последние предрассудки. Я не только извиняю тебя, но я поклоняюсь тебе, восторгаюсь тобою и я согласна на всё, чего ты не захочешь… Будь покоен, Анри, ты не услышишь отныне ни одной жалобы, ещё менее упрёка…
Гидон, которого ты любишь телом и душой, будет моим другом, а я стану его сестрой. Если ты захочешь, Анри, мы покинем эту страну, мы уедем далеко, втроём, будем вести скромный, но отныне покойный и мирный образ жизни…
Поражённый таким самоотречением, граф воскликнул:
– О, я могу любить тебя только как мать, гораздо нежнее, чем лучшую из матерей, моя святая Бландина, но только как мать!
Она прервала его следующим криком:
– Ах! вот почему что-то удерживало меня следовать за тем в его темницу!
В отчаянии Бландины была что-то победное, радостное. Это был высший экстаз самопожертвования. Женщина возвышалась до ангела.
Она должна была подняться ещё выше, сбросить с себя всякую телесную ревность.
Желая сдержать обещание, она просила Кельмарка позвать Гидона и, когда юноша явился, она взяла его за руки сама вложила их в руки учителя, затем нанесла целомудренный, но спасительный, как могила, поцелуй на краснеющее чело ученика.
Третья часть Ярмарка в день св. Ольфгара
I.
Вслед за этим важным объяснением граф, которому Бландина открыла некоторые из поступков Ландрильона, не касавшихся в прямом смысле её жертвы, выгнал вон слугу. Граф предпочитал скорее пренебречь худшими последствиями этого отказа, чем продолжать дышать одним воздухом с этим плутом, и Бландина, вполне солидарная с её хозяином, не боялась скандала, которым грозился постоянно негодяй.
Ландрильон был поражён этою неожиданностью.
Он думал, что достиг цели, держал в своей власти обоих, графа и Бландину. Как же осмеливались они прогнать его?
Право, он не мог никак постичь этого. Но хотя он был сбит с толку, в первую минуту, когда Кельмарк, позвав его, с горячностью, отказал от места, он почувствовал себя оскорблённым.
– Да, граф, – издевался он, – вы думаете, что так и окончатся наши с вами отношения! Как бы ни так! Так скоро вы не расквитаетесь со мной. Мне известно всё, так как у меня были глаза и уши.
– Каналья! проговорил граф, заставляя своим неустрашимым и честным взглядом опустить глаза плута, надеявшегося смутить его. – Идите! Я смеюсь над вашими заговорами. Однако, помните, что за малейшую клевету на нас, меня или тех людей, которые мне дороги, вы ответите мне и я притяну вас к суду…
И так как слуга намеревался ему сказать что-то непристойное, Кельмарк одним движением вытолкал его вон, с опущенной головой, заставляя зажать в горле своё ругательство.
Уложив свои вещи, Ландрильон, бледный от злобы, опьянённый местью, пришёл к Бландине, желая накинуться на неё и напугать её вдвое.
– Это серьёзно? Вы объявляете мне войну?
Берегитесь! сказал он ей.
– Делайте, что хотите! – отвечала Бландина, отныне столь же спокойная и тихая, как Кельмарк. – Мы можем ждать от вас всего!
– Мы! Вы, значит, сошлись… с негодяем! Но будем вежливы! Снова понравилась крошка. Вы будете делить его, – с мальчишкой. Сохраним вежливость! Жизнь втроём! Поздравляю вас!
Эти инсинуации не вызвали у неё даже неприятной дрожи. Она только с презрением взглянула на него.
Это равнодушие ещё усилило удивление слуги.
Плутовка исчезала из его рук. Разве он не имел над ней никакой власти? Чтобы убедиться в этом, он снова проговорил.
– Дело совсем не в этом. Довольно шутить!
– У нас с тобой было условие. Меня выгоняют, ты отправишься за мной!
– Никогда!
– Что ты говоришь? Ты мне принадлежишь…
Рассказывала ли ты твоему милостивому сеньору, что ты жила со мной? Или ты хочешь, чтобы я рассказал ему об этом?
– Он знает всё! – сказала она.
Она солгала с намерением, чтобы отклонить всякое нападение Ландрильона. Если б он рассказал, граф не поверил бы ему. Благородная женщина хотела, чтобы Кельмарк никогда не узнал, до какой степени доходила её жертва в видах его спокойствия; она не хотела унижать его, или скорее причинять ему большое огорчение, доказывая, до какой степени она любила его.
– Несмотря на это, он снова увлекает тебя! – проговорил Ландрильон. – Пфуй! Действительно, вы стоите один другого… Ты, значит, любишь ещё этого негодяя?
– Ты говоришь это. Возможно даже сильнее, чем когда-либо.
– Ты моя. Я хочу тебя и сейчас же… Хотя бы в последний раз?
– Никогда; я свободна и отныне я смеюсь над твоими выдумками!
Ландрильон был так поражён этой переменой и так обессилен необыкновенно решительным видом владельцев Эскаль-Вигора, что сейчас не осмелился приняться за разглашение всего того, что он видел или, по крайней мере, рассказать о том, о чём он подозревал.
В селении он солгал, что сам, по собственному желанию, покинул Эскаль-Вигор, из желания устроиться, и так как никто из замка не оспаривал этой версии, это событие не вызвало никаких пересудов.
Не осмеливаясь открыто прерывать с своим прежним хозяином, он захотел поколебать его популярность.
Он стал упорно ухаживать за Клодиной, здоровый и весёлый вид которой всегда привлекал его, и он льстил тщеславию фермера «Паломников». Отвергнутый Бландиной, он остановил своё внимание на богатой наследнице фермы, но эта новая прихоть вызывалась страшною ненавистью, которую отныне он питал к возлюбленной графа, одним из тех ненавистных чувств, которые являются заблуждением любви. Он снова безумно жаждал женщину, которой он лишился и которая посмеялась над ним. Она обольстила его, завлекла, похитила его сердце.
Ландрильон стал показываться также в церкви, во время проповедей пастора Балтуса. Он вошёл в милость к жене пастора и двум старым девушкам, сёстрам владельца фермы «Паломников».
Прежний слуга не осмеливался ещё действовать открыто, но он готов был разразить ужасную грозу над Кельмарком, его возлюбленной и их общим любимцем. Он не обращал внимания на их гордость и смелость. «Право, как они нахальны, и дерзки! Проявлять такие нравы, с таким достоинством! Им не достаёт только ещё прославить свою низость!»
Молодец не считал себя хорошим отгадчиком. Он воображал себя в праве презирать глубоко своего прежнего хозяина. Тысячи низостей, которыми этот солдат, продажный телом и душою, необыкновенно развратный, отдался во время своего пребывания в казармах, казались только пустяками по сравнению с последними. Во всякое время порок проклинал инстинктную любовь, и такие люди, как Кельмарк, были реабилитацией таких, как Ландрильон. Толпа предпочитает всегда Варавву Христу.
Для начала Ландрильон принялся унижать владельца Эскаль-Вигора в глазах Мишеля Говартца, охлаждать сильный восторг отца и дочери, возбуждать ненависть здоровой девки к Бландине, затем смутно намекать на преступные отношения Гидона и Кельмарка.
– На вашем месте, – осмелился сказать он однажды Мишелю и Клодине, – я не пускал бы молодого Гидона в замок. Ложное сожительство графа и этой негодяйки – дурной пример для молодого человека!
Видя их удивлённую улыбку, он понял, что шёл по ложному пути и не настаивал больше.
Ландрильон не мог доказать скандальных историй, которые он сгорал нетерпением распустить против владельца Эскаль-Вигора. Подумать, что когда-то плут надеялся, что возбудит против графа Бландину!
Предупреждённый, осведомлённый, граф находился на стороже, не желал отдаваться, компрометировать себя, попадать в западню. Он оберегал прекрасно внешний вид своих поступков.
Присутствие Гидона в замке оправдывалось во всех отношениях. Далеко от того, чтобы разлучиться с ним, граф сильнее привязывался к нему и сделал его секретарём.
Одно время Тибо подумывал подкупить свидетелей, обольстить рабочих Кларвача, пять силачей, которых граф считал своими телохранителями и которые позировали ему в мастерской. Но эти простые и грубые молодцы были до безумия преданы патрону и немилосердно побили врага после первого слова, которое он произнёс относительно своего плана. Надо было хитрить, молча подлезть к ним, постепенно, незаметно.
Он ограничился пока дружбою с теми из Кларвача, которые не работали в замке, красивыми рыбаками, статистами во время атлетических игр и декоративных представлений, действующими лицами чего-то вроде «масок и живых картин, устраиваемых графом».
Ландрильон умело настроил их против пяти избранцев и, в особенности, против маленького любимца, и славных исполнителей этих маскарадов, как называл слуга, к тому же бешено изгнанного из-за его тривиальности, из этих эстетических представлений. Актёры в в конце концов согласились с Ландрильоном, что любовь графа к Гидону Говартцу, этому сопляку, ещё безбородому, была слишком заметна. Настроенные против пажа, они не замедлили, как говорил этот Макиавелли навоза, дурно смотреть на владельца замка.
С другой стороны, прежний слуга, который устроил нечто вроде постоялого двора между парком Эскаль-Вигора и селением Зоудбертингом, привлекал неприятное внимание знатных жителей на тот чрезмерный интерес, который питал Анри к босякам Кларвача и подонкам с острова Смарагдиса.
Ландрильон часто теперь виделся с Балтусом Бомбергом. Он ограничивался только рассказом о фальшивом сожительстве Бландины с графом, но не решаясь заговорить ещё о моральной, ужасной, поразительной ненормальности графа.
Пастор, ломавший себе голову, как уронить и погубить графа, не останавливался никогда, даже в своём воображении, перед злотворным орудием, которым хотел воспользоваться Ландрильон. Ах, ужасный бунт! Если б эта мина когда-нибудь взорвалась, самые дурные люди должны были бы покинуть недостойного любимца! Ни один человек на острове не протянул бы руки отверженному.
– Как сделать, мой дорогой Ландрильон, – спросил в ожидании священник у своего нового союзника, – чтобы запугать, отвлечь этих фанатиков, отвратить их от этого колдуна, этого развратника.
– Да, да, развратник не очень-то вооружён, – прервал его Ландрильон с каким-то внутренним смехом, который мог бы внушить многое кому-угодно, только не этому суровому, но ограниченному пастору.
– Заметьте, – протестовал он, – что я вовсе не сержусь на этого дурного аристократа, но я исключительно действую во имя религии, добрых нравов и добра!..
– Чтобы поступить хорошо, мой почтенный, пастор, – отвечал Ландрильон со своей невзрачной физиономией, – нам необходимо было бы открыть у графа де Кельмарка какое-нибудь преступление, которое могло бы потрясти ужасный предрассудок, что-нибудь беспочвенное в нашей социальной и христианской жизни, вы понимаете, что я хочу сказать, какой-нибудь ужас, который вскричал не только о мщении к небесам, но и мог подействовать на наименее богобоязливых грешников…
– Да, но кто докажет нам подобное преступление! – вздохнул Бомберг.
– Терпение, мой почтенный пастор, терпение! – лукаво гнусавил дурной слуга.
Бомберг доносил своим духовным начальникам о благоприятном обороте, который принимали его дела.
Постоянно возбуждённая Ландрильоном, Клодина начинала терять терпение от медлительности и откладывания графа де Кельмарка. Ещё сильнее её бесило то, что в стране так называемые бедняки на стеснялись подсмеиваться над ней и даже слагали песенки в кабаках. Ландрильон внушал ей мысль, что Бландина ещё держит графа в своей власти. Крестьянка всё больше и больше сердилась на управительницу замка. Ландрильон, столь же скрытный с ней, как и с Бомбергом, не старался направить страстную крестьянку на верный путь. – Ах, что мы увидим, когда Клодина узнает всю правду! Вот будет ловко! – подумывал хитрец, потирая руки и лукаво посмеиваясь.
Он заранее радовался, смаковал, наслаждался своей местью, словно подтачивая решительное орудие, растравляя его на камне, желая поразить верным решительным ударом.
Клодина, однако, не отказывалась от своего плана. Она победит Кельмарка, отымет его у бледной соперницы.
Ландрильон, видя её всё же влюблённой в графа, и чувствуя, что её ненависть заменяет ей божественную добродетель, начинал понемногу открывать ей финансовое стеснение графа, затвм он предсказал полное разорение владельца замка и даже его скорый отъезд.
Против ожидания слуги, Клодина, чрезвычайно удивлённая этим, однако выказала себя ещё более увлечённой разорившимся аристократом. Она почти обрадовалась этому разгрому, так как надеялась получить графа, если не с помощью любви, то благодаря деньгам. С этого момента она даже придумала небольшой проект, должный непременно, по её мнению, иметь успех, но о нём она никому ничего не сказала.
Если Кельмарк разорялся или был уже разорён, Клодина была достаточно богата для двоих. Затем, всё же оставался титул графини, престиж, связанный с замком Эскаль-Вигора! Говартцы могли снова позолотить герб Кельмарков.
В ожидании этого, Клодина присоединилась к оскорбительному движению, поддерживаемому Ландрильоном против графа, и, казалось, даже одобряла преследования негодяя. В приходе многие не стеснялась говорить, что она, не имея сил добиться графской короны, принуждена была удовлетвориться ливреею слуги.
В личную тактику Клодины входило намерение совсем отделить графа, вооружить против него весь остров; когда же он был бы поставлен в тупик, она могла явиться для него Провидением. Она готова была даже поссорить Кельмарка с бургомистром и отнять у него юного Гидона.
Кельмарк уже отказался отозвания дейкграфа, он отклонил от себя также председательство увеселительных обществ; он перестал интересоваться общественной жизнью. Не было больше широких приёмов и празднеств. Он лишился на две трети своей популярности.
Клодина примирилась с двумя сёстрами отца; без его ведома. Поддерживаемые, подстрекаемые племянницей, они приставали к брату: – Ты должен прервать сношения с владельцем Эскаль-Вигора, или мы лишим наследства твою дорогую Клодину!
Говартц, может быть, и отказался бы, но он не имел права влиять на будущее своих детей. Клодина заявила что она больше не хочет делаться графиней. Кроме того, она влияла на тщеславие отца. С тех пор, как граф вернулся сюда, Мишель Говартц не считался больше ни за что. Он являлся бургомистром только по названию.
Говартц, в конце концов, сблизился с пастором.
Каково было событие, когда отец и дочь показались в церкви.
Пастор с большею ядовитостью, чем когда-либо, проповедовал против аристократа и его сожительницы. Во время службы Клодина с жадным любопытством рассматривала фрески, представлявшие мученичество св. Ольфгара.
Когда бургомистр примирился с пастором, он окончательно прервал всякие сношения с Кельмарком. Говартц, во всём слушавший дочь, подчеркнул этот разрыв, призывая к себе сына. Но последний сделался уже совершеннолетним, и встретил отца так же, как когда-то встретил пастора.
Это непослушание мальчика поразило Клодину, но не заставило задуматься.
Что касается жителей Эскаль-Вигора, они жили только для себя самих. Со времени ухода Ландрильона Кельмарк перестал бывать на ферме «Паломников». Это и послужило для Клодины объявлением войны.
Кельмарк, снова переменившийся, почувствовал в душе мужество и вернулся к своей чудесной философии.
Во время тяжёлых объяснений с Бландиной, он впал в дурное настроение духа; теперь он снова оправился, он отверг последние христианские связи; он чувствовал себя лучше, чем мятежник, апостол; он мог считать себя оскорблённым и судить своих судей.
Во ожидании того момента, когда он должен будет выступить, он вооружался чтением, собирал документы, сличал в истории и литературе знаменитые и оправдательные примеры.
Разумеется, доктор, с которым советовалась когда-то г-жа де Кельмарк, не предполагал даже, какого рода апостольству отдастся тот, талант и необыкновенную судьбу которого он предвидел…
Когда именно Ландрильон решил тайно поделиться с Бомбергом, и пока только с ним, важными подозрениями относительно образа жизни графа? Вернее всего в тот день, когда Клодина дала ему понять, что она была ещё глубоко захвачена Кельмарком.
При первом слове, которое пастор услышал о чувственном уклонении врага, он испытал что-то вроде оскорблённой муки и профессионального соболезнования. В глубине души он ликовал! Но как воспользоваться этим благодатным позором против графа? Не было доказательств. И не надо ли было скрывать от публичного разглашения бесчинства молодого Говартца! Оба союзника согласились подождать пока благоприятного случая. Кто знает, может быть, удастся отклонить когда-нибудь маленького любимца против проклятого преступника.
В ожидании, пока популярность дейкграфа продолжала падать, Ландрильон снова принялся за работу, с какою-то надеждою на успех, желая подействовать на этих бродягах Кларвача, которыми граф окружал себя так долго и из которых самые гордые оставались ещё у него в рабстве.
– Как я не угадал раньше всего этого! – подумал Бомберг после ухода доносчика, ударяя себя в лоб. – Какой я глупец! Всё могло бы предупредить меня, дать указание на эти ужасы! Разве родители этого грешника не любили друг друга до такой степени, что их любовь вопила к небесам! Они жили только для себя самих, для двоих; ограничивая всю вселенную только и телесною и моральною двойствейнностью, они в их чудовищном эгоизме не желали даже иметь детей, так они боялись меньше любить друг от друга!
Пастор был осведомлён об этой любви через своего предшественника. Анри и родился даже случайно, после нескольких лет этого неестественного брака.
К тому же, в уже далёкую пору, когда Анри де Кельмарк мучился от своих уклонений, он узнал от своей бабушки, до чего родители его обожали друг друга, и он приписал эту аномалию нечестивому сожалению родителей, когда он появился на свет.
Разумеется, они были недовольны, что создали существо, которое врывалось третьим в их любовный союз. Молодой граф долгое время воображал себе, что вырастал под властью материнской ненависти. Это чувство отвращения недолго оставалось у этой любящей женщины. Анри имел доказательства. Тем не менее, он был убеждён, вплоть до самого дня морального освобождения, что ребёнок, созданный под влиянием антипатии, должен был быть роковым образом потрясён в своих способностях и воздать всякой женщине чувство отвращения, которое одно время питала к нему мать.
Таково было и убеждение Бомберга. Но теперь Анри вернулся к чувству собственного достоинства, к своей природе и совести.
С помощью Гидона и Бландины, он чувствовал в себе силы создать религию абсолютной любви, столько же мужественной, сколько и самозарождающейся.
Он приходил в экстаз, как какой-нибудь исповедник накануне отправления в роковую неизбежную миссию.
II
Через несколько дней Кельмарк, Бландина и Гидон должны были навсегда покинуть Эскаль-Вигор.
Бландина, мучимая какими-то предчувствиями, ускоряла даже приготовления к отъезду.
Она спешила переехать в большой город, в ту виллу, где скончалась графиня де Кельмарк.
Ландрильон видел, что его добыча ускользает из его рук. Он надеялся получить Клодину, но, может быть, ему ещё сильнее хотелось отомстить владельцам замка. Он решил поэтому ускорить события с той и другой стороны.
Это происходило накануне знаменитой деревенской ярмарки в Смарагдисе, в пору так называемых обручений. Ландрильон отправился на ферму «Паломников» и заставлял Клодину сделать выбор между графом и им самим. Крестьянка просила у него позволения подождать несколько часов. Она намеревалась на другой день утром сделать последнюю попытку в отношении графа.
– Ах, Боже мой, что они все находят в этом негодяе! – воскликнул Ландрильон. – Нет, нет, Клодина, нечего тебе беспокоиться по этому поводу. Обрати своё внимание лучше на меня; теперь, когда он разорён, я стою лучшего. Согласись…
– Не раньше, пока я переговорю с ним в последний раз.
– Потерянный труд… Ты надеешься зажечь такого холодного человека, сделать из него…
Ландрильон удержался и не сказал ужасного слова, которое готово было сорваться с его уст.
– Достаточно уметь, как приступить! – заметила Клодина.
– Женщины более интересные, чем ты, и те не могли ничего добиться! Послушай, ты так хочешь сделаться графиней?!
– Да.
– Но, если я говорю тебе, что у него нет ни гроша. Бландина держит его в своей власти. Через несколько дней они покинут страну и замок будет продан. Если б ты захотела, мы повенчались бы, и купили бы Эскаль-Вигор…
– Нет, я выйду за Кельмарка. В замке должна быть графиня. К тому же, он больше не любит Бландины…
– Но и тебя он не любит…
– Он полюбит…
– Никогда…
– Почему никогда?
– Ты увидишь!
– Послушай, – сказала она ему, – ты знаешь обычай нашего острова. Завтра великий день ярмарки св. Ольфгара… Несмотря на католических или протестантских епископов, с тех пор, как женщины с Смарагдиса разорвали апостола, который отказался покориться их безумной страсти, в каждую годовщину мученичества молодые девушки имеют обыкновение выбирать себе тихого и упрямого юношу в мужья.
Я хочу воспользоваться этим правом. Завтра утром, я отправлюсь в Эскаль-Вигор, и уверена, что вернусь из замка с обещанием графа…
– Как бы ни так!
– Ты не веришь? Ну-с, а я уверена настолько, что, если он откажется, Ландрильон, я стану твоею.
Я буду твоей женой, и даже с завтрашнего вечера, после танцев, я заплачу тебе сторицей…
Гордая девушка думала, что ничем не связывает себя, этою грубою клятвою.
– В таком случае, я бегу заказывать наши приглашения! – воскликнул Ландрильон, зная лучше крестьянки, брачные планы своего бывшего хозяина. – Пусть св. Ольфгар помилует тебя! прибавил, он, смеясь, когда она удалялась, уверенная в своей победе.
Дейкграф принял Клодину с большим достоинством и уважением. Его глубоко меланхолический вид произвёл впечатление на гостью. Она, в конце концов, всё же без всяких подготовлений выразила ему цель своего посещения.
Кельмарк не отталкивал её. Он прервал её непонятным жестом и поблагодарил её с улыбкой, которая показалась грубой крестьянке каким-то недовольствием, насмешкою, в которой она не могла схватить настоящего, трагичества оттенка.
– Вы смеётесь, – протестовала она со злобою, – но подумайте, граф, что какой бы вы ни были граф, я вас достойна… Род Говартцев живёт на Смарагдисе столько же, сколько и род Кельмарков, мои предки почти так же знамениты, как и их сеньоры.
Она сделалась ласковой и умоляющей.
«Послушайте, граф, – снова заговорила она, готовая отдаться ему, если б только он сделал малейший знак, – я люблю вас, да, я люблю вас… Я даже долгое время воображала, что вы любите меня, сказала она, возвышая голос, приходя в отчаяние от этого целомудренного крика, в котором она не угадывала затаённой муки, трещины долго не заживаемой раны. Когда-то вы ухаживали за мной… Мне казалось, что я вам нравилась, три года назад, в начале вашего переезда сюда. Зачем было играть со мною? Я вам поверила, я мечтала стать вашей женой!
Уверенная в этом, я отклоняла самых богатых претендентов на мою руку, даже аристократов из города…»
Он молчал, и тогда она решилась прибегнуть к последнему средству:
– Послушайте, – сказала она, – говорят, что ваши дела не особенно блестящи; если б вы захотели, была бы возможность…
На этот раз он побледнел; но размеренным тоном, отеческим, он проговорил:
– Дорогая моя, Кельмарки не продаются… Вы найдёте ещё не одного хорошего мужа, из вашего круга. Впрочем, поверьте, что я не из гордости отказываюсь от вашего предложения… Я, понимаете, не могу полюбить вас? Я не могу…
Последуйте моему совету… Согласитесь выйти за какого-нибудь доброго молодца… На этом острове в нём не будет недостатка… Я совсем не гожусь вам в товарищи жизни.
Чем больше он говорил смиренно, умно и убедительно, тем сильнее возбуждалась Клодина. Она пыталась видеть в нём только высокомерного мистификатора, гордого фата, который насмеялся над ней.
– Вы сейчас только сказали, что Кельмарки не продаются! – сказала она, задыхаясь от гнева; – Может быть, я не указала настоящей цены! Мамзель Бландина, как рассказывают, всё же заставила вас принять кое-что!
– Ах, Клодина! – сказал он печальным тоном, который, однако, не обезоружил её. – Довольно! прекратим, моё дитя, этот разговор. Вы начинаете горячиться… Но я не сержусь на вас! прощайте!
Его холодный и пристальный взгляд, странно целомудренный, с каким-то убеждением, решением лучше всякого жеста, выпроводил её.
Она, рассерженная, вышла, хлопая дверьми.
– Ну-с, – сказал Ландрильон, ожидавший её при входе в парк, – что я вам говорил? Он тебя не любит и никогда не полюбит.
– Но что же это за человек? Разве я не хороша, не лучше всех девушек? Откуда такая холодность!
– Это легко объяснить… Нечего искать далеко… Это, так сказать, тип вроде св. Ольфгара… Нет, я оскорбляю великого святого.
– Что ты хочешь сказать?
– Скажу яснее, у этого господина дурной вкус, и он предпочитает тебя твоему брату…
Она фыркнула ему в лицо, несмотря на свою злобу.
Неужели этот Ландрильон так глуп?
– Нечего смеяться, это так, как я сказал…
– Ты лжёшь! ты выдумываешь! как распространять такие глупости…
– Скажу ещё лучше. Гидон платит ему тем же.
– Это невозможно!
– Спроси хорошенько мальчишку… Это очень просто. Ему уже исполнилось двадцать один год, я думаю, хотя он и не смотрит таким… Ты хотела прибегнуть к одному обычаю страны. Есть ещё другой, который относится к твоему брату. Разве сегодня вечером, всякий юноша его возраста, не должен отправиться на танцы и выбрать себе временную или окончательную подругу?.. Держу пари, что мальчишка выкажет себя в присутствии какой-угодно девушки столько же упорным, как и его покровитель перед вами.
– Убирайся! – прошептала Клодина, одновременно глухим и задыхающимся голосом. – Ах! лицемеры, бесстыдники! Горе им!
– Чёрт возьми! Наконец, ты поняла! Что ж тут особенного! В то время как благородный сеньор ухаживал за тобой, он надеялся измениться в своих настоящих склонностях…
И он рассказал ей всё, что ему было известно; он придумывал, усиливал в тех случаях, когда он не мог подтвердить доказательствами.
Задыхаясь от ненависти, но, в особенности, выказывая добродетельное отвращение, она сказала Тибо:
– Послушай, я отдамся тебе сегодня же вечером, клянусь. Но сначала, ты должен отомстить им всем за меня, начиная с моего брата, этого негодяя, погибшего, от которого я отрекаюсь!
С этим чувством ненависти она решила погубить Гидона, чтобы лучше отомстить Кельмарку.
– В особенности, никакого скандала! – сказал Ландрильон.
– Будь покоен. Время благоприятствует нам.
Ярмарка извиняет многие необыкновенные поступки! – прошептала она с ужасной улыбкой.
Из уважения к имени Говартца, она вовсе не разглашала о том, что узнала, какое положение её брат занимал у графа. Она удовлетворилась бы, если б поставила Гидона в унизительное и неприятное положение. Она хотела натравить на него нескольких весёлых девушек, уже достаточно подготовленных к нападению, благодаря пиву и ликёрам. Но, как мы увидим в будущем, она слишком понадеялась на своё самообладание и не считалась с горячностью и головокружением мести.
III
В тот день, после полудня, женщины Смарагдиса шатались толпами, от одного балагана к другому, из одной таверны к другой, кричали, шумели, приставали и отправлялись впоследствии по большим дорогам, с раннего вечера и до поздней ночи.
С своей стороны, молодые люди блуждали тоже партиями, обнявшись. Самцы приглашают самок, но последние выказывают себя ещё более навязчивыми.
С обеих сторон они дразнят друг друга, подталкивают. Тысячи приманок! Они возбуждают друг друга словами, и даже жестами!
Скрытые объятия, удары, поглаживания, увёртки и притворства; они обольщают, обманывают друг друга.
Оба лагеря, оба пола имеют вид врагов, которые перестреливаются, удерживаясь настороже, охраняя свои позиции. Они наблюдают друг друга, окликают, унижаются, торгуются, расхваливают… Запрещается влюблённым соединяться до вечера. В кабаках мужчины пляшут и веселятся между собою, то же самое делают и женщины. Дикие и циничные танцы! Тяжёлое и сладострастное прыгание…
Если днём какая-нибудь банда женщин встречает колонну молодцов, начинается перекрёстный огонь, канонада похотливых, сладострастных выходок. Они сталкиваются грудь с грудью, только на короткое время, чтобы нанести поцелуй и вырваться, среди подталкиваний, щипков, и других мелочей. Куртки и кофточки, юбки и шаровары усиленно трутся друг о друга, вызывая судорожные движения.
При наступлении ночи, после захода солнца, и каких то звуков бешеной трубы, раздававшихся с четырёх сторон острова, наступает пора общих расплачиваний.
Влюблённые собирают своих подруг, и соединившиеся парочки обручённых или временных партнёров становятся священными для сборищ, которые продолжают бушевать, кричать, рычать среди полного мрака.
При каждой стычке отпадают некоторые с той и другой стороны, образуются парочки перебежчиков. Женщины столь же смелы, как и мужчины, в конце концов, пристраиваются.
Находящиеся в колоннах считают, кто выбыл из их компании.
Так продолжается до тех пор, пока мало-помалу все женщины, или почти все, не получают себе кавалеров для танцев и для остального времени празднества. Последние, разумеется, являются наиболее безумными. Иногда хитрость молодцов состоит в том, чтобы избегать предложений этих безумных самок, заставлять их преследовать себя. Они представляются, что сдаются, затем играют в прятки, казалось, недовольные таким домогательством.
Возбуждённые выпивкой, танцами, условиями, грубыми выходками, почти злобные, женщины блуждают, как волчицы на охоте, с одного перекрёстка на другой, или держатся скрытые в кустах, безмолвные, словно дожидаясь добычи…
Вдали насмешливые песни отвечают на их трагическое пение. Дичь пренебрегает ими, находя удовольствие в том, что её преследуют, возбуждая жадных охотниц.
Горе тому, кто блуждает одинокий, тот платит за всех.
Горе даже тому, кто ничего не знает, или иностранцу, которого они поймают; он принуждён бывает сделать выбор или следовать покоряться той, которую присудит ему судьба. Страшные истории наполняют с давних пор репертуар певцов, и не один Ольфгар был жертвою сладострастного спора женщин на Смарагдисе.
Анри де Кельмарк был осведомлён об этих бурных традициях. Хотя он был очень падок до оригинальных народных веровании, он всегда избегал выходить вечером в день ярмарки. Это был почти единственный публичный праздник, единственный местный обычай, который он не признавал.
Ему прощали до сих пор это отречение из-за чрезмерного характера этой сатурналии. Столь высокопоставленное лицо не могло, разумеется компрометировать себя с этими беснованными. В тот же день честные девушки запирались у себя в доме, подобно молодым супругам и обручённым, приверженцам менее пламенных излияний.
Визит Клодины оставил в душе Кельмарка неприятное чувство, которое он не испытывал за последние дни. Он был недоволен, что эта девушка возненавидела его. Он упрекал себя даже в том, что не открыл ей всей правды. Но это могло бы выдать Гидона, погубить его. Нет, то, что он мог доверить такой святой женщине, как Бландине, он не мог открыть такому грубому существу, как Клодина. Вернее сказать, он раскаивался в этой комедии ухаживания, которую он разыгрывал с нею.
Гидон, расстроенный дурным настроением своего друга, который счёл своим долгом скрыть от него предложение Клодины, выразил желание пройтись по ярмарке, в надежде, что свежий воздух успокоит его нервы.
Анри старался удержать его, отклонить его от желания выйти.
Но молодому Говартцу казалось, что кто-то призывает его там, в деревне. Непонятные ловушки, сверхъестественные токи окружали их.
– Нет, оставь меня, в конце концов, – сказал он Кельмарку, – вместе мы только усилим наше волнение и скрытое раздражение в этот день. Мы только поссоримся или, по крайней мере, мы не будем больше понимать друг-друга. Никогда я не чувствовал себя столь раздражённым и опечаленным. Между нами точно какое-то духовное раздражение. Эти спазмы скотского бешенства доходят и до нашего убежища. Лучше взглянуть им прямо в глаза. Затем, так как мы завтра уезжаем, я в последний раз совершу прогулку по Смарагдису, прощусь с родным островом, где я так страдал, но чтобы мне сильнее полюбить тебя и насладиться жизнью с тобой…
Кельмарк, значит, пытался тщетно отклонить его от прогулки. Гидон, казалось, был охвачен оккультической силой, которая властно призывала его выйти.
Ничего не подозревая, сын Говартца задержался на ярмарке, болтая с прежними товарищами. Мысль, что он покинет их навсегда, заставляла его стремиться к ним. Он стрелял из лука, ловил рыбу, играл в кегли и метал диск; он боролся обнажённым до пояса с мальчиками Кларвача, любовался этими дружескими объятиями, тепловатыми прикосновениями тела к телу; его «роняли» несколько раз, и он заставлял падать других, улыбаясь на свою силу, тонкую грацию, забывая в это время о глубоких наслаждениях ума и искусства.
Гидон не подумал даже о главном в этот день обстоятельстве, что он достиг совершеннолетия, что его возраст требовал соединения с какой-нибудь девушкой острова. Обыкновение и закон Смарагдиса не приходили ему даже в голову. Его мечты витали уже вне этой жизни.
IV
Праздник развёртывался, распространялся и становился чем-то необузданным.
Наступил вечер, сентябрьский вечер. Из бараков, расположенных на ровном берегу моря, поднимался запах жареных ракушек, вместе с ароматом водорослей среди быстрого прилива волн. Зажигались огни на подмостках и лодках. Царила какая-то какофония барабанов, цимбалов, rommelpots, балаганов; в кабаках гремели какие-то аккордеоны и трубные звуки, вечерние представления начинались в помещениях укротителей зверей, и дикий рёв служил эхом на жалобу волка и сливал вместе с непонятным рёвом людей какой-то телесный трепет, какую-то муку разврата по всем окрестностям.
Никогда море не было столь фосфорическим. Огни Сен-Эльма скрещивались, под чёрным нёбом, с мачтами яхт и барок, убранных флагами.
На одну минуту, при заходе солнца, Эскаль-Вигор был освещён, точно какая-то постройка из изумруда, затем на нём показалось какое-то кровавое покрывало, на фасаде, обращённом в сторону Океана.
Ропот мужчин с одной стороны и женщин с другой встретились на краю селений. Они кричали о своих желаниях, они выражали их жестами.
Наконец, Гидон расстался с своими товарищами из несчастного Кларвача. Толкаясь, он ускорил шаги, чтобы пробраться из ярмарочного сборища, которое начинало ему надоедать, и направился в сторону Эскаль-Вигора. Мысль о своём друге наполнилась нежным упрёком, осуждением и тоскою.
По дороге страстные взгляды смущали перебежчика. На него указывали подмигиванием глаз и шептались.
Он остановился, чтобы вдохнуть аромат зелени; вдруг, когда он готов был скрыться в вековой роще у входа в парк Эскаль-Вигора, какая-то банда женщин показалась из боковой аллеи, вопрошая, окружая его.
– Смотрите на этого большого молодца, который блуждает один по дороге!
– О, какой красивый мальчик прячется здесь!
– Какой стыд! В день ярмарки.
– В день св. Ольфгара! У него уже пушок над устами и он никогда ещё не прикасался к женщине. Надо спросить у его сестры!
Они торопили его; насильно старались возбудить его; они грозились обыскать его, тёрлись о него, опрокидываясь, расстёгивая кофточки, раскрывая уста, точно венчик цветка на встречу солнца.
– Они правы, братец! – прервала Клодина, – приближаясь к ним с ужасным лукавством. Ты давно уже мужчина. Исполни твою обязанность кавалера. Выбирай, чего тебе ещё надо, чтобы решиться? Вот десять здоровых девушек, которые ждали тебя, самые красивые из всей страны. Они не нуждаются в поклонниках. Разве ты не слышал, как они кричали целый день по деревне? Но, по моему указанию, они согласились отдать тебе предпочтение. Ни одна из них не отдастся другому, прежде чем ты не решишься… Однако, повторяю тебе, по дорогам сегодня вечером блуждают здоровые и пламенные петухи, которые сгорают нетерпением найти этих приятных кур и которые угостятся теми, которых ты презираешь!.. Итак, говори! К кому из них тебя влечёт? Кто первая получит твою сильную страсть?
Молодой человек угадал мрачное значение этих лестных слов, первых, с которыми она обратилась к нему в течение долгих месяцев, с тех пор, как они поссорились, и вместо того, чтобы ответить сестре, он надеялся обмануть десять других самок, здоровых девушек, типа Клодины, с полной грудью и эластичной фигурой.
– Я сожалею, милые девушки, я спешу, я сейчас же вернусь, меня ждут в замке.
– В замке! – закричали они. – В замке! Сегодня ты там не нужен.
– Граф обойдётся прекрасно и без тебя!
– Ярмарка и отдых для всех сегодня!
– Господа и слуги празднуют одинаково!.. удовольствие кончится сближением!.. Любовь стоит выше долга!.. – Затем, твой граф, он занят своей Бландиной! – сказала Клодина таким тоном, который открывал худшие перемены.
– Если я уверяю вас, мои курочки, что моё присутствие там необходимо, я и так уже опоздал.
И он хотел вырваться, ускорить шаги.
– Тарара! Тебя подождут ещё! Ты вернёшься ещё с нами в деревню, ты будешь ещё танцевать со всеми, затем, ты изберёшь кого-нибудь из нас, и с которой ты поступишь по обычаю честных жителей Смарагдиса!.. Покажи, что ты достойный потомок Говартцов!
Он продолжал защищаться; возбуждённые Клодиной, они держали его.
– Да, да, он обязан это сделать! Он заплатит подобно другим! Каждому свой дом, каждой свой жених! Горе упрямцу! твой патрон подождёт. Часом раньше или позже ничего не значит!..
Он отстранялся не без бешенного нетерпения, приходя в ужас, но они было сильно увлечены игрой. Чем он больше уклонялся, тем они сильнее держались за него.
– Смелей, девушки! на приступ, мои милые. Разве нет никого, кто бы заставил танцевать этого большого недотрогу!
В борьбе они прикасались к нему, и его учащённое дыхание делало его заманчивым и ещё более увлекательным. Они осмеливались ласкать его, щупали, случалось, обнимали его, кто за руку, кто за ногу; одна хватала его за талию, другая за шею; но он твёрдо защищался теперь, отмахивался, и может быть, в конце концов, мог бы избегнуть их, несмотря на их упорство.
Но это бегство было бы счётом с Клодиной, а не с ним. Упорство молодого человека вполне уверило её в его холодности к женщине. Ландрильон ничего не прибавил. В её душе ужасная ревность принимала вид какой-то презрительной добродетели.
– Он сдаётся! Он должен сдаться! – рычала она. – Если он не хочет принадлежать одной из вас, он будет принадлежать всем.
– На помощь, Ландрильон! – позвала она, так как, предвидя неравную борьбу, в которой они составляли бы слишком сильную партию, она спрятала своего участника в кустах поблизости. Скорее, Ландрильон!
Это было вовремя, так как Гидон избегал своих преследовательниц, оставив в их руках куртку и даже часть своей фуфайки и панталон.
– Остановись, Жозеф! – кричал Ландрильон, поражая его ударом в ногу.
Гидон, которого держал слуга за горло, прекрасно защищался, дрался ногами и кулаками, пытался даже укусить его.
– Верёвку! кричал Ландрильон. Негодяй двигается, как дьявол! Свяжем ему руки и ноги!
– Да, да!
Вместо верёвки женщины связали вместе свои шейные платки. Полураздетые, с открытою грудью, растрепавшиеся, наводящие ужас, с кровью на ногтях, среди темноты этой лужайки парка они напоминали вакханок.
– Оставьте! Ко мне! На помощь! – вопила жертва.
Дважды он разрывал державшие его путы. Кровь текла из его рук и лодыжек.
Клодина, рассвирепевшая более, чем когда-либо, но лучше их осведомлённая, испустила победный крик:
– Подожди! Кожаный пояс держит его шаровары!
– Действительно, они могут упасть теперь! – отвечал слуга.
Она сама отстегнула пояс, которым Ландрильон связал подколенки жертвы.
На этот раз Гидон, почти обнажённый, обессиленный, рыдал, так как фурии не удовольствовались тем, что раздели его, но так же и разорвали его одежду на куски.
Гидон, в конце концов, замолк; он плакал, пытался вытянуться; его движения становились конвульсиями, он невольно задыхался, его спазмы обращались в предсмертный хрип и вместо живого сока они получали одну кровь. Всё равно. Нападение возобновлялось. Они поклялись употребить все силы, но вскоре перестали кричать.
Между тем, на крик, сначала жертвы, а потом преследовательниц, собрались другие женщины, другие жители деревни из лавок и кабаков. Пьяные, заинтересованные этим событием, они одобряли, забавлялись, находя в этом заманчивую шутку.
Они собирались, окружали, толкались, чтобы посмотреть. Парочки, соединившись, прерывали свою интимную беседу и принимали участие в этих эротических безобразиях. К тому же молодые люди, из Кларвача, носители факелов во время серенад, освещали с каким-то блаженством это ужасное таинство или выражали недоумение. Другие сзывали друг друга, точно хищные звери, и в то время, как беспорядочные трубы продолжали греметь, их смех напоминал, действительно, смех осквернителей – животных. Молодые самцы, томившиеся по Клодине, льстили ей сладострастными и непристойными разговорами, в то время как она, словами и жестами продолжала возбуждать этих жриц Цибелы? Разве они не разорвут его заживо на куски? Неужели он не погибнет от их рук?
Протёкшие века наверно видели, как предки этих жертвоприносительниц набрасывались на потерпевших кораблекрушение, танцевали вокруг костра; в легендарные времена св. Ольфгар должен был видеть подобные издевательства дикарей, которые насмехались над его кончиной.
Ландрильон, принимавший во всём этом участие, без удержа рассказывал, переходя от одного к другому, тайны Эскаль-Вигора, поверял, кому хотелось его слушать, непристойные похождения Гидона и его покровителя, вмешивая сюда религию и добрые нравы: развратный мошенник становился судьёй, преступление актом общественного спасения и публичного наказания.
Довольно было недостойному произнести одно слово осуждения, чтобы весь остров словно опьянел и стал неузнаваем.
Не осталось никого, кто бы не толкнул ногою несчастного. Некоторые отходили в сторону. Другие находили, что этого ещё недостаточно.
– Когда вы докончите с ним, – говорил Ландрильон разъярённым женщинам, – мы бросим его в море.
– Да, в море, негодяя!
И они хотели отнести его на берег, через ярмарку, когда произошло чьё-то вмешательство.
V
Со времени ухода своего друга, де Кельмарк не имел минуты покоя. Он не мог усидеть на месте.
Его волнение усиливалось по мере того, как отдалённая ярмарка принимала всё более бешеный характер. Он задыхался, точно в ожидании медленно надвигавшейся грозы.
– Какое мучительное удовольствие! – говорил он нежной и тихой Бландине, которая старалась развлечь его от его тоски. – Никогда ещё они не устраивали такого шабаша! Послушать эти крики, можно подумать, что они, забавляясь, убивают друг друга.
В прошлые годы какофония, ярмарские крики, петарды, свистки, шарманки и пистоны, не казались ему столь значительными.
Теперь же эта электрическая атмосфера усложнялась приливом опьянения, попойки и разврата.
В этот вечер гнусная сатурналия никогда не кончится!
Стало ещё хуже, когда закатилось солнце и эротические, крики труб раздавались с одного конца острова на другой, прибавляя точно медный туман к красным мукам замирающего неба. Человеческие голоса, более резкие, ещё более возбуждённые, повторяли бешенный сигнал труб и усилились, точно желая зажечь мрак…
Кельмарк не мог больше терпеть. Воспользуясь моментом, когда Бландина была занята приготовлением ужина, он вышел в парк.
Вдруг острый и раздирающий крик, более острый, чем призывы трубочки Гидона, в роще, в вечер их первой встречи, раздался в воздухе.
Кельмарк узнал голос своего друга.
– Его убивают!
Устремлённый вперёд этой ужасной уверенностью он побежал в тревоге, ночью, руководясь только криками и жалобами.
Когда он достиг лужайки парка, готовый даже броситься на улицу, где происходило побоище, снова раздались крики, возгласы, и он услыхал имя своего любимца наряду с возгласами убийц.
Через минуту он бросился в толпу с удесятирёнными силами, расталкивая грубиянов, прогоняя их и нанося удары этим дикарям.
С каким то криком тигрицы, защищающей своего детёныша, он избавил Гидона, лишённого сознания, полуумирающего, в рубищах, измученного бесчестием, поцеловал его, поднял в свои объятия.
Граф, казалось, вырос.
Вооружённый палкою, он делал ужасные повороты. Вокруг него расширялся круг, и медленно, глядя в лицо бешенным и разъярённым людям, он направился в парк. Но Ландрильон и Клодина собирали других поражённых этим торжественным вмешательством.
Снова повторилось нападение. Неприятное отношение перешло от молодого Говартца к графу. Никто не остался на его стороне. Его любимцы, наиболее необузданные, несчастные юноши из Кларвача, узнав, какое осуждение тяготело над ним, молчали, и огорчённые, отходили, не принимая участия.
Ландрильон первый бросил в него камень. В графа начали бросать всем, что попадалось под руку. Луки, принесённые для получения награды в тирах, без стыда устремлялись в столь расточительного короля их общины. Одна стрела попала в подмышку, другая поранила шею Гидона и обрызгала кровью лицо Анри. Кельмарк, не заботясь о своей собственной ране, не переставал любоваться израненным телом своего друга.
Но, раненный в сердце, он упал с своей дорогой ношей.
Когда они набросились, чтобы прикончить его, какая-то женщина в белом показалась перед ними, скрестив руки, предоставляя свою собственную грудь для ударов.
И её величие, её страдания были таковы, и таков, в особенности, был её героизм, что все отступили, и Клодина оттолкнула навсегда, далеко от себя, Ландрильона, который уводил её, напоминая об условии – чтобы броситься, навсегда обезумев, в объятия отца, откуда она насмехалась в лицо над пастором Бомбергом…
Бландина не произнесла ни слова, не проронила ни единой слезы, не издала ни одного возгласа.
Но её присутствие поразило добрые души: пять бедняков, любимцев Кельмарка, нежелавших больше трусливо покоряться общественной воле, понесли на руках Кельмарка и Гидона, обнявших друг друга при последнем издыхании. Грубые люди плакали, раскаивались…
Бландина шла впереди их по направлению к замку.
Чтобы не нести раненых в верхний этаж, им устроили постель на бильярде. Друзья пришли в себя, почти одновременно. Открыв глаза, они остановили взоры на картине Конрадин и Фридрих Баварский, затем взглянули друг на друга, улыбнулись, вспомнили об убийстве, крепко поцеловались, и их уста не прекращали поцелуя, и они ждали так минуты последнего издыхания.
– А я, – шептала Бландина, – Анри, ты не простишься со мной! Подумай, как я любила тебя!
Кельмарк повернулся к ней.
– О, – прошептал он, – я буду любить тебя в вечности, как ты заслуживала быть любимой на земле, чудная женщина!
– Но, – прибавил он, взяв за руку Гидона, – я хотел бы любить тебя, моя Бландина, продолжая обожать этого, этого чудного мальчика!.. Да, Бландина, надо оставаться самим собою! Не изменять себе!.. Оставаться верным до конца моей справедливой, законной природе!.. Если б я должен был снова жить, я именно так бы хотел любить, если б даже должен был страдать ещё сильнее, чем я страдал; да, Бландина, моя сестра, мой единственный друг, если бы даже я принёс тебе такие страдания, какие я тебе причинял!.
Благослови нашу смерть, Бландина, нас троих, так как мы на немного опередим тебя с этой минуты, благослови нашу муку, которая искупит, освободит, наконец, заставит восторжествовать всякую любовь!
И его уста снова прикоснулись к устам мальчика, тоже стремившегося к нему, и Гидон, и Анри слили свои дыхания в последнем поцелуе.
Бландина закрыла глаза им обоим; затем стоически, одновременно язычница и святая, она произнесла молитвы, предзнаменующие новое Возрождение; не дорожа больше ничем земным и современным, она, ощущала бесконечную пустоту в сердце, пустоту, которую ни один человеческий образ не мог бы отныне нарушить.
Когда же, наконец, призовёт её Бог к себе на небо?
КОНЕЦ.
Сноски
1
Мы отправимся в страну роз, однажды, в страну роз, мы срежем, как траву, красивые цветы и свяжем копны, столь высокие и пахучие, что они заслонят луну и заставят чихнуть солнце.
(обратно)


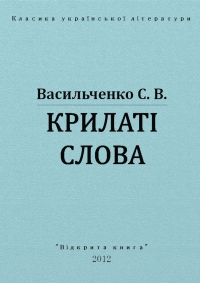
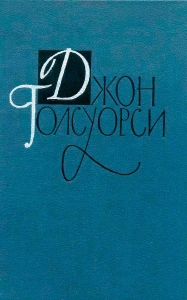
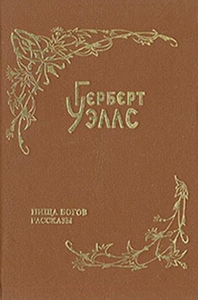
Комментарии к книге «Замок Эскаль-Вигор», Жорж Экоут
Всего 0 комментариев